Дж. М. Тревельян История Англии от Чосера до королевы Виктории
Популярная историческая библиотека
Введение
Хотя я и пытался довести эту книгу до современности (1941 год), излагая события в свете новейших исследований, однако почти вся она была написана до войны. Я тогда имел в виду охватить социальную историю Англии с времен Древнего Рима и до нашего времени, но отложил напоследок ту часть ее, которая была бы наиболее трудной для меня: столетия, предшествующие XIV веку. Война не позволила мне закончить работу, но мне пришла в голову мысль, что главы, которые я уже написал, излагающие последовательную историю шести столетий, от XIV до XIX, могут сами по себе представлять интерес для некоторых читателей.
Социальная история может быть определена отрицательно: как история народа, из которой исключена политическая история. Может быть, трудно исключить политическую историю из истории любого народа, и особенно английского. Но так как до сих пор слишком много было написано исторических книг, состоящих из политических анналов, лишь с незначительными ссылками на социальное окружение, то обратный метод может быть полезен для того, чтобы восстановить равновесие.
Уже в период моей жизни возникло третье, весьма бурно развивающееся направление – экономическая история, которая очень помогает серьезному изучению социальной истории, потому что социальные явления порождаются экономическими условиями почти в такой же степени, как политические события, в свою очередь, порождаются социальными условиями. Без социальной истории экономическая история бесплодна и политическая история непонятна.
Но значение социальной истории заключается не только в том, что она составляет необходимое звено между экономической и политической историей. Она и сама по себе.
Когда во время Столетней войны (1337-1453) «проклятые» (как их называла Жанна д’Арк) высадились, чтобы покорить Францию, они появились там как иностранные завоеватели и их успехи были результатом того, что Англия была уже организована как нация и имела национальное самосознание, тогда как Франция еще не достигла этой стадии развития. И когда эта попытка добиться победы в конце концов не удалась, Англия осталась как отчужденный остров, лежащий вдали от берегов континента, и уже более не являлась простым придатком или продолжением европейского мира.
Правда, в развитии наших ярко выраженных национальных черт не было ничего внезапного. Этот процесс не начался и не закончился при жизни Чосера. Но в течение тех лет этот принцип был более действенным и более заметным, чем в течение трех предшествующих столетий, когда христианская и феодальная цивилизация Европы, включая Англию, была не национальной, а космополитичной. В Англии эпохи Чосера мы имеем уже нацию.
Глава I Англия времен Чосера (1340-1400)
В чосеровской Англии мы впервые видим сочетание современности со средневековьем. Сама Англия начинает формироваться как самостоятельная нация, а не как простое заморское продолжение франко-латинской Европы. Произведения самого поэта отмечают величайшее из всех современных событий – рождение и всеобщее признание нашего языка: саксонские и французские слова удачно слились наконец в «английский язык», который «все понимают» и который поэтому входит в употребление как средство школьного обучения и судопроизводства. Правда, имелись различные местные диалекты английского языка, не считая совершенно особых языков: уэльского и корнуоллского. Некоторые классы английского общества владели еще вторым языком: наиболее образованные из духовенства латинским, а придворные и люди знатного происхождения – французским; правда, это уже был не их родной, а иностранный язык, которому нужно было учиться.
Чосер, проводивший долгие часы в придворных кругах, был блестящим знатоком культуры средневековой Франции; поэтому, создавая для грядущих поколений образцы новой английской поэзии, он придал им форму и размер, заимствованные из Франции и Италии, где он бывал несколько раз по государственным делам. Тем не менее Чосер внес новую английскую ноту. Именно он в «Кентерберийских рассказах» впервые наиболее полно выразил то «английское чувство юмора», на четверть циническое и на три четверти добродушное, которого не найти у Данте, Петрарки или в «Романе о розе» и даже у Боккаччо или у Фруассара.
Другие характерные черты новорожденной нации нашли свое выражение в ленглендовской религиозной аллегории о Петре Пахаре [1]. Хотя Ленгленд также был ученым и поэтому большую часть своей жизни провел в Лондоне, как уроженец Мальверна, он пользовался формой стиха, до сих пор еще принятой в Западной Англии, – аллитерационным белым стихом, заимствованным из англосаксонской поэзии. Эта местная английская форма скоро должна была вообще уступить место чосеровскому рифмованному стиху, но дух «Видения о Петре Пахаре» продолжал жить в религиозной строгости нашихпредков, в их непрестанном негодовании по поводу неправедных дел ближних, а иногда и в сокрушении о своих собственных грехах. Английский пуританизм много старше, чем Реформация, и два «мечтателя» – автор «Видения о Петре Пахаре» и Джон Беньян [2]– больше похожи друг на друга творческим воображением и чувствованием, чем любые другие два писателя, разделенные тремя столетиями.
В то время как Ленгленд и Гоуэр [3], не впадая в ересь, скорбели о развращенности средневекового общества и религии, обращаясь не столько вперед, к иному будущему, сколько назад, к идеалам прошлого, Уиклиф [4]уже выковывал свою докрасна раскаленную программу реформ; большая часть из них была много позднее осуществлена английским антиклерикализмом и английским протестантизмом. Частью этой программы была «Библия для всех» на новом, общедоступном английском языке. Одновременно Джон Болл [5]в средневековых выражениях задавал самый современный вопрос:
Когда Адам пахал, а Ева пряла, Кто дворянином был тогда?В экономической области средневековье начало также уступать место новому, и в Англии стали появляться социальные классы, характерные для нее. Требование, выдвинутое восставшими крестьянами, чтобы все англичане были свободными, не является чем-то необычным сегодня, но тогда это было новостью и подрывало основу существующего социального порядка. Те рабочие, которые уже пользовались этим благом свободы, вели постоянную борьбу в форме стачек за повышение заработной платы по принятому в современной Англии методу. Больше того, хозяева, против которых эти стачки были направлены, были преимущественно не прежними феодальными лордами, а новым средним классом землевладельцев-арендаторов, предпринимателей и купцов. Наша суконная промышленность, которой судьбой было предназначено обогатить и перестроить английское общество, уже в царствование Эдуарда III начала быстро прибирать к рукам отечественную шерсть, предназначавшуюся для иностранного рынка, И государство уже делало время от времени попытки объединить интересы соперничавших между собой средневековых городов общей политикой протекционизма и регулирования всей торговли страны.
Для осуществления этой политики на морях, окружающих Англию, нужно было постоянно держать морской флот; и характерно, что вновь отчеканенная золотая монета Эдуарда III изображает его в доспехах и с короной на голове, стоящим на корабле.
Национальное самосознание начинает уничтожать местное чувство преданности своему господину и строгое деление на классы, которыми отличалось космополитическое общество феодальной эпохи. Поэтому во время Столетней войны, предпринятой для ограбления Франции, король и знать поддерживались новой силой – сторонниками демократического джингоизма [6]современного типа, пришедшего на смену феодальному государству и феодальному способу ведения войны. Под Креси и Азенкуром этот «отважный йомен» [7]– стрелок из лука – на поле битвы находится в первых рядах своих соотечественников, сражаясь бок о бок со спешенными рыцарями и знатью Англии и превращая своими стрелами устаревшее французское рыцарство в беспорядочную груду людей и лошадей.
Учреждение мировых судей – назначение королем местных сельских дворян для управления соседней округой от его имени – явилось шагом, означавшим отказ от системы наследственных феодальных юрисдикций. Но вместе с тем оно явилось и противовесом другому движению – движению за бюрократическую королевскую централизацию власти: оно признавало целесообразность существования и использования в интересах короля местных связей и влияний – компромисс, показательный для будущего развития английского общества, не похожего на развитие других стран.
Все эти сдвиги – экономические, социальные и национальные – отражены в работе парламента, по своему происхождению специфически средневекового института, но уже стоявшего на пути превращения в институт современный. Это уже не только совет крупнейшей знати, духовенства, судей и светских слуг короля, собравшихся для того, чтобы давать королю советы или предъявлять ему требования. Палата общин уже приобретает известное влияние. Вполне возможно, что в вопросах высшей политики члены палаты общин были лишь пешками в игре соперничающих дворцовых партий, но в то же время они самостоятельно провозглашают экономическую политику новых средних слоев города и деревни, нередко довольно эгоистичную; они выражают народный гнев за неумелое ведение войны – сухопутной и морской; они непрестанно требуют лучшего порядка и строгого суда в стране, что, однако, будет достигнуто только при Тюдорах.
Таким образом, обращаясь к веку Чосера, мы слышим многие голоса, звучание которых отнюдь не чуждо и нашему современному уху. Правда, мы склонны думать, что понимаем больше, чем это есть на самом деле. Дело в том, что половина мыслей и действий наших предков все еще диктовалась сложными предпосылками – интеллектуальными, этическими и социальными, – точное значение которых в настоящее время понятно только ученым-медиевистам.
Из всех перемен, происходивших во времена Чосера, наиболее важной было разложение манора. Крестьянская аренда и денежная заработная плата все более и более вытесняли обработку домена лорда крепостным трудом, начиная, таким образом, постепенное преобразование английской деревни-общины полукрепостных в индивидуалистическое общество, в котором все были свободны, по крайней мере юридически, и где денежные отношения заменили обычное право. Эта огромная перемена сломала застывшие формы феодального мира и освободила подвижные силы капитала, труда и личной инициативы, которые с течением времени сделали жизнь в городе и в деревне более богатой и разнообразной; она открыла новые возможности для торговли и промышленного производства, равно как и для сельского хозяйства.
Для того чтобы понять значение этой перемены, необходимо дать краткое описание той старой системы, которая подверглась постепенному вытеснению.
Наиболее характерным – но ни в коем случае не единственным способом – обработки земли средневековой Англии была система «открытых полей». Она существовала во всей Центральной Англии, от острова Уайта до Йоркской долины. Суть ее заключалась в том, что деревенские общины обрабатывают неогороженные поля по принципу наделов, состоящих из полос. Каждый земледелец имел определенное количество полос пахотной земли, площадью в акр или в пол-акра каждая. Его длинные узкие полосы не были расположены смежно, компактным участком, что потребовало бы расхода на обведение изгородью; они были разбросаны по «открытым полям» между полосами его соседей.
И до сих пор можно отчетливо видеть очертания многих таких «полос», вспаханных земледельцами в саксонскую эпоху, в средние века и при Тюдорах и Стюартах. Одной из особенностей современного английского ландшафта являются сохранившиеся на пастбищных землях, которые некогда были пахотными полями, следы «гряд и борозд». Длинные приподнятые выпуклые «гряды», или «земли», были отделены канавами или бороздами, проведенными плугом для отвода воды. Часто, хотя и не всегда, такая выпуклая «гряда»,столь ясно различимая и сейчас, представляла собой полосу, которую в далекие времена держал и обрабатывал крестьянин-земледелец; он имел и обрабатывал, кроме того, много других полос на других участках «открытых полей». В большинстве случаев полосы отделялись одна от другой не поросшими травой межами, а открытыми широкими бороздами, сделанными плугом.
Полосы, или «земли», не отделялись одна от другой изгородью. Все обширное «открытое поле» обносилось, если это требовалось, переносным плетнем, но не огораживалось постоянной изгородью. Одной деревне могли принадлежать два, три илиболее таких больших пахотных «полей», поделенных между земледельцами. Одно из полей оставлялось под паром, а другие засевались.
Сенокосы использовались по такому же принципу. И луга, и пахотные земли после уборки сена и снятия урожая использовались как открытое общинное пастбище, причем каждый имел право пользоваться этими пастбищами в соответствии с принятыми деревенской общиной в целом нормами и правилами так, чтобы соблюдалась справедливость в отношении каждого члена общины.
Эта система обработки, введенная первыми англосаксонскими поселенцами, сохранилась вплоть до огораживаний новейшего времени. Она была экономически целесообразной до той поры, пока перед каждым земледельцем стояла задача производить продукты питания для своей семьи, а не для рынка. Она сочетала преимущества индивидуального труда и общественного регулирования; сберегала расходы на обнесение изгородью; наделяла каждого земледельца по справедливости – одной долей на хорошем участке, другой – на худшем; объединяла деревенское население как общину и давала даже самому бедному землю и право голоса в установлении того порядка землепользования, которого должна была придерживаться вся деревня в течение предстоящего года.
На эту демократию крестьян-земледельцев было наложено тяжелое бремя феодальной власти и юридических прав лорда манора. По отношению друг к другу крестьяне-земледельцы были самоуправляющейся общиной, но по отношению к лорду манора они являлись крепостными [8]. Они не имели по закону права бросать свои держания: они были приписаны к земле. Они обязаны были молоть свое зерно на мельнице лорда. Без его согласия они не могли женить и выдавать замуж своих детей. Сверх того по определенным дням в году от них требовалось выполнение полевых повинностей; в эти дни они должны были работать не на своей земле, а на земле лорда и по приказам его бейлифа [9]. В некоторых деревнях лорду принадлежало много полос в большом общинном поле, но в большинстве случаев у него была также своя собственная домениальная земля в одном компактном участке.
Эта система крепостного держания с твердо установленными «барщинными днями» для работы на домене лорда прочно держалась по всей Англии. Нормандские законоведы сделали для всей Англии феодальный манориальный закон более или менее единообразным. В нормандский период и при первых Плантагенетах типичная деревня представляла собой общество, состоящее из лорда манора или его должностных лиц, с одной стороны, и его крепостных крестьян – с другой. Свободных крестьян было мало, и обычно они жили далеко друг от друга.
Но, стремясь воспроизвести подлинную картину средневекового сельского хозяйства в Англии, никогда нельзя забывать об овцеводстве и о пастухах. Наш остров производил лучшую в Европе шерсть и в течение нескольких столетий снабжал фламандские и итальянские ткацкие станки сырьем, без которого нельзя было обойтись при производстве высокосортного сукна. Англия была тогда единственным в Европе поставщиком такого сырья.
Мешок с шерстью, на котором сидел английский лорд-канцлер в палате лордов, служил символом, ибо шерсть была подлинным богатством короля и его подданных – богатых и бедных, духовенства и мирян, – так как давала им и деньги, помимо продуктов питания, даруемых землей и используемых для собственного потребления. Не только в областях с ясно выраженным пастбищным характером – в огромных Йоркширских долинах, на возвышенностях Котсуолда, на холмах Суссекса и на зеленых илистых островках болотистых местностей, – но и в обычных пахотных хозяйствах разводились в изобилии овцы. Не только крупные феодалы – овцеводы, епископы и аббаты – с их стадами, насчитывавшими тысячи и десятки тысяч голов, которых пасли профессиональные пастухи, но и крестьяне обычных маноров сами вели торговлю шерстью и часто в совокупности имели больше овец, чем их кормилось на домениальной земле лорда.
Жизненный путь Чосера примерно совпадает с годами, когда разложение манориальный системы шло наиболее быстрым темпом и наиболее болезненно. Но эти перемены завершились лишь много лет спустя после смерти Чосера, а начались они задолго до его рождения. Уже начиная с XII века лорды многих маноров установили обычай заменять денежными платежами принудительные барщинные работы на домениальных землях. Однако это в глазах закона не делало крепостных свободными; они по-прежнему были обязаны исполнять другие крепостные повинности, и даже если бы лорд захотел возобновить свои притязания, он мог бы снова восстановить их обязанность отрабатывать определенные дни на его земле. Между тем из года в год опыт показал бейлифу, что домен лучше обрабатывался наемными рабочими, работавшими круглый год, чем подневольными крепостными, оторванными от работы на их собственных участках и работавшими лишь по таким барщинным дням, какие по обычаю манора были назначены для лорда. Общее усиление и точное определение сеньориальных требований характерно для XIII века, в особенности в некоторых церковных поместьях.
Одной из причин «феодальной реакции» являлся быстрый рост населения в XIII веке и вызванный этим земельный голод. По мере того как число вилланских семей увеличивалось, число полос, приходящихся в открытом поле на одного земледельца, уменьшалось. Крайняя нужда населения в средствах к существованию и конкуренция жаждущих получить землю для ее обработки позволили бейлифу лорда ставить вилланам более жесткие условия и снова заставлять их нести полевую барщину на господской земле или принуждать их к более строгому ее выполнению.
Поэтому с наступлением XIV века позиция лордов маноров была сильна. Но затем обстановка коренным образом изменилась. В царствование Эдуарда II рост населения замедлился, и снова вошло в обычай заменять полевую отработку денежной рентой; бедствие «черной смерти» (1348-1349) ускорило начавшуюся перемену.
Как же отразилось на социальном и экономическом положении средней английской деревни это бедствие, в результате которого меньше чем за два года вымерла третья часть, а возможно, и половина всего населения королевства? Ясно, что крестьяне, оставшиеся в живых, теперь получили возможность диктовать свои условия лорду и его бейлифу. Недавний земельный голод теперь сменился недостатком рабочих рук. Ценность пахотных участков упала, а цена на рабочие руки резко пошла вверх. Лорд манора не был в состоянии обрабатывать свою домениальную землю силами крепостных, ибо число их сократилось, и в то же время большое число наделов – полос на открытых полях – вновь вернулось в его руки, так как семьи, возделывавшие и обрабатывавшие их, умерли от чумы.
Затруднительное положение лорда создавало благоприятные возможности для крестьян. Число полос в открытом поле, которое держал один хозяин, возросло благодаря слиянию осиротевших наделов; вилланы-возделыватели этих более крупных единиц фактически превратились в йоменов, представителей среднего класса, пользующихся наемным трудом. Естественно, что именно они больше всех восставали против своего крепостного положения и против домогательств бейлифа, требовавшего, чтобы они по-прежнему лично отрабатывали барщинные дни на домене лорда. Одновременно с этим свободные безземельные рабочие при общем недостатке рабочих рук могли требовать или от бейлифа домена, или от крестьян, имеющих свои наделы на открытых полях, значительно более высокую заработную плату, чем прежде.
Поэтому к тому времени, когда Чосер возмужал, лорды все чаще и чаще отказывались от попытки обрабатывать свои домениальные земли старым способом и соглашались заменять полевую барщину денежными платежами. Так как на душу уменьшившегося населения теперь приходилось больше денег, то крепостному легче было скопить или занять достаточно шиллингов, чтобы выкупить свою свободу и уплачивать денежную ренту за свой земельный участок. Многие крестьяне держали овец и от продажи их шерсти получали деньги, необходимые для выкупа своей свободы.
Располагая деньгами, полученными взамен барщины, лорды могли предлагать вольнонаемным рабочим заработную плату, но они редко предлагали достаточную плату, потому что цена на труд была теперь очень высока. Поэтому многие лорды перестали вести обработку своих домениальных земель и стали сдавать их в аренду новому классу йоменов-арендаторов. Эти арендаторы часто брали в аренду также и господский скот на правах аренды живого инвентаря и земли. Иногда они платили денежную ренту, но часто договаривались об уплате натурой, снабжая хозяйство манора продуктами питания. «Семья» лорда всегда питалась продуктами с господской земли, и теперь, когда эта земля сдавалась в аренду, к обоюдному удобству продолжалась старинная натурально-хозяйственная связь. В пастбищных районах, в некоторых манорах, где крестьяне богатели от продажи шерсти, зависимые арендаторы брали весь домен лорда в аренду и затем делили его между собой.
Так различными путями в Англии стали появляться новые классы состоятельных йоменов. Некоторые из йоменов снимали в аренду домен лорда, другие брали новые участки, недавно отгороженные от пустоши, третьи брали полосы на старых открытых полях. Одни занимались хлебопашеством, другие – овцеводством и торговлей шерстью, третьи вели смешанное хозяйство. Рост численности таких йоменов и их благосостояния на протяжении нескольких последующих столетий задавал тон новой Англии. Тема об английском йомене – его независимости, его простодушии, его ловкости в стрельбе из лука – заполняет все баллады, начиная со времени Столетней войны и кончая Стюартовской эпохой.
Шел процесс исчезновения крестьянина-крепостного, который превращался или в йомена-крестьянина, или в безземельного батрака. И теперь между этими двумя классами началась вражда. Само крестьянство делилось на нанимателей и нанимаемых, и ранняя стадия борьбы между ними видна в знаменитых «статутах о рабочих».
Эти парламентские законы, принятые в целях снижения заработной платы, были изданы в результате петиции, поданной палатой общин под давлением мелкого сельского дворянства (джентри) и крестьян-арендаторов – «хозяев и держателей земли», как они именовались в статутах.
Каждый средневековый манор управлялся согласно своим собственным обычаям, которые теперь во многих случаях нарушались, и поэтому упомянутые законы представляют собой одну из первых попыток парламента заменить этот порядок государственным контролем. Открыто признанной целью «статутов о рабочих» было: не допускать роста денежной заработной платы, а также, хотя и в меньшей степени, повышения цен. Были назначены специальные судьи для принудительного проведения в жизнь парламентских ставок и для наказания тех, кто требует больше.
Таким образом, начиная с «черной смерти» и вплоть до восстания 1381 года и даже в последующие годы продолжалась борьба безземельных рабочих с крестьянами-арендаторами, которых поддерживали парламентские судьи. Участники стачек и бунтов, а также организаторы и члены местных союзов преследовались в судебном порядке и наказывались тюремным заключением. Но в общем победа оставалась на стороне наемных рабочих благодаря недостатку рабочих рук, вызванному сильной эпидемией чумы и ее постоянными повторениями то в одной, то в другой местности. Конечно, возрастали и цены, но заработная плата повышалась еще быстрее. В этот период безземельный рабочий находился в благоприятном положении, описанном Ленглендом так:
Рабочие, которые не имеют земли, чтобы жить ею, но только руки, Не соглашались есть за обедом вчерашнюю капусту; Не нравился им ни эль в пенни, ни кусок ветчины, Требовали жарить им только свежее мясо или рыбу, Ели лишь теплое или совсем горячее, чтобы не простудить себе желудка. Рабочего можно нанимать только за высокую плату – иначе он станет браниться И оплакивать то время, когда он сделался рабочим; А затем проклинать короля, а также и весь его совет За то, что они принуждают исполнять законы, которые угнетают рабочих.Но оставим пока безземельного рабочего, имеющего на обед, по крайней мере иногда, горячее мясо или возмущенно ворчащего из-за холодной свиной грудинки или затхлой капусты; вернемся снова к крестьянину-земледельцу, держателю полос в открытом поле. Как же шла его борьба за свободу в те годы, когда Чосер, достигший среднего возраста, растолстел и благоденствовал при дворе короля-мальчика Ричарда?
Борьба за свободу вела к спорадическим актам насилия, подготовившим почву для восстания 1381 года. Введение к одному статуту, утвержденному парламентом 1377 года, показательно. Лорды маноров, «а также люди св. церкви и другие» жалуются, что вилланы в их поместьях «объявляют себя вполне и совершенно свободными от всех видов крепостных повинностей, причитающихся как с них лично, так и с их держаний, и заявляют, что они не потерпят наложения какого-либо ареста на их имущество или другого судебного акта, который был бы совершен над ними; они даже грозят убить или искалечить должностных лиц своих лордов и, что еще хуже, собираются на больших дорогах и договариваются на таких собраниях, что каждый будет помогать другому силой оказывать сопротивление своим лордам».
Если учесть, что в сельских местностях такое положение длилось годами, то становится яснее и смысл поразительных событий 1381 года. В деревнях, в ста милях от Лондона, и во многих более отдаленных округах, на западе и к северу, союзы рабочих для сопротивления парламентским законам, фиксирующим заработную плату, и союзы вилланов для сопротивления манориальному обычаю научили целые деревни, как бороться с правящим классом путем пассивного и активного сопротивления. Социальное недовольство не ограничивалось деревней. В рыночных городках, находившихся под властью больших аббатств – таких, как Сент-Олбанс и Бери Сент-Эдмунде, – не только крепостные, но и горожане вели непрестанную борьбу с монахами, которые не признавали городских привилегий, охотно продававшихся королями городам, которым посчастливилось вырасти на королевской земле.
Английские мятежники не были, подобно участникам французской Жакерии, голодающими людьми, доведенными отчаянием до насилия. Их положение быстро улучшалось как в смысле богатства, так и в отношении независимости, по недостаточно быстро, чтобы удовлетворить их новые стремления. Многие из них, вооруженные и обученные в рядах народной милиции, обладали воинской дисциплиной и самоуважением. В рядах восставших можно было встретить немало знаменитых английских лучников. В лесах скрывались грозные союзники движения – отряды Робин Гуда, состоявшие из лиц, поставленных вне закона; крестьяне, которых правосудие высшего класса загнало в леса; профессиональные браконьеры; разорившиеся люди; преступники и отставные солдаты – участники французской войны.
Все эти разнообразные грозные элементы социального восстания были возбуждены пропагандой христианской демократии, требовавшей свободы и справедливости для бедняков во имя господа Бога. Таковы были проповеди Джона Болла, множества странствующих священников и нищенствующих монахов. И приходский священник, сам принадлежащий обычно к тому же классу, что и виллан-держатель, часто сочувствовал его стремлению к свободе. Идейное содержание этого движения было христианским и в большинстве случаев не порывало с господствующей церковью, хотя в восстании принимали участие и некоторые из уиклифовских проповедников-лоллардов. Но мятежники, независимо от того, были ли они сторонниками господствующей церкви или еретиками, потеряли всякое уважение к привилегиям богатого духовенства, к «кесарскому духовенству» – союзнику высшего класса в его противодействии требованиям бедняка. Богатые монастыри, прелаты или светские поди, получавшие десятину с прихода и морившие голодом приходского священника, были одинаково ненавистны и этому священнику, и его прихожанам.
В юго-восточной части Англии – в главном районе восстания – монастыри были в особенности непопулярны и очень сильно пострадали от насилия восставших. Настоятель аббатства Бери Сент-Эдмунде был убит своими крепостными. В Лондоне сторонники Уота Тайлера обезглавили архиепископа Кентерберийского на Тауэр-Хилле, потому что как лорд-канцлер государства он был представителем непопулярного правительства. В отместку за это воинственный епископ Нориджский лично предводительствовал войсками, которые подавляли восстание в Восточной Англии. Таким образом, уравнительные и консервативные элементы, которые всегда уживались в лоне христианской церкви, на некоторое время оказались в открытой войне друг с другом.
Поводом для восстания послужил сбор непопулярного подушного налога. В Эссексе и Кенте агрессивная корыстная администрация своими действиями вызвала местные бунты, которые послужили сигналом для восстания по всей стране (не менее чем в двадцати восьми графствах). Народные вожаки повсюду разносили весть о том, что «Джон Болл прозвонил в ваш колокол». Восстали полувооруженные крестьяне и горожане, предводительствуемые иногда приходским священником, иногда старыми лучниками, а кое-где симпатизирующим движению сельским дворянством (джентри). Они вторгались в манориальные усадьбы и аббатства, насильственно добивались требуемых ими прав, сжигали ненавистные грамоты и манориальные списки. Было совершено несколько убийств; дворяне бежали из своих домов и прятались в гуще лесов, откуда только что вышли банды, состоявшие из лиц, поставленных вне закона.
Затем наступило самое замечательное событие в нашей долгой истории: взятие Лондона. Крестьянские массы призывались к походу на столицу, где у народных вожаков были союзники. Лондонская чернь и часть олдерменов открыли крестьянской армии ворота Лондона. Паника среди правящего класса была настолько велика, что мятежникам сдалась неприступная королевская крепость Тауэр, подобно тому, как в 1789 году сдалась Бастилия. Ненавистные мятежникам лица были умерщвлены, включая и кроткого архиепископа Седбери, голову которого выставили напоказ над Лондонским мостом. Особенно ненавистны восставшим были законоведы. Ремесленники учинили резню своих иностранных соперников по ремеслу.
Дело законности и порядка было проиграно из-за трусости правительства; но вскоре закон и порядок были восстановлены отчасти решительными действиями, а отчасти и обманом. Король-мальчик Ричард II, которого повсюду мятежники объявляли своим сторонником, встретил лондонскую армию восставших на Майл-Энде и утвердил замену всех крепостных повинностей денежным платежом в размере 4 пенсов с акра и амнистировал всех мятежников. Тридцать клерков были засажены за работу по составлению грамот об освобождении и о прощении королем всех провинностей жителям каждой деревни и каждого манора, а также более общих грамот для каждого графства. После этой крупной уступки, которая удовлетворила большую часть восставших, оказалось возможным безжалостно расправиться с наиболее непокорными. Уот Тайлер был убит в Смитфилде в присутствии толпы, которую он возглавлял. После этого решительного удара, нанесенного мэром Уолвортом, к господствующему классу вернулась смелость; были собраны войска, которые подавили восстания в Лондоне и в сельских местностях и наказали их участников с жестокой строгостью. Освободительные грамоты, уже сыгравшие свою роль, были отменены парламентом как выданные под давлением.
Восстание явилось крупным событием, и его история бросает яркий свет на английский народ того времени. Историки не могут решить вопрос, помогло ли оно движению за освобождение от крепостничества или задержало его, поскольку и после 1381 года движение продолжало распространяться почти таким же темпом, как и до него. Но то умонастроение, которое побудило к восстанию, явилось одной из главных причин, почему в Англии крепостничество пришло к своему концу не так, как на континенте.
В нашей стране личная свобода раньше сделалась всеобщим достоянием, и, пожалуй, именно это является одной из причин идеологической приверженности англичан к самому слову «свобода». Но многие из крепостных получили эту свободу ценой своего обезземеливания, и все возрастающее богатство страны сопровождалось все большим неравенством в доходах. Феодальный манор под властью лорда был общиной крепостных всех одинаково бедных, но почти всех с правами на землю, к которой они были прикреплены; земля была связана с ними так же, как они с землей. Современная деревня, деревня сквайра [помещика], стала обществом богатых крестьян, деревенских ремесленников, но безземельных рабочих, непрерывно уходивших в города. Переход от одной формы общества к другой был длительным процессом, продолжавшимся несколько веков – от XII до XIV.
События восстания 1381 года напоминают нам, как плоха была в Англии того времени охрана порядка и как нетверд был меч правосудия. Убийства, насилия, внезапные нападения, разбой со взломом были повседневными явлениями. Лорд, мельник, крестьянин – каждый должен был сам охранять свою семью, свое имущество и свою жизнь. «Королевский мир» – никогда не был особенно прочным, но, вероятно, он был более прочным в царствование Эдуарда I и, возможно, даже при Генрихе II. Хотя Столетняя война и обогатила отдельных лиц награбленными ценностями и выкупами, полученными с Франции, и увеличила роскошь при дворе и в замке, но для страны в целом она была проклятием. Она усугубила беспорядок и насилие в стране, поставив крупных военачальников и их вооруженные свиты вне контроля королевской власти.
Король был бессилен бороться с крупной знатью, потому что его военные силы состояли из контингентов, находящихся в распоряжении самой знати. Его армия состояла не из его телохранителей и не из регулярных войск, а из многочисленных небольших отрядов лучников и других воинов, которые набирались из рыцарей и профессиональных бойцов-волонтеров, продававших свои услуги правительству на больший или меньший срок, и оплачивались графами и баронами. Такие войска могли быть хороши для войны с Францией и могли сплотиться для защиты трона во время таких событий, как крестьянское восстание, когда всем высшим классам угрожала общая опасность. Но вряд ли можно было пользоваться ими для подавления своих собратьев или для ареста нанимателей, чьи гербы они носили на своих ливреях и чьи монеты звенели в их карманах. Правда, однажды в 1378 году палата общин потребовала, чтобы в районы восстания была послана специальная комиссия для восстановления порядка. Но эта комиссия опять-таки состояла из крупных лордов и их вооруженных слуг, которые вскоре оказались даже еще более нетерпимыми, чем те нарушители закона, которых они должны были усмирять. В следующем же году палата общин потребовала, чтобы комиссия была отозвана обратно, так как подданные короля попали в «рабство к названным сеньорам, членам комиссии и их вооруженным свитам».
Королевские чиновники действительно были властолюбивыми лордами, пользующимися именем короля для своего обогащения. Их злоупотребления отчасти являлись результатом несостоятельности правительства. Король не мог изменить военную систему, потому что не мог нанять людей, которые заняли бы место вооруженных слуг феодальной знати. Нередко он должен был принимать помощь лордов для войны с Францией на их собственных условиях.
Английский лучник
Однако от отсутствия полиции крестьянин выигрывал столько же, сколько и терял. Ни виллан, добивающийся свободы, ни свободный рабочий, непрестанно восстающий против «статута о рабочих», не были в таком фактическом подчинении у своих хозяев, «вышестоящих людей», в каком в XIX веке оказался сельскохозяйственный рабочий в деревенском округе, хорошо охраняемом полицией, когда у неимущего отняли лук и дубину и еще не вооружили его правом голоса. В XIV веке, когда от каждого ожидали, что он сам себя отстоит палкой или кулаком, стрелой или ножом, не так-то легко было запугать союз стойких крестьян.
Военная система, существовавшая в Англии во время Столетней войны, укрепила не столько власть самого короля, сколько положение некоторых слоев его подданных. В то время как английские армии, вторгшиеся во Францию, были собраны королем путем договора с лордами и джентри о военной службе их вооруженных слуг, защита внутри страны обеспечивалась народной милицией, принудительно набранной из простого народа. И эта рекрутируемая милиция была так хорошо вооружена и вымуштрована, что шотландцы, вторгавшиеся в пределы Англии в отсутствие короля и его «нобилитета», воевавших во Франции, часто должны были раскаиваться в своей дерзости. Хороший стрелок-йомен не был выдумкой Шекспира, заимствованной из прошлого; это было неприятной для французов и шотландцев действительностью.
Секрет этого превосходства в воинском мастерстве, монопольными обладателями которого в Европе были английские лучники, заключается в том, что «англичанин не держал свою левую руку неподвижно и не натягивал тетиву правой, но, наоборот, держа правую руку в неподвижном состоянии на тетиве, он всей силой своего корпуса давил на дугу своего лука. Отсюда, вероятно, появилась фраза «изгибание лука» и французское «натягивание» такового». Именно это имел в виду Латимер, когда писал, как рано его выучили «натягивать лук не усилиями своих рук, как это делают другие народы, но напряжением своего корпуса». Этому искусству нелегко было научиться.
В большинство английских графств рассылались приказы короля, но очень часто от их исполнения уклонялись или им не повиновались. Убийцы и воры, если только они не были на службе у какого-нибудь крупного лорда, очень часто вынуждены были убегать в леса или становиться под защиту церкви и затем отрекаться от мирской жизни. Иногда их арестовывали и приводили в суд, И даже тогда они часто ускользали из сетей суда, находя защиту у местного духовенства или посредством какой-либо другой юридической уловки. Но в худших случаях многие из воров и немногие из убийц присуждались королевской юстицией к повешению. В большей части Англии машина правосудия, хотя и громоздкая и продажная, все же действовала, пусть даже беспорядочно.
Но едва ли можно говорить, что в графствах, граничащих с Шотландией, королевские приказы вообще действовали. Здесь война прекращалась редко, а набеги с целью угона скота никогда не прекращались. В этих бездорожных, скалистых местностях население состояло из живших кланами воинов-земледельцев, не расстававшихся с конем; кланы непрерывно враждовали между собой и вели войны с шотландцами. Никто здесь не ждал королевских чиновников для защиты или отмщения. В стране «Пограничных баллад» все мужчины были воинами и большинство женщин также героически вели себя в войнах.
Для Чосера эта была неизвестная, далекая, варварская страна, несравненно более далекая, чем Франция, «далеко на севере, я не могу сказать где». Там Перси и другие пограничные военачальники возводили прекрасные замки, способные выдержать осаду армий шотландского короля, – Олнвик, Уоркворт, Дунстанбург, Чипчейз, Белей и еще много других. Менее могущественные дворяне имели свои «квадратные башни» – копии замков крупных магнатов. Там не было господских домов, появляющихся в условиях относительного мира. Крестьяне жили в деревянных лачугах, которые то и дело сжигались набежчиками, а их обитатели были вынуждены прятаться в лесах вместе со своим скотом или укрываться в крепостных башнях.
Такое положение продолжалось и после Тюдоров, которые обеспечили столь прочный мир остальной Англии. Только после объединения двух корон при воцарении Якова Стюарта, когда прекратилась «Пограничная война» (1603), начали вырастать рядом с северными замками и квадратными башнями мирные господские дома.
Одним из результатов столь длительного существования таких почти военных условий жизни и ее обычаев среди разбросанного населения явилось преобладание в этих диких областях большей дружественности между высшими и низшими слоями, которая перешла и в новейшую эпоху. Пастух болотистых местностей и земледельческий рабочий – «хайнд», как его тогда называли, никогда не был в таком подчинении у «сквайра и крестьянина», в каком оказался в будущем безземельный рабочий на юге Англии. С севера всегда веяло дыханием свободы.
В то время как север все еще был вооружен и укреплен для войны, в то время как «пограничные лорды» все еще полагали, что их замки могут сдержать натиск уэльсцев, в более цивилизованных частях Англии лорды и дворяне уже предали забвению обычай строить дома-крепости, предназначенные выдерживать осаду какой-либо регулярной армии. В английских деревенских местностях война уже не была, как прежде, обычным явлением. Но всегда приходилось опасаться местного нападения: или вооруженной свиты опасного соседа, или взбунтовавшихся крестьян своей деревни, или лиц, поставленных вне закона, скрывавшихся в лесах.
Поэтому в архитектуре жилых строений того времени применялись несколько иные средства обеспечения безопасности. Господские дома, которые сооружались во всех южных и средних графствах Англии, в редких случаях имели больше двух этажей и по виду значительно отличались от замков. Они имели узкие пристрельные окна (бойницы) со стороны, обращенной ко рву, через который был переброшен подъемный мост. Внутренняя и более безопасная сторона дома, выходящая на огороженный двор, имела окна большего размера; ее архитектура имела более жилой вид. Вокруг двора шла анфилада жилых комнат; в целях создания более роскошной жизни к этому времени высокий зал, приемную и кухню стали строить с большими удобствами, чем те, какие удовлетворяли нуждам более простого века. Дымовые отверстия в крыше считались теперь недостаточными для защиты органов дыхания и зрения от дыма из очага. В жилых помещениях теперь уже устраивались великолепные камины, и их широкие дымоходы проходили в толще стен. Но крестьянские дома и хижины все еще топились по-черному. Вблизи господского дома был расположен строго распланированный сад, или, как говорили, место для развлечения дам, обычное место любовных похождений, согласно «законам любви», воспевавшимся в поэзии.
В холмистых местностях ров, наполненный водой, встречался реже, и его заменяли в системе защиты земляным валом; усадьба Хэддон-Холл в Дербишире является прекрасным образцом полуукрепленного английского господского дома, построенного вокруг двух дворов и приспособленного постоянными пристройками к нуждам многих последующих поколений.
Вместо каменных домов на западе строили иногда прекрасные оштукатуренные дома из дерева, все меньше и меньше заботясь при этом о мерах обеспечения защиты от нападений. Со времени ухода римлян кирпич в Англии применялся очень редко вплоть до XV столетия, когда его стали широко применять в Восточной Англии и в тех областях, где было мало местного камня и где не хватало строевого леса.
Во времена Чосера жизнь сделалась уже несколько безопаснее и значительно комфортабельнее, чем в период войн, когда большая часть богатых семейств ютилась в темных, угрюмых квадратных нормандских башнях. В XIII веке главная башня замка Кенилуорт в течение шести месяцев сдерживала натиск королевской армии, но позднее пушечные ядра времен Столетней войны очень скоро уничтожили бы ее былую неприступность. Не считалась эта башня и сносным жилищем для семьи крупного магната. Поэтому Джон Гонт [10]выстроил у ее подножия дворец с залом для торжественных приемов; свет вливался в него через широкие окна, украшенные тонкой ажурной резьбой. Но он позаботился также и о защите своего нового дома, построив с каждой стороны по башне, на которых могли быть установлены пушки.
Хотя квадратные башни нормандских воинов были покинуты как непригодные для жилья, некоторые из лучших замков эпохи Плантагенетов были расширены и приспособлены к требованиям нового века. Многие из них оставались по-прежнему королевскими дворцами и дворцами знати до того времени, когда ставили мильтоновский «Comus» в замке Ладлоу. И только кромвелевские войска штурмовали и уничтожили множество замков, в которых до того времени еще продолжали жить крупные магнаты.
Крестьянские дома и хижины бедняков строились из бревен или толстых досок или из стоек и поперечных балок, на которых покоился слой мелкой гальки, смешанной с глиной. Пол обычно был земляной, крыша покрывалась соломой или тростником. Но так как эти скромные жилища давно исчезли, мы очень мало знаем о них. Выше уже говорилось об их обитателях, живших в этот период социальных перемен и социальной борьбы. Нет более трудной задачи, чем определять действительную степень крестьянской бедности или благосостояния, так как они варьировали не только из одной местности в другую, но и из года в год. Многие из крестьян, занимаясь овцеводством и продавая шерсть, нажили значительные состояния; обширный английский рынок сырой шерсти широко снабжался крестьянами. Неизменная пища крестьян – их хлеб и эль – зависели от неустойчивого урожая на общинных полях, и в плохие годы случались местные недороды или голод. Но мясо, сыр и овощи играли столь же важную роль в их питании. Многие крестьяне разводили кур и употребляли в пищу их яйца. Большая часть крестьян имела при хижине клочок земли, где разводили горох, бобы или наиболее дешевые сорта капусты; тут же иногда держали корову или свинью. Земледельцы, имевшие землю на открытых полях, безразлично, крепостные или свободные, могли пасти своего вола на жнивье или на пастбище этой деревни; бедные животные, ростом вдвое меньше современных, были тощи от скудного корма и весьма жилисты от многолетней тяжелой работы на пашне. К Мартынову дню [11]часть волов шла на убой для засола впрок на зиму, а некоторых резали перед Рождеством для праздничного стола.
Более обычной пищей в хижине бедняков была копченая свинина; число свиней в деревенском стаде зависело от размеров и характера пустоши. В некоторых манорах еще до расчисток «заимок», огороженных под полевую культуру, сильно сократилась площадь с порослью и мелким лесом. В других манорах, в особенности на западе и на севере, пустошь являлась крайней необходимостью для существования многих семейств. Отдельные крестьяне, поселявшиеся с разрешения или самовольно, строили свои лачуги и кормили свой скот на каком-нибудь отдаленном клочке земли. Каждый крестьянин, получивший разрешение на поселение, пользовался лесом из лесных угодий для постройки своей хижины, а также для ее отопления, для приготовления пищи и для того, чтобы сделать себе повозку, плуг, сельскохозяйственные орудия и домашнюю утварь. Обычные держатели имели разные права в различных манорах, но часто они пользовались привилегией рубить лес для построек и для плотничьих поделок и раздобывать дрова любыми способами, то есть могли даже ломать ветви деревьев, стоящих на корню. Пустошь служила также выгоном для пастьбы свиней и дополнительным пастбищем для крупного скота и овец; овцеводство часто было наиболее доходной статьей крестьянского бюджета благодаря возможности выгодно продавать шерсть. В этом отношении удобства и благосостояние крестьянина уменьшились, когда зерновые поля стали вторгаться в область дикой природы. Здесь выигрыш сопровождался потерями, а потери – изобилием.
Но, кроме говядины, баранины, кур и копченой свинины, имелись и другие виды мяса. Пустоши и лесные угодья кишели дичью. В королевских лесах, площадь которых все более сокращалась, и в заповедниках или в огороженных, непрерывно расширявшихся полях лордов и дворянства олени и мелкая дичь охранялись строгими законами и еще более эффективно сторожами, которые руководствовались своим собственным кулачным правом, не беспокоя королевский суд. Браконьерство являлось не только источником существования для лиц, поставленных вне закона, но также страстью людей всех классов дворянства, служителей святой церкви и наряду с ними крестьян и рабочих, отыскивающих для своего котелка фазана или зайца.
В 1389 году члены палаты общин жаловались в парламент, что «ремесленники, рабочие, слуги и грумы держат борзых и других собак и по святым дням, когда весь добрый христианский люд слушает в церкви божественную службу, отправляются на охоту в парки, заповедники и в крольчатники лордов и других лиц, к великому разорению последних». Поистине зло присуще человеку!
«Впредь пусть ни один мирянин, имеющий доход с земли менее сорока шиллингов в год, и ни один священник или клирик с доходом менее десяти фунтов в год не осмеливается держать охотничьи сети или собак». Так сказано в статуте. Однако весьма сомнительно, чтобы он строго соблюдался. Кроме того, имелись огромные пространства, заросшие вереском и покрытые болотами и лесом, где дичь охранялась не так строго и где ее можно было брать с наименьшим риском преследования или совсем не рискуя.
Кролики во многих частях средневековой Англии были бичом, и повсюду, за исключением заповедников, все классы общества ловили их сетями и выгоняли из норок. Ловить и есть небольших птиц, таких, как дрозды и жаворонки, в те времена было так же принято на Британских островах, как еще и сейчас на европейском континенте; их в большом количестве ловили при помощи веток, обмазанных птичьим клеем, и сетями; этим занимались крестьяне и сельские дворяне ради спорта. Но больше всего радовалось сердце крестьянина в тех случаях, когда ему удавалось тайком убить для своего котелка одну из миллионов привилегированных птиц из господского голубятника, назначение которого состояло в том, чтобы на крестьянском зерне выращивать откормленную птицу, пока она не будет пригодна для стола лорда [12]. К тому же в речках и в озерах водилась форель, а в прудах господских усадеб и аббатств – огромные щуки. О чосеровском Франклине мы читаем:
Все в доме ломилось от яств и питья, Тонких блюд, что душа пожелает твоя, И от каждого времени года плоды Выбирал он по вкусу для сладкой еды. Куропаток он жирных по клеткам держал, Много щук и лещей по прудам размножал.Большая часть жизни джентри протекала на охоте верхом, с борзыми за красным зверем или с соколами; они охотились за фазанами, куропатками и цаплями или по ночам подстерегали добычу у сетей, расставленных на лисиц и барсуков. Такие виды полевого спорта и участие в турнирах перед собранием дам были более легкими сторонами в их жизни; более серьезными были военные походы за границу, а у себя в стране – участие в судебных разбирательствах, в политической жизни страны и служба в местной администрации.
Некоторые из наших современных городских жителей вследствие самообольщающей иллюзии считают, что их предки нисколько не заботились о красоте вокруг них, потому что привыкли к тому, что видели и слышали, находясь на лоне природы как в рабочие дни, так и в дни отдыха. Несомненно, среди них были такие, которые так же мало обращали внимания на красоту природы, как и современные обыватели.
Но поэзия времен Чосера и Ленгленда показывает нам, что не все они были безразличны к красоте. Ниже, в «аллитерационной» поэме середины XIV столетия, приведен рассказ браконьера об утренней заре в лесу:
Когда майское время услад настает Или мягкое, теплое лето придет, На охоту стремлюся в лесную я тень, Где, быть может, мне встретятся лань и олень. Божий день лучезарно на небе горит, Близ меня ручеек под травою звенит, Бережок, словно в звездах, цветами одет, Здесь и мята растет, и цветок первоцвет. Маргаритки горят своей влажной красой, Как и ветви, бутоны одеты росой, И туманы вокруг меня мягко встают, И в прибрежье дрозды свои песни поют, И кукушка и горлица в чаще ветвей, Как и каждая птица, стремится сильней Спеть в восторге, что ночи уж минула тень И что снова вернулся ликующий день. Робко прячутся лань и олень на горах, И лисица с хорьком схоронились в норах, Там, где изгородь, зайчик прижался к траве, Глядь, вскочил и пропал под землею в норе.Наконец, появляется олень с огромными рогами. Поэт с самострелом в руке смотрит на него:
Вот выходит олень и, прижавшись к кустам, Настороженно смотрит по сторонам, А затем начинает спокойно пастись. Тут я взял самострел: нет, ему не спастись – Прямо в сердце стрелой ему метко попал, И он рухнул на землю – убит наповал.Затем поэт прячет убитого оленя, чтобы охранник не мог его найти.
Начало изменения средневековой мужской одежды, как и многого другого, и переход к современности также могут быть отнесены к веку Чосера. Мы знаем его самого, так же как и Данте, одетым в длинную величественную одежду и с простым капюшоном на голове – характерное средневековое одеяние, которое в своем простейшем виде сохранили и в наше время монахи-францисканцы. Но чосеровские элегантные современники, в особенности молодое поколение, сменили благопристойную одежду на короткий камзол или жакет и выставили напоказ симметрию своих ног в туго облегающих панталонах. Новомодная одежда по своему общему виду напоминала современные мужские пиджаки и брюки, хотя отнюдь не страдала их шаблонностью деталей и однообразием мрачных тонов.
При дворе Ричарда II куртки и панталоны ослепляли яркостью цветов. Одна нога могла быть обтянута тканью красного, а другая – синего цвета. Мужчины «носили на себе свои состояния» и блистали бриллиантами и дорогими тканями не менее, чем их жены. Подражая модам экстравагантного двора, золотая молодежь везде «отличалась» вычурностью своей фантазии. Рукава «тащились по земле», ботинки с длинными узкими носками, прикрепленными цепочкой к талии, мешали их обладателю преклонять колена во время молитвы.
Однако среди наиболее благоразумной части мужского рода длинная одежда не вышла из моды до эпохи Тюдоров. Правда, иногда и она сама по себе становилась экстравагантной – мужчины высокого положения облекались в богатейшие одежды, которые волочились по земле, подобно женским шлейфам. На мужчинах и женщинах – модниках и модницах – красовались огромные головные уборы фантастической формы – наподобие рогов, тюрбанов и башен.
Но вместе с массой нелепой и эфемерной роскоши в жизнь пошло много разумного комфорта и новых привычек, которые сохранились надолго. Во времена Чосера впервые в нашей стране дворянские семьи покинули огромные залы, где они по обычаю патриархального общества трапезничали со своими домочадцами; теперь в тесном кругу им подавались более изысканные блюда. Контрибуция и награбленные во Франции ценности, наводнившие Англию в первый и более благоприятный период Столетней войны, внесли большие изменения в примитивную экономику английского феодального домашнего хозяйства: так некогда обложение данью и ограбление средиземноморских государств римлянами разрушили строгую простоту времен Камилла и Катона. Французские дворяне, захваченные в плен на войне, иногда годами дожидались, пока из их крестьян выжимали выкуп за них. Тем временем они проживали, как почетные гости, в деревенских домах своих победителей; с мужчинами они охотились, с дамами заводили романы и обучали английских провинциальных простаков, какого фасона костюм должен иметь джентльмен и какую сервировку на столе.
При таких учителях возрастала роскошь и вместе с ней росла торговля, и изысканность распространялась Именно теми путями, которые осуждали моралисты. Купцы в городах радовались возможности ознакомить семьи знатных вельмож со всякого рода новыми модами и причудами в одежде, мебели и яствах. Своей безудержной страстью к роскоши и мотовству феодальные лорды способствовали росту торговых классов, которым суждено было в будущем занять их место. Основная деятельность английских городских мануфактур, иностранные коммерческие операции и почти вся европейская торговля с Востоком были связаны со снабжением замков и господских домов предметами роскоши, а отнюдь не с удовлетворением нужд огромного числа населения, как в наше время. Развитие английских городов и английской торговли того времени не пошло бы таким быстрым темпом, если бы снабжались товарами только дома крестьян и хижины бедняков, которые сами производили продукты своего питания и почти вся одежда, домашняя утварь и сельскохозяйственные орудия которых изготовлялись на дому самой крестьянской семьей или деревенским ремесленником.
Глава II Англия времен Чосера (Продолжение)
В XIV веке английский город был по-прежнему деревенской и земледельческой общиной и вместе с тем центром промышленности и торговли. Его защищала или каменная стена, или земляной вал; этим он отличался от неогороженной деревни. Но за ним лежало «городское поле», не обнесенное изгородью; здесь каждый гражданин-земледелец обрабатывал свои собственные полосы под зерновые культуры и каждый житель пас свой крупный скот и овец на городском общинном пастбище, под которое обычно отводились луга по берегам реки, как, например, в Оксфорде и Кембридже. [13]В 1388 году парламентским статусом было установлено, что в страдную пору подмастерья и ученики должны бросать свое ремесло, чтобы «снимать урожай и доставлять зерно»; мэры, бейлифы и констебли города обязаны были следить за тем, чтобы это исполнялось.
В Норидже, во втором городе королевства, даже много лет спустя после описываемого периода ткачей ежегодно собирали и принудительно посылали в деревню на уборку урожая. И даже Лондон не был исключением: и в нем сохранился полудеревенский уклад жизни. Между деревней и городом не было такого резкого различия, какое появилось после промышленного переворота. Ни один англичанин того времени не был так далек от деревенской жизни, как подавляющее большинство современных англичан.
Город был более антисанитарен, чем деревня, и часто страдал от чумы. Но тогда в нем еще не было столько трущоб, как в последующие века. Дома в городах были тогда расположены живописно, среди садов, огородов, лужаек, и окружены дворами деревенского типа. Дело в том, что число жителей все еще было весьма невелико: в довольно большом городе их насчитывалось всего две-три тысячи.
Жизнь горожанина того времени совмещала преимущества городского уклада с жизнью в сельской местности.
Джефри Чосер
Эти небольшие города, хотя, по существу, они были еще полугородом-полудеревней, являлись своего рода гордостью горожан. Их неустанной заботой было сохранять и расширять привилегии самоуправления и монополии местной торговли, купленные у короля, лорда, аббата или епископа. Защита купцов своего города во время их опасных путешествий, сбор их долгов с других городов – такие городские дела, в сущности, были почти дипломатическими. Норидж вел переговоры с Саутгемптоном, подобно тому, как Англия договаривалась с Францией. Торговые договоры между городами были обычным делом. Что касается Лондона, то его праву самоуправления, распространявшемуся на обширные территории вверх и вниз по реке, могли бы позавидовать многие германские «вольные города». Горе королевскому агенту или слуге Джона Гонта, нарушившим право лондонского гражданина или оспаривавшим право юрисдикции городского мэра.
Однако, как бы ни были велики права Лондона и как бы значительны ни были «вольности» других городов, все города были лояльными членами государства, парламент которого, отчасти по их совету, издавал законы по экономическим вопросам, поскольку они касались всего государства. В XIV веке торговля становилась все более и более национальной, не переставая быть городской. История всех английских городов была тесно связана с историей Англии, которую они помогали творить, между тем как, например, в Германии, тогда еще не образовавшей нации, история Нюрнберга и ганзейских городов была самостоятельной главой в анналах Европы.
Но даже и в Англии – и даже во время Столетней войны – национальное чувство и чувство лояльности по отношению к государству в целом не предъявляли таких повседневных и настойчивых требований, какие предъявлял городской патриотизм: каждый был патриотом своего родного города. Первой обязанностью гражданина было его участие в городской народной милиции для защиты стен города, а если возможно, то и городских полей от французских или шотландских вторжений, от банд, состоявших из лиц, поставленных вне закона, или от вооруженных свит крупных магнатов, не признающих городских привилегий. У средневекового англичанина принцип воинской повинности не вызывал сомнения. И в самом деле, мог ли он надеяться, что другие люди будут защищать его и его собратьев от непрестанно грозящих опасностей у самого порога его дома? Гражданские власти могли призывать городского жителя для войны или для охраны порядка и для городских работ разного рода: рытья городской канавы или водостока, починки городского моста, для помощи при сборе урожая на городских полях, изредка – для уборки и ремонта дороги перед его домом. Такой труд в общественном деле не считался крепостным, как работа на домене лорда. Тогда никто не думал, что «привилегия» быть свободным заключалась в том чтобы избегать несения военных или иных обязанностей, исполнения которых зависели в конечном счете заботливо охраняемые «вольности» города и его сограждан. В течение многих столетий англичане обучались самопомощи и самоуправлению в школе городской жизни. В те времена без обязанностей не существовало прав.
На улицах английских городов шла ожесточенная политическая борьба; это была борьба не национальных партий, а политическая борьба гильдий с городом (городским самоуправлением), затрагивающая горожанина в его повседневной жизни. Борьба за власть непрестанно «вклинивалась» в борьбу гильдий с городской корпорацией; в борьбу крупных купцов с небольшими мастерами (ремесленниками), мастеров с его людьми (подмастерьями и учениками), всех жителей города с пришельцами, пытавшимися поселиться в городе и торговать здесь, и, наконец, всех жителей города с королевским шерифом, с бейлифом лорда или епископа или с монахами аббатства – из всех самыми ненавистными. Эта борьба, сто раз менявшая свою форму, тянулась веками, с переменным успехом и различных городах – от Лондона, который сам был государством в государстве, и до самого мелкого городка, боровшегося за то, чтобы выйти из положения феодальной деревни, управляемой бейлифом лорда. Во всех этих «гражданских войнах» – внешних и внутренних – каждая партия пользовалась любым удобным орудием: судебными процессами, открытым мятежом и экономическим давлением.
В Лондоне вместо дров и древесного угля все больше и больше входил в употребление «морской уголь», называвшийся так потому, что он доставлялся на кораблях из Тайнсайда, что побуждало «духовенство и знать, приезжавших в Лондон», жаловаться на опасность заразы от «зловония при сжигании морского угля» [14]. Постепенно в Лондоне из опасения пожаров соломенные и тростниковые крыши заменялись красной черепицей. Стены домов все еще делались из глины и дерева, хотя все больше увеличивалось число прекрасных каменных жилых зданий, выстроенных крупными лордами или богатыми горожанами, наподобие находящегося на пути между Лондоном и Вестминстером дворца «Савой» Джона Гонта. Но главной архитектурной гордостью столицы были сотни ее церквей. Улицы были скверно вымощены, тротуаров не было; выпуклая мостовая спускалась двумя скатами по обеим ее краям к уличным водостокам, по которым стекала грязь; поэтому каждый стремился идти по середине мостовой, более слабых оттесняли с середины к ее краям, и они вынуждены были шлепать по грязи. Муниципальные власти плохо наблюдали за порядком на улицах, и домохозяева и ремесленники, пользуясь этим, выкидывали на улицу через двери и из окон отбросы, сор и объедки, не заботясь о приличии и санитарий.
Лондон времен Чосера Пунктирной линией обозначена граница Сити; жирной чертой – городская стена и ров. Вероятно, жилые строения имелись и между стеной и внешней границей города.
В двух милях от Лондона находился Вестминстер, теснящийся вокруг своего аббатства и его Холла, выстроенного Вильгельмом Рыжим и впоследствии украшенного Ричардом II дубовыми стропилами. Вестминстер сделался всеми признанным центром королевской администрации, суда и парламента, хотя он не вел торговли, не имел особых привилегий и был всего лишь пригородом, расположенным возле больших лондонских ворот. В английской столице не было королевской резиденции, подобной Лувру в Париже. Когда король приезжал в город, он жил то в одной части Лондона – в Вестминстере, то в другой – в Тауэре. Но Сити, которое находилось между ними, не было его землей, и Ричард II мог приказывать городской милиции, его должностным лицам и его населению не больше, чем Карл I. Средневековое равновесие и гармония властей, из которых выросла современная английская свобода, ясно иллюстрируются отношением Плантагенетов к их столице.
Самые богатые граждане Лондона были теперь на равной ноге с крупнейшей поместной земельной знатью не только потому, что в их распоряжении находилась городская милиция и большая часть английского коммерческого флота, но и потому, что они ссужали государство деньгами. В 1290 году Эдуард I изгнал из Англии евреев, положив тем самым конец старому способу добывания королевских займов. Это изгнание евреев – одна из причин меньшего развития антисемитизма в современной Англии, чем во многих других европейских странах; с другой стороны, в результате этих действий Эдуарда I наши предки были вынуждены взять на себя организацию финансовых дел и интеллектуальной жизни страны без помощи евреев; таким образом, к тому времени, когда при Кромвеле евреям было разрешено вернуться обратно, англичане уже научились вести дела самостоятельно и могли встретить как равные, без зависти и страха конкуренции эту одаренную нацию.
Таким образом, после изгнания евреев Эдуард I для ведения войн занимал деньги у флорентийских банкиров, которые удовлетворяли также нуждыего баронов.
Но король занимал также и у своих подданных, «больших людей Сити», как уже можно их именовать, и у богатых купцов других городов, таких, как сэр Уильям де ля Поль из города Гулля (Халл), первого английского дельца, родоначальника знатной дворянской фамилии. Отношение короля к этим новым кредиторам резко отличалось от его прежнего отношения к евреям, к этим своим бесправным «клиентам», которых он один защищал от народной злобы и избиения; в руках короля евреи являлись простыми губками, посредством которых он выжимал богатства своих подданных. Но английские купцы, ссужавшие правительство деньгами для ведения Столетней войны, могли делать выбор: оказать ли королю помощь или отказать в ней; они пользовались тем, что король в них нуждался, чтобы договариваться с ним о торговых или иных привилегиях для себя или для своей семьи, для своего города, для своей гильдии или для своего ремесла.
Именно при таких обстоятельствах создалась сложная система финансовой, внутренней и внешней политики Эдуарда III. Столетняя война была не только авантюрой для военного грабежа и династического честолюбия, она являлась также попыткой удержать открытым рынок для вывоза нашей шерсти и сукна во Фландрию и Францию.
Английская национальная политика непрестанно менялась в зависимости от королевских нужд и противоречивых интересов его подданных и его иностранных союзников. Эксперименты с системами протекционизма и свободной торговли, из которых ни одна не была признанной доктриной, производились с ошеломляющей быстротой. Эпоха «меркантилизма» при твердо установленной политике протекционизма еще не наступила, но ощупью страна уже шла к ней. Еще в царствование Ричарда II были приняты «навигационные законы», не позволявшие иностранным судам вести торговлю в английских портах, но эти законы нельзя было ввести в действие, потому что до эпохи Стюартов английский торговый флот был недостаточно велик – он не мог один справиться с непрерывно увеличивающимся ростом английской торговли. Английские купцы большую часть своих заграничных товаров перевозили на иностранных торговых судах.
Но наконец английский флот начал становиться грозным, Эдуард III пользовался им для очистки Ла-Манша от иностранных пиратов и на некоторое время достиг успеха. Флот, одержавший победу над французами при Слёйсе (1340), не был королевским: он состоял из торговых судов, принадлежавших разным городам, временно набранных для боев под командованием королевского адмирала. Пушки еще не применялись в морской войне. Корабли все еще таранили и сцеплялись на абордаж; бой велся, как и на суше, с помощью мечей, копий и стрел.
Королевская торговая база, где хранились, облагались налогом и продавались английские экспортные товары, была необходима для взимания пошлин, от которых зависели королевские финансы; считалось также, что она приносит пользу, защищая английских купцов от мошенничества и насилий, столь обычных для международной торговли того времени. Но Королевская торговая компания получила частичную монополию на экспорт товаров; это совсем не нравилось многим овцеводам и конкурирующим купцам.
Многочисленные и противоречащие друг другу интересы – аграрные, промышленные и торговые – вызывали споры относительно Королевской торговой компании и, в особенности, насчет ее окончательного местопребывания. Одно время компания твердо обосновалась в некоторых английских городах, затем во Фландрии и, наконец, в Кале, который был завоеван английским оружием и держался в качестве военной портовой базы при наступлении в глубь Франции.
Когда шерсть прибывала в Кале, то обычной практикой иностранного покупателя было уплачивать определенную сумму наличными, а на остальную выдавать векселя. Было также общепринято дисконтирование векселей посредством их «назначения» или передачи; таким образом, торговая практика оборота векселей от одного кредитора к другому имеет по меньшей мере пятисотлетнюю давность.
Большую часть английских товаров, экспортировавшихся Королевской торговой компанией через Кале, составляла сырая шерсть, но шерстяные изделия неуклонно завоевывали свое место; и наконец при Тюдорах экспорт сукна привел к окончательному прекращению вывоза сырой шерсти. Однако в эпоху Чосера и еще много времени спустя главнейшими кредиторами короля являлись члены Королевской торговой компании, экспортировавшей шерсть для снабжения иностранных шерстоткацких предприятий; таможенные сборы с экспортируемой шерсти, взимавшиеся с этой компании, являлись крупным источником королевских доходов. Эти купцы вели дела в Лондоне и в Кале; с ними король должен был договариваться о займах и об обложении пошлинами, словно «с четвертым сословием» в государстве; они имели большие деловые и родственные связи с овцеводческими округами, такими, как Котсуолд, производящими сырую шерсть, где они и их конкуренты-суконщики покупали поместья и делались родоначальниками многих знатных фамилий Западной Англии. В 1401 году в Чиплинг-Кемпдене был предан земле прах Уильяма Гревеля, «гражданина Лондона и гордости английского купечества – торговцев шерстью»; его каменный домвсе еще служит украшением одной из лучших в Англии деревенских улиц; Чиплинг-Кемпден не был обычной глостерширской деревней; это был один из центров наиболее развитого в Англии вида торговли – торговли шерстью.
Если капиталист как финансист и как кредитор государства встречался преимущественно в торговле сырой шерстью, то появление капиталиста как организатора промышленности можно было в тот же период заметить и в суконной мануфактуре.
Хотя сырая шерсть все еще была главным предметом вывоза, все же потребности внутри страны большей частью удовлетворялись сукном, изготовленным в Англии. Со времен древних бриттов, римлян и англосаксов и позднее все свободное время хозяйки, ее дочерей и девушек-работниц всегда было занято прядением – предполагаемым занятием нашей прародительницы Евы. Точно так же с самых давних времен более трудное искусство – ткачество – было делом мужчин-ткачей, специально для этого обученных, проводящих целый день в своем доме за ткацким станком, изготовляя грубошерстные сукна для местных крестьян. В XII и XIII столетиях сукно высшего сорта производилось ткацкими ремесленными гильдиями во многих городах, включая Лондон, Линкольн, Оксфорд и Ноттингем. В царствование Генриха III стамфордское сукно было хорошо известно в Венеции и Йоркшир – восточный и западный – также уже славился своими шерстяными тканями.
В XIII веке и в начале XIV века в тех английских городах, где сильно сократилось число ткачей, качество стандартных сукон для рынка начало заметно ухудшаться. Дело в том, что мануфактурное суконное производство стало перемещаться в деревенские округа, в особенности в западные, где можно было использовать для работы сукноваляльных машин проточную воду. Один из многих процессов суконного производства, который в прежние века выполнялся сукновалом, работавшим только руками или ногами или с помощью валька, теперь начал выполняться с помощью водяной энергии. Поэтому уже в самом начале XIV века Котсуолдские и Пеннинские долины и Озерная область начали серьезно конкурировать своим производством сукна с Восточной Англией. И деревня как центр мануфактурного производства уже вступила в соперничество с городом. Это был один из первых случаев технического изобретения, имевший важные социальные последствия.
В царствование Эдуарда II и Эдуарда III мероприятия правительства способствовали дальнейшему развитию крупнейшей отрасли нашей промышленности. Ввоз сукна из-за границы был запрещен. В страну, в особенности в Лондон и в Восточную Англию, приглашались искусные мастера, владевшие секретами производства, и правительство защищало их от зависти местного населения; вместе с тем на английских сукноделов распространялись специальные привилегии. На протяжении жизни Чосера производство тонкого английского двойного сукна утроилось, а его экспорт увеличился в 9 раз. Огромные преимущества Англии перед другими странами как овцеводческой страны и производительницы лучшей шерсти способствовали завоеванию ею первенства на мировом суконном рынке, точно так же, как в течение длительного периода она занимала первое место на европейском рынке сырой шерсти.
Суконной торговле было суждено успешно развиваться на протяжении жизни нескольких грядущих поколений, создавая новые классы в городах и в деревне, увеличивая роскошь в господских домах, уменьшая нищету в хижинах, изменяя технику и повышая доходность сельского хозяйства, обеспечивая грузами английские суда, расширяя английскую торговлю – сначала по всей Европе, а затем по всем странам мира, – диктуя английским государственным деятелям их политику, устанавливая программы английских партий и, наконец, побуждая к союзам, договорам и войнам. Суконная промышленность сохраняла свое место как неоспоримо важнейшая отрасль английской промышленности до того далекого дня, когда одновременно появились уголь и железо. В течение нескольких веков и в городе, и в деревне эта промышленность занимала повседневно мысли людей, уступая первенство лишь сельскому хозяйству.
Уже в XIV веке стало очевидно, что быстрое расширение суконной промышленности требовало новой экономической организации производства. Для переработки сырой шерсти в первосортное сукно требовался не один, а целый ряд производственных процессов: кардочесание, прядение, ткачество, валяние, окраска и отделка сукна. Поэтому огромное расширение суконной промышленности для удовлетворения внутреннего и внешнего рынка не могло быть организовано ремесленными гильдиями, которым удалось так много сделать в предыдущие века для усовершенствования процесса ткачества. Теперь требовался предприниматель с более широким кругозором, располагающий капиталом для сбора сырья, полуфабрикатов и готовых изделий и для их передачи от одного мастера к другому, из одного места в другое – из деревни в город, из города в порт – и, наконец, для доставки стандартного изделия на лучший рынок. Для всего этого был необходим капитал.
Уже во времена Чосера можно было встретить капиталиста-суконщика, использующего в различных местностях большое число людей разных специальностей. Это был социальный тип, более близкий к Новому времени, чем к средневековью: он резко отличается от мастера-ремесленника, работающего за одним станком со своими учениками и подмастерьями [15]. В грядущем промышленном перевороте, еще весьма отдаленном, будущее принадлежало капиталисту-предпринимателю. Но в суконном производстве он уже появился за четыреста лет до того, как поглотил всю промышленность в целом. В этот ранний период капитализма торговля на море, угольная и строительная промышленность также частично велись на капиталистической основе.
В течение последующих столетий главной фигурой в большей части отраслей промышленности все еще оставался старомодный мастер-ремесленник, работавший с небольшим числом учеников и подмастерьев, которым он давал ночлег и работу в своем доме, подчиняясь общему надзору ремесленных гильдий. Однако и здесь также назревала борьба мастера-ремесленника с его подмастерьями, подобно той, которая велась между землевладельцами и свободными рабочими. Подмастерье в мастерской был обуреваем теми же стремлениями и тревогами, что и сельскохозяйственный рабочий. Он также домогался повышения заработной платы, когда после «черной смерти» появился недостаток в рабочих руках, и «статут о рабочих» отчасти был направлен против его требований.
Но в этой борьбе за повышение заработной платы было и нечто большее. Волнения в городах имели более глубокие причины. Вследствие расширения торговли и повышения доходов с нее социальные и экономические противоречия между мастером и подмастерьями, не ощущавшиеся в прежние времена более простых отношений, нарушили гармонию внутри средневековой ремесленной гильдии.
На ранних стадиях существования ремесленной гильдии мастера, ученики и подмастерья – все принадлежали, в большей или меньшей мере, к одному классу. В мастерской все они были «мелким людом», братьями рабочими, разделявшими одну и ту же трапезу. Хотя с современной точки зрения они и являлись бедняками, это было гордое братство искусных мастеров своего ремесла. Их гильдия защищала их общие интересы и, подчиненная общему контролю муниципалитета, вела в городе все дела данного ремесла, устанавливая цены, заработную плату и условия работы, к общему удовлетворению мастеров и рабочих. Ученики по окончании срока ученичества становились или мастерами, или подмастерьями, и в большинстве своем подмастерья рано или поздно делались мелкими мастерами. Мастер-ремесленник работал вместе со своими рабочими; часто он бил своих учеников, а изредка и подмастерьев, но в те времена побои были общеприняты. Однако резкого деления по социальному положению и образу жизни еще не существовало. Правда, вне гильдий в городе всегда имелось немало необученных рабочих; их труд плохо оплачивался, и о них никто не заботился. Но в самих гильдиях было много гармонии и довольства.
Во времена Чосера такое положение начало изменяться. С расширением промышленности и торговли появилось большое разнообразие занятий и возрастающее неравенство в денежной оплате труда. Мастер все больше превращался из прежнего «собрата» по ремеслу в предпринимателя, занятого организацией дела и сбытом товаров. Некоторые ученики сами делались мастерами, в особенности «если они женились на дочерях своего мастера». Но в массе ученики могли надеяться сделаться только подмастерьями, и лишь немногие из подмастерьев могли теперь мечтать о том, чтобы подняться до мастера. По отношению к возросшему числу рабочих, занятых в ремесле, число мастеров было меньше, чем прежде. Гармония внутри ремесленной гильдии зиждилась прежде на общности интересов ее членов и на некотором чувстве социального равенства. Но с каждым годом она уменьшалась. Неравенство между «работодателем» и «рабочим» становилось более заметным. Увеличивалось также и различие между богатым мастером-скупщиком и бедным мастером-производителем, который работал с двумя подмастерьями, изготовляя изделия, покупавшиеся первым.
Таким образом, в городах XIV столетия мы встречаем внутри гильдии не только случайные стачки за повышение заработной платы, но в некоторых случаях образование постоянных «гильдий йоменов» для защиты интересов рабочих и для выполнения боевых функций современных тред-юнионов. В некоторых ремеслах и в некоторых городах эти «гильдии йоменов» охватывали также мелких мастеров-ремесленников, враждебно настроенных по отношению к разбогатевшим мастерам, которые совсем перестали заниматься ремеслом и заботились исключительно о сбыте товаров. В некоторых отраслях промышленности торговец и ремесленник-производитель начали отделяться друг от друга; торговец присваивал себе контроль над промышленностью, распоряжаясь ремесленной гильдией или привилегированной «Ливери компани». Ремесленник-производитель – безразлично, подмастерье или мелкий мастер – терял значительную долю своей экономической независимости и попадал в зависимое положение. Управление городом находилось в руках крупного купечества.
Эти экономические и социальные перемены, начавшиеся в XIV столетии, продолжались и в следующую эпоху. Правда, поскольку не было единообразия, всякие обобщения были бы неизбежно неточными. История каждого ремесла и каждого города имеет свои специфические отличия. Однако общая тенденция развития промышленности и торговли во время Столетней войны и войны Алой и Белой розы была именно такой, как она описана выше.
Поэтому во времена Чосера в структуре общества происходили большие перемены. Крепостничество в манорах исчезало, и для ведения сельского хозяйства и торговли появились новые классы. Новые учреждения как в деревне, так и в городе были как бы «привиты» к средневековым. Но в другой огромной области человеческих действий – в религиозноцерковной, с которой в те времена была связана половина жизни человека и его отношений, – реформы существующих учреждений задерживались благодаря упорному консерватизму церковных властей, хотя и здесь также научная мысль и общественное мнение быстро двигались вперед.
Реформа действительно надолго запоздала. Разложение в среде духовенства разоблачалось не только еретиками лоллардами, но и ортодоксами и мирянами, Ленглендом, Гоуэром и Чосером не меньше, чем Уиклифом. «Коррупция», конечно, имела место, но не в этом заключалась суть дела: она имела место и в прошедшие века, но все же церковь осталась цела и невредима. И во времена Чосера она была не более «коррумпирована», чем королевская юстиция, и поведение церковной иерархии было не хуже поведения лордов и их свит. С точки зрения современных моральных норм была «развращена» большая часть средневековых учреждений. Но, в то время как миряне шли в ногу со временем, церковь застыла в неподвижности. Отгородившись каменной стеной своих незыблемых привилегий и неотчуждаемых, все возрастающих богатств, ее руководители не предпринимали никаких шагов к тому, чтобы заставить замолчать громкие голоса морального осуждения и прекратить ропот завистливой алчности, которые поднимались со всех сторон против церкви и ее владений. Миряне во времена Чосера были не только более критически настроены, но и много образованнее и поэтому опаснее, чем во времена Ансельма и Бекета, когда духовенство пользовалось почти полной монополией на ученость. Уиклиф так описывает их тред-юнионистскую политику, которая, по-видимому, была уже весьма развита: «Люди такого ремесла, как свободные каменщики и другие, тайно договариваются, чтобы никто из их ремесла не брал в день меньшую плату, чем они постановят, и чтобы никто из них длительно не делал дополнительных работ, что могло бы помешать заработкам других рабочих его ремесла, и чтобы никто из них не делал иной (работы), кроме обтесывания камня, хотя бы он мог добыть поденной работой 20 фунтов своему мастеру, укладывая камни в стену».
В среде самого духовенства многие были такими же резкими критиками церкви, как и миряне. Оксфордские ученые и немалое число приходских священников, вынужденных отдавать собираемую ими десятину богатым монахам и иностранным прелатам, были сторонниками реформы и даже мятежниками. Больше того, обе спорящие стороны поносили друг друга с невоздержанностью в выражениях, обычной для средневекового спора. Нищенствующие монахи нападали на епископов и светское духовенство, которые отплачивали им с лихвой. В чосеровских «Кентерберийских рассказах» именно нищенствующий монах и церковный Судебный пристав для увеселения компании мирян открывают мошеннические проделки друг друга. Со всех сторон, как в церкви, так и за ее пределами, раздавались нападки на различные чины духовенства.
И все же ничего не было сделано. Преобразование церкви не могло совершиться, подобно преобразованию манора и гильдий, под естественным действием экономических перемен или под простым давлением общественного мнения. Необходимы были административные и законодательные реформы. Но не было административных органов, способных их осуществить, за исключением тех, которые имелись в руках папы и епископов. Папство же, которое так много сделало в предшествующие века, теперь не только не улучшило положения церкви в Англии, но способствовало его ухудшению. Папа использовал свои права для поощрения злоупотреблений, обогащавших римскую курию, хотя все это оскорбляло пробудившуюся совесть строгого пека.
Однако и без поддержки папы английские епископы могли бы кое-что сделать. А епископы во времена Чосера, за малым исключением, были способные, трудолюбивые, весьма почтенные люди. Почему же в таком случае они не попытались произвести хотя бы какие-нибудь реформы церкви?
Главная причина заключалась в их чрезмерной приверженности к мирским делам. Несмотря на то, что епископы оплачивались из церковных доходов, они все свои силы отдавали государственной службе. Вопреки парламентским законам лучшие церковные должности раздавались тайным соглашением между папой и королем. Папа продвигал на многие высшие должности своих иностранных фаворитов, но в виде компенсации, как часть сделки, он обычно предоставлял королю назначение епископов. Таким образом, король оплачивал своих церковных служителей и светских служащих не из государственных налогов, а за счет епископских доходов. Из 25 человек, которые между 1376 и 1386 годами были епископами в Англии и в Уэльсе, 13 занимали высокие светские государственные должности, а несколько других играли крупную политическую роль. Одних епископов посылали за границу в качестве послов в иностранные государства, другие исполняли светские обязанности при сыновьях короля.
В период нормандских королей вследствие тесной связи, существовавшей между епископатом и королевским правительственным чиновничеством, варварская страна была богата одаренными и образованными чиновниками; благодаря своему епископскому авторитету они имели такое влияние, что могли, действуя в качестве слуг короля, заставить невежественных и грубых баронов подчиняться им. Но с каждым новым поколением целесообразность системы, некогда столь ценной для страны, ослабевала. Теперь было много пригодной для королевской службы светской интеллигенции, и одним из ее представителей был Чосер. Монополия духовенства на несение секретарской службы и занятие епископами важнейших государственных постов стали возбуждать справедливое недовольство. В Англии в это время уже имелись интеллигентные и высококвалифицированные юристы и прекрасно образованные люди, которые могли с успехом руководить государственными делами величайшей важности. Именно этого типа люди при Тюдорах заменили и прелатов, и знать как орудие королевского управления. Уже при последних Плантагенетах были заметны первые признаки такой перемены. Благодаря петиции палаты общин в 1371 году, направленной против назначения духовенства на высшие государственные посты, в течение некоторого времени светские лица чередовались с духовными в должности канцлеров и казначеев государства.
Поглощенные заботами светской службы, епископы обращали мало внимания на жалкое положение своих епархий. Не было ничего нового в том, что места в приходах оставались вакантными или замещались опозорившимися служителями церкви, а то и вовсе лицами, не имеющими духовного звания, к тому же плохо оплачиваемыми. Если папа способствовал продаже индульгенций и поддельных реликвий, то епископы смотрели на это только как на одну из законных коммерческих операций; не проявляя чрезмерной щепетильности, они снабжали продавцов папских индульгенций письмами, рекомендуя их товар населению.
Пренебрежение епископов одной из своих обязанностей – надлежащим контролем над церковными судами – привело к неблагоприятным последствиям. Что касается завещаний и браков, которыми тогда ведала церковь, то в этой области церковные суды были не более продажными или бездеятельными, чем светские судьи и законоведы того времени. Но наиболее специальные функции епископского суда, касавшиеся религиозных дел, остававшиеся обычно в ведении архидиакона, вызывали во времена Чосера большие скандалы, как это показывает его «Рассказ нищенствующего монаха». Дела о проступках, не рассматриваемые светскими судами, в частности дела о половой распущенности, входили в область церковной юрисдикции. Так как фактически обычай замены наказания денежным платежом сделался общим явлением, то от этой официально признанной практики был только один шаг до шантажа грешников в их же собственных домах чиновниками епископского суда, в особенности «судебными приставами», пользовавшимися самой дурной славой.
Хотя епископы и пренебрегали многими своим обязанностями, все же они были очень заинтересованы в некоторых церковных делах: боролись за церковные привилегии и церковные вклады со всеми посягателями и травили еретиков, когда ересь впервые (в 1380 году) серьезно подняла голову в связи с отказом Уиклифа признать догмат пресуществления во время литургии.
Несомненно, многие прихожане добросовестно и относительно хорошо обслуживались людьми, подобными чосеровскому «бедному священнику» (единственный тип духовенства, к которому поэт, по-видимому, чувствовал симпатию и уважение), но значительная часть церковных приходов в бенефициях, пожертвованных мирянами, раздавалась людям, совсем не имеющим священнического сана, или просто мирянам. И слишком уж часто церковь принадлежала монастырю или богатому священнику-абсентеисту и совместителю, а фактически обслуживалась плохо оплачиваемым невежественным священником, служившим только обедню и понимавшим латинские слова, которые он бормотал, нисколько не лучше, чем его слушатели. Другие приходские священники могли бы хорошо исполнять свои обязанности, но в поисках более свободной и интересной жизни и дополнительных денежных доходов уходили из своих приходов в Лондон, Оксфорд или поступали в дом какого-нибудь крупного магната. Приходский священник редко был ректором, часто он не был даже викарием; обычно это был капеллан или клирик, мизерно оплачиваемый за исполнение обязанностей, которыми пренебрегал священник, получивший бенефиций.
Вследствие этого поучения и проповеди в английской деревне не имели большого значения, поскольку это касалось приходского священника, хотя обедню он служил регулярно. Но этот пробел в значительной степени восполнялся нищенствующим монахом-проповедником во время его регулярных посещений, странствующим продавцом папских индульгенций, с его сумкой, «полной индульгенций, прибывших из Рима совсем горячими», уиклифовскими еретическими миссионерами и агитаторами Джона Болла с их проповедью христианской демократии. Безразлично, будем ли мы смотреть на этих проповедников, вторгающихся «на чужое поле», как на сеющих плевела в пшеницу или как на обогащающих урожай господень, они сыграли большую роль в религиозной и умственной жизни страны. Они распространяли новые взгляды и мысли, последние учения и новости текущего дня, донося их до отдаленных крестьянских домов и хижин, жители которых никогда не покидали своих мест и не умели прочесть ни одного слова. Эти разносчики религии непрерывно двигались – пешком и на лошади – по извилистым грязным дорогам и зеленым тропинкам Англии. И к этой странствующей братии нужно прибавить более светски настроенных менестрелей, скоморохов, фигляров, нищих и всякого рода шарлатанов, а также странников «по святым местам» и странников по мирским делам. «Все путники исполняли роль «микробов», как их назвал историк Жюссеран, заражая оседлую частьнаселения идеями о новом веке и о более обширном мире. Они же подготовляли переход от средневековья к Новому времени.
Нищенствующий монах
В самой церкви царил приходский священник, совершавший литургию, посещавшуюся по воскресеньям большею частью жителей его деревни. Церковь была центром средневековой религиозной жизни. Крестьянин посещал ее каждое воскресенье, и хотя он не мог следить за латинскими словами, но хорошие, благородные чувства пробуждались в глубине его души, когда он, коленопреклоненный, переворачивал молитвенник и слушал знакомые, но все еще таинственные для него слова. Он видел вокруг себя на стенах фрески со сценами из Священного Писания и из Жития святых; а на куполе – Страшный суд, изображенный в ярких красках: с одной стороны, рай, готовый принять праведника, с другой – пылающий ад с палачами дьявола, терзающими обнаженные души. Страх перед адом был самым сильным средством, которым беспощадно пользовались все проповедники и исповедники для обогащения церкви и для приведения грешников к раскаянию.
Правоверные отправляли еретиков, а еретики – епископов в вечно горящее пламя, но обе стороны держались одного мнения, что в аду едва ли хватит места, ибо там «целая безднанищенствующих монахов».
Крестьянин знал некоторые изречения Христа и события из его жизни и из жизни святых, а также многие рассказы из Библии, как, например, про Адама и Еву, про Ноев ковчег, про мудрость Соломона и его жен, про судьбу Иезавели, Иеффая и его дочерей, «которых он очень любил». Все это и многое другое с многочисленными своеобразными прикрасами он узнавал из «божественных песнопений» и из чувствительных и занимательных проповедей нищенствующих монахов. Крестьянин никогда не видел Библии на английском языке, но даже если бы он ее увидел, то не смог бы прочесть. Английский крестьянин не знал ничего похожего на общие молитвы или на чтение Библии в семейном кругу. Но религия и разговоры о ней окружали его жизнь. Крест с распятием Христа часто находился перед его глазами, и он хорошо помнил предание о распятии.
Исповедь была принудительной обязанностью, обычно у приходского священника, но очень часто и у назойливого нищенствующего монаха, который легче давал отпущение и во многих случаях, возможно, более умело, а часто (как утверждали все) более корыстно: за хорошее угощение или за другие блага.
О нищенствующих монахах можно сказать гораздо больше, чем сказано здесь. Они были «слишком плохи» для того, чтобы их благословлять, и слишком хороши для того, чтобы их проклинать. Черные нищенствующие монахи св. Доминика и еще больше серые нищенствующие монахи кроткого св. Франциска являлись в Англии в XIII веке действительной силой в распространении христианства по заветам Евангелия, а в XIV веке они выносили на своих плечах большую часть миссионерской работы церкви. Они по-прежнему были умелыми проповедниками и пробудили большой интерес к проповеди. Неграмотный народ в эпоху умственного пробуждения все больше и больше требовал живого слова, и лишь в редких случаях местный приходский священник мог удовлетворить эти запросы.
Таким образом, во времена Чосера нищенствующие монахи все еще задавали тон. Отчасти из подражания, отчасти из соперничества последователи Уиклифа уделяли большое внимание народным проповедям. Если впоследствии протестанты придавали большее значение кафедре проповедника, чем алтарю, то тем самым они только продолжили движение, начатое нищенствующими монахами.
Если ортодоксальное светское духовенство нападало на них за то, что их проповеди были переполнены пустыми, малопоучительными рассказами для привлечения толпы, то эти нападки отчасти объясняются тем, что в этих проповедях бичевались пороки духовенства: бездеятельность епископов, монахов и приходского духовенства и продажность архидиакона и его церковных «судебных приставов». В первую пору деятельности Уиклифа нищенствующие монахи были его союзниками против «зажиточного духовенства», и только после того как Уиклиф выступил со своей ересью догмата о пресуществлении, нищенствующие монахи сделались его злейшими врагами, В теории они в противоположность монастырской братии жили подаяниями верующих, не имели собственности и проповедовали учение об евангельской бедности, столь близкое учению св. Франциска. Но на практике они уже накопили огромные богатства и ценности, которые хранили в своих роскошных монастырях. Уиклиф одобрял их теорию и осуждал их практику. Если искать корни некоторых характерных черт английского пуританства – его аскетизм, его борьбу с грехами, его строгое соблюдение праздников, его страх перед адом, нападки на епископов и на богатое духовенство, его нетерпимость к противникам, его страстные и душераздирающие проповеди, склонность к елейным чувствам и к лицемерию, обращение к бедному с проповедью равенства, – то их можно найти в средневековой церкви и, особенно, в деятельности нищенствующих монахов. И не только в их деятельности; клирик Ленгленд был предшественником Беньяна, и Уиклиф мог бы узнать, что его идеалы священства осуществлены Латимером и Уэсли [16]. Те ученые, которые за последнее время – и притом особенно тщательно – изучали проповеди и другую религиозную литературу XIV века в прозе и в поэзии, больше всех возражают «против принятия средневековой религии какой-нибудь одной современной религиозной партией или против полного ее отрицания какой-либо другой, потому что средневековая церковь – родоначальница всех наших религий и, как сказал сам Чосер:
Нет нового обличия, которое не было бы старым.
С другой стороны, в позднейшем английском протестантизме были элементы совсем не средневековые. Культ семьи и освящение семейных отношений и деловой жизни религией являются уже позднейшими наслоениями в протестантизме. Им не было места в средневековых идеалах или в действительности; средневековые идеалы проистекали из более чистых аскетических и далеких от всего мирского источников раннего христианства, которые, хотя действительность крайне редко соответствовала им, тем не менее господствовали в теории.
В то время как враги нищенствующих монахов осуждали их за то, что они делали слишком много, слишком назойливо вторгались в область, где у них не было узаконенного места, монастырскую братию обвиняли, наоборот, в том, что она делала слишком мало. Пламя религиозного энтузиазма и свет учености в монастырях, которые некогда обеспечивали Англию мудрым руководством, теперь лишь тускло мерцали. Король уже не посылал больше за каким-нибудь святым аббатом для того, чтобы просить его «пожалеть страну» и сменить управление своей обителью на управление большой епархией. Кентерберийский монастырь уже не мог больше соперничать с Парижским университетом ученостью и философией: главным источником возвышенной мысли и просветительным центром страны теперь стал Оксфорд, и главной умственной и влиятельной силой там были нищенствующие монахи и светское духовенство. Монахи уже не принимали участия в политике, как это было во время войн между баронами. Хроники все еще составлялись в монастырях, но они лишь продолжали литературную традицию предшествующего века, в то время как мирянин Фруассар вырабатывал новый метод изложения истории. В веке Матвей Парижский из Сент-Олбанского монастыря был действительно крупнейшим историком, тогда как составители монастырских хроник чосеровского времени, даже самых лучших из них – таких, как хроника Уолсингэма, – не были способны осознать относительное значение событий или оценить значение того, что происходило за пределами монастырской ограды. Мысли монаха были ограничены исключительно интересами его монастыря. Вся жизнь монаха протекала на монастырском дворе, за исключением того времени, когда его отправляли собирать ренту с отдельных монастырских поместий или сопровождать аббата при его выездах на охоту или при случайных поездках в Лондон. В монастыре он проводил время в кругу монастырской братии, интересы которой были столь же ограниченны, как и его собственные. Поэтому нет ничего удивительного, что монахи оказали такое упорное сопротивление требованиям городского населения и крестьян, для которых при изменившихся условиях местные привилегии аббатств сделались оскорбительными и притеснительными. Во всех отношениях мир двигался вперед, а монастырская жизнь оставалась неподвижной. Только в Йоркшире и на севере монастыри были популярны среди населения вплоть до времени их закрытия.
Монахи в Англии времен Чосера не отказывались ни от каких мирских благ, были хорошо обеспечены, вели в монастыре жизнь, полную комфорта, или, переодевшись в светскую одежду разъезжали по стране, охотясь за дичью или присматривая за своими поместьями. Монастырских монахов было не так много, вряд ли больше пяти тысяч, как показал подсчет, сделанный при упразднении монастырей во времена Генриха VIII. Они уже не занимались ручным трудом, как это делали их предшественники, и содержали целые армии служителей для поддержания повседневного твердо установленного порядка в своих огромных поместьях, часто занимавших много акров земли, как, например, в Бери Сент-Эдмундсе и Абингдоне. Обязанности самих монахов состояли в том, чтобы молиться и служить обедни за своих живых и мертвых покровителей и основателей монастырей. Они занимались раздачей денежных подаяний и остатков пищи беднякам; они оказывали широкое гостеприимство посетителям, многие из которых были богатыми и требовательными гостями. Богатого посетителя кормили за столом аббата или настоятеля, тогда как простым странникам давали пристанище в монастырской гостинице. Родственники основателей монастыря, влиятельная знать и дворяне предъявляли свои права в качестве гостей, чиновников и должностных лиц монастырей, потребляя значительную долю их богатств; вместе с тем и сами монахи, в особенности аббаты и настоятели, тратили на себя очень много.
К этому времени монастыри накопили огромные богатства: завещанные им земли, десятины, церкви, драгоценности; к тому же они пользовались правом назначать на церковные должности. Всего этого было достаточно, чтобы монастырская братия превратилась в ленивых трутней, живущих за счет обедневшего королевства. Палата общин установила, что третья часть богатств Англии была сосредоточена в руках церкви, причем большая часть церковных богатств принадлежала черному духовенству. Но несмотря на это, монахи постоянно находились в затруднительном финансовом положении – иногда из-за своей фанатической приверженности к роскошным архитектурным сооружениям, к расширению и украшению своего аббатства и своих церквей, иногда из-за своей полнейшей бесхозяйственности. Хотя были соборные монастыри, такие, как Кентерберийский, которые по-прежнему хорошо вели финансовые дела и умело управляли своими широко разбросанными манориальными владениями.
«Черная смерть» так же тяжело ударила по монастырскому землевладельцу, как и по светскому. Итальянские и английские ростовщики, появившиеся после изгнания евреев, брали такие же высокие проценты и видели в монахах богатый источник наживы.
Прежде домениальные земли монастырских маноров, находившиеся в непосредственном распоряжении должностных лиц самого аббатства, часто были прекрасным примером управления поместьем и улучшения обработки земли не только на овцеводческих пастбищах Йоркширских долин, но и в смешанных пахотных и пастбищных районах на юге Англии. Но в XIV и XV веках домениальные земли аббатства все чаще и чаще сдавались в долгосрочную аренду мирянам, которые или сами их обрабатывали, или сдавали в субаренду. Этим и другими путями задолго до окончательного закрытия монастырей начался контроль мирян над монастырскими богатствами и использование их.
Временами в монастырях происходили скандалы, и ортодокс Гоуэр, так же как и Уиклиф, был убежден в том, что монахи не целомудренны. Но если принять во внимание низкий моральный уровень всех классов того времени и особые трудности в положении безбрачного духовенства, то нет причины считать, что в этом отношении монастыри были особенно плохи. Конечно, исчез аскетический порыв прежних веков, и монахи уже не отличались строгой приверженностью своим правилам. Всякий монах, давший обет, жил роскошно по сравнению с общим уровнем жизни того времени и очень любил хорошо поесть. Прежние ограничения в принятии мясной пищи теперь сделались менее строгими. Монахи любили разные виды спорта под открытым небом, но их любили и другие. Не о греховности, а о бесполезности монаха говорили больше всего. Самое плохое, что мог о нем сказать Ленгленд, это то, что за пределами монастыря он:
По улицам всадником рыскал подчас, То в обществе дам он любил верховодить, То ловчим скакал из манора в манор, Словно лорд со сворой собак по пятам.Теперь реформаторы церкви, обманутые папой и епископами, начали возлагать все свои надежды уже на королевскую власть. Парламент стал требовать отобрания крупных вкладов у церкви, которая поглотила так много земли на протяжении бесчисленных поколений жертвователей и не отдала обратно ни одного акра. Но еще не пришло то время, когда наконец все осознали, что светская власть могла бы располагать вкладами, завещанными церкви. Всемогущество короля в парламенте еще не сделалось конституционной доктриной. Двоевластие – церкви и государства, конвокаций [17]и парламента – все еще представляло фактическое равновесие сил английского общества.
В одной большой области служения человечеству церковь в эпоху Чосера не была ни упадочной, ни косной. Непрерывная, но неуклонно развивающаяся традиция церковной архитектуры все еще шла по своему величественному пути, воздвигая в Англии целый лес каменных зданий; ни современность, ни античность не могли с ней соперничать. Развитие английской архитектуры – соборов, аббатств и приходских церквей – с небольшим перерывом, вызванным «черной смертью», шло вперед по пути от «декоративного» и «пламенеющего» стиля к «перпендикулярному». Главной особенностью этой архитектуры была ажурная обработка каменных украшений и большие размеры окон, обрамленных наличниками в виде каменных колонн. Архидиаконы при своих объездах обычно не одобряли старинную, в своем роде совершенную нормандскую церковку, «как слишком маленькую и темную». В новых церквах свет уже больше не вкрадывается, а вливается широким потоком через цветное стекло, секрет изготовления которого теперь утерян еще более безвозвратно, чем тайна архитектуры. Несомненно, средневековая церковь сделалась чрезмерно богатой, несомненно, ее соперничающие руководители и корпорации были порочны,преисполнены гордости, любви к роскоши и пропитаны узким «сословным духом», но если бы церковь оставалась бедной, согласно евангельским заветам, как того хотели св. Франциск и Уиклиф, то никогда не были бы выстроены наши соборы и аббатства с таким совершенным великолепием для того, чтобы из века в век молчаливо восхвалять Бога, давая ряду сменяющихся поколений самое чистое и самое возвышенное наслаждение, какое только может дать зрительное восприятие.
Часть служителей средневековой церкви, наименее дисциплинированная, почти лишенная «корпоративного духа», принадлежала к той армии священников, деканов и клириков, принявших сан, которые не получили бенефициев; они были рассеяны по всей стране и, занимая самые разнообразные должности, часто оставались без всякого церковного надзора, кроме надзора своих светских нанимателей. В большинстве случаев они несли обязанности, которые в наше время исполняются светскими лицами. Они были clerks [18](в обоих смыслах этого слова): одни составляли бумаги и вели счетоводство у дельцов, купцов, землевладельцев или у должностных лиц, другие исполняли церковные обязанности частных капелланов в замке или в господском доме или «священников при часовне» и жили на сборы с мирян за совершение заупокойных служб.Многие скитались, переходя с одной работы на другую; у них развивалась привычка к безделью и к преступлениям, что в конце концов делало их «непригодными» для какого-нибудь настоящего дела.
Клерки в торговых домах, в юридических или в государственных канцеляриях исполняли обязанности, полезные для общества; они были не лучше и не хуже других. Учитывая, что они были так слабо связаны с церковью, может быть, их несчастьем было то, что они вообще принадлежали к духовенству. Считалось, что клирики, за исключением принадлежащих к низшему духовному сану, не должны вступать в брак [19], а между тем многим жилось бы лучше, если бы у них была жена и домашний очаг.
В литературе того времени клирик часто является героем любовных интриг. Больше того, когда клирики совершали преступление – кражи или убийства, – они могли искать защиты у церкви и таким образом избежать кары строгого королевского суда, отбыв легкое наказание церковного суда. Не удивительно, что «преступные клирики» часто пользовались дурной репутацией и порочили церковь, с которой были так слабо связаны.
Уже имелись значительные возможности для обучения клириков чтению, письму и латинскому языку. От трехсот до четырехсот средних классических школ было рассеяно по всей Англии, правда, большая часть из них была очень небольшими учебными заведениями. Обычно они находились в ведении монастырей или соборов, госпиталей, гильдий или часовен; «учителя», которых назначали их руководители, принадлежали к белому духовенству. Способные мальчики незнатного рода благодаря таким школам возвышались, делались клириками и священниками – потому что служение в церкви все еще было завидной карьерой, наиболее доступной для бедняков. Но для обучения народных масс грамоте никаких попыток не делалось вплоть до XVIII века, когда начали открывать бесплатные школы для бедных детей.
В 1382 году Уильям Уикхэм, стремясь улучшить образование духовенства, основал беспримерно роскошную среднюю классическую школу, сделавшуюся в позднейшую эпоху образцом для учреждений подобного рода, таких, например, как школа в Итоне. «Сыновья знати и влиятельных людей» должны были составлять только часть всех учеников. Это позволило историку наших средневековых школ назвать их «зародышем системы общественных школ».
Уже были основаны два старейших английских университета, но между ними еще не было соперничества, потому что Кембридж только в XV-XVI веках приобрел национальное, общегосударственное значение.
В чосеровские времена интеллектуальным центром Англии был Оксфорд, и здесь, в Оксфорде, влияние Уиклифа было велико до тех нор, пока он и его последователи не были изгнаны или пока их не заставили замолчать (1382 год) вследствие вмешательства короля и епископов в свободную жизнь университета.
Если бы оксфордские ученые были объединены, то посягательство на привилегии Оксфорда было бы более трудным. Но там уже давно среди ученых имелись две партии – белого и черного духовенства; первая встала на сторону Уиклифа, вторая от него отвернулась.
Черное духовенство составляли монастырская братия и нищенствующие монахи; у них было несколько крупных монастырей, связанных с Оксфордским университетом. В предыдущем столетии научной мыслью руководили нищенствующие монахи. Среди них были такие крупные мыслители, как Гроссетет, Роджер Бэкон и Дунс Скотт, и они все еще имели в Оксфорде большую силу.
Белое духовенство смотрело на себя как на действительных представителей университета; это были такие священники, как Уиклиф, или деканы или клирики низшего сана. Прежде всего они были учеными, а затем уже церковными служителями. И они были такими же ревнителями свобод своего университета, какими были горожане, защищавшие свободы своего города. Они всегда были настороже по отношению к вмешательству папы и епископа, к королевским приказам, а также к требованиям и привилегиям города. Права университета защищались от любого посягательства ватагами буйных студентов, которые заполняли неопрятные общежития Оксфорда и по первому же призыву сбегались со всех сторон, чтобы угрожать расправой епископскому посланцу, с криками изгонять королевских чиновников, с дубинами и острыми орудиями врезаться в толпу, поддерживающую мэра города против ректора университета.
Горожане и академическое население Оксфорда пускали в ход кинжалы, мечи и даже луки и стрелы в решающих сражениях на Хай-стрит, В J 355 году горожане предприняли настоящее избиение клириков и студентов; оставшиеся в живых в панике бежали из Оксфорда; университет был закрыт до той поры, пока в это дело не вмешался король, принявший меры для защиты ученых и наказания виновных. В Кембридже в 1381 году вовремя восстания горожане уничтожили грамоты и университетские архивы.
До того времени, пока система колледжей не развилась настолько, чтобы выполнить свое назначение, средневековый студент был буйным, распущенным, не признающим никаких законов. Он был очень беден, часто очень мало занимался из-за отсутствия книг и контроля над ним и покидал университет, не получив ученой степени. Но многие студенты горели желанием учиться или, во всяком случае, жаждали ученых споров. Некоторым было всего лишь 14 лет, но возраст большинства приближался чаще к возрасту студентов Нового времени. Многие были еще мирянами, но почти все намеревались стать если не священниками, то, по крайней мере, клириками. Несомненно, что приобретенные в Оксфорде и Кембридже привычки способствовали выработке в дальнейшей жизни у многих клириков своевольного и несдержанного характера. Университетские власти, подражая неразумным мероприятиям церковных властей и государства, запрещали молодежи, находящейся в их ведении, физические упражнения, но не прилагали усилий к тому, чтобы удержать ее от кабачков и публичных домов; некоторые из среды молодежи бродяжничали по стране в разбойничьих шайках.
Но Англия нашла средство против этих зол. Система колледжей, хотя она и зародилась в Париже, сделалась в конце концов единственной в своем роде особенностью двух английских университетов. В конце XIII века в Оксфорде было основано несколько колледжей, в Кембридже - Питерхауз. Но в первые годы деятельности Уиклифа система колледжей являлась исключением, и можно сомневаться в том, что из трех тысяч оксфордцев (исключая монахов и нищенствующую братию) хотя бы сотня студентов подчинялась какой-нибудь дисциплине. Но еще до смерти Уиклифа Уильям Уикхэм основал свой великолепный Нью-колледж с его квадратными зданиями и с «сотней клириков». Следуя такому образцу, английская система колледжей быстро развивалась в течение двух ближайших столетий, когда появлялись одно за другим все новые и новые учебные заведения.
Нью-колледж в Оксфорде
Спрос на колледжи и готовность основателей идти навстречу этой потребности были вызваны религиозным спором. Сторонники существующих церковных порядков (ортодоксы) стремились отдать своих сыновей – духовных руководителей будущего поколения – под надежную охрану таких учреждений и ученых, которые предохранили бы их от уиклифовской ереси, бушевавшей в общежитиях и гостиницах, где скученно жили студенты, обсуждавшие с развязностью и безответственностью пылкой юности все дела, связанные с небесами и с землей. Но и помимо всех соображений чисто религиозного порядка, родители и практичные люди сознавали преимущества академических домов (колледжей), которые ограждали молодого человека от физических и моральных опасностей, возможно, таких же крупных, как и умственные заблуждения Уиклифа, Система колледжей пустила корни в Англии и расцвела здесь, как нигде. По-видимому, в этот период использование доходов колледжей было эффективным гораздо чаще, чем использование монастырских финансов.
Таким образом, в XV столетии, когда насильственное подавление свободы обсуждения религиозных и церковных вопросов на сотню лет нанесло серьезный ущерб интеллектуальной мощианглийских университетов, быстрое распространение колледжей и их системы способствовало повышению нравственности и дисциплины и повышению культуры академической жизни. В этом отношении последующие поколения англичан в большом долгу перед Оксфордом и Кембриджем позднего средневековья.
Но одна очень важная отрасль знания нашла себе отчий дом, которого не имела ни в Оксфорде, ни в Кембридже. Светские юристы, разрабатывающие обычное право и руководившие в королевских судах, учредили для себя Судебное подворье между Лондоном и Вестминстером, где велось преподавание права, отличающееся от права церковного суда. Мейтленд так описал это учреждение:
«Это были корпорации юристов, имевшие нечто общее с клубом, колледжем и тред-юнионом. Они приобретали гостиницы или странноприимные дома – то есть дома в городах, которые принадлежали ранее крупным дворянам: например, гостиницу графа Линкольнского. Дом и церковь рыцарей-тамплиеров также перешли в их руки… Старшие юристы и их помощники, которые входили в корпорацию, пользовались исключительным правом ведения дел в судах».
Эти юристы, разрабатывавшие общее право, были первыми светскими учеными и как таковые имели большое значение для развития страны.
Глава III Англия времен Кэкстона
В настоящее время трудно даже представить себе, насколько медленно происходили изменения до эпохи изобретений. После социальных смут и волнений умов в Англии XIII века можно было ожидать, что произойдет нечто значительное и потрясающее. Однако XV век оказался определенно консервативным во многих сторонах быта и мышления. Если бы дух Чосера посетил Англию во времена Кэкстона (1422-1491), то он нашел бы очень немногое, что поразило бы его. Быть может, он был бы изумлен только тем, что из всех нападок на церковь ничего не вышло. Проезжая по знакомой плохой проезжей дороге, все еще осаждаемой разбойниками, пересекая глубокие ручьи и реки вброд и по ветхим мостам, он увидел бы крестьян с волами, обрабатывающих те же самые полосы на больших открытых полях; и только если бы он посетил манориальную курию [20], он узнал бы, что крепостных крестьян осталось очень мало. Путники, похожие на тех, которых он знал так хорошо, приветствовали бы его и теперь: столь же многочисленные и веселые пилигримы, как и те, с которыми он ехал в Кентербери; нищенствующие монахи, церковные судебные приставы, продавцы папских индульгенций, ведущие все ту же старую игру с простым народом; Купцы, охраняющие свои караваны нагруженных лошадей; дворяне и духовные лица с соколами и с гончими; вооруженные свиты лордов на конях, с луками и копьями, направляющиеся по таким же сомнительным поручениям, как и в те времена, когда вооруженные слуги Джона Гонта держали в страхе всю сельскую округу. Из их разговоров о войне Алой и Белой розы и о битвах, происходивших на английской земле, он мог бы понять, что беспорядок в стране даже увеличился по сравнению с его временем, но характер и причины дурного управления были все те же: терроризирование честных людей слугами магнатов, продажность и вымогательства королевских судов и даже самого Тайного совета. Из разговоров своих спутников наш Чосер-призрак скоро понял бы, что битва при Азенкуре возродила в умах его современников идеи, впервые привитые после Креси – когда он был еще мальчиком, – что один англичанин может справиться в бою с тремя иностранцами и что настоящее занятие и времяпрепровождение англичан состоит в том, чтобы управлять Францией и грабить ее. Поэтому собственные английские социальные болезни оставались, как всегда, неизлеченными. После Азенкура успех Англии во Франции оказался столь же непрочным, как и после Креси; армии, набранные частными лицами, вытесненные обратно через Ла-Манш, снова стали вооруженными свитами магнатов и по-прежнему вносили беспорядок в мирную жизнь страны.
Дух Чосера мог бы заметить, что с его времени большая часть наших городов не выросла, а некоторые даже уменьшились. Но Лондон и Бристоль расцвели, и возле них вырастали все новые пригороды. В городах и в деревнях строили великолепные новые церкви, ратуши и часовни, а также изящно расширяли старые церкви. Все они были построены из камня в вычурном и витиеватом стиле, и этот стиль показался бы Чосеру «новой манерой», так же, как и кирпичные здания, которые можно и теперь еще видеть в восточных графствах: господские усадьбы, дома с порталами, кембриджские колледжи, такие, как Квин-колледж, и дворцы знати, подобные Таттерс-холлу – сооружению башенного типа, построенному из красного кирпича, – и, наконец, Кингс-колледж в Итоне [21].
В портовых городах бородатые матросы, весьма схожие с неким «моряком», давно описанным Чосером, рассказывали об опасностях, о торговле и о бурях в Ла-Манше и в Бискайском заливе, об удачах английских пиратов, которые захватывали товары на испанских галерах, на генуэзских вооруженных купеческих кораблях и бретонских и голландских судах и о приключениях при схватках с иностранными пиратами, пытавшимися вернуть обратно добычу, захваченную англичанами. И среди всей этой старой, знакомой болтовни о морях, окружающих Британию, можно было услышать странные речи о чем-то совершенно новом: о том, что некоторые иностранные моряки надеялись достигнуть Индии морским путем – или, огибая с юга Африку, или через океан, пересекая его в западном направлении, – и о том, что в Бристоле кое-кто с интересом прислушивался к этим разговорам о морских путях в Индию.
В господских домах нового дворянства, во дворцах знати и при дворе короля дух поэта нашел бы, что та культура, которую он так любил, все еще жива, но уже на пути к увяданию. Он считал бы отрадным явлением, что все еще продолжали читать его поэмы; ему показалось бы, что его последователи немногое создали, помимо подражаний, имевших незначительный успех. Воображение молодого поколения, казалось, все еще было в плену у общераспространенных аллегорий, изображавших средневековые любовные томления с их условностями; оно все еще восхищалось битвами греческих воинов против Трои, столь, же бесконечными, как война Англии с Францией. Но сказания о короле Артуре и рыцарях «Круглого стола» заново переводились «Французской книги» в бессмертной прозе Мелори.
И если бы дух Чосера, глядя из-за плеча Эдуарда IV, стоящего у машины, вывезенной из Фландрии Кэкстоном, увидел, как она быстро делала один за другим оттиски с рукописи «Кентерберийских рассказов», выглядевшие почти тождественно с оригиналом, то польщенный поэт усмехнулся бы, глядя на такую забавную игрушку. Едва ли мог бы он предвидеть в этом то грозное орудие, которое разрушит до основания аббатства и дворцы, орудие, которое в непродолжительном времени преобразует английское государство и религию.
После второго изгнания английской армии из Франции в самой Англии разгорелись войны двух Роз (1455-1485). Как глубоко отразились они на социальной жизни Англии? Ответ зависит от того, что мы понимаем под «войнами двух Роз». Если мы имеем в виду только короткие, случайные военные походы (в которых участвовало от 2 до 10 тысяч человек с каждой стороны), закончившиеся битвами, такими, как при Сент-Олбансе, Тонтоне, Барнете и на полях Босуорта [22], то они не имели большого значения. Такая битва, даже если сражение происходило в Йоркшире или в Центральной Англии, обычно воспринималась без особого энтузиазма Лондоном и всем государством и рассматривалась как решение вопроса о том, какая же партия знати будет теперь управлять Англией. Династии Йорков и Ланкастеров не могли вести гражданскую войну способом, который впоследствии был принят Карлом I и Долгим парламентом, когда многочисленные и полные энтузиазма армии содержались за счет систематического грабежа и государственных налогов для того, чтобы совершать регулярные походы, осаждая сразу десятки городов, обнесенных стенами, и сотни дворцов и манориальны усадеб. Лорды, которые вели войну Алой и Белой розы, и имели такой моральной власти над своими соотечественниками, ибо они не могли взывать к каким-либо принципа или к народному чувству в пользу соперничающих претендентов на трон; ни одна сторона не могла бы рискнуть возбудить против себя общественное мнение введением тяжело военного налога, приостановкой торговли или опустошением страны, следуя дурному примеру поведения английских армий во Франции в недавнем прошлом. В этом смысле действительно войны Алой и Белой розы были с военной точки зрения лишь мелкими царапинами на поверхности английской жизни.
Военные доспехи феодального лорда XV в.
Но если «войну Роз» мы рассматриваем как период общественных беспорядков, которые приводили время от времени к вспышкам настоящих войн, то ясно, что вся социальная система была поражена вследствие дурного управления. Вред, нанесенный «слишком важными персонами» и «слабостью государственной власти», был настолько большим и столь широко распространившимся, что в следующем столетии монархия Тюдоров была популярна потому, что она была сильной и могла «обуздать строптивую знать и джентльменов».
В чем же состояли эти общественные беспорядки? Они охватили преимущественно деревню и лишь в незначительной степени город. Но ведь население Англии на девять десятых было деревенским, и общественные беспорядки были вызваны главным образом борьбой землевладельцев друг с другом за землю.
Поведение большинства людей определяется той господствующей формой общественного устройства, при которой они живут. Подобно тому как в XVIII столетии нельзя было себе представить сквайра, который не осушал бы болот и не огораживал бы землю, не перестраивал бы сельских домов, не насаждал бы деревьев, не расширял бы своего холла и не украшал бы своих участков перед домом, так и в XV веке нельзя себе представить сельского дворянина, который не стремился бы подражать своим наиболее уважаемым соседям, наблюдая, как те уделяли лишь незначительную часть своего времени и энергии поддержанию своих манориальных курий и выжиманию ренты, а в основном были поглощены расширением своих родовых владений и богатств брачными договорами, а часто вооруженным захватом владений соседа, пытаясь мошенническим путем придать своим действиям видимость законности. И те, кто сами являлись жертвой такой несправедливости, могли защищать свои законные права только подобным же образом, сочетая судебные процессы с грубой силой. Английское графство, такое, как Норфолк, походило на Европу в миниатюре – с ее крупными и маленькими государствами, с ее союзами, скрепляемыми детскими браками, с ее равновесием сил, с ее территориальными требованиями и контртребованиями, всегда бурлящими внутри и время от времени приводящими к какому-нибудь насильственному действию или к судебной тяжбе. Связь между таким состоянием общества и официальными войнами Роз иллюстрируется осадой в 1469 году замка Кейстер армией в 3 тысячи человек, оплачиваемой герцогом Норфолкским, который сражался исключительно из личных интересов, решая свой спор о правах владения.
Техника неожиданного захвата владений включала оскорбление действием или открытое убийство, часто совершаемые в общественном месте, среди белого дня – для более сильного впечатления, потому что не только соперник, предъявляющий свои права, но и присяжные в суде должны были трепетать за свою жизнь. Нельзя было ожидать от присяжных справедливого решения, нельзя было надеяться, что они будут руководствоваться только существом дела Ливрея могущественного лорда или рыцаря давала ему свободу не только срезать безнаказанно кошельки, но и перерезать глотки.
При таких условиях всякий претендент на влияние в графстве, всякий властолюбивый человек, домогающийся земель своего соседа, или всякий тихий человек, желавший сохранить свои владения, должен был находиться под защитой какого-нибудь крупного магната королевства, чтобы тот был «хорошим лордом» для него, могущим держать в страхе судью и присяжных, когда суд будет рассматривать его дело, и замолвить за него словечко в Тайном совете, которое могло бы вызвать или, наоборот, предотвратить вмешательство короля в деятельность местного правосудия. Восстановить справедливость, безразлично, в низшем или в высшем суде, можно было или страхом, или благоволением.
В следующем столетии Тюдоры освободили Тайный совет и суды от влияния знати, упразднили вооруженные свиты и навели порядок в стране. Но даже и они не могли изменить человеческую природу, как свою, так и своих подданных.
В XV столетии непрестанные судебные тяжбы о правах на землю, тянувшиеся часто годами без всякого решения, являлись серьезным вопросом для арендаторов оспариваемой земли, в особенности если два лица, предъявляющие свои права на манор, посылали вооруженных людей и силой добивались уплаты ренты. Расходы на содержание вооруженных слуг и ведение судебных дел, упадок сельского хозяйства в этот период заставляли землевладельцев быть весьма скупыми в отношении затрат на ремонт и чрезмерно требовательными при взимании причитающейся им ренты, поэтому сельский дворянин регулярно заглядывал в свою арендную ведомость и добивался своевременной уплаты ренты наличными деньгами.
В эти времена, если только сельский хозяин не был овцеводом, у него редко был иной источник поступления наличных денег, помимо денежной ренты, хотя продукты питания и одежда для его домашних могли поступать из его собственного хозяйства или в виде ренты, уплачиваемой натурой.
Отношение землевладельца к держателям – безразлично, к держателям полос открытых полей или огороженных фермерских участков – с каждым годом приближалось к практике Нового времени. Типичный феодализм и крепостничество исчезали, но все еще сохранялись пережитки феодального положения лорда, выражавшиеся в полновластном председательствовании его самого или его управляющего в манориальной курии или в уголовных манориальных судах.
Там рассматривались и решались дела хозяина манора и его держателей-копигольдеров, а также вопросы внутренних взаимоотношений членов сельской общины – держателей открытых полей и совместно пользующихся общинными пастбищами и пустошами. Не всегда было возможно на практике обуздать волю лорда или его управляющего, но держатели были судьями в суде, и процедура открытого суда, действовавшего на основе установленного манориального обычая, являлась реальной уздой, сдерживающей тирана-лорда, а также своего рода всеобщей школой самоуправления, в которой мог приобретать опыт и «бедняк».
Споры между землевладельцем и держателем об обязанностях в отношении ремонтных работ и о размерах и точных сроках уплаты ренты характерны для этого переходного периода – от старого феодального способа к новой арендно-денежной системе, практика которой еще не регулировалась традицией. Земельные собственники, как видно из их переписки, были весьма озабочены этими спорами; их агентам – из мирян и духовенства – нелегко было справляться с упрямым крестьянством. Джеймс Глойс – капеллан и фактотум семьи Пастонов, вместе с тем учитель их сыновей, доверенный секретарь и земельный агент – описывал или грозился описать крестьянский скот и плуги. Ему нельзя отказать и в некоторой доле гуманности. Он сам признавался, что одного держателя он никогда не мог тронуть: «Я никогда не мог бы сделать этого, до тех пор пока я не стал бы описывать его имущество в доме его матери, а на это я не отваживался из-за ее проклятий».
Обязанности земельного агента часто исполнялись частным капелланом сельского дворянина или даже приходским священником, который «навещал» свою паству, действуя уже в качестве этого светского должностного лица. Такое мирское использование патроном церковного прихода часто вовлекало священников в сомнительные дела.
Использование мирянами духовных лиц для своих светских дел, унаследованное из прошлого века, когда только одно духовенство умело читать и писать, и теперь еще было распространено во всех слоях общества. Разве «святейший» король Генрих VI не оплачивал своих светских слуг епископствами и различными повышениями в духовном сане? А как мог бы он оплачивать их иначе в стране, где народ не терпел обложения налогами?
Случалось, что приходский священник большую часть своего времени проводил как земледелец, как прирожденный крестьянин, каким он и был в действительности, обрабатывая свой земельный участок – обычно в 40-60 акров – в открытом поле и даже арендуя другие участки земли.
Иногда открытое поле огораживалось и делилось на отдельные укрупненные участки по соглашению самих крестьян-земледельцев между собой. И всегда у обычных держателей имелся избыток свободной земли – свободный земельный рынок. Рачительный крестьянин Англии XV столетия, подобно крестьянину Франции XIX столетия, частенько делал сбережения, стремясь увеличить свое небольшое держание прикупкой соседских полос.
XV век в целом был хорошим временем дня крестьянина и рабочего и плохим для лендлорда. Вследствие повторяющихся время от времени вспышек чумы убыль населения после «черной смерти» еще не была восполнена, и исчезновение крепостной зависимости позволило рабочему в полной мере использовать этот факт, устанавливая высокую цену на свой свободный труд. Землевладельцу было не только очень невыгодно обрабатывать свою домениальную землю при помощи наемного труда; ему теперь было также трудно сдавать фермы в аренду на своей домениалъной земле или в открытом поле. Земельный голод XIII столетия, столь благоприятный для лендлордов, сменился избытком земли и голодом на рабочую силу, необходимую для ее обработки; и такое положение продолжалось на протяжении большей части XIV и XV столетий, вплоть до начала царствования Тюдоров.
Во время войн Алой и Белой розы Англия стала беднее, чем раньше, вследствие неудачной войны с Францией, сопровождавшейся гражданской борьбой внутри страны, а также вследствие убыли населения. Повторяющиеся эпидемии чумы чаще всего разражались в городах и в портах, где было очень много крыс – носителей блох; иначе говоря, именно та часть общества, которая являлась главным производителем богатств, сильнее всего подвергалась дезорганизующему и смертоносному воздействию эпидемий. По этим причинам национальный доход был меньше, чем во времена Чосера; но он теперь был распределен более равномерно. Общая экономическая конъюнктура была благоприятной для крестьянина и бедняка.
Деревенское общество этого периода лучше всего известно нам по письмам семьи Пастонов и другим собраниям документов. XV век был первым веком, в котором люди из высших классов – как мужчины, так и женщины – и их агенты, не только из светского населения, но и духовные лица, имели обыкновение писать письма; следует отметить, что они писали «на английском языке». Может быть, эти времена и не были периодом нормального развития, но ясно, что образование сделало большие успехи с тех пор, когда короли и бароны прикладывали свои печати и кресты к документам, которые они не умели прочесть.
Во времена Кэкстона письма писались не для времяпрепровождения или из любви к болтовне; они писались с какой-нибудь практической целью и обычно касались или судебных процессов, или коммерческих дел, или местной политики. Но попутно письма сообщают нам кое-что о семейном быте. Заслуживают большого внимания картины семейной жизни, любви и браков, которые всплывают из этих писем XV столетия. Некоторые взгляды, которые нашим современным читателям покажутся странными, были столь же или даже еще более характерными – как мы не без оснований полагаем – и для более раннего времени, которое не оставило интимных документов.
Читателей не изумит, быть может, чрезвычайное и вместе с тем формальное почтение, какое дети должны были проявлять к своим родителям; жестокая дисциплина в доме и в школе, непрестанные избиения детей (как мальчиков, так и девочек) и слуг. Но некоторые читатели, привыкшие смутно представлять себе Средние века как время рыцарства и любви, с рыцарями, всегда коленопреклоненными перед дамами, быть может, будут поражены тем, что в рыцарском и знатном обществе выбор супругов обычно не имел ничего общего с любовью; часто невеста и жених были ещемладенцами, когда их на всю жизнь связывали брачными обязательствами, и даже совершеннолетних родители продавали тому, кто предлагал больше. Пастоны и другие семьи в графстве Норфолк рассматривали браки своих детей как своего рода козыри в игре семейного обогащения, как средство для приобретения денег и поместий или для обеспечения поддержки влиятельных патронов. Если жертва, предназначенная к алтарю, сопротивлялась, ее протест подавлялся, по крайней мере если это была дочь или опекаемая женщина, невероятно грубой физической силой. Елизавету Пастон, когда она не решалась выходить замуж за потрепанного уродливого пятидесятилетнего вдовца, в течение почти трех месяцев «избивали один или два раза в неделю, а иногда дважды в один день; голова ее в двух или трех местах была проломлена». Таковы были методы ее матери Агнессы, чрезвычайно религиозной и всеми уважаемой женщины, которая с успехом управляла огромным пастоновским домашним хозяйством. Но были и такие родители, которые, по-видимому, очень мало внимания обращали на то, кто вступал в брак с их детьми, если только они сами добывали себе деньги. Джон Уайндхем, один из соседей Пастонов, намеревался даже продать одному лондонскому купцу право устроить брак его младшего сына.
Эти старые, традицией установленные средневековые обычаи, еще прочно сохранявшиеся в XV столетии, с первого взгляда могут показаться несовместимыми с общим тоном средневековой литературы, потому что на протяжении трех прошлых столетий поэзия занималась анализом любовных томлений, служения и преданности рыцаря своей даме, воспевавшихся в восторженных тонах и в формах мистических аллегорий. Такова в действительности и была литература – такой ее знали Пастоны и их соседи. Но эта поэзия любви – наивысшего взлета к небесам в дантевском целомудренном обожании жены другого и до более обычной идеализации галантного адюльтера – редко имела что-нибудь общее с браком.
Для образованных людей средневековья – мужчин и женщин – брак был одной стороной жизни, любовь – другой. Конечно, могло посчастливиться и любовь могла вырасти в браке, как, несомненно, это часто и бывало. Если же этого не было, то жена пыталась отстаивать свои права своим языком, и иногда с успехом.
Но считалось, что муж облечен «властью господина», и, когда он утверждал ее кулаком и палкой, общественное мнение редко его осуждало. В этой неравной борьбе женщина, кроме того, страдала под бременем постоянного деторождения, причем большая часть детей вскоре умирала, и приходилось восполнять эти потери. Такой брак не был идеальным, но на протяжении веков он способствовал росту населения Англии – грудная задача в те времена чумы и медицинского невежества.
Более благородный взгляд на брак, каким он мог и каким должен был бы быть, еще не был установлен широким общественным мнением. Даже церковь едва ли была здесь полезной, потому что ее идеал аскетизма был чужд среднему человеку. Отцы церкви смотрели на женщин с подозрением, как на скрытые сети дьявола. Правда, церковь старалась защитить их своим авторитетом от беззаконных вожделений и насилий; благодаря ее поддержке брачных уз, во всяком случае, мужчине было труднее бросить свою жену, хотя за деньги иногда получали развод. Но церковная власть, которая настаивала на том, что священник должен быть безбрачным, смотрела на брак как на нечто низкое. В этом несовершенном мире церковь вынуждена была разрешить мирянам вступать в брак, но интимные отношения между мужем и женой не должны были касаться высокой духовной области. Поэтому никого не удивляло, что духовенство своими церковными обрядами санкционировало обычай обручения детей и детские браки; церковь принимала материальный взгляд мирян, считавших, что совсем не нужен сознательный выбор тех, кого это касалось больше всего, и что браки между детьми могут быть настоящим предметом торговой сделки между третьими лицами. Так как любовь не являлась естественной основой брака, то трубадуры Лангедока конца XI века и французские и английские поэты, унаследовавшие их гимны в честь языческого «бога любви», считали, что страстная любовь не должна считаться с таким не относящимся к ней фактом, как брачный союз. Автор «Аллегории любви» тонко заметил: «Всякая идеализация половой любви в обществе, где брак рассматривается чисто утилитарно, должна начаться с идеализации адюльтера». Но она не должна кончаться этим.
Крупным вкладом средневековых поэтов в западную культуру явилось это новое понимание любви между мужчиной и женщиной как духовного явления – лучшего духовного явления, возвышающего их над их обычным эгоистическим «я» во всей их мягкости и добродетели.
Здесь появился в жизни человечества новый и неиссякаемый источник вдохновения, основанный на «законах природы». Это была новая идея, чуждая людям древнего мира и ранней христианской церкви. Могла ли эта столь ценная идея средневековых поэтов путем ее дальнейших радикальных изменений стать родственной идее брачной жизни? Могли ли сами возлюбленные стать мужем и женой? Мог ли союз двух юных любящих сердец продолжаться всю жизнь – до старости, до гроба? Эта перемена (во взглядах на брак) произошла в Англии путем постепенной эволюции идеи брака и брака в действительности. Но это не было неизбежным изменением. Например, во Франции до сих пор приняты браки, устроенные третьими лицами, хотя, конечно, культурные французские родители больше считаются с желаниями и взаимными симпатиями молодежи, чем Агнесса Пастон. Часто даже такие браки бывали очень счастливы. Но в Англии устроенные браки уступили место бракам по любви; родители предоставили детям выбор своей судьбы.
Однако победа свободы и любви имеет позади себя длинный список неведомых борцов и мучеников, но, несомненно, на протяжении всех Средних веков было много случаев браков по любви. Во-первых, не всегда люди подчинялись своим отцам, во-вторых, отцы иногда были человечны, и, в-третьих, часто родители умирали в молодости.
В чосеровском «Рассказе Франклина» имеется прекрасный рассказ о браке по любви, сохранившейся в брачной жизни. И в XV столетии наблюдался медленный прогресс. Шотландский король Яков I (поэт-король) был влюблен в свою королеву и ей посвятил свою «Книгу короля».
Но даже и в прозаическом обществе Пастонов мы имеем указания в письмах по крайней мере на два брака по любви. В первом случае это был брак Мергери Брюэс с Джоном Пастоном, заключенный в 1477 году. Девушка добилась от своей добродушной матери разрешения на брак по любви. Ниже в подлиннике приведено любовное письмо Мергери к Джону, написанное, когда еще не совсем успешно шли обычные тогда переговоры о чисто финансовой стороне брака:
«Самый чтимый и почитаемый и мой самый глубоко любимый! Моя госпожа, моя мать, потрудилась со всем усердием изложить дело моему отцу, но она не может получить больше [речь идет о приданом. – Дж. М. Тревельян], чем то, о чем Вам уже известно, и поэтому я полна грусти. Но если Вы меня любите – а я твердо верю в это, – то Вы меня из-за этого не покинете».
Ее второе письмо по этому же поводу, хотя и не очень грамотное, но одно из самых трогательных в английской прозе (приводится в современной орфографии):
«Поэтому если бы только Вы могли быть довольным этим добром [приданым. – Дж. М. Тревельян]и моей бедной особой, то я была бы самой веселой девушкой на земле. Но если Вы считаете себя неудовлетворенным этим или же полагаете, что Вы можете иметь гораздо больше добра, как я поняла ранее (с ваших слов), то, дорогой, верный и любящий, не берите на себя такого труда, чтобы снова возвращаться к этому делу; пусть оно забудется и никогда больше о нем не будет разговоров, так как я могу быть Вашей верной возлюбленной и молельщицей в течение всей моей жизни [то есть: молиться за Вас весь остаток моей жизни. – Дж. М. Тревельян] ».Это письмо для Джона было последней каплей. Он больше, чем многие другие молодые люди, мог сам распоряжаться собой, потому что отец его уже умер, и он решил этот вопрос вопреки сомнениям его матери и его родных.
Другая любовная история в семье Пастонов с таким же счастливым концом была более длительной и бурной. Мергери Пастон имела смелость тайно помолвиться с Ричардом Келле, бейлифом пастоновских поместий. На такие помолвки смотрели как на нерасторжимые, и церковь не могла отказываться закреплять их. Но иногда, по обоюдному согласию сторон, они расторгались. В течение нескольких лет девушка противостояла ярости и угрозам семьи; наконец, утомленные ее упорством и желая сохранить незаменимые услуги бейлифа, домогающегося ее руки, Пастоны разрешили возлюбленным оформить брак окончательно.
Уже в народных балладах конца XV века тема брака по любви все больше и больше привлекала к себе внимание, как, например, в «Деве с каштановыми волосами», предшественнице баллады «Дочь бейлифа из Излинггона», и в сотнях других баллад, посвященных романтическим бракам героинь. Ближе к веку Шекспира в литературных и драматических произведениях взаимная любовь рассматривается как подлинная основа брака, хотя отнюдь не единственная. Борьба детей с родителями во имя свободы заключения браков владела сочувствующим народным воображением, и театр времени Елизаветы интересовался больше всего самоотверженностью возлюбленных, стремящихся к браку, и приключениями сбежавших влюбленных парочек. Ясно, что к концу эпохи Тюдоров браки по любви были более часты, но детские браки все еще оставались обычным явлением: реформированная церковь вначале была в такой же степени повинна в них, как и средневековая. В 1582 году епископ Чадертон выдал замуж свою единственную девятилетнюю дочь Джоан за мальчика одиннадцати лет – последствия были плачевны. В другом случае трехлетний Джон Ригмарден был принесен на руках священником, который произносил слова подвенечной клятвы жениха и, лаская мальчика, заставлял его повторять эти слова своей пятилетней невесте. В конце обряда мальчик пытался сползти вниз, заявляя, что сегодня он больше не хочет учиться, но священник сказал: «Ты должен еще немного поговорить, а потом пойдешь играть».
Таким образом, медленное и долго сдерживаемое движение за браки по любви продолжалось на протяжении всей нашей истории; наконец во времена Виктории свободный выбор и любовь были признаны как основа брака даже в высшем обществе, и всякое корыстное соглашение стало рассматриваться как из ряда вон выходящее и неблаговидное.
Возможно, что среди неимущих выбор при вступлении в брак был в меньшей степени стеснен корыстными мотивами. У нас мало сведений по этому вопросу, но мы можем предположить, что в Средние века, как и во все века, крестьянские Дик и Нан гуляли вместе по лесу, а затем шли в церковь; причиной была любовь и, кроме того, уверенность, что Нан сделается хорошей матерью и хозяйкой и что Дик – хороший работник или что у него «свинья в хлеву», кроме нескольких полос в открытом поле. Браки для узаконения последствий пылкости темперамента были чрезвычайно распространены, в особенности в низших слоях общества, где девушек нельзя было охранять бдительно день и ночь. Но девушки из класса Пастонов находились под строгим материнским надзором и охраной. Поэтому свободные любовные интриги дворяне обычно должны были заводить или с дочерьми бедняков, или с женами богатых.
Как только женщина высшего класса выходила замуж, она вступала в новую область жизни, где становилась деятельной, влиятельной и даже авторитетной. Пастоновские письма рассказывают историю замужних женщин на протяжении нескольких поколений; они ни в какой степени не были рабынями своих мужей, а скорее их советниками и даже доверенными заместителями во время их отсутствия. Замужняя женщина изображается всецело преданной интересам своего повелителя, в угоду которому она рожала много детей. Прежде всего она жена и хозяйка и затем уже мать. Из пастоновских писем мы видим этих женщин принимающими участие в судебных тяжбах и в торговых делах семьи, а также в чисто домашней сфере, где в их руках была высшая власть.
Организовать питание и снабжение одеждой населения одного или нескольких господских домов – уже одного этого было достаточно, чтобы заполнить повседневными заботами всю жизнь женщин, требуя от них таких же административных способностей, какие современные женщины часто отдают общественной или профессиональной работе. В те времена потребности домашнего хозяйства нельзя было удовлетворить закупками наспех. Каждую вещь, которую нельзя было получить в своем поместье, нужно было в требуемом количестве заказать за несколько месяцев вперед: вина из Франции, сахар из средиземноморских стран, оттуда же пряности, перец, апельсины, финики и лучшие сорта сукна. Хозяйка должна была сделать все эти подсчеты, предусмотреть все будущие потребности и проследить, чтобы заказы были размещены между солидными купцами в столице графства или чаще всего в Лондоне: даже Норидж не мог снабдить такими заграничными товарами, которые сейчас можно найти в лавке любого небольшого города. Что касается продуктов домашнего производства, то заготовка и хранение муки, мяса и дичи из поместья, рыбы из прудов, руководство молочной, пивоварней и кухней, где жарко пылали поленья и огонь завывал в огромном очаге с трубой, – все это находилось под наблюдением хозяйки поместья. Точно так же большая часть всей одежды для обитателей господскою дома прялась, ткалась, кроилась и изготовлялась дома или по соседству по заказам хозяйки. Ее дочери не ездили в город для покупки платьев, но могли надеяться получить материю для своего лучшего платья из Лондона. Молодые люди, одетые так же ярко и причудливо, как и их сестры, могли более свободно разъезжавшие, могли чаще иметь дело с городским портным.
Господский дом
Таким образом, можно себе представить бесчисленные и постоянные виды деятельности богатой матроны и хозяйки дома во всех областях жизни.
В те времена стены комнат господского дома завешивались сукном, а холл и парадные комнаты – дорогим «арраским сукном», гобеленами, имеющими в настоящее время музейную ценность, на которых изображались охотничьи сцены, а также религиозные или аллегорические сюжеты; жилые комнаты завешивались яркими одноцветными или разноцветными полосатыми тканями. В английских домах еще не вешали на стенах картины в рамах, но сами стены часто расписывались. Если судить по тому, что сохранилось в часовне колледжа в Итоне из стенной живописи, исполненной между 1479 и 1488 годами английским художником Уильямом Бекером, то надо полагать, что в Англии эпохи войн двух Роз было много прекрасной стенной живописи, которая почти вся погибла. Камины в стене все больше и больше вытесняли открытые очаги посреди комнаты, откуда дым в лучшем случае выходил через открытые окна. Пастоны ввели это большое новшество в своих господских домах уже в царствование Генриха VI, но изменение шло постепенно, потому что даже в царствование Елизаветы Уильям Гаррисон [23]с сожалением вспоминает старый способ отопления:
«Теперь у нас много каминов, и все еще наши неженки жалуются на ревматизм, катары и насморк. Тогда у нас не было ничего, кроме жаровни посреди залы, а головы наши никогда не болели. Так как в те дни дым считался лучшей защитой деревянных бревен домов [от разрушения. – Дж. М. Тревельян], то поэтому же он считался лучшим лечебным средством для сохранения здоровья доброго человека [хозяина. - Дж. М. Тревельян]и его семьи».
Гаррисон был бы согласен с самым консервативным замечанием из всех, сделанных по этому поводу; Сэмюэл Джонсон в 1754 году сказал Томасу Уортону относительно старых «готических» зал: «В этих залах очаг для огня раньше всегда делался посреди комнаты до того времени, когда виги передвинули его к одной стороне». Но это «ужасающее новшество» в течение трех или четырех столетий постепенно распространялось в Англии, когда еще в мире не существовало ни одного вига!
При этом несколько суровом взгляде на семейную жизнь, распространенном в господском доме и в замке, мало приятного доставалось на долю незамужних теток или старых дев, которых всегда было в изобилии. Если девушка не вышла замуж, то ее, если возможно, нужно было поместить в монастырь. Для того чтобы избавиться от нее навсегда, в монастырь благочестиво вносились деньги, и там девушка устраивалась прилично на всю жизнь. Только в редких случаях удавалось сделаться монахиней без вклада в монастырь Таким путем пополнялись и отчасти содержались английские женские монастыри, по крайней мере в XIV и XV столетиях. Каковы бы ни были монастыри в теории или в их далеком прошлом, но в этот период они не являлись убежищем для бедных женщин или приютом для женщин с особым призванием к религиозной жизни. Из записей о регулярных епископских объездах видно, что в женских монастырях проявлялось много чисто женских инстинктов и что дисциплина была недостаточно строга, хотя крупные скандалы бывали редки. Монахиня и, в особенности, настоятельница или ее помощница (приоресса) редко забывали о своем светском происхождении и воспитании. Подобно чосеровской госпоже Эглантине, они были больше образцом светской изысканности и умения себя держать, чем образцом набожности.
Монастырские правила об одеянии и поведении, составленные в далекие времена основателями монастырей с аскетическими идеалами, теперь повсюду были в полном пренебрежении, «ибо более шести скучных столетий епископы вели священную войну с светским модничанием в Монастырях – и все тщетно». Епископский ревизор часто бывал буквально оглушен потоком пронзительно визгливых речей приорессы, жалующейся на монахинь, и всех двенадцати монахинь вместе, обвиняющих приорессу, и, опасаясь надвигающейся бури, убегал прочь, кое-как проведя ревизию. Тщетно пытался епископ удалить стаи «охотничьих собак и других гончих» и часто обезьян, с которыми вопреки монастырским правилам бедные леди разделяли свой длительный досуг. В одном женском монастыре Линкольнской епархии, когда прибывший туда епископ, оставив копию указа, в котором он приказывал монахиням подчиняться ему, собрался в обратный путь, они побежали за ним к воротам и бросили ему в лицо указ, крича, что никогда не будут соблюдать его.
Женские монастыри, хотя и многочисленные, были лики. В Англии из ста одиннадцати монастырских домов только в четырех было больше тридцати человек. Общее число монахинь в стране колебалось между 1500 и 2000. Но, конечно каждом женском монастыре имелись прислужники и один или несколько священников.
В XV веке эти учреждения в финансовом и в других отношениях приходили в упадок. В течение сорока лет по настоянию ортодоксальных епископов, еще до того, как Генрих VIII решительно взял в свои руки это дело, уже было закрыто восемь монастырей. Например, в 1496 году илийский епископ Олькок основал в Кембридже Христ-колледж вместо Сент-Радегундского монастыря, закрытия которого он добился по причине «небрежности, расточительности, распущенности и невоздержанности монахинь этого монастыря, является следствием соседства с Кембриджским университетом». (Последователи тех двух кембриджских ученых, которые посетили Тромпингтон-Милл во времена Чосера, по-видимому, слишком много внимания уделяли монахиням Сент-Радегундского монастыря.) В конце концов были оставлены только две монахини: одна отсутствующая, другая «ребенок». Так по крайней мере заявил епископ, стремившийся очистить место для более полезного учреждения.
Конечно, Сент-Радегундский монастырь указывается как исключительно плохой пример женской монашеской обители, но даже в целом верно то, что женские монастыри и Англии позднего средневековья были менее полезными и менее прекрасными убежищами для религиозных женщин, чем в настоящее время.
За годы, истекшие со времени нападок Уиклифа на накапливание церковью огромных богатств за счет церковных вкладов и до жестокой атаки на церковь Генриха VIII, общем все еще делались денежные и земельные вклады, теперь они реже попадали мужским и женским монастырям и нищенствующим орденам – чаще часовням и школам. По-видимому, в этот более поздний период богатое дворянство и горожане, делая дарения и составляя завещания, больше думали о самих себе и о своих согражданах-мирянах и меньше о святой церкви. В XV столетии обеспечение постоянным доходом школ было также полезно для образования мирян как и для образования духовенства. Основание часовен вызывалось главным образом эгоистическими побуждениями: в часовне один или два священника оплачивались, с тем чтобы они служили обедню за спасение души основателя. И каковы бы ни были взгляды жертвователя на то, что его ожидает в загробном мире, ясно, что это был способ завещания для увековечения своей памяти здесь, на земле. Часовня для заупокойных месс часто принимала архитектурную форму художественно выполненной капеллы, примыкающей к одной из внутренних стен церкви, с большой гробницей основателя внутри капеллы: иногда это были отдельное здание – небольшая церковка или капелла, носящая имя своего основателя, чтобы сохранить его потомству. «Есть надежда, что память о большом человеке может пережить его на полгода, но, хороня госпожу [свою жену], он тогда же должен воздвигать церкви, потому что иначе он будет мучиться, что не думает о ней».
XV век, несмотря на все волнения, которые он принес с собой, был славным веком благодаря увеличившему», и числу учебных учреждений и вкладов в них. В Англии Чосера было много школ, но еще больше их было накануне Реформации. Епископы XV столетия, часто житейски мудрые – в хорошем смысле, – любили делать вклады в школы. Городские гильдии и отдельные горожане и купцы, все больше богатевшие и все теснее роднившиеся с земельным дворянством, гордились тем, что они основывали школы, которые давали возможность мальчикам их города или их графства выйти в люди: стать в будущем священником или епископом или – что также хорошо – мэром, купцом, королевским чиновником, клерком, судьей, законоведом и, наконец, сельским дворянином, способными управлять своими имениями или графством в интересах короля [24].
В Англии действительно была прекрасная система среднего образования. Многие школы получали вклады с условием учить «бедняков» бесплатно, но эти «бедняки» не принадлежали к рабочему классу; они принадлежали к относительно бедным, низшим слоям средних классов – сыновья или протеже мелких дворян, йоменов и горожан, которые благодаря этим школам получили возможность участвовать в управлении страной. Таким образом, путем подготовки нового среднего класса образованных светских людей и образованных священников были созданы предпосылки для социальных и интеллектуальных перемен следующего столетия, потому что и те и другие внесли свою долю в крупные движения, возникшие в скором времени. Классические школы не были, как это обычно считают, следствием английской Реформации: они были ее причиной.
Еще до того, как возрождение греческого и римского классицизма к концу XV века, распространяясь, дошло и до британских островов, среднее образование в аристократических Винчестере и Итоне и в других более простых школах было уже основано на изучении латыни – произведений Вергилия, Овидия и некоторых христианских писателей. Средневековая церковь уже давно относилась с большим почтением и терпимостью к древним классикам, несмотря на их языческие заблуждения, и благодаря этой терпимости было создано много прекрасного в европейской культуре. Мальчики в средних классических школах писали по-латыни стихи и сочинения в прозе и должны были в классе экспромтом переводить латинских авторов на английский язык, который уже повсеместно использовался при обучении. Только в не которых школах французский язык чередовался с английским, но не потому, что мальчики все еще говорили на нем дома, а, наоборот, для того, «чтобы французский язык не был забыт совсем». Но вне школы нельзя было говорить ни на одном языке, кроме латинского! И тогда, и позднее, на протяжении нескольких поколений, это поразительное правило обычно поддерживалось жестокой поркой. Иногда нанимали так называемых «волков», или шпионов, которые подкрадывались, подслушивали и затем доносили, если кто-нибудь из мальчиков произносил во время игры английское слово. Интересно знать, насколько полно проводилось в жизнь это запрещение? Была ли латынь для мальчиков классической школы XV века менее «мертвым языком» и более живым средством общения, чем для учеников закрытых учебных за ведений XIX века? Есть много соображений в пользу утвердительного ответа. Знакомство с латинским языком – в том виде, в каком классическая школа должна была давать его, – было, безусловно, важно в те времена для любой профессиональной карьеры. И он был нужен не одним только священникам; он требовался также дипломату, юристу, государственному служащему, врачу, счетоводу купца, клерку городского самоуправления для понимания многих документов, связанных с их повседневной работой.
Сыновья знати и джентри обучались по-разному, в зависимости от общественного положения или личных взглядов их родителей. Некоторые оставались в господском доме и здесь их обучали: грамоте – капеллан, спорту под открытым небом – лесничий, обращению с ружьем – старый наемник из свиты феодала или соседний рыцарь. Но гораздо чаще дети воспитывались вне дома, и английская практика казавшаяся иностранцам безжалостной, может быть, своим результатам была скорее хорошей, чем плохой. Некоторые учились в классической школе, зубря латынь бок о бок с более способными сыновьями горожан и йоменов. Другие посещали небольшую частную школу, которая уже тогда руководилась иногда женатым учителем. Были и такие, которые жили в монастырях на полном содержании, под специальным наблюдением аббата. В известном возрасте, от 14 до 18 лет, одни (из детей знати) отправлялись в Оксфорд или в Кембридж, тогда как другие заканчивали свое образование в качестве «пажей» или оруженосцев при дворе короля или в домах крупных магнатов, которые были подобием двора. Там не столько ценилось знание латыни, сколько ловкость в верховой езде и на турнирах, навыки в спорте на открытом воздухе, умение танцевать, играть на арфе, на духовом инструменте, петь и, несомненно, всячески ухаживать за дамами. Моралисты осуждали учебные заведения такого рода как пагубные для молодежи, которая воспитывалась в них. Безусловно, и среди аристократической молодежи одни были лучше, другие – хуже, но несомненно одно: в конце XV века аристократы как класс и их свиты теряли свое значение и возвышались люди из манориальных поместий [сельское дворянство], из купеческих контор, из классических школ и из университетов. И им должен был принадлежать грядущий век. Сыновья многих новых дворян («джентльменов») проходили обучение у ремесленников и у купцов, и это лучше всего способствовало их благополучию в дальнейшей жизни, сближая мелких дворян с городскими буржуа; этот обычай все больше и больше делал Англию непохожей на французское общество.
Винчестерская школа Уильяма Уикхэма и колледж в Итоне, основанный Генрихом VI в 1440 году, постепенно приближались к типу «общественных школ» в английском смысле слова – к таким школам, где обучались сыновья дворян. Винчестер с самого начала имел определенный контингент таких учеников и был общегосударственной, а не только местной классической школой; в ней учились мальчики отовсюду: с юга, из центральных областей и даже из Чешира и Ланкашира. Многие из учеников оставались здесь до 18 лет. Итон во время войны Алой и Белой розы находился в большом финансовом затруднении.
Но, может быть, это даже ускорило, а не задержало развитие школы, превратив ее в большую общественную школу для высших классов и аристократии, которые, не платя ничего за учение, уплачивали крупные суммы за содержание учеников в домах школьного персонала и в городе Итоне.
Таким образом, молодой Уильям Пастон был отправлен в 1477 году из норфолкской господской усадьбы в Итон для того, чтобы научиться делать латинские переводы и писать латинские сочинения в стихах и в прозе и подружиться с другими молодыми джентльменами; родители Уильяма были чрезвычайно медлительны в уплате денег за его пансион, запаздывая с ней месяцев на девять. Его наставник дал ему по какому-то случаю взаймы двадцать шиллингов; следует помнить, что для того, чтобы получить современный эквивалент этой суммы, мы должны были б умножить ее во много раз.
Живший на несколько поколений раньше Джон Пас тон, прежде чем поступить в Иннер-Темпл, отправился и соседний университет в Кембридж изучать юриспруденцию в Тринити-холл. В этом сутяжническом веке сквайр должен был знать законы, чтобы сохранить свое владение, как oб этом ему писала его умудренная житейским опытом мать Агнесса:
«Я советую каждый день думать о совете твоего отца изучать законы, потому что он часто повторял, что, кто будет постоянно жить в Пастоне, тот должен знать, как себя защитить».
Сын Джона Уолтер Пастон был отправлен в более отдаленный Оксфорд под наблюдением семейного капеллан Джеймса Глойса – мастера на все руки. Его мать Маргарит опасалась, как бы университетские клирики не уговорили её сына принять духовный сан: «Я хотела бы, чтобы он лучше был хорошим мирянином, чем недостойным священником.
Во время пребывания Уолтера Пастона в Оксфорде 1474 году он должен был бы видеть, как снова после длительного перерыва, вызванного войной Роз, начали возводить стены колледжа Модлин, основанного епископом Уайфлитом 20 лет назад. Нью-колледж Уикхэма, которому бы уже сто лет, своей прекрасной архитектурой соперничал Модлин-колледжем, где четырехугольник получил новую форму сводчатой галерей, украшенной каменными статуя ми. В Кембридже строительство Кингс-колледжа, начатое Генрихом VI, также задержалось из-за волнений, происходивших во время его царствования; даже часовне пришлось ждать своего завершения до тюдоровских времен, вследствие чего она выиграла в том отношении, что теперь обрела новую пышность стиля благодаря своему веерообразному с волу. Но Куннс-колледж на берегу реки, основанный Маргаритой Анжуйской, строился при жизни ее кроткого супруга одновременно с сооружением его собственного колледжа в Июне, свидетельствуя о том, какие прекрасные здания в ту эпоху можно было возводить из кирпича.
В течение XV столетия Кембридж сделался серьезным соперником Оксфорда. Хотя в 1382 году церковь и государство успешно очистили более старый Оксфордский университет от ереси Уиклифа («уиклифизма»), благочестивые родители, выбиравшие университет для своих детей, все еще считали его подозрительным прибежищем ереси. Отчасти по той причине число оксфордских студентов сократилось, а число студентов в Кембридже возросло, и в течение следующего столетия королевская власть покровительствовала открытию колледжей по берегам реки Кем, на которую до сего времени не обращали внимания. К концу столетия большая часть епископов состояла из окончивших Кембриджский университет. Хотя этот более молодой университет быстро развивался как учебный центр – росло число его студентов, богатство и значение, – но ни Кембридж, ни Оксфорд не внесли много нового в развитие идей и наук до появления «новой образованности» в первые годы Тюдоров. Теоретизирование и развитие наук должны были быть ортодоксальными, а ортодоксальность уже не была больше проявлением творческого духа, как во времена крупных средневековых схоластов.
В течение этого консервативного века в Англии прочно укрепилась система колледжей и тем самым был положен конец безнадзорной и недисциплинированной жизни средневекового студента. Тенденция всех движений – заходить Слишком далеко при первом успехе, и студенческая дисциплина в XV и в XVI веках стала в некоторых отношениях непомерно строгой; по крайней мере, это должно было быть, если бы все правила, издававшиеся для колледжей университетов во времена Йорков и Тюдоров, действительно проводились в жизнь, потому что в таком случае со студентами обращались бы, как со школьниками. Одно из постановлений разрешало порку, не применявшуюся до того в университете. Это тем более удивительно, что возраст студентов имел тенденцию повышаться; во время пребывания Эразма в Оксфорде и в Кембридже там было больше студентов семнадцати лет, чем четырнадцати, как это было во времена Уиклифа. Но всегда очень трудно установить, в каких пределах и как часто правила применялись на практике, и, по-видимому, в каждом отдельном случае дело зависело от обстоятельств. Во всяком случае, безвозвратно миновал времена, когда академической дисциплины не существовало. Уже в конце XV столетия была создана раз и навсегда основа структуры колледжей Оксфорда и Кембриджа.
Каковы же были те книги, которые читались все увеличивающимся числом читателей, окончивших школы и университеты? Большой спрос был на божественные и религиозные труды, но Библию знали мало. Приобретение Библии на английском языке без разрешения рассматривалось церковными властями как косвенное доказательство причастности к ереси. Лоллардизма, оторванного теперь от образования и руководства, придерживались лишь бедняки. Он бы запрещен и загнан в подполье, но был еще жив и готов снова расцвести, как только изменятся времена. В XV век заживо было сожжено десятка два еретиков, еще больше число отреклось, чтобы избегнуть костра; многие остались не обнаруженными или, по крайней мере, избежали ареста.
Кроме божественных книг, латинских классиков, изучавшихся в школах, тяжелых фолиантов ученых трудов для подлинных эрудитов, наиболее распространенным видом литературы среди сельского дворянства и горожан были английские и французские хроники в стихах и в прозе, бесконечные рыцарские романы в прозе и в «рифмованных виршах» о Трое, короле Артуре и сотни других сказани основанных на преданиях.
Постоянная перепечатка Чосера, Ленгленда и «Путешествий» Мандевилля (где описывается, как плачет крокодил, пожирая людей) свидетельствовала о неизменной популярности этих старых авторов. В рукописях в стихах на английском языке циркулировали многочисленные политические сатиры, таким был «Памфлет об английской политике», написанным в 1436 году; в нем внушалось, что главная обязанность правительства как с точки зрения военной защиты, так и в интересах торговой политики – это охрана внутренних морей королевским флотом, отвечающим современным требованиям.
Наряду с частными библиотеками основывались общественные, такие, как библиотека герцога Гемфри в Оксфорде, университетская библиотека в Кембридже, Уиттингтонская библиотека, основанная францисканцами в Лондоне, а также библиотека при Гилдхолле. Книг для более легкого чтения было немного, если не считать баллад, а их чаще пересказывали или распевали, чем записывали и читали. Извечный интерес человечества к преданиям большей частью удовлетворялся устным рассказом. Чтобы скоротать долгие часы досуга, мужнины и женщины играли на различных музыкальных инструментах и пели песни, а порой собирались имеете для слушания рассказов.
Таково было состояние общества и литературы, когда Кэкстон привез в Англию свою печатную машину. Уильям Кэкстон (1422-1491) был продуктом нового среднего класса, получившего теперь лучшее образование. Он был ранним и благородным образцом так хорошо известного современного типа человека, много сделавшего для мировой культуры; это тип индивидуалиста-англичанина, преследующего свои личные цели, сочетая при этом высокие деловые качества с рвением ученого. Будучи удачливым купцом Лондонской компании мануфактуры, он накопил за время своего тридцатилетнего пребывания в Нидерландах достаточно денег, чтобы иметь возможность посвятить остаток своей жизни литературной работе, которую любил. Он начал с переводов французских книг на английский. В связи с этим познакомился с новым чудом – печатанием с помощью подвижного шрифта; он изучал его в Брюгге и в Кельме. В 1474-1475 годах напечатал за границей два собственных перевода: один из них – средневековый роман, второй – «Развлечение и игра в шахматы». Это были первые книги, напечатанные на английском языке.
В 1477 году он привез свою печатную машину в Англию, установил ее в Вестминстере под сенью аббатства и там в течение 14 последних лет своей жизни под покровительством короля и знати выпустил 100 книг, большей частью in folio, напечатанных преимущественно на английском языке. Среди них были: Чосер, Гоуэр, Лидгейт, «Смерть Артура» в переводе Мелори, переводы Цицерона и басни Эзопа. Его работоспособность была невероятна. Помимо постоянного и напряженного труда у печатного станка, он перевел ни больше, ни меньше, как 20 книг. Несомненно, он был фанатиком идеи распространения хороших и полезных книг среди своих соотечественников «на нашем английском языке». Его усердие и удача как переводчика, типографа и издателя помогли заложить основу английской литературы и подготовить путь для торжества английского языка в следующем столетии.
Использование печатной машины самим Кэкстоном и внедрение ее в культурную жизнь Британских островов преследовало одновременно идеологические и практические цели, но отнюдь не полемические. Однако с этого времени печатная машина сделалась орудием в каждом политическом, религиозном споре; темп распространения идей и знаний ускорился чрезвычайно. Но в год смерти Кэкстона его современники вряд ли представляли себе эти последствия.
С другой стороны, Кэкстон прекрасно сознавал значение своей работы, устанавливая форму английского языка для образованного слоя общества; поэтому он очень много размышлял и советовался при переводе книг, которые затем печатал. Кэкстону приходилось делать выбор. Он не имел словарей, в которых мог бы порыться и которые помогали бы ему. Когда он сидел в своем заваленном книгами кабинете, размышляя над этим вопросом, у него не было – что есть сейчас у нас и что было даже у Шекспира – «установленного» английского языка, границы которого он мог бы расширять, но основы которого он должен был бы принять, Диалекты были почти столь же многочисленны, как и число графств Англии, и, больше того, они постоянно менялись. Победа языка, на котором говорили Лондон и двор, может быть, в конце концов наступила бы неизбежно, но впервые уверенно и быстро она была осуществлена Чосером и его последователями в XV веке, изгнавшими из обихода образованных слоев «вестмидлендский» диалект «Петра Пахаря»; затем ее облегчила продукция кэкстоновской печатной машины и, наконец, больше всего английская Библия и английский молитвенник, которые в эпоху Тюдоров благодаря печатной машине сделались доступны каждому, кто умел читать, и многим, кто мог только слушать.
Таким образом, в течение XV и XVI столетий образованный англичанин пользовался общим языком, соответствующим «литературному английскому», и по мере распространения образования этот язык сделался языком всей страны.
Во времена беспокойных царствований ланкастерских и Йоркских королей Лондон оставался спокойным и его богатства непрерывно возрастали: пышность и парадность должностных лиц Сити, по торжественным случаям дефилировавших по улицам и по набережным, производили все большее впечатление; архитектура лондонских гражданских, церковных и жилых зданий становилась более богатой и прекрасной, и не удивительно, что в конце XV столетия шотландский поэт Данбар провозгласил: «Лондон – ты краса всех городов» [25].
В этот период Лондон управлялся не демократией ремесленных гильдий, а членами крупных торговых компаний. В Лондоне в XV веке почти все мэры и олдермены выбирались из среды торговцев шелками и бархатом, декоративными тканями, бакалейными товарами и реже из торговцев рыбой и золотыми изделиями. Члены этих крупных компаний, каково бы ни было их наименование, фактически не ограничивались только торговлей шелком, бархатом, декоративными и другими дорогими тканями: главный доход шел с экспорта всякого рода товаров, преимущественно зерна, шерсти и простых тканей. Они основывали торговые дома и имели своих агентов вроде Уильяма Кэкстона в Брюгге и в других крупных торговых городах Европы. Им принадлежала значительная часть английских судов не только в Лондоне, но и в других портах; они перевозили свои товары также на зафрахтованных иностранных судах. Но итальянские купцы и купцы северогерманской Ганзы все еще доставляли свои товары в Лондон на собственных кораблях. Пристани, забитые торговыми судами разных стран, тянулись вниз по реке от моста, застроенного высокими домами и украшенного часто заменяемыми головами казненных изменников, до королевского дворца и Оружейной палаты в Тауэре.
Купеческая аристократия, управлявшая столицей, благоразумно удерживалась от искушения вмешиваться в борьбу соперничающих династий (и только при Стюартах Лондон возводил и низвергал королей). Но она заставляла армии Алой и Белой розы уважать привилегии Лондона и его торговлю, и каждое последующее правительство – Генриха VI, Эдуарда IV, Ричарда III или Генриха VII – рассматривало дружбу с купцами как необходимое средство для обеспечения платежеспособности государственного казначейства. Эдуард IV искал их личной дружбы неофициальными посещениями их домов в Сити, что в большой мере роняло королевское достоинство. Купцы королевских торговых баз по-прежнему давали взаймы правительству. Шерсть из королевских имений и земель знати, обладавшей политическим весом, таких, как лорд Гастингс и граф Эссекский, продавалась за границей через солидные конторы лондонских купцов. Дворяне, владевшие овечьим пастбищем в Западной Англии, гордились честью именоваться купцами королевских торговых баз. Даже в этот ранний период «земельные и денежные доходы» часто были неотделимы. Капиталы, полученные от торговли, уже вкладывались в землю и обогащали ее. В Лондоне младшие сыновья дворян, начинавшие свою карьеру учениками у мастеров, возвышались до положения городских магнатов.
Не только Лондон, но и другие английские города в время войн Алой и Белой розы пользовались благами мирно жизни благодаря политике действительного нейтралитета уплате небольших сумм на подношение королю и другим видным политическим деятелям – государственного или местного значения, – а также судьям за их поддержку в суде.
Город Кембридж также платил своим представителям в парламенте по 12 пенсов в день во время сессии – всего 33 шиллинга, хотя один из двух членов «отказывался от своей части». Новый мэр получал 20 шиллингов в год на приобретение своих роскошных одеяний, и много расходовалось на «менестрелей» и на их «одежды». В переводе на современный эквивалент эти деньги, конечно, имели гораздо большую ценность. Так, считалось, что сельский священник, которому все его источники дохода приносили 10 фунтов в год, получает приличный доход.
С середины XIV столетия и в дальнейшем производство и экспорт сукна росли за счет снижения экспорта сырой шерсти. Другими словами, компания «предприимчивых купцов» развивалась за счет Королевской торговой компании. Торговля сукном обогащала города, находящиеся внутри страны, такие, как Колчестер, где его закупали скупщики, и те порты, откуда его отправляли за границу, в особенности Лондон. Но настоящее производство сукна велось главным образом в земледельческих округах, и жизнь во многих деревенских местностях сделалась зажиточнее и разнообразнее, приближаясь отчасти к жизни промышленных центров. Производство высокосортного сукна для широкого рынка начиная с XIII века перемещалось из городов в сельские местности. Но все еще далеко было то время, когда технические изобретения XVIII и последующих веков повернут движение вспять и английские рабочие двинутся обратно в города. За исключением Лондона, большая часть английских городов в XV столетии не развивалась; их богатство и число жителей даже падало.
Огромный рост суконной промышленности произошел во второй половине XIV века и возобновился, после перерыва при Тюдорах, в последние 20 лет XV века. На протяжении большей части XV века общее производство сукна оставалось почти неизменным – оно увеличивалось в деревнях и в городах Восточной Англии, в Йоркшире и на западе, но падало в городах более раннего производства сукна. Но экспорт сырой шерсти Королевской торговой компании падал еще быстрее, и «даже когда экспорт сукна в XV веке был наибольшим, то все же он был не настолько велик, чтобы этим можно было объяснить общее падение торговли сырой шерстью».
Перемещение суконной промышленности в сельские местности вызывало недовольство среди городских сукнодельческих ремесленных гильдий, которые пытались задержать развитие конкурирующей мануфактуры, запрещая купцам своих городов вести дела с суконщиками деревенских местностей. Но эти ограничительные попытки были случайны и безрезультатны, потому что по этому вопросу интересы городских купцов были противоположны интересам городских ремесленников, а первые оказывали более сильное влияние на политику городских муниципалитетов.
Поэтому крупные торговцы продолжали все в большем и большем масштабе развивать торговлю шерстяными тканями на капиталистической основе как в городе, так и в сельской местности. Они доставляли сырье деревенскому ремесленнику, работавшему на собственном станке. Затем забирали ткани, передавали их другим рабочим для отделки (отделочных операций) и наконец доставляли их на рынок.
«По всему Эссексу были расположены деревни, славившиеся своим производством сукна: Коггесхолл и Брайнтри, Бекинги Холстэд, Шелфорд и Дедхэм и больше всего – Колчестер, крупный центр производства и рынок сбыта сукна. Деревни богатели благодаря развитию этой промышленности, и вряд ли был хотя бы один дом, где не жужжало бы прядильное колесо ручной прялки, и вряд ли была хоть одна улица, где вы не нашли бы несколько ткацких мастерских, кухонь, где вдоль стены не стояли бы грубые самодельные станки, за которыми проводил хозяин свое рабочее время. Вряд ли проходила хотя бы одна неделя, без того чтобы на беспорядочно разбросанных деревенских улицах не раздавался цокот копыт вьючной лошади, привозящей новые запасы шерсти для обработки или увозящей куски сырого сукна к суконщикам Колчестера и окружающих деревень. На протяжении XV столетия Коггесхолл являлся важным центром, уступавшим только таким большим городам, как Норидж, Колчестер и Седбери; и до сего времени две его гостиницы называются «Кипа шерсти» и «Руно».
В Коггесхолле жил знаменитый торговец Томас Пейкок; он выстроил там себе прекрасный, украшенный деревянной резьбой дом, принадлежащий теперь Национальному тресту. Такие жилые дома на деревенских улицах и медны доски в приходских церквах свидетельствуют о возвышении нового класса в деревне, такого же богатого, как и сельское дворянство (джентри), с которым они вскоре будут заключать брачные союзы и в чей замкнутый круг проникнут благодаря покупке земельных владений.
Аналогичный процесс происходил и на западе; Дефо наблюдал через два столетия с лишним, что «многие из знатных фамилий, которые сейчас считаются дворянскими в западных графствах, выдвинулись и заняли видное положение в обществе благодаря этой поистине благородной суконной мануфактуре». В XV столетии сырая шерсть Котсуолда считалась лучшей в Англии и, следовательно, в Европе. Она была основой процветания этого живописного района, остатки былой прелести которого сохранились до настоящего времени в виде прекрасных каменных деревенских домов и старых валяльных фабрик в долине возле быстротекущей реки.
Тип английского купца этого времени делается для нас весьма реальным по описанию жизни и по письмам Томаса Бетсона. Он был торговцем сукна Королевской торговой компании, часто посещавшим Кале по торговым делам, но был хорошо знаком и с господскими домами западного района, принадлежащими сельским дворянам, потому что он скупал у них сырую шерсть для продажи в Кале. Такие деловые связи закреплялись брачными союзами; сам Бетсон женился на Кэтрин Райч, родственнице Стоноров, которую они опекали. Он женился после того, как ей исполнилось 15 лет, и брак оказался счастливым, но обручены они были в течение нескольких лет. У нас есть письмо Томаса к его Кэтрин, когда той было 12 или 13 лет; он пишет в 1476 году Кэтрин, жившей у Стоноров в Оксфордшире, из своего торгового предприятия в Кале. Конечно, для обручившегося с девочкой 12 лет лучший выход – это писать ей письма. Он просит свою маленькую Кэтрин:
«Кушайте всегда хорошо мясо, чтобы Вы могли расти и поскорее превратиться в женщину… и приласкайте мою лошадь и попросите ее уступить Вам ее четыре года, чтобы помочь Вам в этом. А я с удовольствием по возвращении домой отдам ей 4 года своих и 4 лошадиных хлеба в вознаграждение. Передайте, что я ее просил об этом. И да сделает всемогущий Иисус Вас хорошей женщиной и да пошлет Вам много счастливых и долгих лет, чтобы, к его удовольствию, жить в здравии и добродетели».
По сравнению с современными законами рабочий день и в поле и в мастерской был весьма длительным, но люди отдыхали по воскресеньям и по многочисленным праздникам больших святых. Обычаи требовали исполнения этого хорошего правила, а церковные суды оказывали полезную услугу, налагая наказания или штраф за работу по воскресным дням и по большим праздникам. Было еще много и других работ в старой Англии, которая во все века была и «веселой Англией» и вместе с тем «несчастной Англией», хотя виды несчастий и развлечений менялись из века в век. Веселой стороной деревенской жизни была охота с собаками и с соколами, ловля силками и рыбная ловля, проводившиеся со всей пышностью «охот» владельцами дворцов, господских домов, монастырей и церковных приходов и более скромно – непривилегированным браконьером из деревенского дома и хижины. Много денег тратилось на «театральные представления, интерлюдии, майские игры, храмовые праздники, шарады» и много денег переходило из рук в руки, когда «бились об заклад при стрельбе, при борьбе, при состязаниях в беге, при метании камней или плиток».
Именно в этотпериод вошли в моду игры в карты, очень похожие на те, которые приняты в настоящее время: одежды карточных фигур нашего времени до сих пор еще напоминают костюмы конца XV века. Карты, так же как и шахматы, помогали коротать скучные зимние вечера в господском доме и чередовались с игрой в кости.
Стрельба в цель поощрялась постановлениями и статутами в ущерб другим соперничающим видам спортивных развлечений, таким, как «игра вручной мяч, футбол или хоккей», в целях сохранения английской военной монополии на стрельбу из лука. Она оставалась монополией Англии, потому что была искусством, которое достигалось нелегко.
Лагимер описывает, как в царствование Генриха VII его отец-йомен «учил меня, как приспособить мое тело для стрельбы из лука. У меня были луки, купленные применительно к моему возрасту и силе; по мере того как я рос, луки мои делались все большего размера. Люди никогда не будут хорошо стрелять, если их этому не научат».
На стрелковых соревнованиях лучшие стрелки, наряженные, как Робин Гуд и Малютка Джон, возглавляли деревенское шествие к месту стрельбы в цель.
В городах и в более богатых деревнях многие гильдии а не только одни ремесленные – помогали организовывать пышные зрелища и развлечения. По всякому возможном поводу – во время событий национального или местно значения – люди радостно устраивали торжественные процессии; некоторые из них сохранились как пережитки и нашего времени, как, например, появление лорд-мэра открытие парламента королем. В те времена, до того как стало легко вкладывать сбережения, много денег тратилось на предметы роскоши. Богатые люди носили самые роскошные и дорогие одеяния, они выставляли напоказ на буфетах свое богатство, вложенное в столовое серебро. Гильдии, из которых обычно исключались священники, являлись отражением роста образованности и инициативы светского населения. Но и они были пропитаны религиозными идеями так же, как и большая часть всей повседневной жизни и мышления того времени. Между религией и повседневной жизнью не было такой резкой границы, как в Новое время. Люди, объединившиеся для благотворительного или полезного дела или даже ради пиршества, любили придавать религиозную окраску своим делам и призывать благословение святых на свое общество. Даже если они были антиклерикальны, они не были антирелигиозны.
Наряду с содержанием часовен, школ, богаделен или мостов одним из главных занятий гильдии являлась постановка мистерий «на высоких помостах». Такие представления были весьма популярны в XV столетии; они знакомили с различными вариантами библейских рассказов и, кроме того, со многими легендами в век, когда Библия как книга была известна немногим. Актеры представлялись так: «Я – Авраам». Или: «Я – Ирод». Они были одеты в современные костюмы той эпохи, и современные костюмы символизировали тогдашнее положение вещей. Всемогущий Бог носил бороду и тиару, белую церковную мантию и перчатки. Короли-злодеи носили тюрбан и клялись Магометом. Жрецы были одеты, как епископы, и заседали «в конвокации». Доктора права носили круглые шапочки и мантии на меху. Крестьяне и солдаты были в повседневной одежде, а Мария Магдалина до своего обращения была в самом пышном наряде. Ангелы поднимались на небеса и спускались оттуда по настоящим лестницам в мрачный портал, называвшийся «пастью ада», который механически открывался и закрылся. Черные, синие и красные дьяволы приходили за осужденным, в то время как стук горшков и ведер за сценой означал царящий там беспорядок. Таков был театр более чем за 100 лет до Шекспира.
Под более непосредственным покровительством церкви находились «церковные эли», предшественники религиозных чаепитий и благотворительных базаров. Мужчины и женщины продавали и пили эль в самой церкви или у церковной ограды; доход от продажи предназначался «на содержание храма» или на какие-нибудь другие «добрые цели». Церковные эли в XV веке были весьма распространены, хотя ранее на них неодобрительно смотрело более аскетически настроенное духовенство прежних времен. Средняя часть церкви служила «деревенским залом», где в большинстве случаев собирались для обсуждения общественных дел.
В церемонии с мальчиком-епископом, весьма странной на современный взгляд, участвовали как отставшее от жизни ортодоксальное духовенство, так и сторонник реформ декан Колет [26]. В день св. Николая-покровителя мальчиков или в день св. Иннокентия в школах или в соборах одного из мальчиков облачали в одежды епископа; он шел впереди процессии и произносил проповедь, которую, как предполагалось, должны были с почтением слушать не только его товарищи по школе, но и высшее духовенство. Иногда завещались регулярные вклады на покрытие этих расходов и mi пышность этого красивого зрелища, во время которого настоятель собора преклонял колена для получения детского благословения.
Глава IV Англия Тюдоров. Введение («Конец Средних веков?»)
Для изучения и толкования истории необходимы даты и периоды, потому что все исторические явления обусловлены временем и вызваны последовательностью событий. Даты поэтому являются необходимой проверкой всякого исторического утверждения, и они способны оказаться неудобными, стесняющими путь и ставящими преграды бойким (необоснованным) обобщениям. Приговор дат не подлежит обжалованию.
Но в противоположность датам «периоды» – не факты, они – ретроспективные концепции, которые мы составляем относительно прошлых событий, полезные для того, чтобы сосредоточиться на их толковании, но очень часто сбивающие с пути историческую мысль. Так, например, хотя, Несомненно, полезно говорить о «Средних веках» и о «веке Виктории», но в то же время эти две абстрактные идеи вводили в заблуждение многих ученых и миллионы читателей газет, полагавших, что в течение нескольких определенных столетий, называемых «Средними веками», а также в течение нескольких определенных десятилетий, называемых «веком Виктории», все думали и поступали более или менее единообразно до того времени, когда наконец Виктория скончалась или миновали «Средние века». Но в действительности такого единообразия не было. Индивидуальный характер, разносторонность и стремление к переменам были отличительными чертами англичанина, над которым «главенствовала» Виктория, и конец ее царствования сильно отличался от его начала. Точно так же средневековое общество может быть изучено плодотворно только в том случае, если мы будем рассматривать его не как статический строй, а как непрерывную эволюцию, без каких-либо определенных дат ее начала или конца.
Привычка мыслить о прошлом как о разделенном на отдельные «изолированные» периоды является самой опасной в истории, потому что «периоды», как указывают сами названия, обычно устанавливались по чисто политическим соображениям – «век Тюдоров», «век Людовика» и т.д. Но и экономической и социальной жизни мало внимания обращается на кончины королей или на смены династий: поглощенная своими повседневными делами, она течет, подобно подземным водам, только иногда выбиваясь на дневной свет политических событий, хотя она, может быть, всегда является их непризнанным и подсознательным арбитром.
Труднее всего представить себе экономическую и социальную жизнь в «периодах» потому, что всегда старое и новое перекрывают друг друга, сосуществуя бок о бок в одной и той же стране на протяжении жизни поколений и даже столетий. Различные системы производства – ремесленное, домашнее и капиталистическое – развивались в Англии как в позднем средневековье, так и в Новое время. Так же обстояло дело и в сельском хозяйстве: начиная со Средних веков и до XIX столетия одновременно встречались открытые поля и огороженные участки – англосаксонская техника и техника Нового времени. И в общественной сфере феодальные и демократические идеи обладали удивительное способностью к сосуществованию на нашем отличающемся своей терпимостью острове.
Поэтому, если нас попросят указать время или даже период, когда «Средние века пришли к концу», какую дату сможем мы указать вполне достоверно? Конечно, не 1485 год – год, когда началось правление Тюдоров, хотя учителя и экзаменаторы нашли удобным связать конец Средних веков в Англии именно с этим событием. Но в реально 1485 году, тогда, когда наши простодушные предки «в изумлении разевали рты и ухмылялись» при известии, что Генрих Тюдор и его валлийцы низвергли Ричарда III при Босуорте, они не думали о том, что начинается новая эра. Они предполагали только, что ланкастерцы опять на время восторжествовали над йоркцами в этих бесконечных войнах двух Роз. Правда, события двадцати ближайших лет показали, что войны Роз почти (но еще не совсем) окончились на полях Босуорта. Но окончание войн Роз ни в коем случае нельзя отождествлять с концом Средних веков, как бы мы ни определяли их.
Победа валлийца Генриха Тюдора не внесла изменений, которые по своему значению можно было бы ретроспективно сравнивать с победой Вильгельма Нормандского при Гастингсе, потому что в течение полувека после 1485 года (пока сын Генриха VII не провозгласил себя главой английской церкви вместо папы и не забрал в свои руки монастырские богатства) английское общество продолжало жить во многих отношениях так же, как это описано мной в предыдущей главе. Перемены в сельском хозяйстве совершались все еще очень медленно, лишь немногим быстрее, чем прежде. Церковь продолжала жить по-старому, хотя она снова сделалась непопулярной и подвергалась осуждению, подобному антиклерикальным выкрикам в дни Ленгленда, Чосера и Уиклифа; однако не было никакой уверенности в том, что такая критика будет иметь на этот раз хотя бы несколько больший результат, чем в прошлые времена. Генрих VII и молодой Генрих VIII были ревностными приверженцами государственной церкви; они были добросовестны, сжигая еретиков; они, согласно средневековому обычаю, часто назначали епископов канцлерами государства; последним и наиболее ярким примером действия этого обычая было назначение на пост канцлера кардинала Уолси, в деятельности которого проявилась вся колоссальная спесь и могущество средневековой церкви. Будучи сам орудием папской власти, он значительно расширил ее контроль над английской церковью. Он унижал светскую знать и дворянство, смешивая их с грязью и тем самым способствуя подготовке антиклерикальной революции, которая последовала за его падением. Он держал около тысячи человек придворных, и во время торжественных процессий перед ним шли его телохранители с серебряными шестами и алебардами. Помимо других многочисленных источников богатства, он извлекал доходы как архиепископ Йоркский, епископ Даремский и как настоятель Сент-Олбанского монастыря, хотя и не обременял себя обязанностями, связанными с занятием этих постов. Биограф Уолси и Генриха VIII считает, что кардинал был почти так же богат, как король. Для своего внебрачного сына он получил четыре архидиаконские епархии, одно деканство, пять пребенд и два прихода; ему не удалась лишь попытка получить для этого наследника сказочно богатую Даремскую епархию. Насколько Уолси был спесив, расточителен и жаден, настолько же он был щедр, основывая школы и колледжи с беспримерной для того времени роскошью. Он фактически был представителем высшей космополитической иерархии Европы, перед которой веками склонялись люди, но перед которой никогда не захотела склониться Англия. Однако в должности канцлера он служил королю с гораздо большей преданностью, чем церкви и ее интересам. При всем этом Уолси – одна из крупнейших и наиболее характерных фигур из всех «средневековых» деятелей английской истории; наибольшей силы его власть достигла более сорока лет спустя после победы на Босуортском поле.
Другой стороной общественной жизни в этой спокойной половине XVI века – до разразившейся бури – являлось возрождение классического просвещения и толкование Библии Гросином и Линакром, Колетом и Мором – английскими друзьями Эразма. Их деятельность больше, чем вся спесь Уолси, подготовляла будущее, но это мало изменяло настоящее. Ни один из этих друзей Эразма не думал, что их исследования классиков и греческого Евангелияразрушат «средневековую» церковь, которую они надеялись реформировать и сделать более либеральной. Более радикальны было намерение Уильяма Тиндаля, когда он, живя в нищ те, под страхом наказания переводил Библию в сильных прекрасных словах; и эти слова произносились миллионам людей более поздних поколений и толковались сотнями различных течений, разрушающих прошлое.
В области светской жизни Генрих VII восстановил в стране порядок и упразднил вооруженные свиты высшей знати. Это явилось важной социальной реформой, но еще не бы «концом Средних веков»; скорее это было запоздалое осуществление чаяний средневековых англичан. При Генрихе V и при Уолси одному средневековому институту – парламенту – действительно угрожала большая опасность погибнуть из-за несозыва. Но в Англии события развивались не так, как во Франции и в Испании; средневековому парламенту было суждено при Генрихе VIII возродиться и окрепнуть для осуществления задач Нового времени. Другой крупный средневековый институт – английское обычное право – точно так же пережил период Тюдоров, чтобы сделаться основой английской жизни и свободы Нового времени.
Хотя в начале XVI столетия английская торговля снова переживала подъем после периода относительного застоя, она в основном все еще шла по старым средневековым путям – по побережью Северной Европы; правда, она пробила себе и новый путь – в страны Средиземного моря – для сбыта сукна. Несмотря на путешествия Кабота (в царствование Генриха VII) от Бристоля до Ньюфаундленда, англичане до восшествия на престол Елизаветы еще мало интересовались Атлантическим океаном. До начала царствования ее сестры Марии англичане все еще оставались народом франкофобским, а не испанофобским, потому что тогда еще не начались раздоры, порожденные деятельностью инквизиции и борьбой за владения в Новом Свете.
И действительно, бесполезно искать одну дату или даже какой-нибудь один период, когда «кончились» в Англии Средние века. Все, что можно сказать, так это то, что в XIII столетии и идея, и общество в Англии были средневековыми, а в XIX веке они уже не были такими. Но даже и сейчас мы сохраняем средневековые учреждения: монархию, сословие пэров, членов нижней палаты, заседающих в парламенте, обычное английское право, суды толкующие применение закона, иерархию господствующей церкви, систему церковных приходов, университеты, «общественные школы» и закрытые средние школы. И если только мы не сделаемся тоталитарным государством и не откажемся от нашей английской самобытности, то в нашем образе мышления всегда будет нечто средневековое, – в особенности в нашем представлении, что народ и корпорации имеют права и свободы, которые государство в какой-то степени должно уважать, несмотря на юридическую всеобъемлемость прав парламента. Консерватизм и либерализм в самом широком смысле – оба средневекового происхождения, так же как и тред-юнионы. Люди, закладывавшие основы наших гражданских свобод в XVI веке, ссылались на средневековые прецеденты, возражая против новшеств «модернизирующей» монархии Стюартов. Действительно, узор, вытканный историей, очень сложен. Ни одна простая схема не объяснит его беспредельной сложности.
Куда же в таком случае должны мы отнести конец средневекового общества и средневековой экономики – к XIV, XV или к XVIII столетию? Возможно, это не имеет большого значения. Весьма вероятно, что в недалеком будущем старый взгляд на периодизацию прошлого будет сменен новым. Благодаря развитию механизации жизнь человека изменилась за последние сто лет больше, чем за предшествующее тысячелетие. Поэтому вполне вероятно, что действительное «начало Нового времени», если Новое время должно охватить и нашу эпоху, будет отнесено скорее к периоду развития промышленного переворота, чем к эпохе Возрождения и Реформации. И даже в области мышления и религии влияние науки и Дарвина может оказаться таким же знаменательным, как и влияние Эразма и Лютера.
Конечно, когда люди относят конец Средних веков к XVI веку, они думают главным образом о Возрождении и Реформации [27]. Действительно, можно утверждать, что в области мышления и религии, церковной власти и привилегий со средневековым состоянием было покончено в тюдоровской Англии. Но и это, однако, не совсем правильно и требует некоторых оговорок для страны, которой правила Елизавета. Обращение в протестантизм и секуляризация в Англии закончились лишь после пуританского мятежа и революции вигов-тори, если вообще их можно считать полностью законченными. Церковь Англии как своей организацией, так и своими привилегиями, своими обрядами, своими воззрениями всегда оставалась частично «средневековой».
Система Елизаветы – высшее завершение торжества Тюдоров – была в такой же степени торжеством Возрождения, как и торжеством Реформации. Оба последние слились воедино, и отчасти по этой причине Англия Шекспира обладала очарованием, легким весельем и свободным устремлением мысли и духа, которых нельзя было найти нигде в суровой иезуитско-кальвинистической Европе того времени. И в эти же времена, сулившие счастье, старая английская песня о море стала новой песней об океане. Елизаветинские авантюристы – Дрейк, Фробишер, Хокинс, Рэли и другие – совершали дальние плавания по всем морям и океанам, открывая «далекие острова» и раскрывая перед своими соотечественниками в Англии новые области надежд и мечтаний. Они действительно совершали преступления, но не сознавали, что творят преступные дела, и не понимали, какие ужасающие последствия это вызовет в отдаленном будущем. Музыка елизаветинского мадригала и лирическая поэзия, с которой она сочеталась, отражали разумную жизнерадостность народа, освобожденного от средневековья и еще не угнетенного пуританскими сложностями и страхами; народа, наслаждающегося природой и красотами страны, в лоне которых он имел счастье жить; народа, идущего вперед к здоровому процветанию сельского хозяйства и торговли и еще не придавленного тяжелым бременем промышленного материализма.
Все это, прежде чем оно кануло в прошлое, нашло свое совершенное выражение в пьесах Шекспира. В них мы видим, какой огромный шаг за прежние узкие рамки был сделан в области мыслей и чувств. По крайней мере «Гамлет» уже современен. Мы можем сказать также, что английская мысль и воображение перестали быть средневековыми: в каждом приходе служили церковную службу на английском языке, и Библия свободно изучалась в домах богачей и бедняков также на английском языке. Но общество, политика и экономика все еще были гораздо ближе к XIV веку, чем к XX, и автору «Ричарда II» и «Генриха IV» было легко понять и изобразить этот еще не очень далекий от него мир.
Если принять во внимание все стороны жизни, то, может быть, мы согласимся с историком, изучавшим период царствования Генриха VIII, что «из всех заблуждений, разрушающих ткань исторического познания, наихудшим является установление глубокой пропасти между средневековой и новой историей».
Но до этого краткого золотого века, совпадающего с жизнью Шекспира (1564-1616), Англия Тюдоров пережила длительный болезненный период. Правда, она не пострадала от «религиозных войн», которые опустошили Францию, потому что в Англии монархия была сильнее, а религиозный фанатизм слабее. Но Реформация Тюдоров прошла не без бедствий и насилий. И волнения, имевшие место вследствие быстрой смены церковной политики при Генрихе VIII, Эдуарде VI и Марии, совпали с тяжелым экономическим кризисом в торговле и в сельском хозяйстве, вызванным главным образом ростом цен. Этот рост мы должны объяснить отчасти мировой конъюнктурой, отчасти бесцельным понижением Генрихом VIII достоинства металлических денег («порча денег»). Данный вопрос, как и целый ряд других, будет рассмотрен нами в следующих главах.
Глава V Англия в период антиклерикальной революции
Появление первого английского исследователя старины Джона Леленда можно при желании принять за указание, что Средние века действительно окончились и сделались предметом ретроспективного изучения. Примерно в течение десяти лет (1534-1543) Леленд объехал вдоль и поперек королевство Генриха VIII, усердно выискивая и наблюдая все заслуживающее внимания – как новое, так и старое. Он подмечал многое, что находилось в расцвете, но и то же время с любовью обращал свой взор в прошлое, внимательно изучая его.
Он видел снесенными до основания много «величественных башен»; особенно часто встречались ему на пути три вида руин: полуразрушенные замки, обваливающиеся городские ст ены,сносимые монастырские здания; он видел громил ,начинающих свою работу с разрушения крыш аббатств.
Правда, Леленд видел также много замков, которые, как жилые помещения, были позднее приспособлены к образу жизни новых времен; впереди у них были еще долгие годы роскошного существования, но многие из них после войны двух Роз были заброшены вследствие стремления Генриха VII к бережливости. Одновременно частные владельцы часто браковали замки-крепости своих предков как непригодные ни для того, чтобы противостоять пушкам, установленным на соседней возвышенности, ни для того, чтобы служить для знати и дворян жилищем с новейшими удобствами. Леленд поэтому относительно многих феодальных крепостей сообщает, что они «шли к разрушению»; с некоторых были сняты крыши, а стены их служили своего рода «каменоломней» для соседней деревни или для вновь возводимого господского дома; их ветхие остатки служили кровом для бедняков и их скота.
Гордостью и защитой каждого города в Средние века были окружающие его стены, но военные, политические и экономические факторы в своей совокупности завершили их разрушение. Тонкая каменная стена, какую еще и сейчас можно видеть возле Нью-колледжа в Оксфорде, была непригодна для защиты города от пушек тюдоровского времени. Сто лет спустя, во время войны Карла I и Кромвеля, такие места, как Лондон, Оксфорд и Бристоль, защищались земляными укреплениями, возведенными по новому принципу военной техники значительно дальше прежнего, слишком узкого круга средневековых стен. Действительно, уже во времена Леленда такие процветающие города переросли свою древнюю каменную ограду и стали образовывать возле себя пригороды и полосы заселений вдоль дорог, ведущих кгороду. Другие, менее счастливые города, уменьшившиеся и обедневшие вследствие экономических причин, были слишком бедны, чтобы бросать деньги на поддержание стен, которые при тюдоровских порядках сделались ненужными. Если говорить в более широком смысле, то разрушение городских стен можно считать признаком упадок ревностного городского патриотизма, который в прежни времена воодушевлял средневековых городских жителей. Государственное руководство и личная инициатива вытеснили корпоративный дух в городах и в гильдиях не только в управлении и в военной обороне, но и в организации торговли и промышленности, о чем свидетельствовало состояние суконной промышленности, продолжавшей все быстрее перемещаться в сельские местности, чтобы избежать городской и цеховой регламентации.
Третий вид разрушения, который наблюдал Леленд, были более позднего происхождения. Грохот разрушаемых монастырских каменных зданий, раздававшийся по всей стране был работой «неумолимого времени» – по крайней мере в физическом смысле; это было внезапное действие королевского указа о разрушении, который должен был одним махом разрешить социальную проблему, назревавшую в течение двух прошлых столетий.
В течение десятилетия, когда Леленд путешествовал и делал свои заметки, Генрих VIII с помощью парламента произвел антиклерикальную революцию, которая больше чем какое-нибудь другое событие может считаться датой конца средневекового общества в Англии. Требование национальной независимости, отвергающей авторитет папы в церковных делах, сделало возможным подчинение духовенства светской власти, переход к светским владельцам несметных богатств монастырей и прекращение их влияния на население. Эти действия, взятые в целом, и есть социальная революция. Она сопровождалась именно тем размахом перемен в области религии, который одобрял Генрих VIII, этот «продукт новой образованности», – распространением английской Библии среди всех классов населения, уничтожением грубых форм идолопоклонства и продажи реликвий; изгнанием схоластической философии и канонического права из Оксфордского и Кембриджского университетов и внедрением вместо них «учености» Возрождения; в представлении Генриха эти мероприятия были ортодоксальной и католической реформой церкви. Осуществив все это, Генрих продолжал ненавидеть и преследовать протестантов; если бы он этого не делал, то при тогдашних умонастроениях мог бы лишиться короны. Тем не менее он установил новый социальный порядок, который в эти годы перемен мог поддерживаться только на более определенной протестантской основе.
Реформация в Англии была одновременно событием политическим, религиозным и социальным. Все эти три стороны были тесно связаны, но в той мере, в какой их можно разделить; настоящая работа занимается только социальными причинами и их последствиями. Антиклерикализм – явление социальное, уживавшееся со многими различными воззрениями на религию. Антиклерикализм задавал тон в общественном мнении, и ему сочувствовали как образованные, так и простонародье; это сделало возможным разрыв с папством и закрытие монастырей в такое время, когда английские протестанты все еще были преследуемым меньшинством.
Сам Генрих VIII был воспитан в духеантиклерикальной учености Эразма и его оксфордских друзей – людей, искренне религиозных и признававших государственную церковь; но они пылали негодованием по поводу тех махинаций, которыми низкие типы из среды духовенства выманивали деньги у невежественных и суеверных людей. В особенности враждебны были они по отношению к монахам и нищенствующим орденам – сторонникам обскурантизма [28], проводникам схоластической философии и противникам непосредственного изучения греческого Священного Писания, к которому Эразм и Колет обращались как к мерилу религиозной истины.
Правда, в некоторых сочинениях Эразма проводились самые непримиримые идеи антиклерикализма. В «Похвале глупости» он осуждает монахов за «соблюдение с преувеличенной педантичностью множества глупейших обрядов и пустяковых правил, издревле установленных», к которым Христос был непричастен, но благодаря которым монахи жили в роскоши «насыщая свою утробу до отвала».
«Презренные нищенствующие монахи» и их проповеди были не лучше: «Все их поведение во время проповеди было таково, что Вы могли бы поклясться, что они брали уроки у шатии странствующих шарлатанов, хотя на деле шарлатаны премного выше их». В таком же духе он пишет о монахах и в других местах книги.
Если самый ученый и воспитанный человек в Европе, не одобрявший грубых ибезудержных действий Лютера, мог так писать на латинском языке о монахах и нищенствующей братии, то можно себе представить, в каком тоне писали народные антиклерикальные писатели, обращавшиеся к английскому простолюдину на его же языке. Печатная машина усердно размножала такие литературные нападки, разжигавшие алчность мирян, домогавшихся огромных земельных богатств церкви, которая на время потеряла свою единственную защиту против грабежа – свое моральное влияние и благоговейный страх верующих перед ней.
Например, за несколько лет до упразднения монастырей Генрих VIII прочел без явного неодобрения памфлет Симона Фиша «Мольба нищих». Вывод, сделанный автором памфлета, таков: духовенство, и в особенности монахов и нищенствующие ордена, следует лишить их богатств в пользу короля и королевства и заставить работать, как работают другие; пусть им также разрешат вступать в брак и таким образом заставят их оставить в покое чужих жен.
Такие резкие призывы к алчности мирян и такая неподдельная резкая злоба на действительные злоупотребления, масштабы которых из века в век не уменьшались, были распространены во время правления Уолси, а с его падением такие разговоры сделались модными и при дворе. В те времена, если только столица и двор в каком-нибудь политическом вопросе держались одного мнения, борьба наполовину была уже выиграна. И, судя по готовности, с какой Реформационный парламент последовал за Генрихом VIII, такие же настроения были широко распространены по всей стране, хотя и не так резко проявлялись в северных графствах, где все еще преобладала феодальная религиозная приверженность к церкви и монастырям.
И среди этой бури общественного мнения, направляемого теперь королем на решение определенных практических вопросов, какую позицию должно было занять духовенство перед лицом таких угроз и обвинений? Проявит ли духовенство покорность или, наоборот, окажет сопротивление – такова была альтернатива, имевшая огромное значение для всего будущего развития английского общества. Если бы все члены духовной корпорации – епископы, священники, монахи и нищенствующие ордена – объединились, отстаивая высшие привилегии и свободы средневековой церкви, и если бы они встали в боевой готовности под знамя папы, то вряд ли их можно было бы победить; во всяком случае, если даже их можно было бы победить, то, конечно, не без борьбы, которая расчленила бы Англию на части. В действительности духовенство было напугано тем единодушием, с каким король и огромное большинство его подданных обрушились на него; но, кроме того, и среди духовенства шла борьба разных мнений. Многие из духовенства находились в тесном и повседневном контакте с мирянами и понимали их взгляды. Английские духовные лица не имели того духовного отчуждения или той кастовой дисциплины, какие имеются у римско-католического духовенства наших дней.
Например, епископов назначал король, и они прежде всего были королевскими гражданскими должностными липами. Точно так же священники и капелланы, как уже указывалось в предыдущей главе, часто работали в качестве деловых агентов и доверенных лиц у лордов, сквайров и у других светских патронов. Даже монахи стремились к тому, чтобы их поместьями управляли миряне, и они во многом подчинялись воле мирян – родственников патронов и основателей аббатств, нередко живущих в их владениях.
Поэтому духовенство не привыкло объединяться и защищаться от нападок мирян. Враждебность, с какой епископы и приходские священники смотрели на монахов и на нищенствующие ордена, длилась веками и нисколько не уменьшалась. Так же враждебно они были настроены против верховенства папы, который так долго и так безжалостно вымогал деньги и эксплуатировал английскую церковь. Уолси в качестве legatus a latere [чрезвычайный папский легат] за последнее время привел в ярость английское духовенство, попирая власть епископов и свободу духовенства. «Лучше король, чем папа» – таково было общее настроение среди духовенства ко времени падения Уолси. Третьего выбора перед конвокацией не было.
Более того, реформаторские доктрины – безразлично, Эразма или Лютера – имели среди духовенства много тайных приверженцев и открытых проповедников; иначе в Англии никогда не было бы Реформации, а была бы лишь грубая борьба антиклерикального ненавистничества против церковных привилегий; борьба, которая, по-видимому, была предвосхищена такой пропагандой, как «Мольба нищих» Фиша; борьба, которая в позднейшие времена действительно имела место в странах, отвергших Реформацию.
В английском церковном умозрении было тогда много идейных течений. Подобно тому как в царствование Генриха VII оксфордские реформаторы отозвались на призыв Эразма, так в царствование его сына кембриджские реформаторы, включая Кран мера, Латимера, Тиндаля и Ковердаля, откликнулись на призыв Лютера. Многие из английского духовенства, не являясь определенно сторонниками Лютера, искренне хотели реформировать свое сословие и нисколько не одобряли всех привилегий духовенства. Даже многие из монахов и нищенствующей братии экспроприированных и закрытых монастырей сделались при Эдуарде V! протестантскими священниками, и нет основания предполагать, что они действовали лицемерно.
Английское общественное мнение – мнение мирян и духовных лиц – изменялось так же быстро, как узоры в калейдоскопе. Оно еще не было разделено на две определенно и резко разграниченные партии: одну – сторонников реформы, другую – реакционную. В этой неразберихе преобладала эклектическая воля короля. Его антипапская и антимонастырская политика, которая вызвала в 1536 году восстание на севере, получившее название «Благодатное паломничество», была спасена поддержкой консервативных дворян, таких, как Норфолк, Шрюсбери, и епископов, таких, как Гардинер и Боннер, которые не меньше, чем сам Генрих, хотели бы сжечь Лютера. С другой стороны, два главных светоча академического Ренессанса и Реформации – Томас Мор и Фишер, близкие друзья Эразма, – предпочли смерть, но не отказались признавать папу высшей властью и не согласились на подчинение церкви государству.
Закрытие монашеских и нищенствующих орденов являлось естественным результатом тех взглядов на религию, на жизнь и на общество, для распространения которых так много сделали Эразм и его английские друзья. Люди «новой образованности», изучавшие классиков и Библию и преобладавшие теперь при дворе и в университетах, привыкли смотреть на монахов и на нищенствующие ордена как на отсталых людей – врагов нового движения. Аскетический идеал давно прошедших веков, положенный в основу при создании монастырей, уже более не восхищал мирян и не проводился в жизнь монахами. Зачем же нужно было продолжать содержать монастыри при огромных затратах на них?
Этот вопрос можно было услышать на улицах любого города, и в особенности в Лондоне. И некоторые заинтересованные партии воспользовались этим. Из них наиболее нерешительным было духовенство, сторонники Реформации, такие, как Латимер, которые надеялись, что монастырские богатства пойдут на обеспечение образования и религии; и они были разочарованы больше всех. Зато редко разочаровывались миряне, жившие по соседству, и патроны, опекавшие монастыри; они старались не упустить возможности стать владельцами монастырских поместий, покупая их на выгодных условиях.
В свою очередь, король, опустошивший казну своей безрассудной расточительностью и глупыми войнами во Франции, старался пополнить ее конфискацией пожертвований монастырям. И наконец, палата общин, утверждая закон об этой конфискации, была очень довольна возможностью избавиться от той непопулярности среди своих избирателей, которую она приобрела, голосуя за налоги с них.
Англичане того времени обычно упорно отказывались платить налоги. Любой новый налог, даже если он был вотирован парламентом, мог вызвать мятеж в каких-нибудь районах страны, а у Тюдоров не было постоянной армии. Поэтому Генрих в последние годы своего царствования в поисках выхода из финансовых затруднений использовал два пути: сначала конфискацию монастырских богатств, а затем снижение реального достоинства металлических денег (так называемая «порча денег»). Оба этих мероприятия, как мы увидим, имели важные социальные последствия.
На короткое время продажа монастырских земель пополнила королевскую казну. Если бы Генрих не был банкротом, он никогда не упразднил бы монастыри; он или оставил бы за короной все их земли и десятины и таким образом, может быть, дал бы возможность своим наследникам установить Англии абсолютнуюмонархию, или, возможно, он мог бы уделить большую долю своих богатств на образование и на дела благотворительности, как сначала и намеревался сделать, если бы так не тяготела над ним острая нехватка денежных средств. Ведь все-таки, несмотря на эту нехватку, он основал Тринити-колледж, причем с более широким размахом, чем создавался любой другой колледж в Кембридже. Возможно, что к этому доброму делу его побудил пример Кардинальского колледжа, незадолго до этого основанного в Оксфорде Уолси также на отнятые монастырские ценности; дело в том, что конфискация монастырских земель и десятин не была изобретена ни Генрихом, ни Реформацией. Но, учитывая огромные возможности короля, нужно сказать, что он сделал очень мало для обеспечения вкладами общественно полезных учреждений. Правда, часть монастырских денег он израсходовал на укрепление портов королевства и на арсеналы королевского военного флота.
Генрих не роздал даром сколько-нибудь значительную часть монастырских земель и десятин своим приближенным, как это иногда утверждают. Гораздо большую часть их он продал. Финансовые затруднения вынудили его пойти на это, хотя он предпочел бы больше земель сохранить за короной. Потенциальная ценность поместий, которой воспользовались с течением времени их покупатели – миряне или их наследники, – была весьма высокой по сравнению с рыночными ценами, которые фактически были уплачены нуждающемуся королю или купцам-спекулянтам, скупавшим эти поместья у короля для того, чтобы перепродавать их местной сквайрархии. Таким образом, в конечном счете от закрытия монастырей не выиграли ни религия, ни образование, ни бедняки и даже в конце концов не выиграла сама корона; выиграл класс удачливого сельского дворянства (джентри); о нем более подробно будет сказано, когда мы дойдем до рассмотрения перемен, происходивших в социальной жизни и в сельском хозяйстве.
В руках короны в течение нескольких поколений оставалась значительная часть монастырских земель, земель часовен и прочих церковных земель, а также и десятины. Но финансовые нужды заставляли Елизавету, Якова I и Карла I постепенно расставаться с этими землями, продавая их частным лицам.
Угольные месторождения, особенно в Дареме и в Нортамберленде, являлись преимущественно церковной собственностью. Но в результате политики Генриха VIII этот источник потенциального богатства страны, который начиная с эпохи Стюартов и в последующие века увеличивался в огромном масштабе, перешел в частные руки джентльменов, и их потомки благодаря углю сделались родоначальниками многих влиятельных и некоторых знатных фамилий. Но даже с тех земель, которые были оставлены церкви, Церковная комиссия за последние годы ежегодно извлекала доход около 400 000 фунтов – седьмую часть доходов от всех королевских угольных патентов.
Наряду с поместным дворянством, разбогатевшим благодаря закрытию монастырей, от этого выиграли также жители некоторых городов, таких, как Сент-Олбанс, Бери Сент-Эдмунде, теперь освобожденные от поместной власти монастырей, угнетавших их, – власти, с которой они в течение многих столетий вели ожесточенную борьбу. С другой стороны, разорение крупных монастырских учреждений и закрытие популярных центров паломничества снизило благосостояние и значение ряда небольших городов и некоторых сельских местностей, которые оказались не в состоянии восполнить эту потерю другим путем – сделавшись независимыми центрами торговли и промышленности. Гибель множества монастырских библиотек с их невосстановимыми рукописями явилась большим бедствием для науки и литературы.
Лично монахи пострадали гораздо меньше, чем это было принято считать, пока новейшие исследования не установили факты. Монахам фактически выплачивалось вполне достаточное обеспечение. Многие из них заняли должности священников; некоторые – даже должности епископов. При смене чередовавшихся режимов – то католического, то протестантского (при Генрихе, Эдуарде, Марии и Елизавете) – церковь обслуживалась прежними монахами и нищенствующими орденами, которые умели так же хорошо, как и остальное духовенство, приспосабливать свои взгляды к эти частым переменам. Некоторые из руководителей и обитателей упраздненных монастырских домов, сопротивлявшиеся установлению новых порядков, были безжалостно казнены жестоким королем. Но огромная масса монахов и нищенствующей братии признала эти перемены, которые для многих не были неприятными, создавая им более свободную личную жизнь и более благоприятные возможности жизни миру. За исключением севера, где социальные условия в еще походили на былые порядки феодальных времен, все эти монахи мало, что делали для организации сопротивления нововведениям Генриха.
Вместе с монахами исчезли также проповедники нищенствующих орденов, которые так долго были и помощниками, и соперниками приходского духовенства. На дорогах Англии уже больше не было видно знакомых фигур францисканцев и доминиканцев (в серых и черных одеяниях), стучащих в дверь хижины или разглагольствующих перед деревенскими слушателями. Их функции частично приняли на себя «фанатические евангелисты – проповедники Реформации» и странствующие протестантские проповедники, выступавшие иногда за, иногда против государственной церкви. Жизнь Бернарда Гилпина – «апостола севера» – с его религиозными странствованиями по пограничным графствам в царствование Марии и Елизаветы напоминает более ранние времена нищенствующих орденов и вместе с тем является прообразом жизни Уэсли.
В общем около 5000 монахов, 1600 «нищенствующих братьев», 2000 монахинь получили обеспечение и стали мирянами. Закрытие женских монастырей имело самые незначительные социальные последствия. Их богатства и поместья не шли ни в какое сравнение с богатствами, которыми владели монахи, и их общественная деятельность несравнима с деятельностью нищенствующих орденов. Монахини этого периода были знатными девицами из родовитых фамилий. Если таких девиц нельзя было выдать замуж за отсутствием подходящей партии, то родные отправляли их в монастырь. Женские монастыри не были важными факторами в социальной жизни Англии.
Но последствия закрытия монастырей требуют более детального рассмотрения. Насколько же глубоко пострадали от этих перемен монастырские держатели, слуги и бедные люди, жившие по соседству?
Что касается управления поместьями, то нет никаких оснований предполагать, что представители белого или черного духовенства, управлявшие ими до закрытия монастырей, были менее требовательными землевладельцами, чем их преемники – светские владельцы. Что изгнания держателей с церковных земель были таким же обычным явлением, как и изгнания со светских земель.
Томас Мор осуждал аббатства за превращение пахотных земель в пастбища, а народные поэты обвиняли их и за чрезмерно высокую ренту и за огораживания.
Монахи широко практиковали передачу управления своими поместьями мирянам. Землей аббатств часто управляли, беря в аренду поместья и затем передавая их в субаренду, знать, джентльмены и мелкие свободные землевладельцы; они эксплуатировали эту землю почти так же, как и другие поместья: огораживая земли, где это было выгодно, превращая копигольдеров в свободных держателей по воле лорда, повышая арендную плату, если повышались цены или если возрастала ценность земли. Когда после упразднения монастырей владения перешли в собственность мирян, прежнее светское управление продолжало в отношении держателей действовать в том же духе. Но так как вследствие снижения Генрихом VIII реального достоинства металлических денег царствование его сына было периодом все возрастающих цен, то землевладельцы – новые и старые – для того, чтобы не разориться, должны были повышать арендную плату, когда кончался срок аренды или срок держаний по копии. Поэтом «новых людей» обвиняли – иногда справедливо, но очень часто несправедливо – за то, что при подобной же конъюнктуре цен вынуждены были бы делать и монахи; их обвинял и в продолжении поместной политики, за которую в прежние времена ругали аббатов с такими же вескими или шаткими основаниями. По мере того как проходили годы, на прошлое смотрели сквозь розовую дымку, и сложилось предание, что якобы монахи были особенно снисходительными землевладельцами, – предание, не подтвержденное новейшими исследованиями.
Кроме держателей монастырских земель, о которых нельзя сказать утвердительно, выиграли они или проиграли в результате упразднения монастырей, имелась еще большая армия слуг, более многочисленная, чем сами монахи, занятая в аббатстве домашними работами. Вошло в обычаи обвинять их как «ленивых аббатских лежебок, не способны ни на что, кроме пьянства и обжорства». Вероятно, они были не лучше и не хуже, чем многочисленные дворовые «слуги», каких любили держать при себе знать и джентльмены после того, как Генрих VII разоружил их свиты. Этих «слуг» недолюбливали даже во времена Шекспира. Многих из этих монастырских зависимых людей брали к себе новые владельцы, особенно такие, которые превращали здание аббатства в господский дом. Несомненно, что некоторая часть из них осталась без мест и пополнила ряды «закоренелых нищих»; сами монахи до этого не доходили, так как полу чили обеспечение.
Многие из «слуг» аббатств были молодыми джентльменами из класса сквайров. Эти джентльмены были связаны с монастырями, нося их ливреи, управляя их поместьями, председательствуя в их манориальных судах, работая в качестве управляющих, бейлифов и арендаторов. Кроме этих должностных лиц из сельских дворян, которые оплачивались монахами, в аббатстве проживали богатые гости и нахлебники, находящиеся на попечении аббатства. Здесь проживали еще знатные люди и джентльмены, которые на правах патронов или родственников основателей оказывали большое влияние на администрацию аббатства. Еще задолго до упразднения монастырей высший класс мирян пристроился к монастырскому пирогу. В некоторых отношениях секуляризация монастырских земель была постепенным процессом, и закрытие монастырей было лишь его последним шагом.
До тех пор у врат обители всегда толпились бедняки. Они исправно получали остатки пищи и милостыню деньгами. Этот обычай отражал древнюю традицию и учение о христианском долге, который на деньги не расценивается. Но на практике, по мнению историка, изучавшего английский закон о бедных, монастырская благотворительность, будучи «неорганизованной, неразборчивой, сделала почти столько же для увеличения нищих, сколько и для их обеспечения».
По-видимому, прекращение подачи милостыни у врат аббатства вначале способствовало росту числа нищих в других местах, но не имеется никаких сведений о том, что по сравнению с прежним положением вопрос о нищенстве серьезно обострился после упразднения монастырей. В конце царствования Елизаветы он, несомненно, уже не был столь острым.
Насколько же широко занимались благотворительностью, когда новый порядок прочно установился, наследники тех, кто скупил аббатские земли? Выделяли ли лорды и леди – владельцы манора во времена Елизаветы – из своих доходов больше или меньше, чем до них выделяли монахи? На этот вопрос ответить невозможно; вероятно, одни давали больше, другие меньше. В самом начале эпохи Стюартов забота о деревне была общепризнанной обязанностью жен сквайров, а иногда даже и жены пэра, такой, как Летиция, леди Фолкленд, которые часто навещали больных, давали им лекарства и читали им письма и книги. Жившие в господском доме часто делали для бедных столько же, сколько монастыри позднейшей эпохи. Остается неясным, как много в действительности потеряли бедняки вследствие упразднения монастырей, но ясно как день, что был упущен случай обеспечить бедных настоящим вкладом, а также возможность их обучения и образования. И в те времена это многие сознавали, в особенности сторонники Реформации, такие, как Латимер и Кроули. Около 1550 года Кроули писал:
Я думал, когда одиноко бродил, О том, что король в мое время творил, И вспомнил аббатства тех дальних времен, Где ныне господствует жесткий закон. О боже, я думал, вот случай какой Науке помочь и борьбе с нищетой, Ведь земли и ценности монастырей Могли б пригодиться для многих людей, Могли б проповедники помощь подать, Заблудшим помочь на путь истины встать, Могли бы и хлеба побольше купить, Чтоб вечно голодных людей накормить.Вместо этого дальнейший толчок был дан направлению уже достаточно сильному: установлению господства землевладельческого класса – дворянства, чья власть сменила власть крупной знати и духовенства феодальной эпохи и слово которого должно было сделаться в грядущих веках законом Англии.
Толпы «закоренелых нищих», которые были бедствием при первых Тюдорах, пополнялись людьми разных категорий: постоянно безработные; нетрудоспособные; солдаты, распущенные после французской войны и войн двух Роз; вооруженные свиты, упраздненные приказом Генриха VII; слуги, отпущенные обедневшими лордами и дворянами; «отряды Робин Гуда», которые в результате вырубки лесов и усиления королевского порядка в стране были изгнаны из своих лесных логовищ; землепашцы, оставшиеся без работы вследствие огораживания пастбищ, и, наконец, бродяги, предусмотрительно старавшиеся доказать свою принадлежность к этой последней категории нищих, вызывающей наибольшее сочувствие. На протяжении всего царствования Тюдоров «нищие, приходящие в город», грабили, наводя страх на обитателей уединенных крестьянских домов и хижин, и обременяли заботами судей, членов Тайного совет и депутатов парламента. Постепенно в Англии, в первой и всех европейских стран, развилась настоящая система обеспечения бедных, основанная на обязательном налоге в пользу бедных и на разделении нуждающихся на разные категории Скоро убедились в том, что наказание «закоренелых нищих само по себе еще не решает вопроса. Двойная обязанность обеспечение работой безработного и выдача пособия нетрудоспособному, – лежащая не только на церкви, но и на благотворительных обществах, была постепенно признана Англией Тюдоров. В царствование Генриха VIII некоторые большие города, такие, как Лондон и Ипсвич, организовали в административном порядке помощь своей бедноте. В конце царствования Елизаветы и при первых Стюартах это сделалось обязанностью, предписанной государственным законодательством и возложенной бдительным Тайным советом на членов местного городского самоуправления; расходы оплачивались обязательным налогом в пользу бедных.
После ограбления монастырей дошла очередь и до часовен. Генрих VIII уже готовился к атаке на них, но смерть забрала его туда, где короли не могут больше грабить. С восшествием на престол Эдуарда VI (1547) восторжествовало протестантское учение, и моление за мертвых было объявлено «суеверием». Так как такие моления были специфическим назначением часовен, то теперь их ограбление совершалось под прикрытием религиозного усердия. Такой «грабеж» (так назвало бы это наше поколение), совершаемый жадными государственными деятелями и их придворными (тунеядцами) и сельским дворянством, живущим поблизости от земель, принадлежащих часовням, при юном короле сделался еще более бесстыдным, чем при грозном старом отце; Генрих VIII по крайней мере защищал интересы короны, насколько это позволяло его тяжелое финансовое положение.
Часовни не были учреждениями исключительно церковными. Многие из них принадлежали светским гильдиям, и завещанные последними вклады шли на оплату не одних только заупокойных молитв, но и на содержание мостов, пристаней и школ. Поэтому, когда с использованием часовен в целях сохранения «суеверия» было покончено, следовало бы резко разграничить и охранить их общественно полезную деятельность, на развитие которой и делались вклады. В некоторых случаях так и поступали: граждане города Линн сохранили вклады гильдии Святой троицы для содержания пристаней и молов. Но многие виды общественного обслуживания пострадали в этой «свалке», особенно более бедные и менее влиятельные гильдии. Намного убавились вклады, завещанные на школы.
В течение трех столетий Эдуард VI пользовался незаслуженной репутацией очень доброго мальчика, который якобы основывал школы. Но на деле «средние классические школы Эдуарда VI» были просто-напросто теми старыми учреждениями, от разрушения которых воздерживались его советчики и с которыми они подобострастно связывали его имя. По законам этого периода пострадала большая часть часовен и школ, принадлежащих гильдиям. Одни пострадали больше, другие меньше. Земли огромной ценности в будущем были у них отобраны, и они получили за них фиксированное денежное вознаграждение в быстро обесценивающихся денежных знаках. Была упущена и другая благоприятная возможность. Если бы все или даже половина вкладов на заупокойные службы были переданы школам и если бы вместе с тем за этими школами была сохранена их прежняя земельная собственность, то вскоре Англия имела бы лучшее среднее образование и вся история Англии и всего мира могла бы измениться к лучшему. Латимер осуждал упущенную возможность и призывал к новому виду вкладов, более подходящему к религиозным запросам его времени.
Некоторые из возвышающегося класса дворянства и некоторые юристы, купцы и йомены делали лично очень много пожертвований для того, чтобы улучшить положение школы. Кемден в царствование Елизаветы отмечает вновь основанные школы в Аппингеме, в Океме и в других городах; йомен Джон Лайенс основал в Харроу общедоступную классическую школу для мальчиков, где обучение греческому языку должно было быть поставлено безукоризненно. В первые годы царствования Якова I в отдаленной, но цветущей долине Дента в Йоркшире на средства, собранные по подписке среди местных мелких свободных держателей, была основана средняя классическая школа, и за счет нее в течение столетий, вплоть до времени профессора Адама Седжвика, Кембриджский университет и церковные приходы севера пополнялись многими ценными сотрудниками. Средняя классическая школа, где воспитывался поэт Вордсворт, была основана в царствование Елизаветы архиепископом Сэндисом.
Типичным представителем «нового человека» эпох Тюдоров был отец Фрэнсиса Бэкона Николас Бэкон, сын управляющего овцеводческим поместьем аббатства Берн Сент-Эдмунде. Николас Бэкон выдвинулся благодаря свое юридической и политической деятельности; он сделался владельцем многочисленных ферм, на которых его отец служил у монахов в должности одного из их бейлифов. На этих землях он основал общедоступную классическую школу с передачей отсюда стипендий Кембриджскому университету; он завещал и другие вклады своему старому колледжу Корпус-Кристи. В Кембридже Николас Бэкон впервые встретился с будущими руководителями церкви и государства при Елизавете – с Мэттью Паркером, сделавшимся его другом на всю жизнь, и с Уильямом Сесилем. Более молодой университет в Кембридже до того времени был меньше Оксфордского, но теперь он быстро выдвигался на первое место, и его воспитанники играли ведущую роль в проведении крупных реформ этого периода.
Тогда же методы воспитания и идеалы людей «новой образованности», жаждущих изучать классиков и Библию в подлиннике, подняли значение школьного и университетского образования. Влияние Джона Чика и Роджера Эшема («эллинистов») из колледжа Сент-Джона в Кембридже было глубоким и длительным. Шекспир получил классическое образование нового типа в средней классической школе в Стратфорде, и он получил его бесплатно, что было большой удачей, так как в эти годы его отец был в затруднительном материальном положении. Мы обязаны принести нашу смиренную и сердечную благодарность за это средневековым основателям Стратфорда и реформаторам школьного образования эпохи английского Ренессанса.
Если бы католические семьи при Генрихе VIII и Эдуарде VI воздержались от покупки конфискованной церковной земельной собственности, то, вероятно, их дети и внуки реже переходили бы в протестантство. В дни Елизаветы, когда Англии угрожала сильная католическая реакция, поддерживаемая из-за границы, новые владельцы аббатских и часовенных земель поняли, что их личные интересы связаны с интересами Реформации.
На протяжении эпохи Тюдоров, так же как и столетиями до этого, процесс «огораживания» земли постоянными изгородями протекал по-разному, а именно: огораживание пустошей и лесов для сельскохозяйственных целей; огораживание изгородью земельных участков на открытых полях с уменьшением числа полос в целях улучшения их индивидуальной обработки; огораживание деревенских общинных земель и, наконец, огораживание пахотной земли под пастбища. Все эти виды огораживания повышали благосостояние, и только некоторые из них обездоливали бедняков или способствовали убыли населения, некоторые огораживания проводились при активной помощи самих крестьян. Другие, особенно огораживания общинных земель, были глубоко ненавистны и вызывали восстания и мятежи.
В царствование Генриха VII вызвало недовольство соединение небольших крестьянских держаний и превращение их в пахотные фермерские участки; это считалось несправедливым по отношению к населению и ведущим к «уничтожению городков» (то есть деревень). В 1489 и 1515 годах были приняты законы, имеющие целью задержать этот процесс, но, по-видимому, эти попытки были безрезультатными. Появившиеся после этого указы, комиссии и статуты второй половины периода царствования Генриха VIII свидетельствуют о все возрастающей тревоге в связи с увеличением пастбищ за счет – пахотной земли и сопровождающимся уменьшением сельского населения. Но не видно, чтобы огораживание проводилось в сколько-нибудь большом масштабе, если не считать некоторых центральных графств Англии, куда были посланы королевские ревизоры для обследования. И даже в этих центральных графствах огораживания – безразлично, под пахотную землю или под пастбище – в действительности были весьма незначительными, потому что в XVIII столетии в этих самых графствах мы находим, что открытые поля и общинные земли средневековых маноров, за небольшим исключением, все еще не обнесены изгородью и оставались неогороженными вплоть до парламентских законов [об огораживании], принятых во времена Ганноверов.
Весь шум вокруг экономических и социальных перемен определяется не степенью и значительностью изменений, происшедших в действительности, а реакцией на них тогдашнего общественного мнения. Например, мы много слышим обобезлюдении деревень в эпоху Тюдоров, потому что тогда оно рассматривалось как тяжелое бедствие. Огораживания пастбищ поэтому осуждались Мором и Латимером и сотнями других писателей и проповедников, как католических, так и протестантских. «Там, где сорок человек имели средства к жизни, там теперь все имеет один человек и его пастух». Это был общий вопль. Таких случаев огораживания насчитывалось немало, и их было бы еще больше, если бы не волнения и последовавшие мероприятия правительства в целях ограничения таких огораживаний.
Но в эпоху Тюдоров «обезлюдение деревни» было лишь случайным и местным и «компенсировалось» избытком населения в других местах. Однако когда «обезлюдение деревни» около 1880 года действительно началось в масштабе всей страны в результате импорта американских продуктов питания, то современники последнего периода царствования Виктории смотрели на это угрожающее социальное бедствие равнодушно, как на естественное и потому вполне допустимое следствие свободной торговли, и ничего не делали, чтобы приостановить его. И только в наши дни угроза голодной смерти страны во время войны вызвала некоторый общий интерес к проблеме обезлюдения деревни, в двадцать раз более серьезной, чем обезлюдение, которое четыреста лет назад волновало наших предков, быть может, столько же, как и сама Реформация.
Социальные и экономические бедствия вызвали восстание Кета в Норфолке (1549); восставшие осадили Маусхолд-Хиз, вырезали 20 тысяч овец – в знак протеста против засилья лендлордов, державших непомерно много своих овец на общинных землях. Но огораживание пашен под пастбища не было общим бедствием в Норфолке, где поколение спустя Кемден отмечал, что почти все земли графства были «сплошным полем», то есть неогороженными, хотя он также упоминает и об «огромных стадах овец» лендлорда.
Закрытие монастырей не обострило сколько-нибудь значительно бедственное положение сельского хозяйства. Но, как мы сейчас увидим, это положение было обострено финансовым экспериментом Генриха – произведенной им «порчей денег». Причина бедствий лежала глубже, в нарастающих страданиях, которыми сопровождаются исторические перемены. Общество переходило от системы широкого распределения земли среди крестьян при низкой ренте, установившейся во времена недостатка рабочих рук в XIV и XV веках, к постепенному отмиранию крестьянских держаний и к их укрупнению в большие (капиталистические) фермы с высокой арендной платой. Это значило дальнейшее сокращение натурального сельского хозяйства и расширение производства для рынка. Это могло быть или не быть переходом от лучшего уровня жизни к худшему; несомненно, однако, что это был процесс превращения страны из бедной в более богатую. И такая перемена в этом направлении была необходима для того, чтобы кормить увеличивающееся население Англии, приумножать национальное богатство и сделать возможным повышение общего уровня жизни, который был создан новыми условиями за счет исчезновения старого жизненного уклада.
После отмены крепостной зависимости крестьян Англия XVI столетия шла впереди Германии и Франции; в царствование Генриха VII от этой зависимости осталось мало следов, и фактически никаких следов уже не было при Елизавете. Но аграрные перемены этой эпохи повлекли за собой другой медленно и отнюдь не в интересах крестьянства развивающийся процесс: в течение XVII и XVIII столетий постепенно крестьянин как таковой исчезает, превращаясь или в арендатора, или в йомена, или в безземельного рабочего, работающего на крупной арендованной ферме, или в городского рабочего, совсем оторванного от земли. Волнения в деревне эпохи Тюдоров были протестом против ранней стадии этого длительного процесса. Обстоятельства, при которых начался этот процесс, требуют дальнейшего исследования, и о них скажем ниже.
В давно прошедшие времена, в ХIII веке, в Англии царил «земельный голод»: было слишком много людей и недостаточно обрабатываемой земли – конъюнктура, весьма выгодная для лендлордов. Но, как уже указывалось, на протяжении двух последующих столетий, в значительной степени вследствие «черной смерти», появился избыток земли и нехватка рабочих рук для ее обработки – к выгоде для крестьянина, который при таких благоприятных для него условиях освободился от крепостной зависимости, а теперь, в XVI веке, снова ощущался острый земельный голод. Мел ленное повышение процента деторождаемости по сравнению с процентом смертности наконец восполнило опустошение, произведенное «черной смертью», хотя местные вспышки эпидемии все еще время от времени брали свою дань в Лондоне и в других городах. Лишь богачи получали медицинскую помощь, сколько-нибудь стоящую, но даже и у них смертность детей была так высока, что привела бы ужас современных родителей, хотя тогда она считалась вполне естественной. Тем не менее, несмотря на «пляску смерти» – излюбленный сюжет художника того времени, – население Англии все же медленно росло, достигнув, вероятно, 4 миллионов. Таким образом, при Тюдорах снова ощущался избыток рабочих рук по сравнению с имеющейся землей. Так как у Англии еще не было колоний и промышленное развитие было незначительным, то промышленность не могла поглотить избыток людей; отсюда «закоренелые нищие», отсюда уничтожение лесов и захват пустующих земель и использование их под сельскохозяйственные культуры – процесс, почти приостановившийся в XV веке; это также создавало для лендлорда благоприятную экономическую возможность поступать с землей (на которую был столь большой спрос) так, как он пожелает, и взимать более высокую ренту, поскольку это допускал характер аренды его земли.
В то время как спрос на землю позволял лорду не изменять размер ренты и плату за сельскохозяйственную технику, рост цен вынуждал его к этому, иначе он разорился бы. Между 1500 и 1560 годами цены, которые лендлорд должен был уплачивать за предметы, покупавшиеся лично для себя и для своих домочадцев, поднялись больше чем в два раза; цены на продукты питания возросли почти в три раза. Лендлорды вынуждены были, если они не хотели разориться, повышать ренту, когда кончались сроки аренды, и эксплуатировать землю наиболее выгодно – отводить ее под пастбище, а не под пашню.
Но эти обстоятельства, оправдывающие землевладельцев, вряд ли принимались во внимание озлобленным народом, находящимся во власти религиозных чувств. Католики и протестанты все еще применяли к экономическим явлениям средневековые мерила оценки этического порядка. Например, закон и общественное мнение все еще пытались запретить, как ростовщичество, получение каких-либо процентов за ссуду денег, несмотря на то, что это давно было принято среди деловых людей. Законодательство настолько отставало от жизни, что даже еще в 1552 году парламентский закон запрещал всякое взимание процентов «как порок, наиболее гнусный и ненавистный». Наконец в 1571 году этот закон был отменен, и доходы заимодавцев, не превышавшие десяти процентов, перестали считаться противозаконными.
Поэтому не удивительно, что проповедники, авторы памфлетов и поэты осуждали огораживания как противоречащие нравственности, а повышение ренты – как вымогательство. В некоторых случаях это, несомненно, так и было, но в общем лендлорды действовали под давлением финансовой необходимости. Правда, во многих случаях «экономическая необходимость» сделалась оправданием для тирана, угнетающего народ, и ею пользовались слишком необоснованно в последующих веках, когда «неумолимая наука» – политическая экономия – внушила людям мысль о железном законе необходимости. Но многие сочинения Тюдоровской эпохи, написанные по этим вопросам, были повинны в обратном, ибо они недостаточно учитывали экономические причины. Осуждалась только злая воля отдельных лиц, вместо того чтобы искать основные причины и способы их исправления.
Однако были и исключения. В одном замечательном диалоге, написанном в самый разгар социальных волнений при Эдуарде VI и озаглавленном «Трактат об общем благе», автор сумел вскрыть действительную причину, оставаясь справедливым ко всем сторонам; он понял неизбежное воздействие, какое рост цен должен был оказать на ренту, а также главную причину этого роста цен: «порчу» металлических денег Генрихом VIII.
Но гораздо чаще раздавались огульные обвинения против всякого огораживания. Эти осуждения было бы лучше приберечь для случаев действительной несправедливости, когда лорды маноров «огораживали от бедных их же собственные общинные земли». Точно так же необоснованны были нападки на сельское дворянство, как на «обжор и жадных плутов», потому что они «повышают выплачиваемую нами ренту». Однако вследствие роста цен сами крестьяне и арендаторы продавали свои продукты в два-три раза дороже, чем прежде, и лендлордам также приходилось платить относительно больше за все, что они покупали. Как же в таком случае можно было не повышать ренту? Но в представлении общества, все еще остававшегося в основном средневековым по своему кругозору, правильной основой социальной экономики являлась не конкуренция, а с незапамятных времен установленный обычай, причем этот обычай считался правильным даже тогда, когда падающая ценность денег и быстро растущие цены делали его с каждым днем все более и более нестерпимым и несправедливым.
Главной причиной социальной болезни было случайное и неравномерное действие, оказываемое на разные слои общества ростом цен. Одна часть крестьянства, имевшая долгосрочные аренды, которые по закону нельзя было расторгнуть, пользовалась всеми выгодами от этого быстрого роста цен на их продукты, потому что их ренту нельзя было повышать. Так как лорды не могли поэтому повысить ренту повсюду равномерно и умеренно, они вознаграждали себя, взимая непомерно высокую ренту и тяжелые штрафы за возобновление аренды с другой, менее счастливой части крестьянства и с фермеров, арендные контракты которых возобновлялись ежегодно или прекращались в случае смерти держателя или через определенный срок. В результате одна группа крестьян копила деньги, не платя ни гроша дополнительной ренты, в то время как на другую группу – социально не отличимую от первой, исключая лишь сроки их аренд или юридические формы их держаний, – нажимали все больше, чтобы получить компенсацию за то льготное положение, в котором находились другие. Между тем йомен, который не платил лендлорду манора никакой ренты или лишь чисто символическую, продавал свое зерно и скот в три раза дороже той цены, по которой мог бы продать его дед. Таким образом, в то время как некоторые люди чрезмерно наживались и процветали, другие, включая многих лендлордов и сквайров, оказались в поистине бедственном положении во время царствования Эдуарда VI и Марии в значительной степени в результате бессовестных махинаций их отца с чеканкой монет. По этой же причине безземельный рабочий также страдал вследствие отставания заработной платы от цен. Но безземельные рабочие тогда составляли значительно меньшую часть рабочего класса, чем в настоящее время. Так как до известной степени труд безземельного рабочего оплачивался натурой, то ущерб, наносимый рабочему падением ценности денег, часто был не очень велик. С другой стороны, ремесленник, организатор мануфактурного производства и купец выигрывали от роста цен столько же, сколько и крестьянин, рента которого не могла быть повышена. В общем рост цен, разоривший одних и обогативший других, явился стимулом для развития торговли, производства и коммерческих предприятий как в городах, так и в деревне. Он был одним из факторов, обусловивших развитие новой Англии – Англии смелого предпринимательства и конкуренции, – сменившей старую Англию неизменных обычаев и незыблемых прав.
Еще до исхода XVI столетия было на время достигнуто равновесие. В последние годы царствования Эдуарда VI было начато проведение настоящей финансовой реформы, которое продолжала Мария и завершила Елизавета. Уже на второй год своего царствования (1560-1561) великая королева смогла восстановить полноценность металлических денег. На время цены были стабилизированы. Постепенно, по мере того, как сроки все большего числа аренд истекали, устанавливались справедливые размеры ренты, и во времена Шекспира, за исключением годов плохого урожая, в деревне воцарялся мир, общий высокий уровень благосостояния и общее довольство.
К тому времени, когда установилось это «новое» равновесие, произошли важные перемены, вызванные плохими урожаями. Число арендаторов в современном смысле слова – людей, распоряжающихся значительным количеством пахотной земли, которую они держали на условиях аренды на определенный срок, – возросло по сравнению с прежним, и теперь гораздо реже встречался типичный средневековый держатель. Но все еще много было мелких крестьянских хозяйств, и большую часть лучшей пахотной земли в центральных районах Англии все еще составляли полосы открытых полей и крупные или мелкие наделы держателей.
Непрестанными усилиями всех последовательно сменявшихся тюдоровских правлений – путем законодательства, решений королевских комиссий, юридических актов Звезд ной палаты и Палаты прошений – кое-что было сделано для контроля над огораживаниями и для защиты «старо модного» крестьянина от злоупотреблений его лендлорда. Не это не могло остановить медленно развивающийся процесс неизбежных перемен.
В результате этих изменений класс, называвшийся йоменами, сделался многочисленнее, богаче и имел боль шее значение, чем в какую-нибудь другую предшествующую эпоху. Многие из них частично или полностью создавали свои богатства путем продажи шерсти своих овен Похвала йомену, как лучшему типу англичанина, объединяющему общество, никогда не раболепствующему перед высшими и не презирающему своего соседа-бедняка, добродушному, гостеприимному, отважному – постоянная тема тюдоровской и стюартовской литературы; и эта тема соответствует определенному социальному явлению.
Йомены считались реальной силой в деле защиты страны, В старые времена они победили при Азенкуре, и совсем недавно – при Флоддене и по-прежнему оставались надежной защитой страны. «Если бы в Англии не было класса йоменов, то во время войны мы были бы в тяжелом положении. Дело в том, что в них – главная защита Англии. Англичане хвалились, что в других странах не было такого среднего класса, а только угнетенное крестьянство да знать и армия, которые грабили крестьян.
Уже тогда англичане относились к профессиональным солдатам с большим недоверием, в значительной степени связанным с воспоминаниями о том, сколько приходилось терпеть мирному населению от вооруженных свит лордов. Короли из династии Тюдоров всему этому положили конец и отказались держать постоянную армию: отсюда и их популярность. Англичане дорожили и гордились своей свободой, еще не определившейся как право управлять своим королем через парламент или печатать против церковных и государственных властей то, что им нравится; они просто пользовались свободой жить так, как хотели, – спокойно, без феодального или королевского гнета.
Новый век все больше и больше выдвигал на первое место наряду с йоменом также и сквайра. Сквайр выжил в тяжелый период скудного семейного бюджета во время денежного кризиса, и при Елизавете он выдвинулся как руководящий класс в поместной Англии. Богатство и влияние сельских джентльменов возросли отчасти благодаря возможности дешево приобрести монастырские земли, отчасти благодаря недавним экономическим переменам в сельском хозяйстве их поместий, которые оказались возможными в результате острого недостатка земли и необходимыми вследствие роста цен. Многие из них наряду с сельским хозяйством интересовались также суконным производством и заграничной торговлей.
Помимо абсолютного увеличения богатства сквайров, возросло также их относительное значение в обществе благодаря исчезновению феодальной знати – аббатов и настоятелей, занимавших прежде более высокое положение, чем они. Джентри, которые теперь управляли графствами как представители короны, в качестве мировых судей, могли уже больше не опасаться вмешательства в их обязанности «слишком больших персон» и их вооруженных свит. Старая знать, беспокоившая и терроризировавшая Англию Плантагенетов, потеряла свои земли и свое могущество при конфискациях во время войн Роз; первые короли династии Тюдоров своей политикой продолжали подавлять их, как это было с арестом знатного Бакингема. Последние представители знати старого типа сохраняли свою феодальную силу в пограничных шотландских графствах, где о них говорили: «Нет другого короля, кроме Перси», – и они также были уничтожены Елизаветой после восстания северных графов в 1570 году. В других частях Англии такая полусуверенная знать давно уже исчезла.
Вместо них Тюдоры возвышали фамилии Расселов Кавендишей, Сеймуров, Бэконов, Дедли, Сесилей и Гербертов – не потому, что они принадлежали к феодально знати, а потому, что они были полезными слугами короны. Благодаря своим общественным связям они были близки возвышающемуся классу сельского дворянства, из которого вышли и к которому все еще, по существу, принадлежали, даже если сами возвышались настолько, что становились пэрами английского королевства.
Приниженное положение старой знати объяснялось m только политическими, но и экономическими причинами Она даже больше, чем джентри, пострадала от падения ценности денег, потому что уделяла лично слишком мало внимания управлению своими далеко раскинувшимися владениями; она была менее активна, чем мелкие землевладельцы не могла выгонять держателей, прекращать аренду, налагать штрафы и повышать ренту. В Тюдоровский период, взятый в целом, сельское дворянство возвышалось, в то время как роль знати уменьшалась.
Отличительной чертой английского сельского дворянства, поражавшей иностранных путешественников еще и царствование Генриха VII, был обычай отсылать из господского дома младших сыновей искать счастья в другом месте, обычно в городах в качестве учеников у преуспевающих купцов и ремесленников; иностранцы объясняли этот обычай отсутствием у англичан чувства семейственности. Но, пожалуй, это объяснялось также и мудрым чутьем, учитывающим, «что было лучше для мальчика», и прозорливым расчетом, что было лучше для семейного благополучия. Обычай оставлять всю землю и большую часть денег старшему сыну привел к росту крупных поместий, которые в результате постепенного накопления богатств на протяжении многих лет сделались в ганноверское время столь характерной чертой английской сельской экономики.
Младшему сыну джентльмена во времена Тюдоров не разрешалось слоняться без дела по господскому дому, попусту растрачивать семейные доходы, как это делали дети обедневшей знати на континенте, слишком гордые, чтобы работать. Он жил вдали, зарабатывая деньги торговлей или юриспруденцией. Часто к концу жизни младший сын был более богатым и более влиятельным человеком, чем его старший брат, оставшийся в старом доме. Такие люди покупали земли, потому что были воспитаны в сельской местности, куда они любили возвращаться. Здесь они основывали свои собственные дворянские фамилии в графствах.
Иностранцев поражала любовь англичан к деревенской жизни. «Каждый джентльмен, – замечали они, – стремится в деревню. Немногие живут в больших и маленьких городах и немногие ими интересуются хотя бы сколько-нибудь».
Хотя Лондон, возможно, был уже самым большим городом в Европе, но Англия в основных чертах (по уровню своей жизни и по своим взглядам) все еще была деревенским обществом, тогда как во Франции и в Италии римляне глубоко внедрили городскую цивилизацию, которая притягивала к себе все жизнеспособное из окружающей провинции. Английский сквайр не разделял настроений «знатных итальянских джентльменов», изображенных Робертом Браунингом изнывающими в своем загородном доме.
Подлинной обителью сквайра, безразлично, был ли он богат или беден, был его господский дом – он это сознавал и радовался этому.
Благодаря обычаю сельских дворян устраивать своих младших сыновей в торговых предприятиях наша страна избежала резкого деления на строго замкнутую касту знати и на непривилегированную буржуазию, деления, которое привело французский «старый порядок» в 1789 году к катастрофе. В противоположность французам английское дворянство, за исключением немногих избранных, заседавших в палате лордов, не считало себя знатью. Владельцы господского дома, гостеприимно принимавшие своих соседей и друзей из самых различных классов, не стыдились признавать, что один из их сыновей занят торговлей, другой – в Судебном подворье, а третий, быть может, – в семейном церковном приходе. Люди, «владевшие землей» и «обладавшие капиталом», могли спорить как политические противники, но в действительности они были связаны кровным родством и общностью интересов. Выходцы из помещичьего класса непрерывно вливались в городскую жизнь; в то же самое время деньги и люди из города непрерывно двигались в обратном направлении – в деревню, чтобы улучшать ее положение.
При Тюдорах, Стюартах и при первых Ганноверах удачливые юристы составляли значительную часть «новых людей», которые проникли в круг деревенской знати в графствах в результате покупки земли и постройки господских домов. Число английских графских фамилий, основателями которых были юристы, превышает даже число тех, которые имели предками сукноделов. Процесс начался в Средние века: благосостояние норфолкских Пастонов было заложено одним из судей Генриха VI; еще шире была открыта дорога перед законоведами при Генрихе VIII и при его детях – во времена волнений, тяжб и хищничества; в эти времена законоведы с авантюристическим складом характера имели исключительные возможности служить правительству и получать весьма высокое вознаграждение, в особенности когда, как в процессе Бэконов и Сесилей, закон сочетался с угодничеством и политикой. Много прекрасных домов Тюдоровской эпохи – маленьких и больших, – которые до сих пор еще украшают английский ландшафт, были оплачены деньгами, полученными за ведение судебных дел.
Сквайр, юрист, купец и йомен имели много общего между собой. Все они были людьми нового времени, которых не прельщали феодальные идеалы, теперь уже исчезавшие. Они стремились переходить в протестантство как из-за выгоды, так и по убеждению. Они создали своеобразную религию домашнего очага, по существу, религию «среднего класса» и совсем не средневековую.
Стремлением протестантского учения было превозносить брачное состояние, освящать религией деловую жизнь; это было реакцией на средневековое учение, что истинная «религиозная жизнь» заключается в целомудрии и удалении от мира в монастырь. Разрешение вступать в брак, полученное духовенством при Эдуарде VI и при Елизавете, было одним из симптомов этой перемены взглядов. Протестантским идеалом являлась религия семейного очага с домашним чтением Библии в дополнение к церковным службам и таинствам. Эти идеи и обычаи были распространены не только среди пуритан-диссидентов; при последних Тюдорах и в эпоху Стюартов они были приняты и в англиканских семьях, которые любили и боролись за «Книгу Общих молитв» [29]. Домашняя религия и Библия сделались социальным обычаем – общим для всех английских протестантов. Может быть, чаше всего такую картину можно было видеть в семьях сквайров, йоменов и купцов, но она была также типична и для хижин бедняков.
Английская религия нового типа идеализировала труд, посвящая Богу свои дела в торговле и сельском хозяйстве. Это была подходящая религия для страны лавочников и фермеров.
Царствование Эдуарда VI и его старшей сестры было временем зарождения этих обычаев и идей, которые в следующем поколении сделались такими общепринятыми; оно было временем, когда Кранмер создавал «Книгу Общих молитв», которая могла бы занять место рядом с Библией, и когда королева Мария снабжала английский протестантизм житиями мучеников. Антиклерикальная революция Генриха VIII с ее отнюдь не достойной подражания дракой из-за церковного имущества была лишена моральной основы, но мученики придали такую основу национальной религии, которая начала создаваться в этом хаосе. Когда Елизавета вступила на престол, Библия и «Книга Общих молитв» составляли интеллектуальную и духовную основу нового социального порядка.
Учреждения каждой страны всегда отражаются в ее военной системе. Во время Столетней войны в Англии были две военные системы: защита внутри страны от народных мятежей и набегов шотландцев была делом главным образом местной милиции, набиравшейся на основе ополчения; более трудная война с Францией, которая требовала лучше обученных воинов, велась военными дружинами, следовавшими за ведшими войну знатью и сельским дворянством, которые вербовали и оплачивали их; король договаривался с их нанимателями о поставке ему такого-то числа обученных воинов за такую-то сумму. Эта двойная система продолжалась при Генрихе VII и Генрихе VIII с тем различием, что подрыв военной мощи и земельных богатств старой знати конфискациями во время войн двух Роз лишил значения систему договоров. Действительно, система договоров с частными лигами о поставке армии для войны за границей была несовместима с внутренней политикой Тюдоров, с упразднением частных военных дружин и военных формирований, создаваемых крупными вассалами. Но так как король не имел своей регулярной армии, то в случае надобности войска спешно набирались для службы за границей. Они были недисциплинированны, мятежны и часто бесполезны, как это то и дело доказывала история тюдоровских войн на континенте. Исчезли прежние стойкие, преданные военные отряды, шедшие за крупными лордами в Креси и Азенкуре. А между тем у короля еще не было армии.
Английские лучники были по-прежнему настолько хорошими воинами, что огнестрельное оружие еще не вытеснило их. Все еще были общеприняты лук и алебарда для пехоты и копье для кавалерии. Артиллерия, на которую король имел монополию в своем королевстве, становилась необходимым оружием не только для осады, но также и для сражений с мятежниками или с шотландцами, как это имело место при Лус Коут-Филде и Пинки-Клю. В таких условиях для обеспечения безопасности короля в Англии, пока его политика не стала слишком непопулярной, было достаточно демократически вербуемой милиции. Но у короля не было достаточных военных сил, чтобы одерживать победы в Европе.
В стране еще не было регулярной армии, но королевский военно-морской флот уже становился грозной силой. Нельзя было больше полагаться только на торговые суда, призывавшиеся для охраны узких морских проходов во время войны. Отцом английского флота называли Генриха VIII, хотя Генрих VII, быть может, мог бы оспаривать это прозвище. Флот был подчинен самостоятельному административному управлению и организован как регулярная военная сила, оплачиваемая королем. На это мероприятие Генрих VIII израсходовал много королевских и монастырских богатств. Он не только строил королевские корабли, но соорудил военно-морские базы в Вулидже и Детфорде, где устье Темзы затрудняло неожиданное вторжение; он усовершенствовал морскую базу Портсмут и укрепил много гаваней.
Создание специального военного флота было самым важным делом, потому что военная тактика после двухтысячелетнего существования вступала в новую эру. Установка пушек на борту корабля изменила характер морской войны; вместо абордажа – простого сцепления корабля с кораблем (способ, применявшийся со времен древних египтян и греков до позднего средневековья) – важнейшим элементом атаки стало маневрирование плавучих батарей, которое впервые показало свое преимущество в сражении с Армадой. Благодаря преуспеванию в этой новой игре Англия смогла достигнуть морского могущества и сделаться империей, и военно-морская политика Генриха VIII явилась первым шагом на пути к этому.
Несмотря на целый ряд экономических затруднений, уровень жизни в начале и в середине Тюдоровского периода начал медленно повышаться. Когда при Елизавете благодаря заметному повышению уровня жизни широко распространилось мнение о процветании Англии, приходский священник Гаррисон в 1572 году отметил это улучшение домашнего уклада, начавшееся еще при жизни его отца во многих местах на юге страны, «не только среди знати и дворянства, но также и среди низшего слоя».
«Да, наши отцы и даже мы сами [пишет он] частенько лежали на соломенных циновках, покрытые только простыней, под одеялами из дерюги или мешковины (я употребляю их собственные выражения) и с хорошим круглым чурбаном вместо подушки под головой. Если случалось, что какой-либо из наших отцов или хозяин дома имел матрац или тюфяк, набитый шерстью, и к тому же мешок с мякиной, чтобы положить на него голову, то он уже считал себя благоустроенным, как городской [или деревенский] лорд, который сам-то, быть может, редко лежал на постели из пуха или из чистого пера. Считалось, что подушки нужны только для женщин, да и то лишь во время родов. Что касается слуг, то было уже хорошо, если они были покрыты простыней, потому что они редко даже спали на простыне, которая защитила бы их от колючих соломинок, торчавших из их подстилок и царапавших их загрубелую кожу».
Солома на полу и солома в постелях; в ней разводились блохи, и иногда именно они были распространителями чумы.
Гаррисон отмечает также, что камины сделались обычными даже в хижинах, тогда как «в деревне, где я нахожусь», старые люди вспоминали, что в «их молодые годы» и при двух королях Генрихах в нагорных городках [деревнях] «имелось не больше двух или трех каминов, а может быть, и того меньше, не считая церковных и господских домов их лордов»; обычно каждый разводил свой огонь в жаровне в комнате, где он обедал и разделывал тушу. Возросшее потребление угля вместо дров для домашнего очага делало более неприятным отсутствие дымоходов; при все увеличивающемся применении кирпичей постройка дымоходов облегчалась, даже если стены дома были из какого-нибудь другого строительного материала.
Обычные дома и хижины по-прежнему были деревянные или «полудеревянные», с глиной и щебнем между деревянными стойками и поперечными балками. Лучшие дома были каменные, особенно в районах, богатых камнем. Но постепенно в употребление входил кирпич, прежде всего в районах, где не было камня и где было недостаточно строевого леса вследствие обезлесения, главным образом в восточных графствах.
Гаррисон отмечает также происшедшую на его памяти замену «деревянных блюд оловянными и деревянных ложек – серебряными или оловянными». Век вилок еще не наступил; где нож и ложка не годились, даже королева Елизавета ловко подцепляла цыплячью косточку своими длинными пальцами. До ее царствования «едва ли можно было найти четы ре оловянных изделия в доме земледельца». Фарфор вообще еще не был известен.
Так примитивны были в раннем Тюдоровском период условия жизни. Такими или хуже они были на протяжении всех предыдущих веков. Но при Тюдорах дело шло к заметному улучшению, отмеченному приходским священнике времен Елизаветы. Изображая наше прошлое, особенно более отдаленные времена, никогда не следует забывать, что тогда не было комфорта и роскоши, которые сейчас мы принимаем как должное. И если все же они сделались общим достоянием, то лишь путем медленного процесса постепенных изменений; кое-какие из них, например развитие фермерства, вызывают у нас сомнения, потому что внекоторых аспектах они были несправедливостью по отношению к беднякам.
В царствование Генриха VIII завершилось длительное господство готической архитектуры, после того как она расцвела окончательно в великолепии витиеватых украшений зала в Христчерч, построенного Уолси в Оксфорде, и в веерообразном своде капеллы Кингс-колледжа в Кембридже, законченной при Генрихе VIII. Затем наступил новый век. Итальянские зодчие украсили новый квадратный портик Хэмптон Корт терракотовыми бюстами римских императоров – бюстами, которые по своему исполнению и по замыслу были всецело в стиле Ренессанса.
Период Тюдоров отнюдь не был веком, благоприятным для возведения церквей. Свинец и камень аббатских церквей забирались для возведения «дворянских жилищ», которые сооружались на их местах, или для ферм йоменов нового века. Теперь в господских домах повсюду строили просторные комнаты или увеличивали старые, делали хорошо освещенные галереи, широкие окна с переплетами и ниши вместо узких бойниц; все это должно было говорить о мире и комфорте Тюдоровской эпохи. Большой господский дом обычно имел теперь форму закрытого двора с входом через башенные ворота гигантских размеров; часто дома возводились из кирпича. В следующем поколении, при Елизавете, когда люди совершенно забыли о необходимости превращать свой дом в крепость, вошло в обычай устраивать открытый двор, окруженный только тремя стенами, или, иначе говоря, была принята Е-образная форма.
При каждом господском доме, хоть сколько-нибудь претендующем на зажиточность, имелся парк – заповедник для оленей, засаженный группами прекрасных деревьев различного возраста и обнесенный высокой деревянной изгородью. Иногда было два заповедника – для оленей разной масти. Заповедники уменьшали пахотную землю домена, а иногда – как не без оснований полагают – и общинные земли деревни. По утрам, когда назначалась охота, гомон гончих гнал круг за кругом красивого зверя по заповеднику, и джентльмены и леди манора со своими гостями спокойно следовали за ними верхом на лошадях. Но за оградой парка на просторе имелось множество оленей, на которых можно было охотиться более благородно, «на свободе», по всей округе. Большие стада красного оленя бродили по Пеннинам, по горам Чевиот и по северным вересковым зарослям. На юге более светлые олени бегали свободно по дубравам, лесам и болотистым местам, часто выходя на поля и нанося ущерб посевам. Одним из назначений изгородей было обеспечить защиту против этих ночных посещений, когда деревня спала.
Обычно охота на лисицу не считалась охотой; земледельцы большей частью могли свободно убивать рыжего вора любым подходящим способом. Джентльмены охотились на оленей, а простой народ, пешим или верхом, охотился на зайцев, за «бедным косым, там далеко на холме». По долинам всадники и борзые преследовали быстроногих дроф. Браконьерская охота на оленей была большим развлечением в жизни; оксфордские ученые открыто охотились в соседнем Рэдли-парке до тех пор, пока собственник, доведенный до отчаяния, не был вынужден снять изгородь. Что касается охоты за дичью, то сокол и лук и арбалет все еще не имели соперников, потому что «охотничье ружье» еще не употреблялось для охоты на дичь. Ловля всякого рода дичи и животных – силками, капканами и ветками, намазанными клеем, – все еще была принята не только для потребления, но и ради спорта.
Англичане уже славились и Европе своей любовью к лошадям и собакам, которых они разводили и держали к большом количестве и самых разнообразных пород. Но держать лошадь только для охоты все еще считалось обременительным делом. Изящной беговой лошади и гунтера восточных кровей в Англии еще не было; по-прежнему разводили джентльменскую верховую лошадь, на которой рыцарь в военных доспехах мог ехать полной рысью, но она не могла мчать охотника во весь опор. Постепенно рабочая лошадь начала разделять с волом его труд на пашне.
Это все еще был век турниров рыцарей, скачущих перед восторгающимися леди и критикующей толпой:
По гравию, со спущенным забралом, На взмыленном коне, с мечом, в кругу друзей – как это описывает Серрей, придворный поэт Генриха VIII. Он воспевает также другую забаву при дворе:
Веселый бал, и долгий разговор, И взгляды зависти, свирепей, чем у льва, Когда мы о правах своих вдруг заводили спор. Для тенниса площадки, где порой, Покинув бал, один из нас бродил И взор ловил здесь дамы молодой, Тот взор, что на балу всех за собой манил.Характер этого веселого двора создавался молодым, атлетически сложенным Генрихом VIII, одним из лучших стрелков в своем королевстве, который еще не превратился в ожиревшего, озлобленного тирана, – он был еще «зеркалом» моды и образцом тона. Поручив управление государством Уолси, которому он все еще доверял, Генрих растрачивал на забавы, пышные зрелища и маскарады государственную казну, скопленную его бережливым отцом. По словам поэта Тачстоуна, не быть принятым при дворе считалось быть отверженным. При дворе английские джентльмены обучались не только любовным интригам и политике, но и музыке и поэзии; они обретали интерес к науке и искусству; семена этой культуры они приносили с собой обратно в свои деревенские дома, чтобы посеять их там. Культура, искусство и ученость итальянских дворов эпохи Ренессанса имели большое влияние на придворных и на английскую знать со времени войн двух Роз и до начала царствования Елизаветы. Средневековая грань между ученым и невежественным воякой-бароном исчезала. Создавался идеальный тип законченного «джентльмена». Сочетание «зоркости придворного, речи ученого и силы военного» – идеал Елизаветы, впоследствии воплощенный в сэре Филиппе Сиднее.
Одежда знати
При дворе Гольбейн и его школа спешно писали портреты Генриха и его крупнейшей знати. Эта мода была перенесена в деревенские дома. Здесь фамильные портреты заняли место рядом с гобеленами, украшавшими стены. Некоторые из них были прекрасными произведениями придворных художников, но большая часть была творчеством доморощенных талантов. С раскрашенных полотен на потомство чопорно взирали белолицые рыцари и леди. Это было началом моды, приведшей к Гейнсборо и Рейнольдсу.
Музыка королевской капеллы, быть может, была лучшей во всей Европе. При английском дворе, начиная с самого короля, вошло в моду подбирать музыкальные мотивы и сочинять к ним стихи. Эпоха Тюдоров былаславным веком английской музыки и лирической поэзии – двух сестер, рожденных одновременно; исследование истоков их приведет ко двору молодого Генриха VIII. Но уже по всей стране люди распевали песенки, подбирали мотивы и писали стихи. Эта манера была создана свободным радостным духом Ренессанса; но в Англии это была деревенская жизнерадостность, сливавшаяся с пением лесных птиц и приводящая к апофеозу звуков шекспировской Англии.
При наступлении эпохи Тюдоров Восток все еще находился в ленном владении Венеции. Ценные товары из Индии, как и в прежние времена, привозились в Левант сухим путем на горбах верблюдов. Отсюда венецианские корабли вывозили специи в Англию. Возвращаясь обратно, нагруженные шерстью, они снабжали сырьем ткацкие станки на всем адриатическом побережье. Поэтому венецианский купец был хорошо знакомой фигурой на наших островах, В 1497 году один из них сообщил на родину об открытии Ньюфаундленда, сделанном его соотечественником Джоном Каботом через 5 лет после величайшего открытия Колумба.
«Наш соотечественник, венецианец, который отправился на корабле от Бристоля в поисках новых островов, вернулся обратно и рассказывает, что в 700 лье отсюда (от Бристоля) он открыл землю «Великого хана». Он проплыл вдоль берега 300 лье и причалил к нему; он не видал ни одного человеческого существа, но нашел несколько сваленных деревьев; из этого он предположил, что там были обитатели. Сейчас он в Бристоле со своей женой. Ему оказывают огромные почести; он одевается в шелка, и англичане бегают за ним как помешанные… Этот «открыватель» новых земель водрузил на своей вновь открытой земле большой крест с флагом Англии и другой, св. Марка, по той причине, что он венецианец; так что наш флаг заплыл очень далеко».
Но для будущего было знаменательно то, что флаг св. Марка заплыл так «далеко» не на венецианском корабле.
В течение двух последующих поколений это открытие, знаменующее конец венецианского могущества и начало могущества Англии, не имело никаких серьезных последствий; конечно, за исключением ловли трески у побережья Ньюфаундленда английскими, французскими и португальскими рыболовами [30]. В течение всего периода – в начале и в середине царствования Тюдоров – английская торговля, как и прежде, велась с европейским побережьем от берегов Балтийского моря и до границ Испании и Португалии; преимущественно Англия торговала с Голландией и больше всего с Антверпеном – центром тогдашних европейских коммерческих дел и финансовых операций. Экспорт сукна отечественного производства лондонской торговой компании «предприимчивых купцов» возрастал даже быстрее, чем в XV веке, за счет уменьшения экспорта сырой шерсти Королевской торговой компанией, и объем иностранной торговли Лондона продолжал возрастать: В царствование Генриха VII и Генриха VIII английские корабли стали торговать и в Средиземном море, доходя до Крита. В 1486 году в Пизе было учреждено английское консульство, где бывали и английские купцы, которые использовали в своих интересах вражду Флоренции с тогдашним монополистом Венецией. Но наши товары все еще попадали в Италию главным образом на итальянских судах.
Тем временем португальцы огибали мыс Доброй Надежды и открывали морской путь восточной торговле. Это было роковым ударом для Венеции. Англичане более медленно следовали за португальцами по их пути вдоль западного африканского побережья, явно не считаясь с их претензией монополизировать Африку. Уже в 1528 году Уильям Хокинс – родоначальник большой «династии» моряков – дружески торговал с неграми побережья Гвинеи, выменивая у них слоновую кость. Но его сын Джон – более знаменитый, чем отец, – сделал в царствование Елизаветы предметом торговли уже самих негров и тем самым почти расстроил законную торговлю с туземцами, которые стали смотреть на белого человека как на своего смертельного врага. В царствование Эдуарда VI и Марии западноафриканская торговля в своем настоящем виде еще только развивалась наряду с путешествиями на Канарские острова; английские товары доставлялись даже в Архангельск и в такие далекие пункты, как Москва; но до начала царствования Елизаветы за Атлантическим океаном, за исключением ловли ньюфаундлендской трески, англичанами ничего не делалось.
Хотя «вывоз сукна» все еще преимущественно шел по старым путям и на старые европейские рынки, он увеличивался за счет непрерывно возрастающего производства суконной мануфактуры в английских городах и в деревнях. После периода застоя в XV столетии суконная торговля снопа стала быстро возрастать. Результатом этого было «огораживание под пастбища». Иностранцы поражались невероятно большому числу овец в Англии еще до того, как такие огораживания стали вызывать очень много жалоб.
Переработка сырой шерсти в готовое сукно состояла из целого ряда процессов, из которых не все производились одними и теми же лицами и в одном и том же месте. Капиталист-предприниматель передавал сырье, полуобработанное и готовое сукно из одного места в другое, нанимая рабочих различных специальностей или скупая его у мастеров на различных стадиях производственных процессов.
Большая часть ткацких работ производилась на дому (домашняя система). Станок, который принадлежал хозяину дома и на котором он работал, стоял на чердаке или на кухне. Но валяльное мастерство возле западных проточных вод, несомненно, уже больше походило на фабричное; некоторые процессы ткачества частично производились, можно сказать, фабричным способом.
Объем внутренней торговли Англии во много раз превышал объем внешней торговли: Англия все еще импортировала только предметы роскоши для богачей. Население питалось, одевалось, обстраивалось и согревалось отечественной продукцией.
Реки, подобно современным железным дорогам, были важнейшими путями сообщения, особенно удобными для перевозки тяжелых грузов. Даже города внутри страны, такие, как Йорк, Глостер, Норидж, Оксфорд, Кембридж, являлись в большой мере речными портами.
Но для всего местного сообщения и для большей части перевозок массовых грузов тогда, так же как и теперь, пользовались грунтовыми дорогами. Дороги, отвратительные по сравнению с современными, безотносительно были не так уж плохи. В сухую погоду пользовались фургонами, и во всякую погоду – караванами вьючных лошадей.
Где это было возможно, торговые маршруты проходили по меловым и другим твердым породам почвы, из которых состоит большая часть поверхности Англии, в болотистых или глинистых местностях перевозки совершались по гатям; при отсутствии сколько-нибудь деятельной дорожной администрации некоторые из таких гатей устраивались купцами, которые в них нуждались. Леленд упоминает гать между Уэндовером и Эйлсбери: «Иначе дорога в сырую погоду по вязкой глинистой низине была бы труднопроходима». Но даже в отношении перевозок тяжелых грузов на далекие расстояния господствующее положение водных путей по сравнению с гужевыми не было повсеместным явлением. Например, Саутгемптон развился как порт, обслуживающий Лондон. Некоторые виды товаров перегружались регулярно в Саутгемптоне и отправлялись далее в столицу по гужевым дорогам, чтобы избавить суда от необходимости объезжать вокруг Кента.
Глава VI Англия времен Шекспира ( 15 64 – 1616 )
После экономических и религиозных волнений среднего периода эпохи Тюдоров наступил золотой век Англии. Золотые века не бывают сплошь из золота, и они никогда не долговечны. Но Шекспиру посчастливилось жить в самое лучшее время и в такой стране, где, не зная почти никаких помех и всесторонне поощряемые, могли развиваться высшие способности человека. Лес, поля и город – все они были тогда подлинным совершенством и были необходимы для создания совершенного поэта. Его соотечественники, еще не закабаленные машинами, были вольными творцами и созидателями. Их умы, освобожденные от средневековых оков, еще не были опутаны пуританским или каким-либо другим современным фанатизмом. Англичане эпохи Елизаветы были влюблены в самое жизнь, а не в какой-то теоретический призрак жизни. Широкие слои общества, освобожденные теперь от гнета нищеты, чувствовали подъем душевных сил и выражали его в остроумных изречениях, музыке и пении. Английский язык достиг полнейшей красоты и силы. Мир и порядок наконец воцарились во всей стране, даже во время морской войны с Испанией. Проводившаяся до тех пор политика страха и угнетения на несколько десятилетий стала более простой и сводилась к служению женщине, которая была для своих подданных символов их единства, процветания и свободы.
Ренессанс, задолго перед этим переживший снова весну на своей родине в Италии – где теперь жестокие морозы погубили его, – достиг наконец, хотя и с опозданием, своего торжествующего лета на этом северном острове. Во времена Эразма Ренессанс в Англии ограничивался кругом ученых с королевского двора. Во времена Шекспира он, в некоторых от [31]ношениях, дошел до народа. Библия и классическая культура древнего мира больше уже не оставались достоянием немногих ученых. Благодаря классическим школам классицизм проникал из кабинета ученого в театр и на улицу, из ученых фолиантов в народные баллады, которые знакомили самые простонародные аудитории с «Тиранией судьи Аппия», «Злоключениями царя Мидаса» и другими великими сказаниями греков и римлян. Древнееврейский и греко-римский образы жизни, воскрешенные из могил далекого прошлого волшебством науки, стали понятны англичанам, которые воспринимали их не как мертвый археологический материал, а как новые области воображения и духовной силы, которые свободно смогут найти свое преломление в современной жизни. В то время как Шекспир превращал «Жизнеописания» Плутарха в своего Юлия Цезаря и своего Антония, другие использовали Библию как основу для создания новых форм жизни и мышления религиозной Англии.
И в эти плодотворные годы царствования Елизаветы «узкие моря», в бурях которых английские моряки закалялись в течение столетий, расширились в беспредельные океаны мира; здесь на вновь открытых берегах отважная и предприимчивая молодежь искала в торговле и сражениях романтических приключений и добивалась богатств. Молодая жизнерадостная Англия, излечившаяся наконец от навязчивой идеи Плантагенетов завоевать Францию, осознала себя как островное государство, судьбой связанное с океаном, с радостью почувствовавшее после бури, которую несла ей Армада, свою безопасность и свободу, которую могли дать ей охраняемые моря; тогда еще бремя далеких земель империи не лежало на ее плечах.
Разумеется, была и оборотная сторона всего этого, как бывает во всякой картине человеческого благополучия иповедения. Жестокие нравы прошлых столетий не могли быть изжиты легко и быстро. Заокеанская деятельность англичан Елизаветинской эпохи не считалась с правами негров, которых они увозили в рабство, или с правами ирландцев, которых они грабили и убивали; даже некоторые из благороднейших англичан, такие, как Джон Хокинс на Золотом Береге и Эдмонд Спенсер в Ирландии, не отдавали себе отчета в том, посеву каких семян зла они способствовали. Да и в самой Англии женщине, преследуемой соседями, считавшими ее ведьмой; иезуитскому миссионеру, четвертуемому живым на эшафоте; унитарианцу, сжигаемому на костре, и пуританину-диссиденту, которого вешали или «заковывали в железные оковы в страшных и отвратительных тюрьмах», – всем им мало радости принесла эта великая эпоха. Но в елизаветинской Англии такие жертвы были не так многочисленны, как в других местах Европы. Мы избежали пучин бедствий, в которые были ввергнуты другие народы: испанской инквизиции, массовых мученичеств и убийств, которые обратили Нидерланды и Францию в место кровавой бойни, совершаемой во имя религии. Наблюдая все это через Ла-Манш, англичане радовались, что живут на острове и что мудрая Елизавета – их королева.
Как некогда исследователь старины Леленд объехал Англию Генриха VIII и записал свои наблюдения, так величайший из всех наших исследователей Уильям Кемден объездил счастливое королевство Елизаветы и увековечил его в своей книге «Британия». Незадолго до него священник Уильям Гаррисон и после него путешественник Файнс Морисон оставили нам картины английской жизни своего времени, которые можно с удовольствием сопоставить с еще более живыми и блестящими образами Шекспира.
По всей вероятности, численность населения Англии и Уэльса к концу царствования королевы превышала четыре миллиона, то есть равнялась одной десятой части ее современного населения. Более четырех пятых населения жило в сельской местности, но значительная часть его была занята в промышленности, поставляя деревне почти все необходимые ей промышленные товары или работая на более широкий рынок в качестве ткачей, горнорабочих, рабочих каменоломен. Большая часть населения обрабатывала землю или разводила овец.
Даже многие из городского населения, составлявшего меньшую часть населения страны, уделяли земледелию хотя бы часть своего времени. Провинциальный город средней величины имел до 5000 жителей. Города не были перенаселены, и в них было много красивых парков, фруктовых садов и хозяйственных построек, перемежающихся с рядами мастерских и лавок. Некоторые небольшие города и порты находились в состоянии упадка. Отступление моря, занесение илом русла рек, увеличение размеров кораблей, требующих более обширных гаваней, продолжающееся перемещение суконной и других мануфактур в деревни и хижины – все это было причинами упадка некоторых старых центров промышленности и торговли.
В целом население в городах все же возрастало. Йорк – столица севера; Норидж – крупный центр торговли сукном, ставший убежищем квалифицированных мастеров, бежавших из Нидерландов от герцога Альбы; Бристоль с его меркантильной системой и внутренней торговлей, совершенно независимый от Лондона, – эти три города были городами особой категории, с 20 тысячами жителей в каждом. Новые океанские условия морской торговли благоприятствовали развитию и других портовых городов на западе, вроде Бидефорда.
Но из всех их Лондон, все более и более сосредоточивавший в себе внутреннюю и внешнюю торговлю страны, росший за счет многих малых городов, был уже по своей величине чудом не только в Англии, но и в Европе. Когда умерла Мария Тюдор, в Лондоне было приблизительно 100 тысяч жителей, а когда умерла Елизавета, число жителей в нем достигало уже 200 тысяч. Еще более быстрым был рост населения в городских «вольных округах», за старыми стенами города; в центре Сити имелись небольшие открытые площади и дома с садами, дворами и конюшнями. Несмотря на периодические посещения чумы («черной смерти») и появление нового лихорадочного эпидемического заболевания – «потогонной болезни», Лондон Тюдоров был сравнительно здоровым и число смертей в нем было меньше числа рождений. Он еще не бы таким перенаселенным, каким сделался в начале XVIII столетия, когда его разросшееся население стало ютиться в трущобах, все более оторванное от деревни и более нездоровое, хот чума к этому времени уже исчезла, уступив место оспе и тифу.
Лондон во времена королевы Елизаветы по своим размерам, богатству и мощи был самым крупным центром королевства. Его влияние в социальном, культурном и политическом отношениях было велико и обеспечило успех протестантской революции в XVI столетии и парламентской революции в XVII столетии. Территория лондонского Сити была теперь твердыней чисто гражданского и торгового общества, которому в его границах не угрожало никакое соперничающее влияние. Крупные мужские и женские монастыри средневекового Лондона исчезли, миряне взяли верх и перестраивали свою религию в городских церквах и в собственных домах по протестантскому или какому-либо другому образцу, в соответствии со своими желаниями. Ни монархия, ни аристократия не имели никакого оплота в пределах Сити. Королевская власть расположилась вне Сити, в Уайтхолле и Вестминстере, с одной стороны, и в Тауэре – с другой. Высшая знать также оставила свои средневековые кварталы в Сити и перебралась в дома на Стрэнде или в Вестминстере, по соседству с двором и парламентом. Власть и привилегии мэра и горожан с их грозной милицией создали государство в государстве – чисто буржуазное общество внутри обширной Англии, которая все еще оставалась монархической и аристократической. Пример Лондона действовал на всю страну.
Проблема снабжения Лондона продовольствием во времена Тюдоров играла решающую роль в аграрной политике графств страны; влияние этой проблемы ощущалось – в разной степени – даже далеко за ее пределами. Продукты питания требовались в столицу в большом количестве для населения и лучшего качества для столов богачей. Кент с его огороженными полями, уже называвшийся «садом Англии», был специально лондонским фруктовым садом; он был «богат яблоками без счета, а также вишнями». Ячмень Восточной Англии, идущий через города, изготовляющие пиво, вроде Ройстона, удовлетворял ежедневную потребность лондонцев в питье; между тем Кент и Эссекс учились возделывать хмель для придания вкуса и запаха своему пиву. Наконец, пшеница и рожь, из которых в Лондоне пекли хлеб, выращивались во всех юго-восточных графствах.
Таким образом, большой рынок столицы способствовал изменению аграрных методов обработки, вынуждая области, более пригодные для какой-нибудь особой культуры злаков, специализироваться именно на ней. Как отметил топограф Норден, «близ Лондона иной тип земледельца, или, вернее, йомена, который трудится на пустырях джентльменов… и который, имея много корма для скота», продает жирный скот в Смитфилде, «где он сам запасается тощим скотом. Имеются также и такие, которые живут перевозкой продуктов для других и с этой целью держат повозки и фургоны и отвозят в Лондон молоко, муку и другие предметы, извлекая из этого хороший доход». В областях, так благоприятно расположенных, стимул для огораживания земли был силен.
Лондон времен последних Тюдоров и первых Стюартов
Кроме Лондона, были и другие рынки для сбыта земледельческой продукции. Немногие города (если вообще такие были) могли выращивать на «городских полях» все пищевые культуры, которые им требовались, и обойтись без закупок извне. И даже в деревне, если в одной сельской области был плохой урожай, можно было закупить через посредников излишек урожая в других областях, если только по всей Англии не было неурожая, когда (может быть, один раз в десятилетие) в большом количестве импортировались продукты из-за границы. В нормальные годы некоторая часть английского зерна экспортировалась. Хантингдоншир, Кембриджшир и другие области долины реки Уз отправляли большое количество пшеницы через Кингс-Линн и залив Уош в Шотландию, Норвегию и нидерландские города. В Бристоль и в западные города шли в большомколичестве продукты питания из житницы Центральной Англии, с открытых полей юго-восточного Уорикшира, из «Фелдона», лежащего между рекой Эйвон и хребтом Эджхилл. Но другая половина Уорикшира, лежащая на северо-запад от Эйвона, как отмечают Леленд и Кемден, была лесистая, с редко рассеянными пастушескими селениями; это был Арденский лес. Таким образом, извивающийся Эйвон, перекрытый знаменитым Стратфордским мостом с «четырнадцатью арочными каменными пролетами», отделял пустынный лес от населенных пахотных областей. Уроженец этого города, лежащего на берегу реки, мог еще в юношеские годы наблюдать во время прогулок прекрасную дикую природу на одном берегу реки и наиболее характерные типы людей – на другом.
До XVIII столетия с его высоко капитализированным фермерским хозяйством было невозможно вырастить столько пшеницы, чтобы прокормить все население страны. Овес, пшеница, рожь, ячмень– все произрастало в большей или меньшей мере в зависимости от почвы и климата. Овес преобладал на севере; пшеницу и рожь сеяли во многих частях Англии, за исключением юго-запада, где ржи было мало. Повсюду изобиловал ячмень, и большая часть его шла на изготовление пива. На западе, богатом яблоневыми садами, пили сидр, а из груш Вустершира приготовляли грушевку, которую Кемден осуждал как «поддельное вино, холодное и в то же время вызывающее брожение в желудке». Во всех частях Англии деревня выращивала различные злаки для собственного потребления, и ее хлеб часто был смесью различных видов зерна. Фаине Морисон, хорошо знакомый с главными странами Европы, писал вскоре после смерти Елизаветы:
«Английские земледельцы едят черный ячменный и ржаной хлеб и предпочитают его белому хлебу, как остающийся дольше в желудке и не так скоро переваривающийся при их работе; но горожане и дворяне едят больше чистый белый хлеб; в Англии произрастают в изобилии все виды зерновых. Англичане имеют в изобилии молочные продукты, все сорта мяса, птицы и рыбы и всякой хорошей снеди. Англичане едят много оленьего мяса: они убивают самцов – летом и самок – зимой; из их мяса они делают паштет, и этот паштет является лакомством, редко встречающимся в каком-либо другом королевстве. Да в одном графстве Англии я, пожалуй, видел больше оленей, чем во всей Европе. Ни в одном королевстве мира нет такого количества голубятен. Точно так же соленая свинина является особым кушанием англичан, неизвестным другим народам. Английская кухня больше всего славится у других народов разными способами приготовления жареного мяса».
Этот много странствовавший путешественник хвалит затем нашу баранину и говядину как лучшие в Европе и нашу ветчину как лучшую, за исключением вестфальской: «Английские жители [продолжает он] едят кур почти так же часто, как мясо, а гусей они едят в два сезона: когда они откармливаются на ниве после уборки урожая и когда они подрастают к празднику Троицы. И хотя считается, что зайцы вызывают меланхолию, все же их едят так же, как оленину, в жареном и вареном виде. У них также очень много кроликов, мясо которых жирное, нежное и более приятное, чем то, которое я ел в других странах. Германские кролики более похожи на жареных кошек, чем на английских кроликов».
Мясо и хлеб были главной пищей. Овощей ели мало, и только с мясом; из капусты делали похлебку. Картофель только, что появился на некоторых огородах, но его еще не выращивали, подобно злакам, на полях. Пудинг и компоты из фруктов еще не занимали столь значительного места в питании англичан, как в более поздние столетия, хотя сахар уже получали в умеренных количествах из средиземноморских стран. Обед – главная трапеза – обычно был в 11 или 12 часов, а ужин – примерно через 5 часов после обеда.
Поскольку английская деревня как в западных областях старого огораживания, так и в районах «сплошных» открытых полей все еще сама производила свои продукты питания, то основой английской жизни было натуральное сельское хозяйство. Но, как мы уже видели, сама обеспечивающая себя деревня производила шерсть и предметы питания также и для некоторых специальных внутренних и заграничных рынков. «Промышленные культуры» начинали также широко входить в употребление: лен рос в некоторых частях Линкольншира; поля вайды и марены и обширные поля шафрана в Эссексе снабжали красильщиков сукна, прежде зависевших от заграничного импорта.
Такая специализация для удовлетворения рынка требовала огораживания и индивидуальных методов земледельческой обработки. Новые распашки лесных, болотистых местностей и пустырей теперь всегда обносились изгородью и обрабатывались индивидуально. Площадь открытых полей и общинных пастбищ не увеличивалась, в то время как общая площадь обрабатываемых земель возрастала. Хотя площадь запустелых открытых полей уменьшилась лишь незначительно, но относительно она составляла в королевстве гораздо меньшую часть сельскохозяйственных земель по сравнению с ее прежним удельным весом.
Именно области низин с глинистой почвой производили излишек зерна для внутреннего и заграничного рынков. Овцы, руно которых скупалось у торговцев шерстью и слуг жило сырьем для суконной промышленности, паслись на тощих гористых пастбищах, чередующихся на нашем острове с глинистыми долинами. Меловые холмы и нагорные равнины – Чилтерн, Дорсетские высоты, остров Уайт, Котсуолд, горные хребты Линкольна и Норфолка и обширные вересковые заросли севера – всегда обеспечивали страну лучшей шерстью. Иностранные и отечественные путешественники по тюдоровской Англии поражались стадам, пасшимся на таких холмах; каждое стадо было столь крупным и их было так много, как ни в одной другой стране Европы. В менее плодородных частях Англии овцы часто были очень истощенными и чуть ли не умирали с голоду, но шерсть их считалась самой ценной во всем мире благодаря определенным качествам, зависящим каким-то образом от той почвы, на которой овцы паслись.
Возросший спрос на овец и на крупный рогатый скот во времена Тюдоров являлся, как мы видели, причиной некоторых в высшей степени непопулярных огораживаний пахотных глинистых земель для использования их в качестве пастбищ. Овцы в долинах были жирнее, но их шерсть была менее добротной, чем у тощих овец на гористых землях. Тем не менее новые низменные пастбища имели свою ценность: хотя шерсть пасущихся на них овец была менее тонкой, спрос на грубую шерсть также возрастал, а возросшее количество баранины и говядины полностью потреблялось этим счастливым и гостеприимным поколением, плотоядность которого удивляла иностранцев, привыкших более к мучной пище. В царствование Елизаветы центральные области по-прежнему дополняли растительную пищу мясной посредством разведения овец и рогатого скота. Регби «изобиловал бойнями», Лестершир и Нортгемптоншир славились своими ярмарками рогатого скота. Благодаря огромному количеству рогатого скота в стране кожевенная промышленность была полностью обеспечена сырьем: южные англичане носили обувь на коже и презирали деревянные башмаки, которые носили иностранцы, хотя на севере, где население было более бережливым, многие носили деревянные башмаки, а шотландские парни и девушки ходили босыми.
Разведение лошадей не отставало от все возрастающего спроса на них. Все чаще стали запрягать лошадь вместо вола в повозку и в плуг, и рост общего благосостояния страны повышал спрос на верховых лошадей, как мы в хорошие годы предъявляем больший спрос на автомашины. Во многих частях Йоркшира и на торфяных болотах беспокойном шотландской границы разведение лошадей и рогатого скота было важнее, чем овцеводство, которое стало преобладающим здесь лишь позднее, в более спокойные времена. Не овец, а рогатый скот угоняли пограничные разбойники во время своих полуночных набегов.
Хотя овцы и рогатый скот разводились теперь в Англии в большом количестве, но по нашим современным нормам они были малы и тощи, пока их порода не улучшилась в XVIII столетии. Дело в том, что тогда еще не были найдены правильные способы их кормления в зимнее время. Система открытых полей, все еще преобладавшая в одной половине страны, не обеспечивала сельское хозяйство ни помещениями для скота, ни подножным кормом.
Один район Англии – обширная болотистая область, тянувшаясяот Линкольна до Кембриджа и от Кингс-Линна до Питерборо, – все еще представлял собой обособленный мир. Уже в последние годы царствования Елизаветы были проекты, обсуждавшиеся в парламенте, об осушении болотистой местности Фен, подобно тому, как голландцы осушили свою Голландию и превратили свои покрытые водой и тростником пустыри в богатые пашни и пастбища. Но большой проект осуществился позднее, когда появились капиталы для таких предприятий, что произошло во времена Стюартов – в южной половине болот, и во времена Ганноверов – на севере. Между тем обитатели этой местности продолжали селиться возле болотистых берегов и на бесчисленных островах, покрытых тиной и илом, ведя жизнь амфибий и приспособляя свои традиционные занятия к сменяющимся сезонам года.
«Верхняя, северная часть Кембриджшира [пишет Кемден] вся состоит из речных островков, которые в продолжение всего лета имеют восхитительный зеленый вид, а зимой почти все затапливаются водой, и все пространство вокруг, насколько хватает глаз, некоторым образом напоминает собой море. Жители этого края, а также всей остальной части болотистой местности представляют собой особый тип людей (весьма гармонировавший с природой этого края) с грубыми, некультурными нравами, враждебных ко всем другим, которых они называют «горными людьми»; обычно они ходят на особых ходулях и все занимаются скотоводством, рыболовством и охотой. Вся эта местность в зимнее время, а иногда и большую часть всего года лежит под водой рек Уз, Грент (Кем), Нэн, Уэленд, Глин, Уитем, так что становится недоступной из-за отсутствия удобных проходов. Там, где жители поддерживают в порядке свои каналы, страна изобилует богатыми пастбищами и сеном, которое они скашивают в достаточном количестве для собственных нужд, а пожнивные остатки травы сжигают в ноябре, чтобы получить еще более густую траву. В это время года можно увидать изумительную картину, когда вся болотистая страна охвачена ярким пламенем. Кроме того, эти места дают большое количество торфа и осоки для топлива и большое количество тростника, используемого в качестве кровельного материала. Бузина, а также другие водяные кустарники, в особенности ива, растут или в диком состоянии, или посажены по берегам рек для укрепления берегов в целях защиты от разлива; эти кусты часто обрезают, но они опять разрастаются с многочисленными побегами. Из них здесь делают корзины».
Охота на дичь для рынка была весьма развитым промыслом жителей заболоченной области. Дикие утки и гуси попадались сразу сотнями, их загоняли или приманивали в длинные сети – западни. Рента во многих случаях выплачивалась определенным количеством угрей, которые насчитывались тысячами.
Может быть, можно усомниться, что жители болотистой области имели такие «грубые и некультурные нравы», как об этом говорили Кемдену «горные люди». Во всяком случае, только на том основании, что люди в Фенах ездили на лодках, занимаясь рыболовством, охотой на дичь и срезанием тростника, было бы ошибочно предполагать, как делали многие авторы, что эти люди были более «непослушны» закону, чем земледельцы, развозившие свое зерно по сухой земле. Недавние исследования показали, что в Фенах в течение всего средневековья, начиная от времени «Книги Страшного суда» и позднее, прекрасно соблюдались все законы и обычаи манориальной системы; что рента и натуральные повинности регулярно уплачивались крупным монастырям, а после их упразднения – их преемникам; что самые сложные законы и правила о разделе собственности и рыболовных правах строго соблюдались жителями болотистых местностей; что наиболее хорошо разработанная система дамб и насыпей и «водостоков» поддерживалась искусным упорным трудом, в противном случае большие водные пути сделались бы несудоходными и Линкольн, Линн, Бостон, Уисбич, Кембридж, Сент-Айвс, – Питерборо и более мелкие города этой области потеряли бы большую часть своей торговли и средств связи. «Почти каждая река и ее берега в заболоченной области, – пишет профессор Дерби, – имели кого-нибудь, кто нес ответственность за них». Короче говоря, эта область до ее мелиорации путем крупных дренажных работ во времена Стюартов и Ганноверов была действительно земноводным районом, но со своеобразной высокоспециализированной экономической системой хозяйства.
На фоне этой дикой природы в течение столетий, подобно ковчегу над водами, возвышался собор на острове Или; издалека были видны две его башни и длинные блестящие крыши. Возле него находился дворец, где епископ содержал свой двор. Епископ еще пользовался остатками власти, которой обладали его средневековые предшественники в так называемом «пфальцграфстве» острова Или. Но фактически Реформация ослабила независимость и власть духовенства. Теперь государство держало церковь под своим контролем, иногда с надменным пренебрежением к ее духовным интересам. Королева Елизавета заставила епископа Кокса передать его усадьбу Или-Плейс в Холборне (Лондон) с ее знаменитыми фруктовыми садами ее фавориту Кристоферу Хэттону. А когда Кокс умер, она в интересах короны сохраняла епископский престол вакантным в течение 18 лет. Но все же в те времена, когда на острове Или был епископ, он являлся главным правителем заболоченной области до тех пор, пока сначала Оливер Кромвель, а затем герцоги Бедфордские, осушавшие болота, не приобрели в этом районе большего влияния, чем епископ.
Кроме заболоченной низменности Фены, еще две области Англии – Уэльс и Северная Пограничная область – отличались своей экономической и социальной структурой отостальной Англии эпохи Елизаветы. Но обе эти области постепенно воспринимали общий для всей страны образ жизни, причем Уэльс за последнее время быстрее двинулся вперед по пути, ведущему к современной жизни.
В течение всего средневековья Уэльс был центром военных и социальных конфликтов между жившими на гребнях холмов дикими валлийцами, заботливо сохранявшими свой древний родовой образ жизни, и лордами Пограничных областей – яркими представителями английского феодализма, жившими в замках, расположенных вдоль долин. Во время войн Роз лорды Пограничных областей устремились на восток страны, пытаясь сыграть ведущую роль в династических спорах, разгоревшихся в это время в Англии, которые, к счастью, завершились тем, что была уничтожена независимая власть этих лордов. К концу XV столетия их главные замки и поместья перешли в королевские руки.
Это обстоятельство создало благоприятную возможность для союза Уэльса с Англией под эгидой королевской власти при условии, что он будет установлен без обид и оскорблений национального чувства и традиций валлийцев, не забывших, как жестоко были попраны политикой Тюдоров чувства ирландцев. К счастью, в Уэльсе сложились более благоприятные обстоятельства. Не было религиозной розни, отделявшей старых обитателей Уэльса от англичан, и поэтому не было стремления «колонизовать» суверенный Уэльс путем грабежа земель туземцев. По благоприятному стечению обстоятельств победа при Босуорт-Филде возвела на трон Англии династию валлийцев, сделав тем самым верность Тюдорам национальной гордостью всех валлийцев.
При этих счастливых возможностях Генрих VIII завершил законодательное, парламентское и административное объединение двух стран. На суверенный Уэльс были распространены английская система графств, положение о мировых судьях и кодекс английских законов; руководящая часть дворянства Уэльса была польщена тем, что получила возможность посылать своих графов в парламент в Вестминстер. Совет Уэльса – орган монархической власти, аналогичный Звездной палате и Северному совету, – успешно поддерживал порядок в течение длительного периода перехода от старого к новому. Феодальные отношения в долинах исчезли вместе с исчезновением института лордов Пограничных областей, и племенной строй в гористых местностях теперь также исчез без каких-либо насильственных конфликтов, какими ознаменовался через два столетия его конец в шотландской Горной области. В царствование Елизаветы Уэльс находился в процессе его превращения в часть Англии. Структура государственного управления и в значительной степени форма общественных отношений были уже перестроены по английскому образцу. Но Уэльс сохранил свой родной язык, свою поэзию и музыку, он сохранил также свои духовные традиции.
Валлийское дворянство – смесь прежних племенных вождей, прежних лордов Пограничных областей и «новых людей», типа,так хорошо известного в эту эпоху, – было очень довольно правлением Тюдоров, которое давало их классу в Уэльсе те же преимущества, что и в Англии. Некоторые из нихуже накопили большие поместья в силу недавно введенных английских земельных законов, и в последующие годы эти владения разрослись до огромных размеров. Но в царствование Елизаветы и несколько позднее имелся также и многочисленный класс валлийского дворянства – людей с меньшим достатком и меньшими притязаниями. Генерал-майор Берри рапортовал Оливеру Кромвелю из Уэльса: «Вы можете скорее найти 50 джентльменов со 100 фунтами дохода в год, чем 5 джентльменов с 500 фунтами дохода». Многие из них, как и соответствующий класс мелких сквайров в Англии, процветали во времена Тюдоров и ранних Стюартов и совсем исчезли в течение XVIII столетия, и Уэльс превратился в страну крупных поместий.
Основную часть валлийского населения составляли не землевладельцы, а мелкие держатели-земледельцы. Крупные хозяйства коммерческого типа не получили в Уэльсе такого широкого распространения, как в Англии. Но, с другой стороны, земельные участки не делились и не дробились так чрезмерно, как у несчастного крестьянства Ирландии. Здоровая основа современного общества Уэльса покоилась на небольших фермерских держаниях крестьянского и семейного типа, которые были малы, но не слишком, и вполне достаточны для того, чтобы поддерживать у фермеров чувство собственного достоинства. Их отношение к землевладельцам, которые брали на себя заботу о повышении плодородности почвы и о ремонте, было похоже скорее на отношения в системе английского сельского хозяйства, чем на менее счастливые отношения обедневших держателей к эксплуатирующим их землевладельцам в Ирландии или горной Шотландии.
Уничтожение монастырей в Уэльсе было произведено такими же путями и вызвало те же социальные последствия, что и в Англии. Здесь не было восстания против этой меры, подобно Северному восстанию, так называемому «Благодатному паломничеству». Высший класс Уэльса считал Реформацию выгодной для себя, а крестьянство по своему невежеству приняло ее равнодушно. Если они не понимали «Книги Общих молитв» и Библии на чуждом им английском языке, то они также не понимали и латинской мессы. Поэтому религия их не затрагивала. В начале царствования Елизаветы валлийское крестьянство находилось в состоянии духовной косности и пренебрегало образованием, однако это, разумеется, совмещалось со всем хорошим, что было в деревенской жизни, и со старыми традициями, которые вскоре были нарушены некоторым посторонним влиянием. Что это было за влияние? Миссионеры-иезуиты, которые могли бы поднять здесь девственную целину, предоставили Уэльс самому себе. Наконец в последние десятилетия царствования Елизаветы государственная церковь начала исполнять свои обязанности и опубликовала перевод Библии и «Книги Общих молитв» на валлийский (кимрский) язык. Этим были заложены основы для народного валлийского протестантства и для великих просветительных и религиозных движений XVIII столетия.
В период династии Тюдоров жизнь в северной части Англии (к северу от Трента) имела свои характерные особенности. Постоянные волнения в Пограничных шотландских областях; нищета целого края, исключая долины с суконной промышленностью, и каменноугольные округа; большое влияние старых феодальных верноподданнических чувств и притязаний; большая популярность монастырей и старой религии – все это отличало ее от жизни населения других частей Англии в царствование Генриха VIII и, в меньшей степени, в царствование Елизаветы.
В ранние годы царствования Генриха VIII в Пограничных областях все еще правили воинственные роды, в особенности Перси и Невилли, которых возглавляли графы Нортамберленда и Уэстморленда. У вооруженных земледельцев этих пастушеских графств воинственный дух личной независимости соединялся с верностью наследственным вождям, которые руководили ими не только в войнах против случайных набегов шотландцев и частых угонов скота, но иногда и против самого правительства Тюдоров. Мятеж северян («Благодатное паломничество») в 1536 годубыл предпринят в защиту монастырей, а также в защиту квази-феодальной власти аристократических семейств Пограничных областей против захватнического натиска новой монархии. При подавлении этого мятежа Генрих воспользовался благоприятным случаем сокрушить феодализм и расширить королевскую власть, управляя Йоркширом и пограничными графствами через королевских наместников в Пограничных областях, то есть через лиц, власть которых основывалась на полномочиях, предоставленных им королем, а не на их наследственных правах. Большая часть установленных Генрихом порядков сохранилась, особенно в Йоркшире. Но Нортамберленд и Камберленд редко бывали действительно спокойны. Политика Генриха VIII и Эдуарда VI была безрассудно враждебной по отношению кШотландии, и случайные войны и постоянные столкновения между этими двумя народами поддерживали беспокойное состояние в пограничных графствах. В царствование Марии воскресло влияние римско-католической церкви и вместе с ним восстановилась власть фамилии Перси, которая была ранее сломлена Генрихом VIII.
Таким образом, к моменту восшествия на трон Елизаветы на севере страны еще не закончилась борьба между старой и новой религией, между королевской властью и властью феодалов. Таково было положение вещей в наиболее культурных частях Пограничных областей, в приморских равнинах Нортамберленда на востоке и в Камберленде на западе. Между ними лежала – Средняя Пограничная область, болота и холмы Чевиота, где в районе Ридсдейла и Порт-Тайна сохранились пережитки мало упорядоченного законом общества, организация которого была еще примитивной. В этих разбойничьих долинах, отрезанных от окружающих более культурных стран бездорожными областями, покрытыми полевицей, вереском и мхом, обитали кланы, обращавшие мало внимания на королевские грамоты и даже на феодальную власть Перси, Невиллей и Дакров. И действительно, единственной приверженностью воинов этих диких областей была их лояльность по отношению к их собственным кланам. Семейные чувства сильнее, чем что-либо другое, побуждали их защищать преступников и пренебрегать законом. Похищенная собственность в разбойничьих долинах не могла быть найдена и возвращена, потому что каждый совершивший набег был под бдительной защитой своего мстительного воинственного племени. Небольшие семьи прибегали к покровительству Чарлтонов, которые отвечали за Норт-Тайн. Вожди кланов – Холлы, Риды, Хедлейсы, Флетчеры из Ридсдейла, Чарлтоны, Додды, Робсоны и Мельбурны из Норт-Тайндейла – были реальными политическими силами в этом обществе,которое не знало никакой другой организации. Сбор налогов королевская власть поручала вождям клана.
Королевские уполномоченные в отчетах 1542 и 1550 годов о положении Пограничных областей подсчитали, что в этих двух «непослушных» долинах имелось 1500 вооруженных и боеспособных людей. Бесплодная земля не могла обеспечить достаточно питания их семьям, и они, подобно шотландским горцам, добывали дополнительное пропитание набегами на стада рогатого скота своих богатых соседей в приморских долинах на востоке и на западе. Они были в тесном союзе с разбойниками шотландского Лидцедейла, где был такой же общественный строй. Разбойники обеих стран, в случаях когда ограбленные ими устраивали опасный «скандал», могли перейти границу и спокойно оставаться там до тех пор, пока не минует опасность. Обычно ни один английский чиновник не осмеливался преследовать разбойников даже в Норт-Тайне или Риде, и еще меньше в Лиддедейле. Разбойничьи крепости, построенные из дубовых бревен, покрытых дерном для защиты от огня, были скрыты в неприступных диких местах, среди предательских болот, заросших мхом, через которые не мог пробраться ни один чужак. Уполномоченные Генриха VIII не рискнули предложить своему владыке принять на себя расходы по завоеванию и занятию Норт-Тайна и Рида; они предлагали только лучшую систему охраны и защиты от набегов и более крупные отряды воинов, укрывающихся в замках Харботля и Чипчейза (на окраинах областей, где закон был бессилен), чтобы отражать постоянные набеги на долины.
Таково было общество, во многом сходное между собой, по обеим сторонам Пограничных областей, создавшее народную поэзию Пограничных баллад, передаваемых устно из поколения в поколение. Многие стансы приняли форму, известную нам со времен Елизаветы и шотландской королевы Марии. В этих балладах» почти всегда трагических, описывались случаи жизни и смерти, ставшие в этих областях повседневным явлением. Грубые творения мрачного севера, они коренным образом отличались от песен и поэзии более мягкой Англии времен Шекспира. В песнях и балладах Южной Англии влюбленных всегда ожидала прекрасная судьба – «жить счастливо навеки». Но принятие на себя роли влюбленного в Пограничной балладе было безрассудным предприятием. Ни отец, ни мать, ни брат, ни соперник не проявят жалости, пока не будет уже слишком поздно. Подобно гомеровским грекам, жители Пограничных областей были варварски жестокими людьми, убивавшими друг друга, как дикие звери, но безупречными, когда дело касалось чувства гордости, чести и суровой верности долгу; они были природными поэтами-самородками (каких более уже нет), способными выражать в сильных словах неумолимую судьбумужчин и женщин и вызвать сожаление по поводу жестокостей, которые они тем не менее сами постоянно причиняли друг другу.
В царствование Елизаветы политические отношения с Шотландией значительно и непрерывно улучшались, потому что у властей обеих стран был теперь общий интерес – защита Реформации от ее врагов внутри страны и за границей. Пограничные войны между Шотландией и Англией прекратились, и угон скота в пограничной полосе стал, по крайней мере, более редким явлением. Но английские разбойники из Ридсдейла и Норт-Тайна продолжали набеги на деревни своих более культурных соотечественников. В середине царствования Елизаветы Кемден, изучая древности, не смог посетить Хаузстедс у Римской стены «из страха перед пограничными шотландскими разбойниками», которые силой заняли эту область. И Грэхемы из Незерби-клана постоянно опустошали земли своих камберлендских соседей. Обложение данью и похищение мужчин и женщин из их домов с целью вымогательства выкупа за них были обычными явлениями в те времена, вплоть до конца царствования Елизаветы.
Но хотя разбой продолжался, феодальная власть Перси, Невиллей и Дакров была совершенно уничтожена после подавления их восстания в 1570 году. После этого решающего события в Нортамберленде и Камберленде правила знать, лояльная по отношению к правительству.
В начале царствования Елизаветы в приходских церквах на расстоянии 30 миль от границы служили еще обедню под покровительством католической аристократии и дворянства. Но протестантизм делал успехи среди народа с помощью таких миссионеров, как Бернар Гильпин, «апостол севера». Чем сильнее становилась королевская власть, тем ревностнее епископы Карлайла работали над постепенным введением церковного униформизма. Но воинственные землепашцы этих «наезднических» областей не принадлежали к числу людей, которых можно было принудить силой или легко склонить к религии или к чему-нибудь другому. Таким образом, перемены совершались медленно.
До конца царствования Елизаветы многие земледельцы Камберленда и Нортамберленда несли за право пользования земельными участками военную службу по охране границы по призыву королевских наместников Пограничных областей; эти лихие наездники севера – на службе ли у правительства или у разбойничьих кланов – носили кожаные куртки и стальные шлемы, были вооружены пиками и луком или пистолетами и ездили на крепконогих лошадях местной породы, которые хорошо знали дорогу через мшистые болота.
После объединения Англии и Шотландии под властью Якова I (1603) стало возможным сотрудничество между двумя властями по ту и другую сторону границы, что позволило наконец подавить разбойников и водворить королевский мир в самом центре разбойничьих долин. «Вилл Говард из Ноуорта», хотя и католический нонконформист, верно служил королю Якову в качестве его наместника в Западной Пограничной области. Он с собаками-ищейками охотился за Грэхемами и другими разбойничьими кланами, преследуя их вплоть до их логовищ. Норт-Тайн и Ридсдейл были постепенно подчинены закону. В первые годы XVII столетия дворяне из Нортамберленда впервые стали строить вместо прежних четырехугольных башен и замков господские дома, как жилища, обеспечивающие им безопасность.
Странно то, что варварская архаическая жизнь Пограничных областей, какой она все еще была во времена королевы Елизаветы, тесно переплеталась с жизнью наиболее передовых областей каменноугольной промышленности, развивающейся в нижнем течении Тайна и в Восточном Дареме.
Добыча угля на поверхности началась еще до римского завоевания; но теперь разработка шахт стала глубже, и труд рабочих на них начал приближаться к работе шахтера наших дней. Ньюкасл – центр крупного предприятия по перевозкам лондонского «морского угля» – являлся единственным своеобразным пунктом соприкосновения феодального мира Перси, с его племенным бытом разбойников, и угольной торговли, в основном мало отличающейся от современной.
Повсюду к югу от все еще неспокойных Пограничных областей с их мрачными каменными замками и четырехугольными башнями Англия в царствование Елизаветы становилась преимущественно страной манориальных особняков, поразительно отличавшихся друг от друга размерами, материалом и архитектурным стилем и свидетельствующих о мире и экономическом преуспевании своего времени; своим восхитительным расположением и красотой они как бы говорили о торжестве человеческой жизни на земле. Богатство и сила, а с ними и руководящая роль в архитектуре перешли от князей церкви к дворянству. Великая эпоха церковного строительства, господствовавшего в течение стольких столетий, окончилась. Новая религия была скорее религией Библии, проповеди и псалмов, чем религией священного храма; к тому времени в стране было уже достаточно прекрасных церквей для удовлетворения религиозных потребностей протестантской Англии.
Елизаветинская архитектура сочетала в себе строгие черты готики и классицизма, другими словами – элементы старой английской и итальянской архитектуры. В первые годы царствования Елизаветы более обычной была асимметричная и причудливая готика, в особенности при перестройке старых укрепленных господских домов в более мирные роскошные жилища, такие, какПенсхорст и Хеддон Холл. Но бок о бок с ними в царствование Елизаветы все более и более входила в обычай строгая планировка частных дворцов в итальянском или классическом стиле, подобно Лонг-литу, Одлей-Энду, лестерским сооружениям в Кенилуорте и Монтекьюту с его великолепием тусклого золота – типичному деревенскому дворянскому дому в отдаленном округе Сомерсета, построенному из местного камня, – одному из самых красивых и величественных зданий в мире.
В сельских домах нового стиля, подобных Одлей-Энду, и в общественных зданиях, подобных Грешэмской королевской бирже, витиеватый орнамент Ренессанса украшал каменную резьбу фасада здания и деревянную отделку его интерьеров. Прекрасный и чистый образец этого стиля представляют собой Врата почета в Каюс-колледже в Кембридже (1575), а его более поздний образец можно найти поблизости в виде крыши и перегородки внутри Тринити-холла (1604-1605). Часто проектирование и отделка домов эпохи Елизаветы производились немецкими мастерами, специально привлеченными для этой цели. Но так как их художественный вкус и традиции были не из лучших, то, к счастью, эти работы поручались также и более компетентным отечественным строителям и архитекторам.
Наряду с величественными дворцами в сельских местностях было бесчисленное количество господских домов меньшего размера, самых разнообразных по стилю и по материалу – одни из камня, другие черно-белые, наполовину из дерева, как Моретон Олд-холл в Чешире, а некоторые из красного кирпича – в местностях, не изобилующих ни камнем, ни деревом [32]. Хотя окна были не из цельных зеркальных стекол, а с частыми переплетами, они занимали значительно большую площадь, чем прежде, и впускали потоки света в прелестные комнаты и в длинные елизаветинские галереи. В такие переплеты стали вставлять гладкие, прозрачные стекла; во времена первых Тюдоров они часто заполнялись «ивовыми прутьями или дубовыми решетками, сплетенными наподобие шахматной доски», как нам рассказывает Гаррисон, «но теперь ценится только самое прозрачное стекло».
В прежние времена лучшее стекло привозилось из-за границы, но в начале царствования Елизаветы производство его в Англии было усовершенствовано при помощи иностранных рабочих из Нормандии и Лотарингии. Заводы в Уидце, Гемпшире, Стаффордшире и в Лондоне изготовляли уже не только оконное стекло, но и бутыли и бокалы – в подражание модным венецианским изделиям, привозимым из Мурано и доступным только богачам.
Фасад дома Елизаветинской эпохи
В парадных комнатах белоснежные потолки были отделаны самыми фантастическими узорами, а их лепные украшения иногда оттенялись цветной краской или позолотой. Стены были утеплены и украшены «аррасскими коврами или разрисованными тканями, на которых изображались или разные истории, или растения, звери, птицы и тому подобные предметы», или же они были обшиты панелями «из отечественного дуба или панелями, вывезенными из восточных стран» (Гаррисон), то есть из прибалтийских стран. Картин в рамах, за исключением фамильных портретов, было мало даже в домах джентльменов, но в наиболее роскошных больших домах встречались картины в венецианском стиле.
Дома низших классов населения в городах и деревнях меньше изменились, чем дома дворян (джентльменов). Это все еще были старомодные, крытые камышом деревянные хижины с остроконечной крышей; пространство между стойками и поперечными балками заполнялось глиной, землей, щебнем.
«Этот грубый способ строительства [пишет Гаррисон] удивлял испанцев во времена королевы Марии, особенно когда они видели, как много кушаний подавалось во многих из этих столь убогих домов. Их удивление было так велико, что один из них, человек небезызвестный, сказал по этому поводу: «Эти англичане [цитирует он] строят свои жилища из палок и грязи, но обычно едят так же хорошо, как и король».
Великим произведениям елизаветинской Англии в области поэзии, музыки и драмы не были равноценны произведения в области живописи, хотя было создано много удачных портретов королевы и ее придворных, написанных наполотне. Николас Хилиард, уроженец Эксетера, создал школу английской миниатюры. Этот прекрасный вид тонкого искусства имел большой спрос не только среди придворных, тщеславно соперничающих друг с другом из-за «маленькой картинки» с изображением королевы за «сорок, пятьдесят и сто дукатов за штуку», но и среди всех, кто хотел увековечить свое семейство или своих друзей. Миниатюрная живопись в Англии, уже тогда находившаяся на высоком уровне, неуклонно развивалась вплоть до времен Косвея (жившего в конце царствования Георга III) и фактически была погублена только фотографией, так же как многие другие виды искусства были погублены наукой.
Роскошь и причудливость мужских костюмов была постоянной темой для сатиры. «Моды гордой Италии» и Франции были всегда предметом подражания, и портной играл большую роль в жизниджентльмена Елизаветинской эпохи. Мужчины и женщины носили драгоценности, золотые цепи и всевозможные дорогие безделушки, а вокруг шеи – жабо различной величины и формы. Конечно, эту модную роскошь могли позволить себе только зажиточные круги, но мужчины всех классов носили бороды.
Дворяне имели привилегию: право носить шпагу как часть своей полной гражданской одежды. Дуэль по определенным ее законам, утвержденным кодексами чести, стала заменять более дикую «драку насмерть» и убийство врага феодала его свитой или его слугами. Мода на фехтование – в виде спорта или всерьез, как дуэль, – была иностранного происхождения; светские люди даже всякий мелкий спор вели «строго по правилам», в корректных, книжных выражениях, а сражаясь на рапирах или кинжалах, сопровождали бой восклицаниями: «Ах, бессмертный passado! The punto reverso! The hai!» [33].
Непрерывно росли торговля, земледелие и общее благосостояние; на дорогах гораздо чаще, чем прежде, можно было встретить всадников и пешеходов всех классов, путешествовавших по делам или ради удовольствия. Средневековый обычай паломничества привил вкус к путешествиям и интерес к достопримечательностям, и эти стремления оказались более долговечными, чем религиозный обычай посещения храмов и священных реликвий. Вместо святых источников появились лечебные минеральные воды. Как говорит Кемден, Бакстон в далеком Дербишире был уже модным курортом «для много» численной аристократии и джентри», которые ездили туда пить воды и жили в изящных жилищах, построенных графом Шрюсбери в целях развития этой местности. Бат еще не вошел в настоящую моду, и, хотя его воды уже славились, оборудование его было еще в жалком состоянии.
Характерная особенность гостиниц елизаветинской Англии заключалась в их приспособленности к индивидуальным потребностям и вкусам путешественников. Файнс Морисон, который побывал в придорожных гостиницах половины стран Европы, писал на основании своего опыта:
«Во всем мире нет таких гостиниц, как в Англии, в отношении питания и разнообразия дешевых развлечений, которыми остановившиеся в гостиницах могут пользоваться по собственному выбору, или в отношении почтительного обслуживания путешественников, даже в самых бедных деревнях. Как только путник появляется в гостинице, слуги бросаются к нему и один из них берет его коня и прогуливает его, пока он не остынет, затем чистит его и дает ему корм; впрочем, я должен сказать, что этим слугам нельзя очень доверять в таком деле, и глаз хозяина или его слуги должен всегда следить за ними. Другой слуга отводит путнику особую комнату и разжигает огонь в камине; третий стаскивает с него сапоги и чистит их. После этого приходит к нему хозяин или хозяйка гостиницы, и если он хочет кушать с хозяином или за общим столом с другими, то его обед будет ему стоить шесть пенсов, а в некоторых гостиницах – только четыре пенса, но эти дешевые обеды считаются менее достойными, и джентльмены ими не пользуются. Если джентльмен хочет есть в своей комнате, он заказывает блюдо, какое ему хочется, так как кухня работает все время и он может приказать изготовить кушанье по своему вкусу. А когда он идет к столу, хозяин или хозяйка провожают его, если же у них много гостей, то по крайней мере навещают его, считая за особую честь, когда их попросят сесть за стол вместе с посетителем. Пока посетитель ест, если он обедает в компании, ему предлагают музыку; он может по желанию или принять предложение, или отказаться. А если он одинокий, музыканты могут приветствовать его своей музыкой по утрам… Даже в своем собственном доме человек не мог чувствовать себя свободнее, чем в гостинице. При отъезде, если посетитель дает несколько пенсов слуге и конюху, они желают ему счастливого пути».
К несчастью, за всем этим чистосердечным гостеприимством могло скрываться и нечто зловещее. Честные возчики, оказывается, не имели такого чистого, безмятежного ночлега, как джентльмен Файнса Морисона. Они знали конюха-слугу как негодяя, который живет тем, что предает путешественников более дерзким ворам, чем он сам.
Шекспир полностью подтверждает картину в гостиницах того времени, данную Уильямом Гаррисоном. Он действительно расхваливает пищу, вино, пиво, образцово чистое постельное и столовое белье, ковры на стенах, ключ от комнаты, вручаемый каждому гостю, свободу, которой он пользовался в противоположность тираническому обращению с путешественниками на континенте.
Но, увы, столь любезные слуги и сам веселый хозяин часто были в союзе с разбойниками с большой дороги. Раболепная услужливость в отношении гостя могла прикрывать желание узнать, какой дорогой он поедет на следующий день и есть ли у него деньги. Тогда еще не было чековых операций, большие суммы золота и серебра перевозились обычным путем. Слуги гостиницы угодливо брали в руки каждую вещь из багажа путешественника, чтобы судить по ее весу, содержится ли в ней золото или серебро. Затем они сообщали о результате своих изысканий сообщникам на стороне. Гостиница сохраняла свое доброе имя, потому что ни один грабеж не совершался в ее стенах; воры появлялись на дороге из чащи на расстоянии нескольких миль.
«Эта система, – заключает Гаррисон, – приводила к полному разорению многих честных йоменов во время путешествия».
Но гостиница была приютом не только для путешественников. Часто обитатели господского дома и его гости после домашней трапезы отправлялись в соседнюю гостиницу и проводили там долгие часы в отдельной комнате за стаканами и кружками; из-за трудности доставать иностранное вино сквайр часто предпочитал опустошать погреб гостиницы, а не свой собственный. Этот обычай сохранялся среди мелкого дворянства (джентри) и в течение нескольких поколений после смерти Елизаветы. Во все времена пивная была общественным центром средних и низших классов города, деревни и поселка.
Изучение истории и литературы елизаветинской Англии оставляет впечатление большей гармонии и большей свободы в общении классов, чем в более ранние и более поздние времена, будь то времена крестьянских восстаний, «уравнительных» доктрин, антиякобинских ужасов или обособленности и снобизма высших классов. Деление на классы во времена Шекспира принималось как должное, без зависти со стороны низших классов и без назойливой заботы средних и высших классов научить «великому закону субординации» «низшие классы» – заботы, которая столь уродливо проявилась в XVIII веке и в начале XIX века, например в открытии «благотворительных» школ для бедных. Типичным учебным учреждением в царствование Елизаветы была средняя классическая школа, в которой обучались вместе наиболее способные мальчики всех классов; напротив, для XVIII и XIX веков были типичны «благотворительная» школа, сельская школа и «общественная» школа, в которых обучение велось строго раздельно, по классовому принципу. Люди Елизаветинской эпохи принимали социальный строй так же, как они принимали и все прочее, – просто и естественно – и общались между собой без стеснения и без подозрительности.
Деление на классы, спокойно принимавшееся обеими сторонами, не было резким; более того, оно не было даже строго наследственным. Отдельные лица и семьи попадали из одного класса в другой или вследствие обогащения или разорения, или в результате простой перемены занятия. Здесь не было непроходимого барьера, какой в средневековой Англии отделял лорда манора от его крестьянина или во Франции до 1789 года отделял дворянство как наследственное сословие от всех других. В Англии Тюдоров такие резкие линии раздела были невозможны вследствие многочисленности и разнообразия людей промежуточных классов и занятий, которые были тесно связаны в своих делах и повседневных развлечениях с людьми, стоящими выше или ниже их по общественному положению. Английское общество зиждилось не на равенстве, а на свободе – на свободе благоприятных возможностей и на свободе личного общения. Такова была Англия, которую знал и принимал Шекспир: его одинаково интересовали мужчины и женщины всех классов и всех профессий, но он оправдывал «иерархию» как необходимую основу человеческого благополучия.
Пэры королевства были небольшой группой дворянства, пользующейся большим личным влиянием и некоторыми установленными законом привилегиями, возбуждавшими зависть, хотя они не были освобождены от налогов. От них ожидали, что каждый будет развивать свое крупное хозяйство и оказывать широкое и щедрое покровительство своим клиентам, часто получавшим слишком скудный доход от своих имений. Знать потеряла независимую военную и политическую силу, которой пользовалась как класс до войн Алой и Белой розы. Тюдоры не хотели, чтобы категория пэров была многочисленной, и воздерживались от пожалований этого звания. Площадь земли, которой владели члены палаты лордов, была значительно меньше во времена Елизаветы, чем во времена Плантагенетов или Ганноверов; недавняя революция цен ударила по ним сильнее, чем по каким-либо другим лендлордам, и процесс скупки пэрами имений мелкого дворянства и фригольдеров еще не начался. По всем этим соображениям палата лордов, особенно после исчезновения аббатов в митрах, была во времена Тюдоров менее важным органом, чем она была в прошлом и должна была стать снова в будущем. Корни старой аристократии были подрезаны, а новая аристократия еще не вполне созрела, чтобы занять ее место.
Но если царствование Елизаветы не было великим веком дляпэров, то оно было великим веком для джентри. Численность их, богатство и значение возрастали вследствие упадка старой аристократии, стоявшей между ним и короной; вследствие раздела земель монастырских имений; вследствие оживления торговли и улучшения обработки земли новой эпохи. Сквайр времен Тюдоров и Стюартов ни в коем случае не вел такой изолированной и идиллической жизни, как это представляли себе некоторые историки. Он был частью общего механизма деятельного общества. Земельное дворянство непрерывно пополнялось из рядов йоменов, купцов и законоведов, делавших свою карьеру; в то же самое время младшие сыновья владельца манора обучались в промышленности и в торговле. Таким путем старые семьи имели личную связь с новым обществом и деревня имела связь с городом. Несомненно, на западе и на севере, в будущих областях «кавалеров» (роялистов), деревня была более изолирована, чем в графствах, тесно связанных с торговлей Лондона, но это различие, хотя и реальное, было только относительным.
Разумный обычай обучения торговле младших сыновей сквайров становится во времена Ганноверов менее распространенным, отчасти вследствие уменьшения (почти полного исчезновения) класса мелких сквайров. Презрительное отношение некоторой части джентльменов XVIII и XIX столетий к «пачканью рук торговлей» было особенно нелепым, потому что почти все такие семьи возвысились всецело или частично благодаря торговле и многие фактически непрерывно занимались ею, хотя изящные леди из этих семей могли мало знать об этом. Но в Елизаветинское время было гораздо меньше этого бессмысленного снобизма. В Лондоне в ученичестве «часто находились дети дворян и знатных лиц», которые послушно служили своим мастерам в надежде повыситься до участия в деле, но в часы досуга «ходили в дорогих нарядах, носили оружие и посещали школы танцев, фехтования и музыки».
На памятниках времен Елизаветы и Якова, которые можно найти в приходских церквах, имеются надписи: «горожанин и мануфактурист», «горожанин и галантерейщик» из Лондона или из каких-либо других городов; такого рода надписи трудно найти на мемориальных плитах более позднего времени.
Таким образом, земельное дворянство имело близкие связи с торговыми классами, однако никто не считал, что статус «джентльмена» могут иметь только земельные собственники. Гаррисон рассказывает нам, как свободно и широко смотрели на этот вопрос во времена юности Шекспира: «Тот, кто изучает законы королевства, кто, пребывая в университете, погружается в книги или занимается физикой и «свободными» [гуманитарными] науками или, кроме своей службы, занимается в кабинете военного командира или дает хорошие советы у себя на дому для общего блага, тот может жить без ручного труда и поэтому способен носить оружие и иметь вид и осанку джентльмена, и он может называться «мистер» – титул, который дается сквайрам и джентльменам, и в дальнейшем он будет считаться джентльменом. Это тем менее может быть запрещено, что государь от этого ничего не теряет, потому что этот джентльмен в такой же мере обязан платить налоги и общественные платежи, как и йомен, и землевладелец, который, подобно ему, носит шпагу для защиты своего доброго имени».
От него ожидают, что он будет щедро раздавать чаевые, не слишком внимательно проверять счета и помнить, что привилегией джентльмена является проигрывать на любой сделке. При встречах во время прогулок его подобострастные соотечественники будут снимать шапки и называть его «мистер», хотя за его спиной они будут говорить, что помнят, как его отец, честный человек, отправлялся на рынок, взвалив на лошадь мешки с зерном. Таким образом, каждый был доволен. «Джентри пользовались положением, которое определялось не установленными законом отличиями, но общим уважением. Кастовость как таковая имела мало почитателей, и среди воинствующего дворянства начала XVII столетия, вероятно, меньше, чем среди торжествующего дворянства начала XVIII столетия. Общее мнение гласило: «Джентри – не кто иные, как старинные богачи». При этом добавлялось шепотом, что даже «нет нужды быть очень уж старинными». Гаррисон затем переходит от дворян к горожанам и купцам и замечает по поводу расширения сферы их торговли: «И если в прежние времена их главная торговля велась ими только в Испании, Португалии, Франции, Дании, Норвегии, Шотландии и в Исландии, то теперь, в наши дни, так как люди уже не довольствовались этими путями, они устремлялись в Восточную и Западную Индию и ездили не только на Канарские острова и в Новую Испанию, но также и в Катайю [Китай], в Московию, Татарию и в соседние с ними районы, откуда (как они говорят) они привозят домой много товаров».
О значении купечества свидетельствуют памятники купцов в приходских церквах (изображающие их в не менее достойном виде, чем изображались на памятниках дворяне), а под ними барельефы их выстроившихся в ряд коленопреклоненных сыновей и дочерей с жабо на шее и надписи, увековечивающие учрежденные ими больницы, богадельни или школы. Общество становилось смешанным настолько, что даже содержатель театра мог рассчитывать на посмертную постановку его бюста в церковной ограде, если он нажил себе состояние и прожил в своем родном городе на положении почетного гражданина.
После купцов Гаррисон ставит йоменов:
«В большинстве своем они были арендаторами у дворян; и благодаря скотоводству, торговле на рынках и наемным слугам (не лентяям, которые ведут себя, как джентльмены, но таким, которые могут заработать на свою собственную жизнь и отчасти на жизнь своих хозяев) они богатели настолько, что многие из них были в состоянии покупать и действительно покупали земли у расточительных дворян и часто устраивали своих сыновей в школы, университеты и в Судебное подворье; или же оставляли сыновьям достаточно земли, с которой они могли бы жить, не работая, и таким образом давали им возможность стать джентльменами».
И до настоящего времени почти во всех районах Англии в сельских местностях сохранились многочисленные строения – не только большие дворцы Елизаветинской эпохи, но и более скромные здания в стиле архитектуры Тюдоров и ранних Стюартов, занятые теперь фермерами-арендаторами; эти здания когда-то были господскими домами мелкого дворянства или домами йоменов – свободных держателей, которые по своему экономическому положению во многих случаях стояли не ниже дворян. Эти дома свидетельствуют о том, что за период от Елизаветинских времен и до Реставрации (1660 год) число мелких сельских дворян и йоменов – свободных держателей – возросло за счет уменьшения огромных имений феодальной знати. Это был великий век для сельского среднего класса.
После купцов и йоменов идет «четвертый и последний слой населения» – класс наемных рабочих, живущих заработной платой в городе и деревне.
«Что касается рабов или крепостных, то у нас нет ни одного», – гордо вставляет Гаррисон и хвалится привилегией жителей нашего острова – тем, что всякий ступивший на него человек становится таким же свободным, как и его хозяин. Этот принцип, по которому прикосновение к земле Англии несет с собой свободу, был через два столетия распространен даже на негров лордом Мэнсфилдом, его известным приговором по делу сбежавшего раба Сомерсета.
Но хотя класс наемных рабочих теперь был свободен от всех признаков рабского положения, он «не имел ни голоса, ни авторитета в государстве», – говорит Гаррисон; «и все же они [наемные рабочие] не были в совершенном пренебрежении, потому что в больших городах и в городах, имеющих самоуправление, при недостатке йоменов приходилось пополнять состав присяжных такими «маленькими» людьми. В деревнях они обычно были церковными сторожами и констеблями и зачастую носили звание старшин». Этот принцип демократического самоуправления существовал даже среди крепостных землевладельцев средневековья. Он строго проводился в местном уголовном суде графства или в манориальном суде. В местном уголовном суде графства также сообща обсуждали и решали, какова должна быть в дальнейшем политика в отношении открытых полей и общинных пастбищ. Английский крестьянин не только имел права, но и нес определенные обязанности в обществе, членом которого состоял. Многие находились постоянно в большой нужде, а некоторые были жертвами притеснений, но дух независимости был присущ всем классам общества при старой системе держания земли, пока система огораживания полей в XVIII веке не разрушила деревенскую общину.
Другим признаком наличия у английского простолюдина чувства собственного достоинства и самоуверенности было обучение военному делу. Лишь после Ватерлоо, в течение долгого периода мира и безопасности, стало складываться убеждение, что освобождение от военного обучения для целей обороны является частью английской свободы. Во все предыдущие века преобладала противоположная, более разумная точка зрения. В позднее средневековье национальное искусство стрельбы из лука и обязанность служить в милиции города или деревни воспитывали в народе дух независимости, что (как отмечали Фруассар, Фортескью и другие писатели) было специфически английским явлением. Так было во все время царствования Елизаветы, хотя лук уступил место мушкету или ружью.
«Разумеется, – пишет Гаррисон, – за небольшим исключением, вАнглии нет такой бедной деревни (как бы мала она ни была), в которой не нашлось бы всего необходимого, чтобы полностью обеспечить боевым снаряжением по крайней мере трех-четырех солдат: одного стрелка из лука, одного с ружьем, одного с пикой и, наконец, одного с алебардой. Указанное вооружение и обмундирование хранятся в нескольких местах, выделенных с общего согласия всего прихода, где его всегда можно легко получить, не позже чем через час после того, как оно будет затребовано». В 1557 году вновь была учреждена должность военного чиновника графства – лорда-лейтенанта, который заменил шерифа в качестве начальника и организатора народной милиции в каждом графстве. Он и его подчиненные производили частые смотры воинов, вооружения и обмундирования. Вследствие бережливости Елизаветы расходы оплачивались, насколько это было возможно, за счет местных ресурсов и путем добровольных взносов, но тем не менее система действовала. Восстание северных графов былоподавлено без боя благодаря тому, что 20 тысяч вооруженных и обученных милицейских ополченцев быстро, по первой тревоге, были собраны в боевой готовности на защиту королевы и протестантской религии. Вдвое большее число было собрано, когда к нашим берегам приблизилась испанская Армада, а на ежедневные смотры собиралось большое число ополченцев даже после того, как опасность уже полностью миновала. В Англии не было регулярной армии, но страна не была беззащитной. Каждый округ должен был поставлять определенное число обученных и вооруженных людей для народной милиции; каждый имущий должен был выставить одного или несколько человек. И хотя лишь отчасти добровольно, а отчасти и принудительно, но население полностью выполняло свой долг по отношению к государству.
Такая система была совершенно неудовлетворительна для заморских военных операций; и действительно, в период между Столетней войной и временем Кромвеля некоторое доверие на континенте завоевали лишь те английские воинские части, которые служили в регулярных войсках в Голландии или в других странах.
Хорошо, что испанские испытанные воины не высадились на острове. Дело в том, что английская милиция уже не имела прежнего военного превосходства перед другими странами, которое некогда давал ей лук. В течение всего царствования королевы Елизаветы мушкетеры и стрелки из арбалета постепенно вытеснили стрелка из лука, по мере того как ружье – некогда столь уступавшее луку в умелых руках -приобретало все большую дальнобойность и скорострельность и возрастала пробивная сила его пуль. В начале царствования Елизаветы даже хорошо снаряженная лондонская милиция большей частью состояла из стрелков из лука, но лучшие воинские части уже состояли из стрелков с огнестрельным оружием и воинов с тяжелыми пиками. Спустя поколение, во время вторжения Армады, никто из 6 тысяч обученных людей лондонской милиции не носил лука; такое же положение было и во многих южных графствах. В 1595 году Тайный совет издал приказ о том, чтобы лук никогда больше не применялся на войне как оружие; таким образом, одна большая глава английской истории закончилась.
В области спорта замена лука огнестрельным оружием совершалась медленнее. Даже в 1621 году архиепископ Кентерберийский имел несчастье, целясь на охоте из лука-самострела в оленя, вместо него убить своего лесника. Но в это же время многие спортсмены уже употребляли охотничьи ружья, в особенности при охоте на дичь, хотя «стрельба влет» все еще рассматривалась как своего рода ловкий фокус.
Порядок, поддерживавшийся в королевстве Елизаветы, несмотря на религиозные раздоры и внешние опасности, был результатом власти короны, осуществлявшейся через Тайный совет – фактически правящий орган тюдоровской Англии – и через Прерогативные суды, представлявшие юридическую власть Совета. Эти суды – Звездная палата Советы Уэльса и Севера, Канцлерский суд и церковный с Высокой комиссии (все, кроме Канцлерского суда) бы впоследствии уничтожены парламентской революцией времена Стюартов, потому что они были соперниками судов обычного права и потому что эти суды с их следственным порядком судопроизводства и с их открытым пристрастием к решениям в пользу королевской власти представляли опасность для личной свободы. Однако во времена Тюдоров именно эти Прерогативные суды отстаивали гражданские свободы англичан, добиваясь уважения к закону, а также отстаивали английское обычное право, создавая возможность (и принуждая) применять его без страха и без пристрастия. Тайный совет и Прерогативные суды положили конец терроризированию судей и присяжных местной чернью и местными магнатами; это восстановление свободы функционирования системы присяжных в обычных делах было большой заслугой перед обществом, заслугой, которая значительно превосходила такие отрицательные моменты в деятельности Тайного совета, как его случайные вмешательства в сложные политические дела. Таким путем обычное право и его суды были спасены тем самым юридическим органом, который был их соперником. Кроме того, Прерогативные суды ввели много новых правовых принципов, лучше отвечавших духу нового времени, – принципов, которые в конце концов легли и основу законов страны.
В других странах старое феодальное право не являлосьстоль хорошей юридической системой, как обычное право средневековой Англии, и поэтому не могло быть приспособлено к потребностям нового общества. Именно поэтому феодальное право в Европе и вместе с ним средневековые «свободы» Европы были сметены в эпоху «рецепции» римского права, которое было законом деспотизма. В Англии ж средневековое право – в основном законы о свободах и личных правах – было сохранено, модернизировано, обновлено, дополнено, расширено и, главное, внедрялось Тайным советом и судами «тюдоровского деспотизма» так, что и старая правовая система, и старый парламент сохранились и перешли в новую эпоху обновленными.
Точно так же и в области государственного управления Тайный совет Тюдоров сочетал старое с новым, местную свободу с государственной властью. Воля центральной власти распространялась на местные власти путем использования наиболее влиятельных местных дворян в качестве королевских мировых судей, а не так, как было во Франции, где вместо местного дворянства для управления провинциями посылались из центра чиновники-бюрократы и королевские интенданты, а местное дворянство оставалось в стороне. Английские королевские мировые судьи принимали участие во всех областях управления, они были у Елизаветы «слугами на все руки». Они не только проводили государственную и церковную политику королевы, но и занимались разрешением мелких судебных дел и выполняли все обычные функции местного управления, включая введение нового закона о бедных, статута о ремесленниках и регулирование заработной платы и цен. Эти вопросы не могли быть разрешены сами собой по принципу невмешательства и не могли быть оставлены на произвол местных властей. Они регулировались парламентскими статутами на основе широко применявшихся государственных принципов, и мировые судьи должны были следить за тем, чтобы в каждом графстве руководствовались этими статутами. Если мировые судьи были медлительны в исполнении этих трудных обязанностей, то бдительное око Тайного совета следило за ними и его длинная рука скоро добиралась до них.
Мировые судьи еще не имели законодательных функций, как во времена Ганноверов. Власть землевладельцев-феодалов и местные интересы находились под благотворным наблюдением центральной власти, заботившейся обо всем народе.
В этом отношении нет ничего более характерного для государственного строя времен Елизаветы и первых Стюартов, чем мероприятия по обеспечению бедных и безработных. В целом это время (1559-1640) было лучшим, чем время царствования первых Тюдоров, но и оно характеризовалось периодически повторяющимися бедствиями. Хотя жалобы на сельскохозяйственную разруху и на огораживания, сокращавшие сельское население, раздавались теперь менее громко, рост промышленности в сельских областях сопровождался периодической безработицей, особенно при «домашней системе», которая господствовала тогда в большей части промышленности. При фабричной системе производства, которая все еще была в зачаточном состоянии, капиталист-работодатель часто имел возможность и стремился сохранить свои предприятия на полном ходу в течение возможно долгого времени и даже в плохие годы накапливал запасы товаров, которые надеялся реализовать, когда времена улучшатся. Но рабочий на дому менее способен продолжать вести дело, когда спрос на его изделия падает. Всякий раз, когда при Елизавете бывали плохие времена, как, например, в период ссоры с испанскими правителями Нидерландов, приведшей к закрытию Антверпена для английских товаров, рабочие нашей суконной промышленности были вынуждены волей-неволей бросать свои станки, поскольку при таких условиях купцы не покупали у них сукно и не снабжали их сырьем. Периодическая безработица характерна для суконной промышленности даже в течение того периода, который в целом был периодом большого роста этой промышленности.
Чтобы удовлетворить такие неотложные потребности, на основе закона о бедных был проведен целый ряд экспериментов и издана серия указов. Эти указы проводились в жизнь на местах мировыми судьями под строгим наблюдением Тайного совета. Тайный совет имел здравый взгляд на интересы бедных, с которыми были так тесно связаны интересы общественного порядка. Теперь уже больше не было банд «закоренелых нищих», терроризировавших честных людей во времена Генриха VIII. Принудительный налог в пользу бедных теперь взимался с возрастающей регулярностью. Из этого фонда не только выдавали пособие бедным, но надзиратели бедных в каждом приходе были обязаны покупать сырье, чтобы обеспечить безработных работой, а именно: «надлежащий запас льна, шерсти, пеньки, ниток, железа и другого материала, чтобы посадить бедняка за работу» (Статут 1601 года).
Точно так же и во времена голода, как, например, в период нескольких неурожайных лет (1594-1597), Тайный совет, действовавший, как всегда, через свой орган – мировых судей, – регулировал цену на зерно, следил за тем, чтобы оно ввозилось из-за границы, и распределял его по местам, наиболее пострадавшим от голода. Несомненно, что как закон о бедных, так и снабжение питанием во времена голода были несовершенны и принимали в разных областях разные формы, но принудительная государственная система уже существовала и в теории и на практике; обеспечение бедных теперь было лучше, чем когда-либо в старой Англии, и лучше, чем когда-либо для многих поколений во Франции и в других европейских странах.
Судебная, политическая, экономическая и административная власть мировых судей была так разнообразна и в совокупности так значительна, что они сделались самыми влиятельными в Англии людьми. Часто их выбирали в парламент, где они могли выступать как опытные критики законов и политики, которыми сами руководствовались в своей деятельности. Они были слугами королевы, но она их не оплачивала и они от нее не зависели. Они были сельскими джентльменами, живущими в своих собственных поместьях на свои собственные доходы. В конечном счете они больше всего ценили доброе мнение своих соседей, джентри и населения графства. Поэтому в тех случаях, когда сельское дворянство было в сильной оппозиции к государственной и религиозной политике короля, как это случалось иногда во времена Стюартов, королевская власть уже не имела другого аппарата управления в сельских местностях. Так обстояло дело, например, в 1688 году, но, конечно, в 1588 году такого положения еще не было. Некоторые из дворян, особенно на севере и западе, не одобряли елизаветинскую политику Реформации, но огромное и все более возрастающее большинство их класса благосклонно относилось к новой религии, и мировые судьи, придерживавшиеся этих убеждений, могли быть использованы правительством для обуздания и даже ареста их наиболее упорствующих соседей. Если бы такое насилие совершалось оплачиваемыми чиновниками, присланными из Лондона, они были бы приняты более враждебно местным общественным мнением и их услуги обходились бы казне королевы гораздо дороже.
Глава VII Англия времен Шекспира (Продолжение)
Говоря о морских путешествиях, открытиях, музыке, драме, поэзии и о многих других сторонах общественной жизни, можно с уверенностью назвать шекспировскую Англию золотым веком – веком гармонии и творческой силы. Но религиозная жизнь того времени представляется на этом фоне более мрачной, малопривлекательной и, конечно, менее гармоничной. Исключая «прозорливого Гукера», нет другого крупного имени, которое вставало бы в памяти в связи с религией времен Елизаветы. Однако, вспоминая судьбу, выпавшую в те годы на долю Испании, Франции, Женевы, Италии и Нидерландов и обусловленную религией, мы с полным основанием можем быть довольны тем, что в Англии церковные раздоры сдерживались политикой королевы и здравым смыслом большинства ее подданных – светских и духовных – и что религиозному фанатизму никогда не давали волю сводить на нет или извращать деятельность современников Елизаветы. Кроме того, эта отрицательная сторона не была единственной характеристикой религиозной жизни века Шекспира. Надо иметь в виду, что и сам Шекспир, и Эдмунд Спенсер были детьми своего времени и жили в его религиозной атмосфере, точно так же, как и поэты других веков – Ленгленд, Мильтон, Вордсворт и Браунинг, – каждый из них был продуктом и высшим выражением религиозной философии, характерной для соответствующей ему эпохи. Среди современников Шекспира было много неистовых пуритан и приверженцев Рима и много ревностных сторонников англиканской церкви, но было в это время и нечто еще в большей мере типично елизаветинское, а именно отношение к религии, которая не была прежде всего католической или протестантской, пуританской или англиканской, чуждалась каких-либо догм, но глубоко коренилась в душе. Это было присуще и Шекспиру, и самой королеве.
Первые годы царствования Елизаветы характеризовались в каждом приходе кризисом в сфере общественной жизни. Наследие Кранмера потомству – английскую «Книгу Общих молитв» -снова было приказано читать вместо отправления католической службы на латинском языке. Но это изменение в религии не сопровождалось соответствующим изменением состава приходских священников. Из восьми тысяч духовных лиц, получавших бенефиции, были смещены не больше двухсот. Священник подчинился закону, как необходимости, и его соседи, такие же послушные, не осуждали его за это. Если он был человеком средних лет, то он уже привык менять свою религиозную деятельность по приказанию существующих властей. В некоторых случаях он был бывшим монахом или нищенствующим проповедником, которому были хорошо знакомы многочисленные варианты религиозных экспериментов. В год, когда королеве Марии наследовала ее сестра, обычный средний священник редко был убежденным протестантом, но у него не было и почтения к авторитету папы; ему была чужда идея полагаться на «свое суждение», и если он искренне хотел повиноваться «церкви», то где же мог он услышать ее голос? Его приучали верить, что этот голос исходил из уст монарха, а в 1559 году никакого другого голоса не было слышно. Признавать религиозные службы и учения потому, что они были предписаны королевской властью, парламентом и Тайным советом, представлялось духовенству не только удобным, но и безусловно правильным.
Таково было отношение к религии, которое провело англичан через этот опасный век перемен. Оно противоречит нашей современной точке зрения о религиозной и личной свободе, но в те времена это была доктрина, которой искрение придерживалось большинство сознательных людей. Епископ Джюэл, лучший выразитель идей раннего елизаветинского религиозного порядка, провозгласил:
«Наше учение таково: каждый человек, каково бы ни было его призвание – будь он монах, проповедник, пророк или апостол, – должен быть подчинен королю и мировым судьям».
Религия была подвластна королю и мировым судьям. Все были согласны, что в государстве могла быть только одна религия, и все, исключая католиков и строгих пуритан, считали, что государство должно решать, какой должна быть эта религия.
Эта доктрина, одинаково противоречащая средневековым и современным представлениям, соответствовала настроениям в Англии эпохи Елизаветы. Она была политическим следствием социального мятежа мирян против духовенства во время царствования отца королевы. Англичане эпохи Тюдоров не были антирелигиозны, но они были антиклерикальны. Придерживалось этой доктрины и само духовенство, которое не воспитывалось в семинариях как священнослужительская замкнутая каста, а само являлось составной частью английского общества.
Поэтому духовенство в целом было послушным и покорным в первые годы царствования Елизаветы. Но среди духовенства имелось активное меньшинство новообращенных – фанатических протестантов, – которые только благодаря смерти королевы Марии избежали смитфилдских костров или вернулись из ссылки из-за границы полные кальвинистического фанатизма, воспринятого у женевского первоисточника. Они не подчинились бы папистскому государю, но они знали, что одна только Елизавета стояла между Англией и папистской реставрацией; таким образом, они одобряли ее церковный компромисс, намереваясь внести в него изменения, когда позволят время и обстоятельства. Они были самым твердым оплотом нового порядка в его борьбе против Рима и Испании, но в другом отношении они были и его опаснейшими врагами.
Большая часть приходских священников в 1559 году согласна была принять религию в готовом виде по парламентскому статуту, но у них не было никакой определенной, веками установленной религии, которая могла бы пробудить энтузиазм у духовенства и придать авторитет богослужению. Однако у крайних левых протестантов была «живая» вера, которая на несколько десятилетий сделала их наиболее влиятельной частью духовенства в такое время, когда у среднего приходского священника не было ни знаний, ни энтузиазма.
Со времени антиклерикальной революции, произведенной Генрихом, священникам уже больше не завидовали и их не ненавидели, но часто презирали и третировали. Сама Елизавета продолжала раздавать направо и налево церковные земли и имущество и часто оставлять незамещенными епископские должности для того, чтобы корона могла пользоваться рентой маноров. Архиепископы королевы постоянно искали у ее секретаря Уильяма Сесиля советов по чисто религиозным делам, в то же время непрестанно жалуясь ему на небольшие притеснения, чинимые могущественными мирянами. «С церковью обходились как с орудием светского управления, как с держащейся с достоинством, но приятно беспомощной добычей обанкротившегося монарха и алчного двора».
Все это означало, что сильные колебания почвы, вызванные антиклерикальным землетрясением в царствование Генриха, утихали лишь постепенно. Но тем не менее они утихали. К концу царствования королевы английское духовенство было уже в лучшем положении, более уважаемым, более уверенным в себе и в своей миссии. Когда Стюарты приблизили к себе церковь как свою почетную союзницу, миряне очень скоро снова начали жаловаться «на гордость духовенства». Лорд поощрял священника смело смотреть в глаза сквайру.
Важным сдвигом в жизни общества было то, что при Елизавете священникам снова – и на этот раз окончательно – было разрешено вступать в брак. Немало священников, которые были готовы признать реставрацию римского католицизма в 1553 году, при Марии были лишены своих приходов только на том основании, что вступили в законный брак, хотя они поступали строго по законам Эдуарда VI. При Елизавете была восстановлена свобода вступать в брак. Одним автором было тонко подмечено, что «подобно тому, как распродажа монастырской собственности вызвала среди определенных классов материальную заинтересованность и судьбе Реформации, так и отмена ограничений браков духовенства вызвала то, что мы могли бы назвать «семейной заинтересованностью» духовенства в развитии Реформации, поскольку оно было недостаточно просвещенным, для того чтобы осознать ее более возвышенные результаты; эта заинтересованность имела значение для обеспечения окончательного торжества Реформации».
Свобода браков духовенства должна была быть благом для многих честных людей; в будущих поколениях в приходах Англии выращивалась прекрасная «порода» детей, которые в последующих поколениях обеспечивали хорошими и честными людьми все профессии и должности – и больше всего самое церковь. Но в первое время браки духовенства сопровождались некоторыми трудностями: на жен священников и сама Елизавета, и многие из ее подданных смотрели косо все еще из приверженности к старым обычаям и привычкам. Потребовалось немало времени для того, чтобы жена священника заняла почетное и важное положение в приходском обществе.
Необходимость содержать жену и детей еще больше обострила материальную нужду священника. Из-за бедности приходских священников их браки с дочерьми джентльменов были редким явлением. Сам Кларендон, хотя и был очень предан англиканской церкви, указывал как на признак социального и морального хаоса, произведенного великим мятежом, на то, что «дочери знати и девушки из знатных семейств выходили замуж за духовных лиц или вступали в другие низкие и неравные браки». Большое улучшение экономического и социального положения духовенства произошло только при Ганноверах. В романах Джейн Остин сквайры и священники составляют одну социальную группу, но при Тюдорах или при Стюартах это в действительности не имело места.
Бедность духовенства способствовала сохранению симонии и совместительства церковных должностей. Эти порядки не прекратились с исчезновением папской юрисдикции, хотя церковные держания английских бенефициев иностранцами, живущими во Франции и в Италии, были упразднены навсегда.
В середине царствования Елизаветы, во время грозных событий за границей и внутри страны, достигших высшей точки в дни сражения с Армадой и казни шотландской королевы Марии Стюарт, английское общество в городе и в деревне было сильно возбуждено религиозными разногласиями между соседями; в домах несчастных джентри – сторонников старой религии, оказавшихся в тисках требований двух царственных соперниц, – энергично вела свою работу иезуитская миссия. Страна была объята страхом.
Люди каждый день ожидали сообщений об испанском вторжении, о римско-католическом восстании, об убийстве королевы. Переодетые иезуиты, преследуемые мировыми судьями, тайком переходили с места на место, укрываясь в церковных тайниках и в толще стен господского дома; рано или поздно их ловили и казнили.
Тем временем пуритане – тогда еще не «диссиденты», а приходские священники и мировые судьи, от которых в этот период зависела судьба государства, – действовали энергично, добиваясь ниспровержения и перестройки изнутри церковного порядка. Они поносили епископов как «отродье антихриста». Они устраивали собеседования и молитвенные собрания, запрещенные властями. Елизавета жаловалась, что каждый лондонский купец «имеет своего школьного учителя и устраивает ночные моления, толкуя Писание и просвещая настолько своих слуг и прислужниц, что я сама слышала, как некоторые из них не стеснялись проверять ученых проповедников» и говорить, что «такой-то учил нас иначе в нашем доме». Во многих графствах пуританское духовенство устраивало собрания служителей церкви; эти собрания напоминали пресвитерианские синоды и намеревались с помощью парламента в скором времени вырвать власть у епископов.
Пуритане уже обнаружили способность к избирательным кампаниям, к кулуарному воздействию на депутатов и к агитации, что в следующем веке привело к преобразованию английской конституции. В 1594 году они наводнили английский парламент петициями от духовенства, городских корпораций, мировых судей и влиятельного сельского дворянства целых графств. Половина членов палаты общин и даже Тайный совет были обращены в пуританство. Но Елизавета стояла твердо на своем. Хорошо, что она была тверда, потому что пуританская церковная революция до Армады почти наверное вызвала бы гражданскую войну между католиками и протестантами, войну, из которой Испания, возможно, вышла бы победительницей. В 1640 году Англия была уже достаточно сильной и достаточно протестантской, чтобы выдержать благополучно перипетии церковной революции и контрреволюции, которые были бы для нее роковыми полстолетия назад.
Королева Елизавета и ее непреклонный архиепископ Уайтгифт выдерживали бурю, и английский корабль благополучно скользил между сталкивавшимися скалами – католичеством и пуританством. В конце царствования наступила определенная реакция. Пуритане на время были приведены к некоторой видимости послушания церкви. Находившиеся вне лона церкви, как, например, «браунисты», были немногочисленны и разобщены. Последовали жестокие кары; некоторые из самых крайних пуритан были повешены, и еще большее число – посажено в тюрьмы. Но большая часть пуританского духовенства, а также джентри и купцы были лояльны по отношению к королеве. Эта удивительная женщина все еще «управляла страной, пользуясь их любовью кней». Но человек, даже более дальновидный и толковый, чем Елизавета – «если бы вообще нашелся такой смертный», – мог бы призадуматься над тем, как долго еще государству удастся заниматься внедрением «единой религии» в такую разобщенную и упрямую нацию, как англичане, где даже прислужницы «не стеснялись проверять ученых проповедников». Острая ненависть к веротерпимости могла быть возбуждена лишь в отдаленном будущем, а пока Англия прославилась той «сотней религий», которые так занимали Вольтера при его посещении Великобритании.
Но Елизавета все еще надеялась, что ее подданные смогут принять «единую религию», религию среднего пути, в которой, как красноречиво и обстоятельно пояснял Гукер, человеческий разум и здравый смысл находили бы свое место наряду со Священным Писанием и церковным авторитетом. Конечно, было больше оснований полагать, что англичане сочтут приемлемой именно такую религию, а не педантическое буквоедство пуританина, который должен подыскать цитату из Священного Писания для оправдания каждого события в повседневной жизни, или всеподавляющий авторитет церкви, проповедуемый иезуитами. И все же идея принудительного введения какой-либо «одной религии» во всей Англии была совершенно неприемлема и означала бы еще сто лет борьбы и ненависти, тюремных заключений и конфискаций с потоками крови на полях сражения и на эшафоте. На суровой почве из всех этих бедствий суждено было вырасти цветам наших гражданских свобод и нашей парламентской конституции. Поистине пути истории человечества удивительны и судьбы народов непостижимы!
Так как мы все еще пользуемся «Книгой Общих молитв», нам не очень трудно восстановить в памяти церковную службу времен Елизаветы. Но мы должны представить себе деревянный стол, установленный в главном корабле церкви, а не на восточном конце – алтаре, – обнесенном решеткой. Ни молитвы, ни псалмы не произносились с интонацией. Молитвы говорились, а псалмы распевались. Общее песнопение придавало наибольшую привлекательность протестантскому богослужению, но вместо современных церковных песнопений, которые теперь поются в церкви, псалмы, положенные на данный день, пелись в рифмованном ритмическом переложении Стернгольда и Гопкинса. Этот старый псалтырь, столь дорогой многим поколениям англичан, сейчас совершенно забыт, в современном церковном песнопении до сих пор сохранился только «старый сотый» псалом:
Все те, кто в мире сем живут, Творцу хвалебный гимн поют И служат с трепетом живым, Придите, радуйтесь пред ним.Псалтыри елизаветинского времени с этими рифмованными переложениями часто дополнялись нотами для каждого голоса в четырехголосом хоре: канта, альта, тенора и баса, так что даже «необучавшийся после небольшой практики мог петь партию, которая лучше подходила для его голоса». Виолы и духовые инструменты могли сопровождать общее пение псалмов, но можно было петь и без них [34].
Для приходского священника, особенно если он был пуританином, проповедь была самым удобным случаем проявить свои способности. Слушатели выдерживали или даже охотно воспринимали ее в течение часа, иногда двух. Но менее образованные или менее самоуверенные из духовенства, особенно из старшего поколения, ограничивались чтением церковных поучений, применимых к данному случаю. Проповедь и поучения наряду с назиданиями помогали формировать религиозные – а поэтому и политические – убеждения.
Еженедельное посещение церкви было обязанностью, которую государство принуждало соблюдать. За непосещение церкви налагался установленный законом штраф, взимавшийся не очень регулярно, за исключением штрафа с лиц, хорошо известных как «папистские приверженцы». Мы дожем быть уверены в том, что в чрезвычайно индивидуалистическом обществе того времени не всякий был согласен принудительно каждое воскресенье отправляться «по тону в церковь».
Джон Тревельян, корнуоллский дворянин, католик, посещавший церковь, во избежание штрафа выдерживал назидательные чтения и пение «женевского фарса», как он называл псалмы Стернгольда и Гопкинса, но всегда уходил перед проповедью, громко обращаясь к стоящему на кафедре священнику: «После того как ты скажешь то, что должен сказать, приходи ко мне обедать». Он имел обыкновение пугать своих знакомых, старых дам-протестанток, говоря им, «что они должны ожидать еще худших времен, чем те, которые претерпели при королеве Марии».
В течение длительного царствования Елизаветы большая часть молодежи, воспитанная на Библии и на «Книге Общих молитв», принимавшая участие в борьбе Англии за свое существование – борьбе против Испании, против папы и иезуитов, – становилась пламенными протестантами. Чтение Библии и общие семейные молитвы входили в обычаи англичан. Уже в первое десятилетие царствования Роджер Эшем писал в своем «Школьном учителе»: «Слава Христу, в нашем городе Лондоне заповеди Господни обычно изучаются более прилежно и церковная служба совершается ежедневно во многих частных домах с большим благоговением, нежели в Италии – один раз в неделю в общих церквах».
Несомненно также, что семейное богослужение было тогда более привычным для лондонских жителей, чем для остального населения страны, однако уже тогда оно быстро и широко распространялось.
В год, когда королева Елизавета наследовала своей сестре Марии, пуританизм был преимущественно учением заграничным, вывезенным из Женевы и из Рейнской области; когда королева умерла, он был уже прочно укоренившимся и специфически английским; у него появились некоторые черты, чуждые континентальному кальвинизму, такие, как строгое почитание дня субботнего – «английского воскресенья», уже внесшего разлад в дух «веселой Англии». Англиканское учение также укрепилось и оформилось именно в царствование Елизаветы. В 1559 году англиканское учение было не столько религией, сколько церковным компромиссом, предписанным законом прозорливой, образованной и умеренной молодой женщины с согласия палаты лордов и палаты общин. Но к концу ее царствования оно сделалось истинной религией; англиканские церковные службы, отправлявшиеся в старых церквах Англии свыше сорока лет, многим были дороги.
Повышение морального уровня и улучшение образования духовенства и мирян, отличавшее конец елизаветинского царствования, произошло в значительной степени благодаря классическим школам и университетам. Народные массы были или совсем неграмотными, или полуграмотными, с грехом пополам обученными сельскими дамами, но способные мальчики из самых различных слоев общества обучались совместно в средней классической школе; сидя на одной скамье и разделяя общую участь – порку, все они получали там хорошее знание латыни. В ней еще не было классового разделения, как в школах позднейшего поколения.
Университеты, так же как и большая часть других учреждений, пережили трудные времена в годы религиозных и экономических волнений (1530-1560). Их число и богатство уменьшились с упразднением монастырей, принадлежавших монахам и нищенствующим орденам и составлявших значительную часть средневекового Оксфорда и Кембриджа. В то же самое время законами парламента были отправлены обратно в приходы целые толпы средневекового духовенства, которое все еще, как и в прошлые века, имело обыкновение бросать свою паству и жить в праздности в университете, не слишком заботясь о своей репутации. Средневековый характер двух упомянутых рассадников учености исчез в эти бедственные годы перемен и оскудения.
Это были уже новые и более светские Оксфорд и Кембридж, возродившиеся при Елизавете и чрезвычайно расцветшие к началу гражданской войны. Большая часть студентов теперь стремилась к светской карьере. Число крупных государственных и общественных деятелей эпохи Елизаветы, учившихся в Оксфорде или Кембридже, служит свидетельством нового взгляда правящего класса на науку. Джентльмен, особенно если он стремился в будущем служить государству, должен был теперь получить законченное образование в одном из «ученых университетов», который он обычно покидал с хорошим знанием латыни и классической мифологии и с дилетантскими познаниями в области греческого языка, а порой и в математике и философии. Сидней и Рэли, Кемден и Хэклут учились в Оксфорде; Сесили, Бэконы и Уолсингэм, не говоря уже о Спенсере и Марло, – в Кембридже. Магистр Сайленс, мировой судья, тратил большие деньги на содержание своего сына Уилли, до поступления его в Судебное подворье (в корпорацию юристов), в течение нескольких лет в Оксфорде; после такого двойного изучения гуманитарных и юридических наук молодой человек оказался пригоден к тому, чтобы после отца сделаться глостерским землевладельцем и мировым судьей.
Одной из причин этой более тесной связи между университетом и правящим классом было улучшение условий академической жизни в университете. Система колледжей, быстро вытесняющая общежития и гостиницы средневековой эпохи, давала некоторую гарантию заботливым родителям. Из всех университетов Европы только в Оксфорде и в Кембридже колледж в это время взял на себя заботу о дисциплине (которой университеты грубо пренебрегали) и о преподавании, которое было весьма поверхностным, по крайней мере если говорить об обучении большинства студентов. Еще не было должности наставника колледжа, но сам студент или его родители частным образом заключали соглашение с одним из членов корпорации колледжа о том, что тот одновременно будет и учителем и наставником. Каждый такой частный наставник имел человек шесть учеников; он читал им лекции и готовил их к экзаменам. Иногда они жили в его комнате. Их отношения напоминали отношения мастера и подмастерья.
В общем эта система частного наставничества действовала хорошо. Но у наставников была тенденция пренебрегать теми, которые не могли платить большого вознаграждения, и потворствовать тем, кто мог это делать.
Богатые ученики любили носить «чрезмерно большое жабо, бархатную и шелковую одежду, а также шпаги и рапиры» и вопреки академическим правилам предаваться в тавернах запрещенным развлечениям, таким, как игра в карты, кости, фехтование, петушиные бои, или охотиться на медведей. В 1587 году Уильям Сесиль, лорд Берли, чей отеческий взор проникал во все уголки королевства, за благополучием которого он наблюдал, был информирован из достоверных источников, что вследствие «больших платежей наставникам, с одной стороны, бедное сословие лишено возможности содержать своих детей в университете, а, с другой стороны, богатые настолько развращены привилегиями и попустительствами, что наставник боится не угодить своему ученику, ибо, в таком случае он может лишиться большого дохода».
Члены университетских колледжей, подобно другим людям в эти времена, тяготели к «сильным мира сего». В начале царствования Елизаветы священник Гаррисон жаловался, что «сыновья джентльменов или богатых людей вызывают много нареканий на университеты. Дело в том, что, ссылаясь на знатность своей семьи и на привилегии, они бесчинствуют и похваляются этим, выделяясь одеждой и буйным поведением, что отвлекает их от учения в совсем другую область. И, когда их обвиняют в нарушении установленного порядка, они считают достаточным в свое оправдание сказать, что они джентльмены, и многих это немало опечаливает».
Можно легко представить себе, что без известного присмотра со стороны властей щеголеватая молодежь, привыкшая к свободной жизни в господском доме или к веселой жизни при дворе, никогда не стала бы подчиняться в колледже того времени строгим правилам поведения, которые действительно более подходили для школьников, студентов [35]. В 1571 году университетский вице-канцлер запретил всем живущим на территории университета даже такое невинное развлечение, как плавание в каких-либо проточных водах или в кембриджском пруде. Возможно, что это считалось тогда опасным для жизни, подобно тому, как в наш более отважный век считается опасным взбираться на крышу колокольни. В те времена не было организованных игр и атлетики; тогда или отбивали охоту от спорта, или запрещали его. И так как молодежь требует, чтобы ею занимались, то не удивительно, что было много случаев нарушения правил. Но такие правила, хотя они и нарушались, все же существовали; в средневековом же университете ни о каких правилах не могло быть и речи.
В век покровительства непотизм был неизбежен, и в колледжи свободно принимались сыновья или клиенты богатых и могущественных людей или юристов, которые могли бы действовать в интересах колледжа. Колледжи богатели, тогда как университеты оставались бедными. Во время царствования Елизаветы основанный ее отцом в Кембридже Грей Корт в колледже Тринити сделался соперником Том Квода в Кристчерч.
Поколение спустя, в царствование Якова I, главным развлечением студентов были пешеходная прогулка, плавание (несмотря на запрещение), звон в колокола, состязание в беге, метание копья и, наконец, футбол, что было немногим лучше, чем свободная борьба на задворках между этими двумя колледжами.
Спали студенты в большинстве случаев вчетвером, а то и более в одной комнате. Бедных студентов обычно готовили к церковной деятельности, богатых – к светской. Обучавших их членов университетских колледжей все еще принуждали вступать в духовные ордена и даже воздерживаться от брака, хотя теперь браки были разрешены законом другим духовным лицам. Оксфорд и Кембридж оставались в этом отношении церковными и полумонастырскими учреждениями вплоть до Гладстоновского закона в конце XIX столетия. Ежедневное посещение колледжской часовни было обязательным для всех.
Часть студентов, включая Кита Марло, обучавшегося в колледже Корпус Кристи в Кембридже, и Филиппа Сиднея из Кристчерч в Оксфорде, интересовалась поэзией и драмой, которые играли такую большую роль в жизни того времени. Часто студенты сами ставили пьесы и интермедии, некоторые на латинском языке. Одна «шуточная комедия» с запутанной интригой против горожан, разыгранная кембриджскими студентами в 1597 году, была записана Фуллером в его «Истории университета»:
«Молодые студенты, считая себя несколько несправедливо задетыми горожанами, решили отомстить за их насмешки. Они сочинили на английском языке веселую, по обличительную комедию (которую назвали «Кулачное право») применительно к умственному уровню тех, которых они считали своими зрителями. Комедия была поставлена в Клэр-Холл; на это зрелище был приглашен мэр со своими собратьями (горожанами) и их жены, или, вернее, именно те, кого здесь разоблачали. Для горожан, со всех сторон окруженных студентами, были предназначены удобные места, где они могли бы видеть и быть видимыми. Здесь горожане увидали себя в своих собственных одеяниях (взятых напрокат студентами) так живо изображенными со своими привычками, жестами, речью, ужимками и выражениями, что было трудно решить, кто был настоящий горожанин -тот ли, кто сидел рядом, или тот, кто играл на сцене. Смирно сидеть они не могли из-за раздражения, уйти они не могли из-за окружения, и они вынуждены были терпеливо ждать, пока не были отпущены по окончании комедии».
Городская корпорация, так же как это делали все англичане эпохи Тюдоров, которые считали себя обиженными, апеллировала к Тайному совету. Разумные советники королевы действительно «сделали легкий частный выговор главным актерам», но, когда город продолжал назойливо добиваться их дальнейшего наказания, Тайный совет обратил это дело в шутку, предложив прибыть торжественно в Кембридж, чтобы посмотреть комедию вторично сыгранной и судить ее на месте.
Этот курьезный случай показывает не только давнишнюю враждебность, но и личную близость, которая то где существовала между городской корпорацией и университетом. Кембридж эпохи Елизаветы был небольшой общиной, в которой все руководящие лица были известны друг другу, а также населению, состоящему из горожан и студентов. В 1586 году в Кембридже было 6500 жителей, из которых 1500 были связаны с университетом.
Значительная часть ремесленников обрабатывала землю, по нескольку акров каждый, на городском поле за рекой Кем, и, кроме того, было много небольших фермеров в пригороде. Лавки и фермерские строения на городских улицах были деревянные, бревенчатые, обмазанные глиной; за ними скрывались извилистые проходные дворы, остатки которыхеще сохранились за современными кирпичными фасадами улиц. Таков былгород, где возчик Гобсон, получивший в 1568 году в наследство от своего отца двухколесную телегу и 8 лошадей, положил скромное начало новому виду транспорта с верховыми и колесными перевозками, который приобрел известность во всей Восточной Англии; Гобсон обогатил город Кембридж гобсоновским водопроводом и, наконец, был увековечен двумя небольшими поэмами (разного достоинства) молодого Мильтона, учившегося в Крист-колледже.
Вряд ли Кембридж был больше известен своим университетом, чем своей трехнедельной ярмаркой, устраиваемой в сентябре на жниве городских полей, между дорогой Нью-маркет и рекой Кем.
Там Северная и Южная Англия обменивались товарами, привезенными по суше и воде. Возводились ряды с лавками, где север закупал для себя хмель и продавал свою шерсть и сукно. Купцы из Нидерландов, из прибалтийских стран и крупное лондонское купечество вели здесь широкую торговлю сукном, шерстью, соленой рыбой и зерном. Во времена, когда еще не было коммивояжеров, такого рода ярмарки были необходимы для торговли, и самая большая ярмарка в Англии была Стаурбриджская: здесь продавались всякого рода товары – оптом и в розницу; домашние хозяйки, деловитые и веселые, прибывали издалека, чтобы оборудовать свои дома или пополнить свои шкафы посудой и посмотреть «ярмарочные забавы». Здесь было также много земледельцев и добрая половина всех бейлифов Восточной Англии. С точки зрения наших современных понятий может показаться странным, что юрисдикция над этим огромным ежегодным торговым ульем находилась в руках университета. Стаурбриджская ярмарка могла начаться только после того, как на площади торжественно появлялся вице-канцлер университета и объявлял ее открытой.
Первым необходимым условием восстановления и роста народного богатства при Елизавете являлась честная чеканка монеты. Ее отец, как уже выше указывалось, оставил после себя страну в неописуемом беспорядке, произведя «порчу» монеты в последние годы своего царствования и, таким образом, вызвав при Эдуарде VI и Марии такой скачок цен вверх, что за, ними не могли угнаться ни уровень заработной платы, ни размеры фиксированной ренты. После урегулирования религиозного вопроса (в 1559 году) другим крупным делом Елизаветы было такое же смелое разрешение жгучего финансового вопроса. В сентябре 1560 года она объявила об изъятии из обращения обесцененных монет и обмене их на новые деньги по курсу, несколько меньшему их номинальной стоимости. Ловкость и удача, с которыми эта опасная финансовая операция была проведена, свидетельствуют, что новая королева и ее Тайный совет прекрасно сознавали экономические задачи правительства, в то время как многие иные – в других областях великие -правители не понимали их и шли по неверному, роковому пути. Начиная с этого времени и в дальнейшем цены начали делаться устойчивыми. Они продолжали постепенно расти на протяжении всего ее царствования и более быстро – при Якове и Карле I – вследствие возрастающего влияния ввоза нового золота и серебра из рудников Испанской Америки. Но теперь размеры заработной платы могли в большей мере соответствовать уровню цен, и постепенно, по мере того как кончался срок аренд, в соответствии с ценами и заработной платой устанавливалась и рента. Неуклонный, но уже более не катастрофический подъем цен способствовал процветанию торговли и промышленности, помог создать новые виды производства и найти новые рынки.
Большое расширение всякого рода горных разработок свинца, меди, олова, железа и угля характеризовало царствование Елизаветы. Германские рудокопы открыли месторождения медной руды и других руд в разных местах отдаленной Озерной области. Холмистые местности Мендипа давали бристольским купцам все больше и больше свинца для экспорта. Развивались бесчисленные небольшие оловянные рудники в Корнуолле и в Девоне. Росло число солеварен. Наше железо было признано лучшим в мире. В 1601 году один энтузиаст сказал в палате общин, что железо, по-видимому, является «особым благословением Бога, данным только Англии для ее защиты, потому что хотя большая часть стран имеет свое железо, но все они не имеют железа такой твердости и прочности, чтобы из него делать такие боевые орудия». А военный флот требовал не только пушек, но и пороха, составные части которого все еще добывались в самой Англии до тех пор, пока – начиная со времени Стюартов – Ост-Индская компания не начала привозить их с Востока в большом количестве при обратном рейсе судов.
Эти виды промышленной деятельности истощали имевшиеся в стране запасы древесины, недостаток которой ощущался все острее. При выплавке железа, свинца и в новом виде производства – стекольной промышленности – употреблялось огромное количество древесины или древесного угля. «По мере того как леса здесь в округе исчезают, – писал один житель Вустера в конце царствования Елизаветы, – стекольные заводы передвигаются и следуют за лесами, для чего требуются лишь небольшие затраты». Кемден отмечал, что солеварни за последние годы поглотили Фекенгемский лес в Вустершире. Даже леса Уилда в Суссексе, в Суррее и в Кенте, которые в течение тысячелетий снабжали древесным углем кричные горны, стали исчезать вследствие все возрастающего потребления лесоматериалов, вызванного неуклонным повышением спроса на железо и развитием нового вида сельскохозяйственного производства в Кенте, которому требовались шесты для поддержки стеблей хмеля и уголь для его сушки.
Как правило, для отопления жилых помещений и приготовления пищи все еще применялось дровяное топливо. Неуклонный рост из года в год морского судоходства и сложившееся к тому времени ясное понимание англичанами того, что будущее Англии – на море, сделали необходимым, хотя и трудным, сохранение подрастающего строевого леса в пределах досягаемости доков. Выше уже указывалось, что в районах поблизости от моря, даже в такой отдаленной местности, как Пембрукшир, «леса были истреблены, а земля обращена под зерновые поля и пастбища». Несомненно, на Британских островах было достаточно лесов, чтобы снабжать все печи, очаги и судостроительные верфи в течение некоторого времени, если бы можно было использовать все имеющиеся в стране лесные богатства. Но этого нельзя было сделать. Дрова доставлялись тогда в основном по воде, так как конный транспорт того времени и слабый грунт дорог делали экономически нецелесообразной и физически даже невозможной перевозку на любое расстояние огромного количества дров каким-либо иным путем. Поэтому во многих гористых местностях, особенно на западе, Дж. Мильтон мог все еще найти нетронутые девственные леса.
Могучий лес из сосен и дубов, Топор еще не трогал их стволов, И стук его не нарушал покой Дриад в священной мгле лесной –в то время как в других районах вследствие исчезновения дровяного топлива обитатель хижины имел нетопленный очаг и скудное питание из хлеба и сыра, что сильно отразилось на производстве мануфактуры. Действительно, заводы часто должны были передвигаться в такое место, где еще можно было найти лес. Железоделательным заводам предстояло в скором времени двинуться в леса Ардена и поглотить их.
В таких условиях при все возрастающем недостатке леса каменный уголь при Елизавете все больше и больше входил в употребление и для домашнего назначения, и для нужд производства. Но ввиду трудности подвоза каменным углем снабжались лишь районы, лежащие вблизи каменноугольных копей или поблизости от судоходных рек. «Морской уголь», как его тогда называли из-за способа его подвоза, широко применялся в Лондоне, и в долине Темзы, и других районах прибрежной морской полосы, и по берегам рек, таких, как Трент, Северн и Хамбер. Камины и очаги, первоначально приспособленные для дровяного отопления, предстояло теперь переделать, а пока этого не было сделано, выделявшиеся при сгорании угля сернистые газы являлись неизбежным злом. Большое распространение каминов в царствование Елизаветы было главным образом вызвано возросшим потреблением угля. Производство чугунных колосниковых решеток для каменноугольного отопления зало большое место в обшей продукции кузнечных мастерских Суссекса. В этот период была сделана первая попытка плавки железа с применением каменного угля, но она оказалась преждевременной. Многие отрасли производства уже потребляли уголь там, где его можно было получить дешево. В 1578 году говорили о том, что пивоварни, красильни, шляпное производство и другие «уже давно переделали свои печи и очаги и приспособили их для потребления и сжигания морского угля».
Не только Лондон, но и Нидерланды и другие заграничные рынки снабжались углем из Тайнсайда и Дарема. Много угля отправлялось за границу на иностранных судах, о еще большая часть доставлялась в Лондон с реки Тайн на флотилиях «угольщиков». Плохие дороги вынуждали отравлять всякого рода тяжелые товары морем или по реке насколько возможно дальше, и даже в конце царствования Елизаветы прибрежная торговля Англии больше чем в четыре раза превышала возрастающий экспорт.
Двумя главными «питомниками» английских моряков являлись «угольщики», курсирующие между северными портами и Лондоном, и рыболовные суда Корнуолла и Девона, из которых многие отправлялись в опасное плавание за треской к туманным берегам Ньюфаундленда. Не менее важным было развитие при Тюдорах торгового флота восточного побережья для ловли сельди. Кемден отмечал величину Ярмута – аванпорта Нориджа, – теперь обгоняющего своего соперника Линн: «Трудно себе представить, какая огромная и многолюдная ярмарка открывается здесь в день св. Михаила и как много закупается здесь сельди и другой рыбы».
Рыболовы были любимцами правительства, потому что они часто помогали ему комплектовать торговый и военный флот. Правительство издавало законы, предписывающие соблюдение «рыбных дней»: никто из подданных королевы не смел есть мяса во время великого поста или в пятницу, к которой иногда добавлялась еще среда. Тут же настоятельно подчеркивалось, что этим преследуется не религиозная, а политическая цель – поддерживать наше население, занимающееся плаванием в дальних водах, оживить пришедшие в упадок приморские города и запретить слишком большое потребление мяса и баранины, что вело к обращению пахотных земель в пастбище. Эти «рыбные законы» вводились под страхом наказания за отказ соблюдать их.
Имеются документальные записи, свидетельствующие о том, что в 1563 году в Лондоне одна женщина была выставлена к позорному столбу за то, что в великий пост держала в своем кабачке мясо. В 1571 году мы видим, что Тайный совет был занят отчетами мировых судей о введении в действие этих законов в различных графствах. Так как население привыкло в течение многих веков более или менее соблюдать посты, установленные церковью, то было относительно легко и теперь использовать эту привычку к рыбной пище в государственных интересах. Не всегда могли строго соблюдаться «рыбные дни» в горных местностях страны, где было трудно достать свежую морскую рыбу, но, несомненно, соленая рыба отправлялась далеко в глубь страны; даже в Нортгемптоншире и Бакингемшире мировые судьи в 1571 году были заняты введением этого закона в жизнь. Он помог поддержанию рыбных садков и прудов, которые были так распространены в средневековой Англии и высохшие котлованы которых можно видеть и сейчас вблизи многих старых господских усадеб.
Таким путем, а также всякими иными способами королевский секретарь Уильям Сесиль старался поддержать мореплавателей и флот нашей страны. Он освобождал моряков от военной сухопутной службы; он принуждал повиноваться Навигационным законам, направленным против иностранных судов, особенно в каботажной торговле. Английский флот еще не мог справиться со всеми перевозками английского экспорта, а между тем Навигационные законы стремились именно к этой цели.
В царствование Елизаветы под энергичным руководством Сесиля и Тайного совета, поддерживаемого парламентом, промышленность, торговля и социальная система Англии подчинялись государственному регулированию, а не муниципальному, как прежде.
В Средние века каждая отдельная местность – через свой городской совет или через ремесленные гильдии – решала вопросы о заработной плате и о ценах; об отношениях между мастером, учеником и подмастерьем; о праве торговли в том или ином месте и об условиях, при которых торговля должна была там производиться. В XIV веке государственное регулирование начало вытеснять муниципальное, когда внешняя политика Эдуарда III в отношении Франции и Нидерландов отразилась на всем ходе английской торговли и когда статутом о рабочих тщетно пытались установить для всей страны максимальную заработную плату.
При Елизавете государственное регулирование заработной платы и цен проводилось мировыми судьями более разумно, без попытки повсюду предписывать фиксированный максимум заработной платы. Одновременно муниципальное регулирование торговли и промышленности было заменено государственным регулированием. Причины этого крупного изменения были различны: упадок многих городов и перемещение промышленности вдеревенские округа, где не было муниципальной власти; разложение ремесленных гильдий, которым был нанесен смертельный удар изданными при Эдуарде VI законами о конфискациях, направленными против собственности гильдий; усиление королевской власти, действовавшей через Тайный совет и парламент, и, наконец, радостное национальное чувство, воодушевлявшее англичанина эпохи Елизаветы. Человек прежде всего сознавал свой долг лояльности своей королеве и своей стране, а не своему городу, своей гильдии или своему доброму лорду.
При таких обстоятельствах государство Елизаветы предприняло регулирование не только заработной платы и цен, по также и системы ученичества, права открывать торговлю и условий, при которых она должна была производиться. Решающую роль в этих делах стали играть не прежние узкие интересы отдельных городов и гильдий, а соображения государственной политики, что дало больше простора инициативе отдельных людей и действиям капиталиста-предпринимателя и купца.
Государство Елизаветы было более либеральным, чем большинство городов и гильдий, оно поощряло переселение в Англию эмигрантов из других стран; обычно ими были беженцы-протестанты, и очень часто они приносили с собой в страну, дававшую им убежище, мастерство и знание новых производственных процессов. Экономический национализм, как он толковался Тюдорами, давал больше свободы отдельной личности, защищая ее от недоброжелательства местных жителей, которое обычно лежало в основе муниципальной политики.
Но эта экономическая свобода еще не была неограниченной политикой свободы торговли. Государство, которое дало отдельному англичанину или гугеноту право производить или торговать, устанавливало правила, которым он в интересах общества должен был подчиняться; с другой стороны, и рабочий, нанимаемый предпринимателем, должен был подчиняться определенным установлениям государственной системы ученичества.
Статут о ремесленниках (1563) требовал, чтобы каждый ремесленник в городе или в сельской местности обучался своему ремеслу в течение 7 лет под наблюдением мастера, который за него отвечал. Цель статута была в такой же степени социальной и воспитательной, как и экономической. Считалось, что «пока человек не достигнет 23 лет, он большей частью – хотя и не всегда – необуздан, не имеет правильных суждений и недостаточно опытен, чтобы управлять собой». После 24 лет, по истечении срока ученичества, он мог, если хотел, жениться, начать свое собственное дело или стать подмастерьем по найму.
Результаты системы ученичества в зависимости от характера мастера были или хорошие, или дурные. Должно быть, было много тяжелых случаев, причем в некоторые из них могли вмешиваться мировые судьи, ответственные за выдачу засвидетельствованного договора между учеником и мастером, как в случае, описанном в третьей главе «Оливера Твиста». Но в общем отношения между мастером и учеником как в области быта и воспитания, так и в области экономической жизни удовлетворяли задачам общества. В течение многих веков ученичество было школой англичан. Это был самый практичный ответ наших предков на всегда существующие проблемы технического образования и на проблемы трудного «послешкольного возраста». Система ученичества существовала до того времени, пока она не была отменена в XIX веке и заменена вначале хаосом «laissez faire» – ни в коем случае не в интересах молодежи нашей страны, предоставленной самой себе. Создавшееся таким образом положение вряд ли еще исправлено.
Но в конечном счете самой крупной социальной переменой в Англии эпохи Елизаветы было расширение ее заморских предприятий. В ее царствование наши купцы нашли новые и более отдаленные рынки – некоторые из них на другой стороне земного шара – взамен рынков в Нидерландах и Франции, которые с незапамятных времен поглощали главный экспорт английских товаров. Соответственно с изменением рынка произошло изменение умственного кругозора. При дворе и в Сити, в парламенте и господских домах, в мастерских и на пахотных полях шли разговоры об океане и о новых землях за ним; о Дрейке, Фробишере и Рэли; о романтичности и выгодах каперства и о жизни исследователей новых стран; о богатстве и безопасности Англии как морской державы; о перспективах колонизации как средствах улучшения личного благополучия и национальной мощи. И какое значение по сравнению со всем этим имела потеря Кале? Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов.
Англичане жаждали новых сфер деятельности. Самым влиятельным писателем века Шекспира, если не говорить о Фоксе, авторе мартирологов, был Хэклут. Хэклут, повествуя о деяниях наших исследователей и моряков, направлял за океан мысли отважной молодежи, ученых, государственных деятелей, купцов и всех тех, кто имел свободный капитал для вложения. Даже сквайры и земледельцы горных местностей начали мечтать о беспредельных просторах девственной земли, ожидающей с незапамятных времен, когда английский плуг поднимет ее целину.
При жизни Елизаветы ни одна колония не утвердилась прочно, хотя сэр Хемфри Гильберт пытался создать колонию в Ньюфаундленде, а Рэли – в Виргинии. Но целесообразность занятия англичанами умеренных районов Северной Америки сделалась общепризнанной государственной доктриной. Еще в 1584 году Хэклут настаивал на этом, чем снискал благоволение королевы и ее покровительство. Тем временем действительное достижение Англией в период царствования Елизаветы своего господства в Атлантике как морской державы и исследования новых стран подготовили почву для переселения английского народа, начавшегося в следующем поколении.
Характер войны с Испанией и ограниченное и своеобразное использование в последующие годы нашей победы над Армадой оказались основным фактором будущего развития стран английского языка и придали специфические черты развитию самой Англии. Победа подданных Елизаветы над испанцами не была такой военной победой, как победа Александра, Писарро или Наполеона. У Елизаветы было мало общего с этими героями или с ее знаменитым предшественником Генрихом V; хотя «Сказание об Азенкуре» не сходило с подмостков народных театров и наполняло англичан гордым сознанием своего былого величия, никто не желал добиваться новых таких побед на континенте или даже искать для них новое поле битвы в Испанской Америке. Победа над испанцами привела лишь к установлению морского превосходства нашего флота над испанским благодаря сочетанию индивидуальной инициативы с осторожной, предусмотрительной государственной политикой. Представление Дрейка о славе было иным, чем у Цезаря. Ему не нужен был ни один дюйм испанской земли в Старом или Новом Свете. Он стремился к добыче, к торговле, хотел свободно плавать по всем морям, почитать Бога, не впадая в ересь, и, наконец, заселять незанятые земли, где единственным обиженным был бы краснокожий индеец-кочевник.
Если бы подданные Елизаветы не были такими противниками налогов и больше любили военную славу, то энергия, с которой впоследствии была заселена Северная Америка, могла быть направлена по ложному пути – на завоевание и развитие тропических колоний Испании. Но мы не воспользовались в этих целях нашей морской победой.
Если бы действительно наше торжество над Испанией было выиграно огромными, (десантными) армиями, переброшенными флотом, как намеревались испанцы закончить победу Армады, если бы испанские колонии силой оружия были подчинены английскому господству, тогда нынешние Соединенные Штаты, Канада и Австралия никогда не появились бы на свет. И, по всей вероятности, характер такого военного напряжения направил бы английское общество и политику на воинственный и монархический путь [36].
Морская война Елизаветы имела обратное влияние: она усиливала стремление к свободе. Наличие военно-морского флота не дает возможности монарху держать в повиновении своих подданных, что он мог бы сделать, располагая армией. В Англии не было армии, и в гражданскую войну Карла I военно-морской флот действительно встал на сторону парламента. Другой основой новой Англии как морской державы было частное предпринимательство – отважные действия Дрейка, Хокинса и им подобных в американских водах, а также купеческих компаний, образовавшихся в Лондоне для продвижения торговли в отдаленные части света; эти действия развивали дух самоуверенности и самоуправления.
Эти новые основы английского общества – новые компании, образовавшиеся в Сити, и воинственные мореплаватели – оказали огромное влияние на всю страну. Дрейк, его товарищи и соперники сделались народными героями. Они и капиталисты-торговцы, которые их поддерживали, были стойкими протестантами, тем более что их врагами были испанцы и в случае плена им грозила бы смерть после пыток в застенках инквизиции. Их союзниками были французские гугеноты из крепости Ля-Рошель и голландские «морские нищие» [морские гёзы] с их бесконечными рассказами «о великодушных милостях» Альбы и Гиза… Суровое морское товарищество, спасшее мир от Филиппа II и костров инквизиции, было воодушевлено воинствующей религией протестантства, которая имела большое влияние на англичан-неморяков. Моряки, победившие Испанию, были строгими приверженцами обычая; они не преклонялись перед авторитетом представителей церкви или государства, но были верны своим испытанным вождям, из которых величайшим была королева. Они рисковали своей жизнью, и мало кому из них удавалось прожить долгую жизнь при чреватых опасностями превратностях войны, кораблекрушениях, несчастных случаях на море, страшных эпидемиях, свирепствовавших на плохо снабжавшихся продовольствием кораблях того времени, где пища была испорченной и правила гигиены неизвестны.
При Тюдорах Англия изменила свое национальное оружие. Она отказалась от ручного лука и установила на кораблях бортовые батареи. Ручной лук, сделавший ее солдат лучшими стрелками во всей Европе, вовлек ее в военную авантюру с Францией, продолжавшуюся сто лет. Бортовая батарея – ряды пушек, выступающих с бортов корабля, – указала ей лучший путь через океан в новые земли. Благодаря корабельным батареям в корне изменился характер войны на море. Она перестала быть делом солдат, стремящихся взять на абордаж неприятельский корабль и сражаться на нем, как на земле; она стала делом моряков, маневрирующих своим кораблем таким образом, чтобы стрелять из своих пушек наиболее эффективно. Корабль перестал быть плацдармом для атакующей стороны и сделался подвижной батареей орудий.
Англичане лучше поняли и быстрее, чем их противники, использовали эту перемену в методах ведения войны на море. Испанцы держались средиземноморских традиций, связанных с галерами на веслах и сцеплением на абордаж. Даже в 1571 году они одержали над турками большую победу при Лепанто, все еще пользуясь той же тактикой, что и греки, нанесшие в свое время поражение персам при Саламине. Эти древние и почтенные традиции задержали развитие испанского искусства мореплавания, даже после того как Филипп II поспешно создал для победы над Англией в Атлантике и в Ла-Манше океанский военный флот. Его Армада, по существу, являлась десантной армией; солдаты, которых на корабле было во много раз больше, чем матросов, третировали последних как физическую силу, обязанностью которой было доставить доблестных солдат на место схватки с врагом.
В английском же флоте – под командованием Говарда, Фробишера, Хокинса и Дрейка – адмирал и его помощники были моряками, полновластно командовавшими всеми, кто находился на борту корабля. Солдат было немного, и каждый знал свое место на корабле. Дрейк во время своего кругосветного путешествия (1577-1580) ввел правило, согласно которому даже джентльмен-волонтер обязан был наряду с моряками тянуть канат. Дисциплина и равенство в команде на море были приняты англичанином, тогда как испанец не мог отбросить свое военное и аристократическое чванство даже при спасении своего корабля. Здесь сказалось социальное различие между двумя странами, проявившееся в методах ведения войны.
В течение 20 лет, предшествовавших появлению Армады, плавание по океану и тактика стрельбы из бортовых батарей были усовершенствованы английскими моряками, которые изучали свое ремесло в самых разнообразных формах – на службе в королевском флоте, как купцы, как исследователи и каперы. Эти службы можно было легко совмещать или сменять одну на другую. Боевое купечество, привыкшее защищаться и силой навязывать свою торговлю на всех морях и океанах, приняло большое участие в битве с Армадой. Однако без государственного военно-морского флота победа не была бы одержана.
Генрих VIII основал военно-морской флот. При Эдуарде VI и Марии он пришел в упадок. При Елизавете флот был восстановлен; однако в первое двадцатилетие ее царствования строительство военно-морских верфей шло медленно. Елизавета получила в наследство обанкротившееся государство и не осмеливалась облагать тяжелыми налогами своих нетерпеливых и строптивых подданных. Ее вошедшая в поговорку экономность, хотя и не всегда целесообразная, была необходима для того, чтобы ее правительство могло сводить концы с концами. Больше того, основная масса тех денег, которые ей удавалось выжать для флота, расходовалась совершенно не так, как следовало бы. У Сесиля и у бдительного Тайного совета были хорошие намерения, но им не хватало технических знаний для того, чтобы обнаружить и устранить издревле существовавшее взяточничество на королевских верфях. Тогда (в 1578 году) Елизавете пришла счастливая мысль поставить во главе строительства и ремонта ее судов Джона Хокинса.
В течение десятилетия до начала открытой войны, которую королева так долго и так умно оттягивала, Хокинс на военно-морских верфях сделал так же много, как Дрейк на побережье Тихого и Атлантического океанов.
Наконец-то деньги королевы полностью расходовались по назначению. Но Хокинс не только уничтожил взяточничество; этот крупный общественный деятель, который, занимаясь торговлей и каперством между Африкой и Испанской Америкой, имел опыт, уступавший только опыту Дрейка, прекрасно понимал, какой тип кораблей он должен был строить применительно к новой тактике морской войны. Его критики, державшиеся взглядов старой школы, требовали кораблей с высокой надводной частью, с корпусом, неприступным для врага, но неудобных для маневрирования, с помещениями для огромного количества солдат, которые опустошали бы запасы. Хокинс отказался от таких «замков». Несмотря на протесты, он строил военно-морские корабли низкие, длинные и узкие, обладающие высокой маневренностью и оборудованные тяжелыми орудиями. Таким кораблем был «Мститель», много лет спустя подтвердивший на практике правоту его конструкторов, когда в течение суток вел бой с испанским флотом.
Английские купцы в поисках более отдаленных рынков были привлечены новыми потенциальными возможностями, открывающимися перед мореплаванием, и вдохновлялись общим духом отважного предпринимательства этого века. Но к этим поискам их вынуждало также закрытие старых ближайших рынков. Потеря Кале, где на королевской торговой базе велась торговля шерстью в течение стольких прошедших поколений, произошла за несколько месяцев до восшествия на престол Елизаветы. Это было ударом для английских экспортеров шерсти, от которого они никогда не смогли оправиться полностью, так как общее направление событий было выгодно не им, а их соперникам – мануфактуристам и торговцам сукном.
После потери Кале рынком для английской шерсти и сукна все еще оставались самые древние торговые центры: Брюгге и Антверпен в Нидерландах. Но в течение нескольких ближайших лет и здесь английские торговые базы были закрыты. Ссора молодой королевы и ее Тайного совета с Гранвеллой, управлявшим тогда Нидерландами от имени Филиппа II, возникла вследствие политических, религиозных и экономических разногласий. Пиратство англичан в Ла-Манше; английская дружба с протестантами в городах, где они торговали, поддерживаемая городскими властями и населением Антверпена; испанская нетерпимость к иностранным еретикам – все это сыграло свою роль в разрыве.
Но не менее важным было экономическое столкновение интересов двух меркантилистических политик – Гранвеллы и Елизаветы. Каждая из сторон считала, что другая находится в ее власти. Гранвелла был убежден, что если запретить англичанам продавать их сукно в Нидерландах, то они не смогут продавать его где-нибудь в другом месте и будут вынуждены привозить свою сырую шерсть для переработки ее на станках Нидерландов. Англичане были уверены, что Нидерланды не могли бы процветать без торговли с Англией.
Ссора достигла высшей точки в первом десятилетии царствования Елизаветы, за двадцать лет до начала настоящей войны между Англией и Испанией. Английские торговцы сукном, не допускавшиеся в Нидерланды, направились в 1567 году в Гамбург с целью проникнуть оттуда в Европу, и притом для того только, чтобы уже через 10 лет быть изгнанными оттуда меркантилистской нетерпимостью ганзейских городов.
Эти перемены рынков вызвали большие бедствия и периодическую безработицу в суконной английской мануфактуре, но постепенно были найдены новые рынки в далеких краях. В Лондоне образовались новые компании, которые с успехом сбывали товары в Россию, в Пруссию, в балтийские страны, в Турцию и Левант. Английские купцы сначала проникли по русским водным путям вПерсию, а затем через мыс Доброй Надежды – и в Индию. В 1600 году старая королева выдала грамоту Ост-Индской компании, открывшую перед последней такое экономическое и политическое будущее, которое превзошло все романтические вымыслы. Все эти новые смелые предприятия мирового масштаба освободили торговлю Англии от неизбежных в противном случае тяжелых последствий -потери ее старых рынков, находившихся поблизости от ее собственных берегов. Этот переворот оказался возможным благодаря духу предприимчивости капиталистов лондонского Сити, искусству моряков и морских капитанов новой школы и отважным предприятиям английских исследователей как на суше, так и на море.
Уже в 1589 году Хэклут, посвящая Френсису Уолсингэму первое издание своих «Путешествий», с гордостью писал:
«Кто из королей нашей страны до Ее Королевского Величества когда-либо видел свои флаги на Каспийском море? Кто из них вел когда-либо дела с персидским шахом, как это делала Ее Величество, и получал для своих купцов большие милостивые привилегии? Кто когда-либо до ее царствования видел английского посла в роскошном портале великого султана в Константинополе? Кто встречал когда-либо английских консулов и его агентов в Триполи (Сирия), в Алеппо, в Вавилоне, в Бакаре, и, что еще важнее, кто слышал когда-либо ранее об англичанах в Гоа? Какой английский корабль до сего времени бросал якорь в величавой реке Ла-Плате; проходил туда и обратно непроходимый (как прежде считалось) Магелланов пролив; продвигался вдоль побережья Чили, Перу и в глубь всей Новой Испании дальше, чем любой христианин, путешествовавший здесь ранее; пересекал громадную ширь Южного моря [Тихого океана]? Кто из англичан высаживался на берегах острова Лусон, невзирая на врагов; входил в союз, в дружественные и торговые сношения с принцами Молуккских островов и острова Ява; огибал знаменитый мыс Доброй Надежды; бывал на острове св. Елены и, наконец, возвращался домой из Китая на своем корабле, богато нагруженном товарами, как это делают подданные нашего ныне процветающего монарха?» В конце царствования Елизаветы торговля и финансы Англии таким образом восстанавливались и расширялись на новой основе, а ее старинные соперники быстро шли к упадку.
Прекращение английской торговли само по себе могло и не быть роковым для процветания Испанских Нидерландов, но там за этим последовали ужасные религиозные преследования и война против правления Альбы. Сложный переплет этих событий положил конец длительному господству Антверпена в торговле и в финансовых делах Европы. Вместо него возвысились Амстердам и другие города мятежной Голландской республики. В недалеком будущем голландским морякам предстояло стать главными соперниками англичан во всех водах мира; но для подданных Елизаветы голландские моряки имели большее значение как союзники в войне, чем как соперники в торговле.
Тем временем торговые итальянские города приходили в упадок вследствие возрастания трудностей сухопутной торговли с Востоком и конкурентного влияния морского торгового пути вокруг мыса Доброй Надежды, оказавшегося в руках Португалии, Голландии и Англии. Итальянские купцы покинули огромную область мировой конкуренции. Венецианские купцы перестали приезжать в Англию за котсуолдской шерстью. В 1587 году последнее большое торговое судно, отправленное Венецией в Саутгемптон, потерпело крушение; с его гибелью пришел конец и средневековой торговле и тому значению, какое она имела для Италии и Англии. Саутгемптон, бывший итальянским складом, пришел в упадок, а Лондон разбогател еще больше, так как товары из районов Средиземного моря и Дальнего Востока прибывали теперь в Темзу на английских судах.
В следующем столетии большую роль в английской колониальной торговле, в ее торговой экспансии и в торговле Бристоля играл табак. Тогда еще не было английских колоний, но уже и 1597 году новый американский «сорняк» ввозился в огромном количестве контрабандным путем в бухты Корнуолла французскими, фламандскими, корнуоллскими кораблями при открытом и вооруженном сопротивлении таможенных чиновников. Обычай курить табак в длинных глиняных трубках был весьма распространен к концу жизни королевы.
Расширение заморских предприятий было тесно связано с развитием торгового капитализма, несовместимого со старой городской и цеховой системой.
Цеховой строй был неблагоприятен для накопления капитала. По своей технике и укладу своей жизни купцы и ремесленники Средних веков, быть может, шли впереди грядущих веков. Но по своему характеру цеховой строй был муниципальным, и его структура была не эластичной, и поэтому он уступил дорогу системе, которая сама по себе вела к расширению и к перемене. Мы называем это торговым капитализмом, с дополняющей его «домашней» системой производства. Капиталист-торговец явился посредником, разрушившим старые преграды. Он пренебрегал городскими корпорациями, раздавая работу в деревне, и избегал монополий привилегированных компаний, нарушая их… Он совершал крайности, но он был жизненной силой экономического развития.
Развитие торгового капитализма наперекор старой муниципальной цеховой системе ясно обнаруживалось в торговле шерстью уже давно – во времена Чосера. В царствование Елизаветы оно сделало другой большой шаг вперед образованием заморских торговых компаний нового рода. Их было два типа. Первый тип – «регулируемая компания», в которой все члены торговали на свой собственный капитал, подчиненные общим правилам товарищества; таковой была компания «предприимчивых купцов», которые, как экспортеры сукна, имели большое значение в прошлом и такое же большое значение в будущем, а также компании Восточная, или Балтийская, Русская (Московская) и Левантская. Второй тип – акционерные компании: Ост-Индская и Африканская и через два поколения – компания Гудзонова залива. В компаниях второго типа торговля производилась всеми купцами сообща и прибыли и убытки делились между пайщиками.
Для каждой из этих компаний, безразлично, регулируемой или акционерной, королевской хартией отводилась определенная географическая зона ее операций, и ни один «нарушитель» ее монополии – пусть даже и английский купец – не смел там торговать.
Такая монополия была и справедлива, и необходима вследствие расходов на форты, учреждения и вооружение, которые компании должны были содержать за свой счет, потому что в далеких водах королевский военно-морской флот не мог их защищать. Эти компании времен Елизаветы во многих отношениях своими привилегиями и своей деятельностью походили на «привилегированные компании», которые в царствование Виктории помогали развивать внутренние области Африки и вместе с тем нарушать сложившийся в них порядок. Быть может, это был век, когда уже неразумно было передоверять политические дела и военные силы частной группе подданных королевы. Но при Елизавете не было другого способа для продвижения торговли в дальние страны, и если здесь, в дальних странах, упомянутые компании плохо управляли, то страдали их члены и английское государство не отвечало за последствия. Эти крупные лондонские компании, лишь очень слабо связанные с государством, работали этаких условиях, которые способствовали развитию частного предпринимательства, самоуправления и уверенности в себе. Как бы велико ни было в конечном счете значение этих компаний в истории Индии и Северной Америки, их влияние на родине на формирование английского характера, на социальные и политические перемены было также очень велико, как это показала история эпохи Стюартов и Ганноверов. Спустя поколение после смерти Елизаветы путешественник Питер Манди отметил одно из «семи дел, в которых Англия, можно сказать, имеет превосходство, – торговлю и открытия, а именно множество компаний купцов, получивших право для торговли за границей, которые вкладывают свои знания и средства для ее развития, отправляя на риск свои товары и всякого рода флотилии и суда в большую часть известных к тому времени стран мира». Со средневековой Англией торговали итальянцы, французы и немцы; сама Англия эпохи Елизаветы торговала даже с далекими прибрежными странами. В торговом отношении мы перестали быть наковальней и сами сделались молотом.
Для отдаленного потомства знаменательным событием истории Англии эпохи Елизаветы будет появление в тот период пьес Шекспира. Объясняется это не только тем, что именно в это время довелось родиться величайшему гению человечества. Его творения могли быть созданы только в тот период, охватывающий последние годы царствования Елизаветы и начало царствования Якова, в какой ему выпало счастье жить. Он не мог бы писать так, как писал, если бы мужчины и женщины, среди которых он жил, не были такими, какими они были по своему складу ума, жизни и речи, или если бы лондонские театры в ближайшие после разгрома Армады годы не достигли известной степени развития и не были готовы к воплощению на сцене его творений.
Не случайность, что шекспировские пьесы написаны больше в стихах, чем в прозе, потому что слушатели, к которым он обращался – простые люди английских городов и деревень, – привыкли к поэзии как к способу передачи сказаний, занимательных рассказов, историй, новостей о современных событиях и сенсационных сообщений. На городских улицах и на деревенских лужайках вразнос продавались не газеты и романы, а баллады об Автолике и его товарищах, удовлетворяя общий спрос. Баллады размножались и продавались в количестве многих тысяч экземпляров; они содержали библейские легенды или классические мифы и истории, средневековые легенды или рассказы о событиях сегодняшнего дня – об Армаде или о Пороховом заговоре, о последнем убийстве или о сбежавшей парочке. И лирические произведения, и любовные песни, слова которых продолжают жить как шедевры в наших современных антологиях, распевались как общенародная музыка и выражение народного чувства. В таких условиях за двадцать лет до того, как были поставлены первые пьесы Шекспира, внезапно появилась новая драма, новая школа драматургов, из которых главным был Марло, и труппы высокообразованных актеров, относящихся к своей профессии с величайшей серьезностью. К средневековому клоуну, балаганщику, старающемуся превзойти по своему страшному виду самого Ирода, присоединились новые люди более утонченного искусства, из которых Бербедж вскоре сделался наиболее знаменитым; эти люди довели искусство интерпретации действия до совершенства; при них были мальчики-ученики, с самого детства со всей строгостью обучаемые играть женские роли с достоинством, веселостью и ловкостью.
Уильям Шекспир
В середине царствования Елизаветы актерам и драматургам был открыт широкий путь к богатству и почету. Странствующие труппы находились под покровительством литературно образованных знатных людей, дворцы и господские усадьбы которых они посещали как желанные гости, играя в залах и галереях. Но даже лучше «как для славы, так и для выгоды» было играть в театрах, выстроенных на луговинах Саутуорка, на берегу Темзы, перед пестрой и разборчивой публикой столицы; в то время как горожане со своими женами, ученики со своими возлюбленными направлялись через Лондонский мост посмотреть на пьесу, люди высшего общества прибывали в лодках из Уайт-холла, а ловкие молодые юристы – из здания Судебного подворья.
Представления давались в дневное время, не было ни занавеса, ни рампы. Авансцена была открыта. Наиболее привилегированная публика сидела на «стульях», почти среди актеров, «зрители партера» стояли внизу, под дождем и солнцем, глазея на спектакль. Крытые галереи, которые включали «деревянные уборные театра», были также полны народа. Таким образом, на представления собирались различные классы общества, в большей или меньшей степени отличающиеся друг от друга по вкусам и образованию. Шекспир должен был всем им доставить удовольствие.
Когда Шекспир впервые познакомился с этой требовательной публикой, она жаждала интриги и пышного зрелища, шума, грубого фарса, вульгарной клоунады, потока тонких и ловких острот и самой лучшей музыки, потому что у англичан тогда были самые лучшие песни и лучшая музыка в Европе; она также была полна страстного интереса, которого нет у современной средней публики, к риторике и поэзии как средству передачи актерской игры и выражения страстей. И все это давал Марло и его товарищи по работе, создав в несколько лет новую драму, которую Шекспир тщательно изучил. Он поддержал эту традицию и в последующие двадцать лет развил ее в нечто гораздо большее, чем самое совершенное из всех общественных развлечений.
Его поэзия была еще более высокого класса, чем «могучий стих» Марло, и он изобрел прозаический диалог, утонченный и мощный и иногда такой же прекрасный и гармоничный, как и его стихи. Он сделал обе формы средством изображения не только красоты, ужаса, остроумия и высшей философии, но совершенно нового явления в драме – изображения индивидуальных характеров вместо прежних типов и «олицетворенных» страстей, которые до этого господствовали на сцене. Даже сюжет, даже действие было подчинено теперь характеру, как, например, в «Гамлете», и все же пьеса нравилась. Его мужчины и женщины настолько реальны, что мы всегда обсуждаем их, как будто они жили своей настоящей жизнью, а не на сцене. И действительно, за два прошедших столетия герои его пьесы жили в исследованиях искусствоведов даже ярче, чем на сцене. И все же они – пьесы, даже когда они представляются в нашем воображении, и только сцена может дать им полную силу, хотя очень часто она их искажает. Театру Елизаветы мы обязаны Шекспиром и всем, что он создал. За это мы должны принести благодарность театру и современникам Елизаветы.
Историк, изучающий социальную историю, не может описать людей прошлого во всей их реальности; самое большее, что он может сделать, – это указать условия, при которых они жили и работали. Но если он не может показать, каковы были наши предки, то это может сделать Шекспир. По его пьесам мы можем изучить мужчин и женщин того времени. Например, мы можем установить действительные отношения между полами, положение и характер женщин времен Елизаветы, возможно, лучше, чем это могло бы быть отражено в социальной истории.
Так как наше изучение английской сцены переходит из средневековья к Новому времени, то мы получаем все в больших масштабах ту помощь, прообраз которой впервые показал нам Чосер, а именно беллетристику, которая изображала современных писателю людей – их склад мышления, их речь, их поведение. Эти современные впечатления с течением времени сделались историческими документами исключительной ценности. Тогда же в XVII столетии вошло в обычай писать интимные дневники и мемуары, такие, как дневники Эвелина, Пеписа и позднее босуэловского «Джонсона». Эти произведения, а также английская драма и романы Филдинга, Джейн Остин и Тролоппа и сотни других помогали социальной истории как раз в той области, где юридических и экономических документов недостаточно. Все, кто стремится узнать, какими были его предки, найдут неиссякаемый источник радости и знания в литературе, которой налет времени придал исторический интерес, о чем не мечтали ее авторы. Таковы «книги, искусство, наука», помогающие изучению социальной истории прошлого, и величайшая заслуга здесь принадлежит Шекспиру.
Глава VIII Англия Карла и Кромвеля
Период правления Стюартов в Англии до вспышки Великого мятежа [гражданской войны] может рассматриваться в области социальной и экономической истории как лишенное событий благополучное продолжение века Елизаветы, протекающего в условиях мира и безопасности, сменивших внутренние тревоги и внешние войны. Сельское хозяйство, промышленность и торговля продолжали усиленно развиваться в направлении, уже описанном в двух предшествующих главах. Мирно процветающее сельское общество, в котором широкие слои обладали земельной собственностью, благоприятными возможностями и средним достатком, предоставляло обширный простор для деятельности и усиления влияния сельского крупного и мелкого дворянства, а также йоменов; даже находящиеся в менее благоприятных условиях крестьяне и сельскохозяйственные рабочие мало жаловались на свою участь. Промышленность и торговля развивались в том же направлении, которое определилось во времена Тюдоров. Основанные при Елизавете компании для торговли с отдаленными странами Нового Света богатели, приобретая все большее влияние; вместе с ростом компаний разрастался и Лондон, обгоняя быстрее, чем раньше, другие города, и все быстрее увеличивалась разница между ним и другими городами как в отношении численности населения, так и в отношении богатства и всех других признаков его могущества. В целом по всей стране система ученичества, законы о бедных [37]регулирование заработной платы и цен, экономические и административные функции мировых судей, действовавших под наблюдением и руководством Тайного совета, были в основном такими же в день, когда собрался Долгий парламент, как и в день смерти королевы Елизаветы. Никаких крупных перемен в сельском хозяйстве, в промышленности или в социальном строе не произошло в Англии за те сорок лет, когда зарождалась парламентская и пуританская революция в недрах этого внешне устойчивого и неподвижного общества.
Медленный ход изменений в экономической и социальной жизни Англии в течение первых сорока лет нового века ненамного ускорился после соединения монархий – английской и шотландской -в лице преемника Елизаветы. Народы, парламенты, законы, церкви и системы торговли обоих королевств оставались еще на столетие такими же разделенными и различными, как и раньше. Не произошло также и обмена населением в результате унии корон. Шотландия была слишком бедна, чтобы привлекать к себе англичан, слишком ревнива, чтобы признать иммигрантов из Англии. Когда Яков VI, король Шотландии, он же Яков I, король Англии, направлялся из Холируда в Уайтхолл в 1603 году, его сопровождали толпы придворных и обедневших авантюристов – первая струя того великого потока шотландцев, которые с тех пор переходили границу в поисках счастья. Но это было задолго до того, как лоток приобрел такие размеры, что стал явлением национального значения. Сменился целый ряд поколений, прежде чем шотландские фермеры, механики, садовники, администраторы, врачи и философы во множестве двинулись на юг, принося с собой свое мастерство, трудолюбие и знание, достаточные, чтобы оказать влияние на жизнь Англии, на рост ее благосостояния. Весь же XVII век англичане в поисках новых идей в религии, политике, агрономии, мелиорации, садоводстве, торговле, навигации, философии, науке и искусстве обращались не к Шотландии, а к Голландии.
В свою очередь, при Стюартах английская мысль и практика также не имела большого влияния на шотландцев, чья гордость восставала против попыток их слишком могущественного соседа оказывать свое влияние. Шотландская религия облачилась в строгое одеяние чисто местного производства и была одинаково враждебна англиканству с его «Книгой Общих молитв» и английскому пуританизму с его неортодоксальными сектами. Особый дух шотландского общества, феодального в смысле личной верности вассала своему лорду, но равноправного в смысле человеческихотношений между классами, был также совершенно недоступен рассудку англичанина до тех пор, пока романы Вальтера Скотта не стали, конечно, задним числом, ключом к нему.
В заморской торговле купцы обеих стран все еще оставались соперниками. Богатые англичане, пользуясь силой своих кошельков, повсюду одерживали верх, всячески вытесняя шотландцев с иностранных и колониальных рынков. Дома оба народа сердито смотрели друг на друга через мирную теперь границу. Уния корон могла бы положить конец непрерывным военным столкновениям, длившимся три столетия, но старая традиция взаимных обид и мести создала враждебность, с которой не так легко было покончить. В гражданских и религиозных смутах времени Стюартов английские и шотландские партии церкви и солдаты часто действовали совместно на стороне парламента или короля, но чем больше они узнавали друг друга, тем труднее им было прийти к соглашению, так как эти две нации все еще находились на разных уровнях мышления и чувствования.
Как бы ни были малы и постепенны перемены в самой Англии в течение первых сорока лет XVII века, как бы ни было мало влияние династической унии с Шотландией на социальную жизнь этого времени, все же эти спокойные годы явились свидетелями величайшей из всех перемен – начала непрерывной экспансии английской нации за моря. Успешное основание колоний в Виргинии, Новой Англии, на Вест-Индских островах – например на Барбадосе – и создание первых торговых пунктов напобережье Индостана были крупнейшими событиями царствования Якова I и первых лет правления Карла I.
Английская нация снова начала выходить за пределы своих островных границ, и на этот раз в правильном направлении. Попытка, сделанная вовремя Столетней войны, превратить Францию в английскую провинцию явилась первым инстинктивным проявлением пробуждающегося национального самосознания и вновь осознанной способности к экспансии. После крушения этой попытки англичане на полтора века оказались замкнутыми в самой Англии и здесь накапливали свои богатства, знания и морскую мощь; теперь они снова начали расширяться, но совершенно иными методами, под совсем иным руководством.
На этот раз «добрый йомен, чьи члены были сделаны в Англии», снова выступил, но не в компании с рыцарями и не под предводительством короля, не с луком для разграбления и завоевания древней цивилизации, а с топором и плугом, чтобы основать в диких местах новую цивилизацию.
Первым необходимым условием для этого предприятия был мир. Пока продолжалась война с Испанией, ограниченные запасы богатства и энергии Англии поглощались борьбой на морях, в Ирландии и в Нидерландах. В условиях войны потерпела неудачу попытка Елизаветы основать Виргинию. В первый год царствования нового короля – Якова I – его заслугой явилось заключение выгодного мира после успешной войны. Его последующая внешняя политика была во многих отношениях слабой и неразумной: он привел к упадку военный флот и отрубил голову Рэли, чтобы угодить Испании. Но, во всяком случае, его пацифизм дал Англии мир, и его подданные использовали эту передышку, чтобы посеять семена Британской империи и Соединенных Штатов. Восстановление мощи военного флота Карлом I и поддержание его последующими правителями создали возможность для безопасного развития колониального движения. Правительство обеспечивало условия, при которых колонизация была возможна, а частное предпринимательство проявляло инициативу, предоставляло деньги и людей.
Лондонские компании, как, например, Виргинская компания и компания залива Массачусетс, финансировали и организовывали иммиграцию, которая без их помощи была бы невозможна. Целью знати, джентри и купцов, снабжавших деньгами, было, с одной стороны, быстро получить хороший процент на свои капиталовложения, но в еще большей степени – создать за океаном постоянный рынок для английских товаров в обмен на продукты Нового Света, такие, как, например, табак, который Виргиния стала вскоре производить в большом количестве. Патриотические и религиозные мотивы воодушевляли многих из тех, кто предоставлял средства, корабли и снаряжение для этого предприятия. За 1630-1643 годы было затрачено 200 тысяч фунтов стерлингов на перевозку в Новую Англию на двухстах кораблях 20 тысяч мужчин, женщин и детей; за этот же период больше 40 тысяч эмигрантов было перевезено в Виргинию и другие колонии.
Наиболее деятельные «организаторы» движения принадлежали к знатнейшим и богатейшим подданным короля; но сами колонисты были из средних и низших слоев города и деревни. Они участвовали в колонизации отчасти из эгоистических и экономических соображений, а отчасти – из идейно-религиозных. Для большинства поселенцев религиозный мотив играл весьма несущественную роль или даже совсем не имел никакого значения, но он вдохновлял вождей эмиграции в Новой Англии, подобных отцам-пилигримам (1620), а позже Джона Уинтропа и его товарищей. Их религиозное рвение наложило пуританский отпечаток на северную группу колоний ,что должно былооказать сильное влияние на социальное развитие будущих Соединенных Штатов.
Те, кто пересекал Атлантику по религиозным мотивам, стремились, по словам Эндрю Марвелла, избежать «ярости прелатов». При Якове, Карле и Лоде в Англии допускалась только одна религия, и это была отнюдь не пуританская религия. Некоторых из религиозных эмигрантов в Новую Англию стремились установить в этой дикой стране царствие Божие по женевскому образцу и принудить к этому всех, кто захочет стать гражданами теократической республики – чем вначале действительно и был Массачусетс. Другой тип пуританских изгнанников – подобно основателю колонии Род-Айленд Роджеру Вильямсу и различным группам поселенцев Нью-Гемпшира и Коннектикута – желал пользоваться религиозной свободой не только сам, но готов был распространить ее и на других. Вильямс был изгнан из Массачусетса за то, что отстаивал мнение, что светская власть не способна оказывать какое-либо влияние на совесть людей. Так в Новой Англии уже в 1635 году выявилось то противоречие между двумя пуританскими идеалами – принудительным и либеральным, – которое позже раскололо ряды победителей «круглоголовых» старой Англии. Терпимое отношение к разным религиям господствовало в англиканской Виргинии и в Мэриленде, основанных католиком лордом Балтимором.
Поселенцы Виргинии, Вест-Индских островов и в значительной части даже Новой Англии эмигрировали из Англии совсем не по религиозным мотивам. Рядовые колонисты ушли за океан с характерным для англичанина желанием «улучшить свое положение», что в то время означало приобрести землю. Свободная земля и свободная вера – вот обещания, содержавшиеся в памфлетах, которые выпускались компаниями, поддерживавшими эмиграцию. Это было время земельного голода в Англии. Многие младшие сыновья крестьян и йоменов не могли получить землю на родине; прежние копигольдеры часто оказывались согнанными со своих старых, обеспеченных держаний и низведенными на положение арендаторов или держателей по воле лорда. Рента росла, и держатели жестоко боролись за землю. Безработные ремесленники также могли быть уверены, что на новых местах будет большой спрос на их труд. Многих предприимчивых дворян манили не только перспективы получения земель, но и погоня за неведомым, чудесным, рассказы о баснословных богатствах, которые можно приобрести в Америке: эти стремления суждено было осуществить только их отдаленным потомкам и совершенно неожиданными путями. Молодая Новая Англия не являлась страной больших богатств или больших социальных контрастов.
Все эти группы эмигрантов отправлялись в колонии по собственному желанию, с помощью частного предпринимательства и под влиянием частной пропаганды. Правительство высылало туда лишь осужденных., а позже – пленников гражданских войн. Эти несчастные, а также молодежь, похищенная частными предпринимателями для продажи в рабство на Барбадосе или в Виргинии, зарабатывали себе свободу, если жили достаточно долго, и часто являлись основателями преуспевающих фамилий. Дело в том, что вскоре молчаливо было признано, что одни лишь негры из Африки должны находиться в бессрочном рабстве. Торговля рабами с испанскими колониями, начало которой положил Хокинс, теперь позволяла снабжать Виргинию и английские острова Вест-Индии.
В период гражданских войн Карла и Кромвеля поток добровольных эмигрантов сократился. Виргиния и Мэриленд были пассивно лояльными королю; даже колонии Новой Англии, хотя симпатии их были на стороне пуритан, остались нейтральными. Уже тогда силен был в Америке инстинкт «изоляции» от европейских дел. Три тысячи миль – путь очень далекий, путь тяжелых лишений, длившийся несколько месяцев; за это время смерть собирала немалую дань на плохо приспособленных кораблях. Таким образом, после ее нескольких первых лет социальная история Америки навсегда перестала быть частью социальной истории Англии. Новое общество начало вырабатывать свои собственные характерные черты в условиях жизни пионеров-иммигрантов, резко отличающихся от тех, которые господствовали в «английском саду» времен Шекспира и Мильтона. Тем не менее колонии явились продуктом английской жизни XVII столетия, ставшей для них источником идей и устремлений, которые должны были вести их далеко по новым путям их судьбы.
Англия того времени и в течение двух последующих столетий была подходящим источником, поставлявшим колонистов надлежащего сорта. Именно поэтому в Северной Америке и Австралии еще и сейчас говорят по-английски. До конца XIX века в Англии процветала сельская жизнь и господствовали традиции. Рядовой англичанин не был еще горожанином, совершенно оторванным от природы; он еще не был клерком или узкоспециализированным рабочим, не могущим приспособиться к новым условиям, нежелающим променять преимущества высокого уровня жизни у себя дома на тяжелую трудовую жизнь в неведомой стране. Англичанин времен Стюартов и Ганноверов умел лучше приспособляться, чем его потомки, и мотивы, побуждавшие его эмигрировать, были более сильными. На родине ему не обеспечивался ни соответствующий уровень жизни, ни пенсия на старости лет; он мог рассчитывать лишь на то, что мог заработать собственным трудом. Закон о бедных спасал его лишь от голодной смерти, но не больше. Кроме того, житель английского города XVII века все еще понимал кое-что в сельском хозяйстве, а житель английской деревни еще понимал кое-что и в ремеслах. Горожане обрабатывали свои «городские поля». В деревне были люди, не только обрабатывающие землю, но и строившие себе жилища и сараи, ткавшие и изготовлявшие одежду, делавшие мебель, земледельческие орудия и упряжь. Женщины-крестьянки могли печь, доить коров, готовить пищу, помогать на полях, прясть, чинить или шить одежду, а также и выращивать своих детей. Эмигранты из таких экономически самостоятельных селений, привезенные на одном корабле, были в силах создать и поддерживать существование нового поселения в необитаемых местах, даже там, где не было никакой городской торговли для снабжения их всем необходимым.
Создатели первых американских поселений должны были быть поразительно многогранными, выносливыми и смелыми людьми. Большая часть первых колонистов – считают, что больше трех четвертей, – умерла преждевременно в результате лишений, обрушившихся на них в пути, болезней, голода, отсутствия жилищ и войн с индейцами. Лишь немногие выжившие в первые годы иммиграции основывали города в этом лесном краю, заселяли и расширяли их. Во многих отношениях это было повторением англосаксонского заселения Британии: борьба с девственным лесом и болотами, война со старыми обитателями. Но англосаксонские завоеватели были варварами, привыкшими к дикой жизни; американские поселенцы же были людьми цивилизованными, некоторые из них были высокообразованными. Одним из их первых дел в Массачусетсе было создание университета – Кембриджа на новой земле. Чтобы переносить трудности примитивной жизни, от цивилизованных людей требуются высокие качества, которыми Англия тех времен могла щедро снабдить.
Вновь основанные колонии – как на материке, так и на островах, как под контролем лондонских компаний, так и непосредственно под властью короны – сразу получили широкую независимость. Они избирали [административные] собрания в каждой колонии и сделали каждый городской округ самоуправляющейся единицей. В Новой Англии церковная конгрегация укрепляла связи и руководила политикой городского округа. Инстинктивное стремление устранить власть метрополии, безразлично, в лице короля или компании, существовало уже в первых поселениях, особенно в Массачусетсе, но общеконтинентальные масштабы оно приобрело лишь при Джордже Вашингтоне.
Стремление первых английских поселенцев к самостоятельному управлению своими делами не может быть приписано исключительно их отдаленности от Европы. Испанские, французские и голландские колонии в Америке и Южной Африке были не менее удалены, но они, однако, долго оставались не демократическими по форме правления, а подчиненными власти метрополии. Независимый характер английских поселений отчасти был вызван обстоятельствами их возникновения: они не были основаны каким-либо государственным актом, а возникли по частной инициативе. Многие колонисты покинули Англию с мятежным настроением, в поисках спасения от ее церковных порядков. А король Франции, наоборот, обычно не допускал гугенотов в Канаду.
Кроме того, в старом английском обществе существовали привычки к самоуправлению, которые были легко перенесены за океан. Так, традиции сквайрархии, принесенные с родины – местное управление английским графством мировыми судьями, которые были местными землевладельцами, – привели вскоре в Виргинии к установлению господства аристократов-плантаторов, целыми днями разъезжавших верхом по своим владениям; жизнь их отличалась от жизни английского сельского дворянства главным образом тем, что они владели неграми-рабами. Аристократический строй развивался наряду с развитием плантаций табака, который вскоре стал основным богатством колонии.
В Новой Англии установилась пуританская демократия фермеров и торговцев, также коренившаяся в привычках, привезенных из Старого Света. В начале XVII века английское графство и деревня, находившиеся под властью сквайров и мировых судей, все еще сохраняли элементы общинного самоуправления. Фригольдеры принимали участие в суде графств. Манориальная курия все еще обслуживалась крестьянами, которые номинально, и в известной степени фактически, являлись судьями в разбиравшихся там делах. В каждой английской деревне были различные мелкие должности – констебля, надзирателя за бедными, старосты, рабочих для починки дорог, церковного старосты, пивовара, помощника церковного старосты – и бесчисленное множество других мелких общественных должностей, которые замещались простым людом путем избрания или по преемственности. Эти привычки к местному самоуправлению на родине помогали созданию городских организаций и судов Новой Англии.
Эмигранты перенесли сюда также суд присяжных и обычное английское право – закон свободы. Наконец, немалую роль сыграла доктрина о праве парламента как представителя народа соглашаться или не соглашаться на введение налогов; эта доктрина была широко распространена в Англии Якова I и Карла I, особенно среди лидеров оппозиции, подобных Эдвину Сендису, который так много сделал для колонизации Виргинии, и среди пуританского дворянства и йоменов Восточной Англии, сыгравших главную роль в заселении Новой Англии. Для этих людей являлось непреложной необходимостью немедленное создание колониальных собраний.
Дух независимости стимулировался также религией Библии, которую колонисты принесли с собой с родины. Даже в Массачусетсе, где священники и пуритане сначала получили тираническую власть над остальными, не существовало никаких правовых норм для их духовного и социального господства, помимо молчаливого согласия их сограждан. Духовенство Новой Англии не могло, подобно англиканскому духовенству Лода, претендовать на авторитет, исходящий от короля. Еще менее могло оно, подобно католическим священникам, руководившим всей жизнью Французской Канады, опираться на незапамятную древность своей духовной власти, берущей начало в Древнем Риме. Единственным основанием для власти церкви в Новой Англии или в Виргинии было общественное мнение. Поэтому и религия американцев, говорящих на английском языке, стала скорее конгрегациональной, чем церковной, и в дальнейшем служила укреплению демократического духа заатлантического общества.
Таким образом, частным предпринимательством, а именно финансовым, коммерческим, сельскохозяйственным и политико-религиозным, были основаны американские колонии. Первым применением государственной политики и военной силы в целях развития колониальной империи был захват Кромвелем Ямайки у Испании (1655) и последовавшее затем при Карле II приобретение у голландцев территории Нью-Йорка, Нью-Джерси и Пенсильвании (1667). В это время государство было уже невластно изменить независимый характер английского колониального общества. Но растущая потребность в защите колониальной торговли королевским флотом в Атлантике от иностранных врагов делала возможной политику государственного вмешательства в эту торговлю, осуществляемого с помощью Навигационных законов. Со времен Кромвеля эти законы, если не полностью, то по крайней мере частично, проводились в жизнь. Их целью, успешно достигавшейся, являлся рост доли английских товаров, перевозимых на английских судах, и сохранение за Англией доминирующей роли в торговле колониальных стран.
В то же самое время на другой стороне земного шара корабли другой лондонской торговой компании начали новую главу в истории Англии. Ост-Индская компания, основанная хартией Елизаветы в 1600 году, получила по этой хартии монополию торговли ее членов с «Ост-Индией», включая право издавать законы и право суда над своими служащими за океаном и – что также подразумевалось – право вести войну и заключать мир в странах, находящихся за мысом Доброй Надежды. В течение многих последующих поколений ни один корабль английского военно-морского флота не огибал мыса Доброй Надежды. Корона не считала себя в силах предпринимать на Востоке каких-либо действий в защиту национальной торговли в этих областях, подобно тому, как это делалось в защиту атлантической торговли с американскими колониями. Поэтому компании приходилось своими силами защищать свои фактории с помощью сипаев; на морях крупные корабли Ост-Индской компании, построенные, снаряженные и укомплектованные людьми для торговли, так и для войны, отражали своими бортовыми батареями нападение португальских и голландских конкурентов и пиратов всех наций. Но компания мудро заботилась о том, чтобы избегать столкновений с индийскими правителями, и не проявляла никаких территориальных или политических вожделений.
Первый великий англо-индийский государственный деятель Томас Ро, посол Якова I и агент компании при дворе Великого Могола, заложил основы политики, которой в дальнейшем больше столетия руководствовались его соотечественники на Востоке. «Война и торговля несовместимы. Примем за правило; если вы хотите прибыли, ищите ее на море и в мирной торговле; бесспорно, было бы ошибкой содержать гарнизоны и вести в Индии войны на суше».
Пока империя Моголов сохраняла свой авторитет, что продолжалось в течение всего периода Стюартов, компания была в состоянии следовать осторожному совету Ро. Лишь когда огромный полуостров оказался во власти анархии, английские купцы времен Клайва невольно были втянуты в войну и стали на путь завоеваний, чтобы спасти свою торговлю от индийской и французской агрессии.
При первых Стюартах компания основала небольшие торговые пункты в Мадрасе, в Сурате, севернее Бомбея [38]и около 1640 года – в Бенгалии. Права и привилегии компании в стенах городов и «факторий», предоставленных им, основывались на договорах с местными правителями. Врагами компании были португальцы, которые скоро перестали быть опасными, а также растущая мощь голландцев, которые силой вытеснили англичан на Восток из наиболее прибыльной торговли на островах пряностей (1623) и принудили их вместо этого укреплять свое положение на самом полуострове Индостан. Базируясь на своих факториях в Мадрасе и Бомбее, англичане стали вести торговлю с Кантоном; незнакомство с обстановкой на Дальнем Востоке не давало возможности лондонским купцам вести непосредственно торговлю с Китаем, но служащие Ост-Индской компании на месте ознакомились с обстановкой настолько, что сумели сами вести эту торговлю и использовать громадные ресурсы Китая. Лондонская компания также посылала корабли непосредственно в Персидский залив (первый раз в 1628 году) – к неудовольствию Левантской компании, которая стремилась торговать с владениями шаха, пользуясь сухопутными путями.
Торговля с Ост-Индией, требующая плавания в течение целого года на расстоянии десяти тысяч миль без перегрузки товаров, даже больше, чем торговля с Америкой, способствовала развитию искусства навигации и судостроения. Уже в царствование Якова I Ост-Индская компания строила «хорошие суда такой вместимости, какой ранее никогда не пользовались для торговли». Суда Левантской компании, предназначенные для средиземноморских рейсов, имели грузоподъемность всего от 100 до 350 т, тогда как первое путешествие в Индию было совершено на корабле в 600 т, а шестое путешествие (1610) – на корабле в 1100 т.
Дальние плавания в Индию в торговых целях были бы невозможны, если бы на судах не велась борьба с цингой. Но с самого начала (1600) Ост-Индская компания снабжала экипажи «лимонной водой» и апельсинами. Этого не было в военно-морском флоте времен Стюартов и Ганноверов, и английские военные моряки сильно страдали, пока капитан Кук – столь же известный морской врач, как и открыватель новых континентов – не добился заметного улучшения пищи и питья на кораблях.
Во времена Стюартов Ост-Индская компания имела около 30 больших судов для плавания вокруг мыса Доброй Надежды, помимо многочисленных мелких кораблей, которые никогда не покидали восточных морей. Большое количество судов погибало от крушений или захватывалось пиратами и голландцами. Большие суда были так прочно сделаны из лучшего английского дуба, что те из них, которые уцелели, несмотря на все опасности, могли служить на морях в течение тридцати и даже шестидесяти лет. Уже во время Якова 1 «компания вложила единовременно 300 тысяч фунтов стерлингов в строительство судов, а это превышало все вложения короля Якова в военный флот». Таким образом, индийская торговля «обеспечила нацию большими судами и опытными моряками».
Это был частный военный флот, хорошо вооруженный, увеличивающий мощь Англии. Знакомство с трудностями мореплавания и привычки к далеким морским предприятиям широко распространились среди англичан. Лондон, где находилась главная контора Ост-Индской компании, стал центром всей английской торговли с Востоком. Бристоль стал портом трансатлантической торговли табаком и рабами, вскоре его примеру последовал и Ливерпуль; но развитие торговли с американскими колониями и с Индией, рост размеров торговых судов – все это создавало условия для развития Лондона за счет многих менее крупных портов, которые годились для мелких судов и коротких плаваний более ранней эпохи.
Торговля с Индией увеличила не только торговый флот, но и богатства Англии. Правда, оказалось возможным сбывать лишь очень ограниченное количество английского сукна в жарком климате Востока. Враги компании всегда основывали на этом свои обвинения против нее. Но королева Елизавета весьма мудро разрешила компании экспортировать из Англии известное количество английской государственной монеты при условии, что такое же количество золота и серебра будет возвращено после каждого путешествия. Около 1621 года 100 тысяч фунтов стерлингов, вывезенные в слитках, вернулись в виде восточных товаров пятикратной ценности, из которых лишь четвертая часть была потреблена в стране. Остальное было продано за границу с большой прибылью, и богатство государства возросло, а это и явилось ответом на критику противников вывоза золота за границу.
До гражданской войны главными предметами ввоза в лондонский порт на больших судах компании были селитра (для пороха воинственной Европы), шелк-сырец, а главное – пряности, особенно перец. Недостаток свежего мяса зимой, постоянно ощущавшийся до тех пор, пока не стали культивировать корнеплоды и посевные травы, был главной причиной острой нужды в пряностях у наших предков; за неимением ничего лучшего пряности употреблялись и как средство для сохранения мяса, и как приправа. После Реставрации прибавились чай, кофе и шелка, производившиеся на Востоке для европейских рынков, и фарфор из Китая. Ко времени королевы Анны в результате развития Ост-Индской торговли существенно изменились обычно употребляемые напитки, привычные формы общественных взаимоотношений, манера одеваться и вкусы ее подданных из обеспеченных классов.
Эти торговые компании для дальнего плавания с их большими потерями и еще большими прибылями сделались существенным элементом социальной и политической жизни при Стюартах. Их богатство и влияние были широко использованы против короны во время гражданской войны – отчасти по религиозным мотивам, отчасти потому, что Лондон был преимущественно сторонником «круглоголовых», а отчасти потому, что торговцы были недовольны отношением к ним Якова I и Карла I. Монополия на производство и торговлю в Англии многими предметами широкого потребления предоставлялась придворным и ловким дельцам – владельцам патентов. Такая политика, более широко применявшаяся Карлом I как средство увеличения доходов, не утвержденных парламентом, встречала сопротивление со стороны юристов и парламентских деятелей; вполне заслуженно она оказалась непопулярной и среди покупателей, которые увидели, что она привела к повышению цен на предметы потребления, а также в купеческих кругах, видевших в этом ограничение и помеху торговле.
Но купцы Ост-Индской компании были особенно недовольны тем, что король, предоставляя такие бесполезные монополии на внутреннем рынке, в то же время нарушал их собственную, весьма нужную монополию торговли на Востоке, хотя все расходы на политическую и военную деятельность в этой части земного шара падали на компанию, а не на корону. Карл I разрешил создание второй компании для торговли в Индии: компании Кортина, которая своей конкуренцией и недобросовестными действиями почти разорила всю английскую торговлю на Востоке к моменту созыва Долгого парламента. Политика Пима [39]и парламента, направленная на ликвидацию монополий в самой Англии и на поддержку монополий заморских торговых компаний, гораздо больше нравилась Сити. Одним из наиболее важных результатов победы парламентских армий в гражданской войне была фактическая отмена монополий внутри страны. С этого времени, хотя внешняя торговля и торговля с Индией подвергались регулированию, промышленность в Англии была уже свободной от тех средневековых стеснений, которые все еще тормозили ее рост в странах Европы. Это явилось одной из причин, по которым Англия в XVIII веке оказалась во главе промышленного переворота.
Первые короли династии Стюартов ни в Европе, ни в Азии не сделали ничего эффективного, чтобы помешать голландцам уничтожать суда и фактории компании на Востоке. Воспоминание о «бойне на Амбоине» (1623), когда голландцы изгнали английских торговцев с островов пряностей, прочно сохранялось в памяти. Более чем через тридцать лет Кромвель посредством военных и дипломатических действий в Европе добился удовлетворения за это старое оскорбление. Протектор действительно много сделал для защиты английской торговли и ее интересов во всем мире. Но его расходы на армию и военный флот еще до его смерти оказались слишком большой тяжестью для торговли, и реставрация монархии, принеся разоружение и более низкие налоги, привела к экономическому облегчению. Посмертная репутация Кромвеля как великого «империалиста» отнюдь не была незаслуженной. Своим завоеванием Ямайки он сделал то, чего не могла сделать Елизавета, – показал всем будущим правительствам пример того, как нужно использовать благоприятные обстоятельства войны для захвата отдаленных колоний у других европейских держав.
Конкуренция компании Кортина, а позже трудности гражданских войн в Англии почти совершенно разорили Ост-Индскую компанию и чуть не положили конец английским связям с Индией. Но во время протектората старая компания с помощью Кромвеля восстановила свое пошатнувшееся благосостояние и определила постоянные формы своей финансовой деятельности как единого акционерного предприятия. До тех пор средства собирались для каждого отдельного путешествия (правда, обычно также по паевому принципу). Самые первые путешествия часто давали 20 или 30 процентов прибыли, но иногда лишь 5 процентов, а то и вовсе один убыток, как это бывало в случае сражений или крушения. Однако в 1657 году был создан постоянный фонд – «Новый общий капитал» – для всех будущих коммерческих предприятий. В течение тридцати лет после реставрации монархии средний доход на первоначальный капитал сначала составлял 20 процентов, а позже – 40 процентов в год. Биржевая цена акции в 100 фунтов стерлингов доходила в 1685 году до 500 фунтов стерлингов. Не было никакой нужды увеличивать первоначальное количество акций, так как положение компании было настолько устойчивым, что она могла брать краткосрочные займы с очень низким процентом, иногда по 3 процента, и извлекать громадные прибыли из этих займов.
Поэтому большие богатства, полученные от восточной торговли, оставались в руках немногих, главным образом очень богатых людей. При последних Стюартах (до 1688 года) Джошуа Чайлд мог откладывать большие суммы на подкуп двора, а затем на подкуп парламента в целях сохранения монополии компании. Рядовые купцы, которым приходилось платить очень дорого за акции – если вообще они имели возможность приобрести их, – с каждым годом все резче выражали свое негодование по поводу того, что никто, за исключением узкого круга немногих счастливых держателей акций, не допускается к торговле за мысом Доброй Надежды. «Нарушители монополий» из Бристоля и других мест посылали свои корабли в целях осуществления «свободы торговли». Но монополия компаний, хотя и не популярная, была законной, и ее агенты твердой рукой заставляли соблюдать закон. В областях,отстоявших на год пути от Вестминстера, происходили странные, неведомые широкой публике инциденты на море и на суше между соперниками англичанами, яростно враждовавшими друг с другом.
Борьба между Джошуа Чайлдом и нарушителями монополии в царствование Карла II и Якова II, а также Вильгельма Оранского была лишь повторением в более широком масштабе той борьбы между компанией и ее соперниками, которая велась при Якове I, Карле I и Кромвеле. В течение всего стюартовского периода шла ожесточенная, непримиримая конкуренция – экономическая и политическая – за участие в прибылях в индийской торговле, порожденная главным образом тем, что тогда еще не было легкого, общедоступного способа подыскания объекта для капиталовложений, хотя сбережения накоплялись очень быстро. Тогда еще не было постоянного рынка ценных бумаг, где каждый мог бы выбрать наиболее надежные среди большого количества сулящих ему выгоды предприятий, продававших свои акции. Обычным способом вложения капитала была покупка земель или покупка закладных на землю. Но земельные ресурсы были ограниченными, и, кроме того, землевладельцы по причинам, отнюдьне экономическим, продавали крайне неохотно. Таким образом, вопрос, что делать с деньгами, помимо того, чтобы держать их дома в сундуке, озадачивал многих, начиная от дворян и кончая бережливым йоменом и ремесленником.
Четыре пятых населения обрабатывало землю, но постепенно росла, причем в сельской местности быстрее, чем в городе, доля населения, занятого в торговле и промышленности. Это было время мелких предприятий, число которых быстро возрастало. Йомен или ремесленник, скопивший немного денег, в те времена не мог использовать их на приобретение железнодорожных или пивоваренных акций. Он мог вложить часть их в приданое, чтобы выдать дочь замуж, устроив, таким образом, ее жизнь. А остаток он, вероятнее всего, вложил бы в новое собственное предприятие, приняв несколько учеников и подмастерьев в мастерскую или в лавку, или, может быть, купил бы лошадей, экипажи, вьючные седла для обслуживания окрестного населения транспортом.
Таких мелких предпринимателей и ремесленников становилось все больше, и они, подобно купцам Ост-Индской компании, часто нуждались в займах для своего дела. Нуждались в них и землевладельцы – не только сквайры, погрязшие в долгах вследствие своей расточительности, но и заботливые сквайры, желающие осушать, расчищать и улучшать свои земли, стремящиеся увеличить запашку за счет леса и пустырей. Как могли эти различные классы «предпринимателей» занимать деньги для своих предприятий? Как могли они устанавливать связь с лицами, желающими давать взаймы и вкладывать свои деньги?
За период царствования Тюдоров общество постепенно отказалось от средневекового представления о греховности давать деньги под проценты. Актом парламента были узаконены займы на разумных условиях, поэтому проценты перестали быть непомерными. Деятели, направлявшие общественное мнение при первых Стюартах, ясно сознавали пользу денежного рынка. «Бессмысленно, – говорил Селден своим друзьям, – утверждать, что деньги не порождают денег, тогда как они, без сомнения, делают это». А самый практичный философ из всех меркантилистов Томас Мэн писал: «Сколько торговцев и лавочников начали дело с небольшими собственными средствами или даже ни с чем и очень разбогатели благодаря торговле на чужие деньги».
До тех пор в Англии еще не было банков, но были отдельные лица, выполнявшие некоторые функции современных банкиров, получая вклады, предоставляя займы за проценты. Комиссионеры и стряпчие, выполняя свои повседневные дела, пользовались случаем оказывать услуги своим клиентам, устраивая такие операции или сводя заимодавца и должника друг с другом.
В период республики и после реставрации монархии хранение денег и предоставление займов все более сосредоточивалось в руках ювелиров Лондона. Купцы из Сити привыкли держать свои свободные наличные деньги на Монетном дворе Тауэра, но после того как Карл I забрал их оттуда в свою казну, они предпочитали отдавать их на хранение ювелирам. В самом начале гражданской войны, когда богатые люди обоих лагерей переплавляли свое столовое серебро в «пики и мушкеты», временно прекратилось обычное занятие ювелиров – продажа золотой и серебряной посуды. Они были довольны тем, что стали вместо этого «кассирами торговцев», получая и выплачивая денежные наличные суммы бесплатно, мало заботясь о прибыли и не слишком рассчитывая на прибыль, которую они получали порой за эти свои труды. Но прибыль оказалась на самом деле так велика, что вскоре ювелиры сочли выгодным для себя поощрять вклады с выплатой процентов за них, – при Карле II они платили 6 процентов. Дело в том, что они пользовались вкладами с большой выгодой, отдавая их взаймы другим. Этим занимались наиболее крупные ювелиры на Ломбард-стрит [40].
Деятельность ювелиров в качестве «протобанкиров» ни в коем случае не ограничивалась лишь операциями с городскими торговцами. Рента многих землевладельцев вносилась ювелирам, в то же время со всех концов страны приезжали на Ломбард-стрит за займами другие землевладельцы. Значение этих новых удобных операций может быть проиллюстрировано на примере тех методов, с помощью которых вела свои дела широкого масштаба одна дворянская фамилия в царствование Карла I.
В 1641 году умер Френсис Рассел, четвертый граф Бедфорд. Тогда не было банка, в котором он мог бы держать свои деньги; не было чеков, с помощью которых его наследник мог их выплачивать. Но был «большой ларец» в Бедфордхаузе на Стрэнде, где лежали его наличные деньги, охраняемые слугами этой семьи. Молодой граф Уильям, впервые открывший ларец после того, как он стал его собственником, нашел там более полутора тысяч фунтов стерлингов. Из этих денег он оплатил в английской монете все расходы по похоронам отца и по другим счетам. Но ларец вскоре снова наполнился; за год, непосредственно предшествующий началу гражданской войны, сумма наличных денег, хранившихся в нем, достигла 8500 фунтов стерлингов, что в переводе на современный курс фунта составило бы во много раз большую сумму. Эти деньги складывались из ренты и «штрафов» за возобновление аренд; тысяча фунтов была получена от продажи леса, солода, сала, овечьих шкур, сена и других продуктов расселовских господских земель.
Главный управляющий графа жил в Бедфордхаузе: он хранил ключ от драгоценного ларца и фактически был фамильным казначеем или главным кассиром; постоянным местопребыванием его был Лондон. Все, что платили графу, или почти все, поступало к управляющему, складывалось в ларец и извлекалось оттуда по мере надобности. В 1641 году наибольшее единовременное поступление было получено из больших поместий в Девоне и Корнуолле, приславших в указанном году 2500 фунтов стерлингов. Для этих западных поместий – и только для них – был уже принят новый, удобный способ перевода денег в Лондон. Поместья Восточной Англии и других областей посылали деньги в монетах и всегда под охраной конных слуг графа ввиду опасности нападения разбойников. В Эксетере был «управляющий для запада». Его контора помещалась в старом расселовском доме в «западной столице», куда в день Богоматери и в Михайлов день бейлифы различных маноров Девона и Корнуолла являлись с наличными деньгами и для проверки счетов. Управляющий для запада составлял на всю полученную в Эксетере сумму вексель на имя одного из лондонских ювелиров, знаменитого Томаса Вайнера с Ломбард-стрит. Получив вексель, Вайнер извещал об этом главного управляющего в Бедфордхаузе. Последний в сопровождении носильщиков с мешками отправлялся в Лондон, чтобы получить соответствующую сумму в монетах с Ломбард-стрит и сложить ее в свой ларец.
Но графы Бедфорды, хотя они и «владели обширными землями», ни в коем случае не являлись лишь пассивными получателями ренты. Граф Френсис, умерший в 1641 году, и его сын Уильям, первый герцог, умерший в 1700 году, почти целое столетие были владельцами богатств Расселов. В качестве собственников этого состояния они сделали больше для Англии, чем они добились своим осторожным политическим покровительством «доброму старому делу» в его самой умеренной форме. Их жизнь была посвящена улучшению дел в их громадных, широко раскинувшихся владениях в Лондоне, в Бедфордшире, на юго-западе и в районе Фен. Их очень искреннее, но не навязчивое пуританство способствовало, а вовсе не препятствовало выполнению ими обязанностей английского сельского джентльмена в национальном масштабе.
Этим двум людям, более чем кому бы то ни было другому, принадлежала заслуга в успешном развитии работ по осушке болот в районе Фен. Один из их предков, служивший во времена королевы Елизаветы в Нидерландах и с удивлением наблюдавший там, как Голландия постепенно вырастала из воды, привез с собой голландского инженера для осмотра поместий Расселов в болотистых Фенах – в былые времена земли и воды, принадлежавшие монахам Торни. Этот проект, идея разработки которого зародилась, таким образом, в семье Расселов, был осуществлен спустя сорок лет графом Френсисом. В 1630 году он создал компанию «смелых предпринимателей» по осушке обширной площади болотв южной части Фен, вокруг острова Или. Граф как участник компании «смелых предпринимателей» имел самый крупный пай на сумму 10 тысяч фунтов стерлингов, если не более. Каждому из участников соответственно с его капиталовложениями предоставлялся участок, который надо было осушить.
Вермюйден, другой голландский инженер, доказал, что недостаточно лишь углубить старое, извилистое русло реки, и по его совету был вырыт прямой канал от Ирита до Денверского шлюза шириной в 70 футов и длиной в 21 милю. Двадцать лет спустя этот канал стал называться Старой Бедфордовской рекой, после того как в помощь ему и параллельно его руслу был прорыт второй канал, названный Новой Бедфордовской рекой. Воды, непрерывно прибывавшие из отдельных истоков реки Уз, потекли наконец свободно вниз по этим каналам, вместо того чтобы разливаться по всей заболоченной местности, как это происходило ранее с незапамятных времен. На этих осушенных землях на смену рыболовству, охоте за дичью и выращиванию тростника вскоре пришли земледелие и скотоводство. Эта перемена была встречена враждебно жителями заболоченных местностей (Фен), чьи предки в течение бесчисленного множества поколений жили жизнью амфибий в условиях не развивающейся, самодовлеющей экономики. Теперь сразу исчезли их прежние занятия. Мы не имеем данных, чтобы судить о том, получили ли они соответствующее возмещение за потерю прежних средств к существованию. Во всяком случае, они начали борьбу, совершая ночные набеги с целью разрушения плотин, как только их сооружали, серьезно затрудняя тем самым ход мелиоративных работ.
В период гражданской войны дренажные работы приостановились, вернее, даже уничтожалось сделанное ранее, так как в смутное время плотины часто разрушались. Но при республике первый крупный этап работ был завершен, частично трудом шотландских и голландских пленных. При протекторе, поощрявшем это предприятие, на тысячах акров, которые еще недавно были покрыты тростником и служили убежищем для выпи и дикой утки, выращивались различные сельскохозяйственные культуры и пасся скот.
Во время реставрации монархии осушительные работы, поскольку они уже были завершены, считались большим инженерным и экономическим успехом. Но к концу века возникли новые серьезные трудности, вызванные сопротивлением уже не людей, а природы. Сначала быстрое течение в новых каналах очистило и освободило устья рек Уз и Нин, но с течением времени их выходы к морю стали заноситься илом. Кроме того, уровень земель, дренированных по новой системе, неожиданно начал опускаться; черная торфяная земля сжималась по мере высыхания, как губка, из которой выжали воду. В результате река Бедфорд и другие каналы приподнимались над ближайшими окрестностями, как и подобные им «реки», дренирующие Голландию. Необходимо было изобрести способ для откачивания воды с низко лежащих полей в выше расположенные каналы, а оттуда в еще более высоко лежащие каналы, которые должны были вывести их в море. В продолжение всего XVII века это было довольно сложной проблемой, частично разрешенной постройкой сотен ветряных мельниц для подъема воды; они представляли живописную картину на плоском ландшафте, но не были достаточно эффективными. Решение проблемы было найдено – в той мере, в какой она вообще была разрешена, – в начале XIX века, когда вместо ветряных мельниц стали применять паровые насосы.
Даже в течение XVIII века, во время наибольших затруднений, связанных с дренированием, успех мелиоративных работ, произведенных в Южных Фенах, в долинах рек Уз и Нин, был настолько очевиден, что аналогичные мероприятия были предприняты в Северных Фенах, орошаемых Уэленд и Уитем, вокруг Сполдинга, Бостона и Татерс-холла. Дренирование, высыхание и выветривание торфа приблизило к поверхности лежащий под ним богатый глинистый слой. В XVIII и XIX столетиях глина все более входила в состав удобрений или сама становилась поверхностью земли благодаря полному исчезновению торфа. В настоящее время Фены представляют собой один из районов с наилучшими в Англии пахотными землями.
Таким образом, несмотря на естественные препятствия, которые преодолены все еще не полностью, сделано было большое дело, и к обрабатываемой площади королевства прибавилась новая область длиной в 80 миль и шириной от 10 до 30 миль. Эта область не была, подобно более древним полям Англии, освоена путем постепенного заселения ее бесчисленным множеством крестьян и землевладельцев, старательно трудившихся в течение многих веков, чтобырасширять шаг за шагом свои собственные владения. Победа над природой в заболоченных местностях была одержана благодаря накоплению капитала и его вложению в предприятие, заранее широко задуманное людьми, которые готовы были рискнуть большими средствами и ждать, пока они окупятся через двадцать лет или через еще больший срок. Осушение болот давно известно в мировой истории, но в нашей стране оно представляет собой один из первых примеров действия современных экономических методов и поэтому заслуживает быть специально отмеченным в социальной истории Англии.
Прежде чем мы вернемся к периоду первых Стюартов, проследим несколько далее экономическую историю дома Расселов после того, как столь важное дело осушения болот далеко продвинулось во времена республики. Основы родового богатства были заложены давно, еще во времена Чосера, торговлей с Гасконией из порта Уэймут. Через триста лет, в правление Вильгельма III, Расселы снова вернулись к заморской торговле благодаря брачному союзу с семейством руководителя Ост-Индской компании. Первый герцог Уильям Бедфорд, унаследовавший в 1641 году графский титул и фамильный ларец от своего отца, реально ощутивший всю выгодность успешно проведенного осушения болот, жил еще в конце века в почете и богатстве, но тосковал о любимом сыне, тоже Уильяме, который, не отличаясь такой политической умеренностью, как его отец и дед, сложил свою голову в 1683 году на эшафоте, борясь за «доброе старое дело». Лет через двенадцать после этого старый герцог женил своего внука и наследника на Елизавете, внучке Джошуа Чайлда и дочери Джона Хауленда Стритэм; оба были правителями Ост-Индской компании. Жениху было 14 лет, а невесте – 13. Свадьба была великолепна, с множеством карет. Епископ Бернет совершал брачную церемонию. Но после банкета поднялись крики и вопли: «Пропали жених и невеста». Они убежали после обеда, чтобы поиграть; во время игры драгоценная кружевная отделка платья молодой леди была изорвана в клочья. Леди нашли спрятавшейся в амбаре, а ее новый лорд и повелитель с невинным видом вернулся к пирующей компании.
Так, путем этого детского брака, который позже оказался довольно счастливым, Расселы обосновались в Ост-Индской компании. Они явились не с пустыми руками. Если раньше они вкладывали свои средства в осушку заболоченной местности, то теперь они вложили их в строительство новых доков в Розерхайзе и в строительство больших судов для плавания за мыс Доброй Надежды, которые торжественно подарили Совету директоров. Один корабль получил название «Тависток». Другой, названный «Стритэм», построенный старым герцогом в год его смерти, в 1700 году, выдержал множество рейсов и плавал так долго, что еще в 1755 году привез в Индию Клайва.
Если эти «видные фамилии» XVIII века играли чрезмерно большую роль в управлении Англией, то они кое-что сделали, чтобы заслужить это. Их мудрая деятельность не только в политических и административных делах, но и в других сферах сыграла крупную роль в развитии страны на суше и на море. Они были одинаково заинтересованы как в торговле, так и в земледелии, в их жилах текла кровь не только купцов и юристов, но и воинов и сельских джентльменов. В те времена французская знать пользовалась большими привилегиями, вплоть до освобождения от налогов, но она была замкнутой кастой с немногочисленными функциями и ограниченным кругозором.
Но вернемся к поколению, жившему после смерти королевы Елизаветы. Постепенный, но неуклонный рост цен, вызванный главным образом притоком в Европу серебра из испано-американских рудников, сделал невозможным для Якова I и Карла I «существование на свои собственные доходы», а парламент не проявлял желания восполнять дефицит иначе как на определенных религиозных и политических условиях, которые Стюарты не желали принимать. И тот же рост цен, всегда наносивший ущерб людям с постоянными доходами, а зачастую и получавшим заработную плату, способствовал обогащению наиболее предприимчивых землевладельцев и йоменов – а больше всего торговцев, – то есть именно тех классов, которые, исходя из религиозных и политических соображений, становились все более оппозиционными по отношению к монархии. Эти экономические причины способствовали возникновению гражданской войны и решили ее исход.
Финансовые затруднения короны неблагоприятно сказывались на экономической политике государства. Мы уже видели, как королевское право регулировать торговлю путем «монополий» на производство и продажу некоторых товаров использовалось не в общественных интересах, а ради увеличения доходов нуждающегося монарха, стремившегося сделать свою прерогативу независимой. Такие методы причиняли вред торговле, а политически делали непопулярной королевскую политику.
Но в одном аспекте экономической и социальной политики – в отношении закона о бедных – продолжение и развитие этой системы помощи им, заложенной при королеве Елизавете, должно быть отнесено в актив короне и правительству Тайного совета, с которым связаны имена Страффорда и Лода. Сохранение эффективной системы помощи бедным в Англии, в единственной из великих наций Европы, объясняется главным образом сосуществованием в Англии деятельного в вопросах о бедных Тайного совета имощного аппарата должностных лиц графств и городов, готовых повиноваться Тайному совету. Даже в царствование Елизаветы Тайный совет иногда вмешивался, принуждая местные власти проводить мероприятия помощи бедным, но это было лишь временным средством с целью облегчить тяжелое положение, вызванное неурожайными годами. Однако с 1629 по 1640 годы Совет действовал в этом направлении систематически и при помощи «Книги распоряжений» добился должного выполнения закона о бедных, поскольку он касался детей и нетрудоспособных бедняков. Совету удалось добиться от мировых судей обеспечения работой трудоспособных бедных во многих районах восточных графств и во многих пунктах почти всех графств. Работа предоставлялась или в исправительных домах, или в приходах… Содержание распоряжений, как кажется, не вызвало оппозиции. Люди обеих партий посылали отчеты Тайному совету, и в пуританских восточных графствах были приняты более энергичные меры к осуществлению закона о бедных, чем в любой другой области Англии.
В последующих главах нам придется рассмотреть серьезные ошибки, допущенные в практическом применении закона о бедных в XVIII веке. Некоторые из этих ошибок произошли вследствие ослабления контроля со стороны Тайного совета над местными городскими управлениями и приходами, ослабления столь нужной центральной власти, что явилось тяжелой расплатой за парламентарное правительство и конституционную свободу. Но закон о бедных пустил такие глубокие корни во времена королевского абсолютизма, что сохранился и в парламентские времена как местный обычай страны. В Англии бедные не испытали ужасов разорения, безработицы и необеспеченной старости в такой степени, как их испытали на континенте во времена феодализма. Здесь не знали уже тех толп нищих, которыми кишели улицы Франции при Людовике XIV. Позор и опасность таких скоплений тревожили правительство Тюдоров и первых Стюартов; закон о бедных имел целью предотвратить их появление, и действительно он это сделал единственно возможным способом – выдачей пособий нуждающимся и обеспечением работой. Это одна из причин, почему в нашей стране никогда не было ничего подобного французской революции и почему во всей стране в целом сохранялась во время всех наших политических, религиозных и социальных междоусобиц – даже в самые тяжелые времена от XVII до XIX веков – привычка народа к спокойствию и порядку как наша отличительная национальная черта.
В стране не было никакой постоянной системы полиции вплоть до 1830 года, когда она была впервые создана Робертом Пилем. Это было оскорбительным явлением, имевшим много дурных последствий. Но удивительно, как общество не распалось вообще, находясь без защиты гражданской вооруженной силы, обученной для того, чтобы подавлять насильственные действия толпы и вести борьбу с воровством и преступностью. Если мы обходились так долго без специальных полицейских сил, то это свидетельствует о высоком среднем уровне честности наших предков и о ценности старого закона о бедных, несмотря на все его недостатки.
С личной свободой бедняков не слишком считались. Не этими соображениями определялась филантропическая деятельность государства. Закон о бедных предусматривал отправку бездельничающих («непригодных к трудовой жизни») в исправительный дом, а для пьяниц – заключение в колодки. Некоторые, хотя ни в коем случае не все, формы вмешательства пуритан в жизнь своих сограждан, ставшие столь невыносимыми во времена республики, были общими для всех религиозных сект и для всех оттенков политического общественного мнения.
Современное четкое разграничение нарушений, наказуемых государством, и «грехов», не подлежащих компетенции суда, не вошло еще тогда так прочно, как впоследствии, в сознание людей. Средневековые идеи были еще живы, и церковные суды, хотя уже и с меньшей властью, все еще существовали для наказания за «грехи». Действительно, пресвитерианская церковь в Шотландии более сурово наказывала за сексуальные преступления, чем когда-либо была в состоянии наказать католическая церковь. В Англии Лода церковные суды пытались действовать в этом же роде, но более осторожно, хотя и не менее свирепо. «Вольнодумцы» объединились с пуританами в нападках на епископские суды, но по совершенно различным причинам. «Вольнодумцы» возражали против того, чтобы людей заставляли стоять в белой простыне напоказ публике в наказание за нарушение супружеской верности или за распутство. Пуритане, наоборот, еще решительнее, чем епископ, настаивали и а том, что «грех» должен быть наказан, только они считали, что наказывать должен не епископ, а они. В результате получалось, что англичане сбросили с себя сначала ярмо епископа, а затем и ярмо пуританина; попытка наказывать в судебном порядке людей за «грехи» провалилась после реставрации монархии и никогда серьезным образом не возобновлялась к югу от границы с Шотландией.
При господстве английских пуритан искоренение порока было возложено не на церковные, а на обычные светские суды. В 1650 году был проведен закон о наказании смертью за нарушение супружеской верности, и это дикое наказание действительно применялось в двух или трех случаях. После того как даже пуритане-присяжные отказались выносить приговоры, эта попытка провалилась. Но в этот период общественное мнение поддерживало закон о запрещении дуэлей, применявшийся более успешно, пока после реставрации не была восстановлена свобода для убийц-дуэлянтов. Использование солдат для обхода частных домов в Лондоне с целью проверки, не нарушается ли суббота и соблюдаются ли установленные парламентом посты (а при таких обходах солдаты обычно уносили найденную в кухне пищу), вызывало самое резкое негодование. Такое же негодование вызвал во многих местах запрет обрядного обычая, по которому накануне майского праздника рубили молодые деревья для украшения жилищ, а также запрет состязаний в воскресенье после полудня. Однако гонение на «субботние» развлечения в основном сохранилось и после реставрации монархии. Несмотря на англиканскую и либеральную реакцию 1660 года, пуритане навсегда наложили свой мрачный отпечаток на «английское воскресенье».
Ужасная мания «охоты на ведьм», обычная для католических и протестантских стран в период религиозных войн, в Англии была распространена меньше, чем в других странах, но достигла своего высшего развития в первой половине XVII века. Она была вызвана искренней верой всех классов общества, включая наиболее образованные, в существование колдовства. Эти преследования «ведьм» прекратились, когда в конце XVII и в начале XVIII века правящий класс стал скептически относиться к этому вопросу, что побудило его прекратить «охоту на ведьм», несмотря на то, что народные массы еще продолжали верить в колдовство.
В истории Англии два наиболее мрачныхпериода приходятся на первую половину правления суеверного Якова I и на время правления Долгого парламента (1645-1647), когда в восточных графствах были казнены 200 «ведьм», главным образом в результате крестового похода Мэтью Гопкинса, искателя «ведьм». Правительство Карла I, а также республика цареубийц и протекторат могут быть с благодарностью отмечены, как прекратившие эту нелепую жестокость.
В Англии до реставрации монархии трудно было встретить людей, которые открыто сознались бы в том, что не верят в той или иной форме в чудеса, проповедуемые христианской религией. Но имелось много англичан, у которых отвращение к претензиям благочестивых, будь то англиканские священники или пуританские «святые», было более сильным, чем положительное восприятие какой-нибудь религиозной доктрины. В этом ограниченном чисто английском смысле «антиклерикализм» снова и снова приобретает решающую роль в отношениях между религиозными партиями Англии. Антиклерикализм был главной движущей силой при разрушении средневековой церкви времен Генриха VIII. В период длительного царствования Елизаветы антиклерикализм придавал силу национальному чувству враждебности по отношению к инквизиторской Испании, между тем как усебя дома онне имел никаких столкновений со скромным и непротестующим духовенством покорной елизаветинской церкви. Но, когда под покровительством Карла I епископы и духовенство снова подняли голову, вмешиваясь в общественную и политическую жизнь, даже снова стали, как в Средние века, занимать государственные должности, ревнивые светские люди забили тревогу. Антиклерикальные настроения высшей знати, раздраженной присутствием духовенства в Совещательном кабинете и в Королевском тайном совете, и такие же настроения лондонской толпы в Палас Ярде, криками выражающей свое возмущение поведением епископов (1640-1641), оказались вдруг созвучными пуританству, достигшему тогда вершины своего влияния, что дало возможность Долгому парламенту сломить церковь Лода.
После торжества парламентских армий наступило «царство святых» с их воспеваемым в псалмах благочестием, которым пользовались как лозунгом для того, чтобы добиться благосклонности господствующей партии, с их вмешательством в жизнь простых людей, с их запретом театров и традиционных спортивных состязаний. Вызванные этим антиклерикальные чувства проявились настолько бурно, что стали одной из главных причин реставрации 1660 года. Одним поколением позже они же явились одной из главных причин антикатолической революции 1688 года. Во многих поколениях в дальнейшем ненависть к пуританству наряду с ненавистью к католичеству проявлялась как в диких инстинктах и традициях толпы, сжигавшей часовни, так и в действиях подавляющего большинства представителей высшего класса.
Революция Кромвеля не была ни социальной, ни экономической по своим причинам и мотивам: она была результатом политического и религиозного мышления и устремления людей, у которых не было никакого желания перестраивать общество или перераспределять богатства. Несомненно, выбор людьми той или иной политической и религиозной партии до известной степени и в некоторых случаях определялся социальными и экономическими обстоятельствами, но сами люди делали это полусознательно. На стороне короля было больше лордов и дворян, на стороне парламента – больше йоменов и горожан. Кроме того, Лондон был на стороне парламента. Однако такое расслоение было и внутри каждого класса в городе и деревне.
Та стадия экономического и социального развития, которая была достигнута Англией в 1640 году, была не причиной, а необходимым условием политических и религиозных движений, которые разразились неожиданной вспышкой. Поразительная попытка Пима, Хемпдена и других парламентских вождей всерьез вырвать власть из рук монархии и управлять государством посредством выборного «дебатирующего» собрания из нескольких сот членов и тот успех, которого достигло на деле это смелое новшество в политике и войне, имели своей предпосылкой не только старые парламентские традиции, но и наличие могущественной буржуазии, джентри и йоменри, давно уже освободившихся от церковного и феодального гнета и привыкших делить с монархией тяготы управления. Точно так же бесчисленные секты, такие, как баптисты и конгрегационалисты, смогли так быстро приобрести государственное значение, а на некоторое время даже господствующее положение, только в таком обществе, где было много личной и экономической независимости в среде класса йоменов и ремесленников, и только в такой стране, где почти в течение всего прошлого столетия индивидуальное изучение Библии составляло существенную часть религии и служило главным стимулом развития народных представлений и интеллекта. Если бы в господском доме, на ферме и в хижине бедняка были газеты, журналы и романы, которые конкурировали бы с Библией, то не произошло бы никакой пуританской революции и Джон Беньян никогда бы не написал «Путешествия пилигрима».
Сама пуританская революция по своим основным устремлениям была действительно «путешествием пилигрима». «Я задремал [писал Беньян], и мне показалось, что я видел человека, одетого в рубище, стоявшего на каком-то определенном месте, отвернувшись от своего дома, с книгой в руке и огромной ношей на плечах. Я взглянул и увидел, что он открывает эту книгу и читает ее; и, когда он читал, он плакал и дрожал. Наконец он не мог больше выдержать и разразился громким плачем, восклицая: «Что мне делать?»
Эта одинокая фигура с Библией в руках и бременем грехов на плечах символизирует не только самого Джона Беньяна. Она – символ пуританства английской пуританской эпохи. Когда Беньян был молодым человеком – в ближайшие годы после битвы при Нейзби, – пуританство достигло своей наибольшей силы и мощи в войне, политике и литературе, в общественной и частной жизни. Но внутренней движущей силой машины, которая развила такую огромную энергию, пробивая себе путь сквозь препоны национального уклада жизни, Чтоб древний королевский строй Сменить системою иной, – основной движущей силой всей революции была именно эта одинокая фигура из первой строфы «Путешествия пилигрима»: бедняк, ищущий спасения со слезами на глазах, не имеющий никакого «путеводителя», кроме Библии вруке. Множество таких людей, объединенных одной религиозной идеей и организованных в полки, являлисьогромной силой, способной творить и разрушать. Это была та сила, с помощью которой Оливер Кромвель, Джордж Фокс и Джон Уэсли, сами обладающие такого же рода склонностями, творили свои чудеса.
Но было бы ошибкой предполагать, что такая строгость в личной и семейной религии была свойственна лишь пуританам и «круглоголовым». Мемуары семейства Верни и многие другие письменные памятники того времени показывают нам, что семьи «кавалеров» (роялистов) были столь же религиозны, как и пуритане, хотя и не надоедали библейскими изречениями по всякому случаю в повседневной жизни. Многие местные дворяне и йомены, в частности в северной и западной частях Англии, считали, подобно смиренной и терпеливой Алисе Торнтон, что английская церковь была той «превосходной, чистой и славной церковью, тогда учрежденной, которая по чистоте веры и учения несравнима ни с какой церковью со времен апостолов». Биограф Торнтон сказал:
«Ее мнение о религиозной жизни должно рассеять всякие иллюзии о том, что принадлежность к англиканской церкви – в противоположность нонконформистской – означала хотя бы в какой-то мере более легкое отношение к религии. Вся семья созывалась колокольчиком на молитву в шесть часов утра, в два часа пополудни и снова – в девять часов вечера».
Многие семейства из всех сословий, которые сражались и пострадали за церковь и «Книгу Общих молитв», прониклись благодаря этим страданиям такой любовью к англиканской церкви, которая до гражданской войны не выражалась и не чувствовалась так сильно, как после реставрации монархии. И эта любовь к церкви, но к церкви в том преобразованном виде, какой ей придал Лод, продолжалась до XIX столетия, сочетаясь с семейным и личным благочестием, а также с изучением Библии, что было свойственно всем английским протестантам, которые относились к своей религии серьезно.
Но, помимо превосходнейшего изображения евангелической религии, в «Путешествии пилигрима» есть также и нечто иное. Путь паломников, а вместе с тем и читателя, услаждался песнями, сельскими пейзажами, чувствительными и добродушными человеческими беседами. И тем не менее это в значительной степени Англия Шекспира, хотя это произведение и представляет собой изображение душевного конфликта, который сокрушал современников Шекспира реже, чем современников Беньяна. Однако условия жизни людей мало изменились. Мы нисколько не удивились бы, если бы Автолик разложил свои товары перед паломниками на пешеходной тропе или если бы Фальстаф послал Бардольфа приказать им посторониться или предложил им присоединиться к нему в таверне.
Края, по которым путешествуют паломники, и путь, который им приходится проходить, – это сельская местность, проезжие и проселочные дороги Средневосточной Англии, с которыми Беньян в юности был хорошо знаком. Топи, разбойники, разные дорожные происшествия и опасности были реальными фактами для английских путешественников в XVII столетии. К реальным фактам не относятся, конечно, драконыи великаны, но даже и их Беньян позаимствовал из такого не более чуждого по духу источника, как «Сэр Бэвис из Саутгемптона», и других старинных английских баллад, легенд и лубков, которые обычно ходили тогда по рукам среди простонародья, а теперь вытеснены тем потоком точной газетной информации, который в наши дни убил всякую силу воображения.
В те дни люди подолгу оставались наедине с природой, сами с собой и с Богом. Как сказал Блейк:
Великие дела не в суете творятся городской, А где с горами человек сливается душой.Выраженная столь поэтически мысль о влиянии спокойного общения с природой на человеческие дела и моральные качества людей верна не только в отношении гор, среди которых развивался гений Вордсворта, но она приложима также и к бескрайним болотистым равнинам Кембриджшира, где восход и заход солнца, а также прочие красоты этой сказочной страны часто наблюдали люди, ищущие уединения, такие, как сквайр Кромвель и йомены-фермеры, которые стали его «железнобокими» воинами. На широких сельских просторах Восточной Англии каждый из этих людей, впоследствии объединившихся в революционные отряды, чувствовал себя наедине с Богом. Такое же воздействие оказывали луга, поселки и болотистые перелески Бедфордшира, взлелеявшие Беньяна и породившие все порывы и видения его юности.
К счастью, большинство простых людей, которые пасли овец или бродили возле ручейков с удочкой в руке, не было встревожено беньяновскими и кромвельскими видениями небес и ада. Однако и праведник, и грешник, и счастливый рыбак, и истязающий себя фанатик – все они находились под благотворным влиянием природы и духа того времени. Их язык был выразительным чисто английским языком, из которого переводчики Библии почерпнули свой стиль, ныне забытый навсегда.
Простых деревенских людей во времена пуританской республики не слишком волновали строгие и суровые устремления. Вот письмо одной очаровательной девушки, Дороти Осборн, написанное в июне 1653 года, в котором она сообщает своему возлюбленному, что видела и слышала как-то утром возле «открытого поля» деревни:
«Вы спрашиваете меня, как я провожу здесь время… В дневную жару я занимаюсь чтением или работой, а около шести или семи часов я выхожу погулять на общинный выгон, который примыкает к нашему дому, где множество молодых девушек стерегут овец и коров и сидят в тени, распевая баллады. Я беседую с ними и нахожу, что им ничего больше не надо, кроме сознания, что они счастливейшие люди на свете. Зачастую посреди нашего разговора кто-нибудь озирается и замечает, что коровы забрели в хлеба. Тогда все они бегут, словно у них выросли крылья на пятках», Конечно, не круглый год могли девушки «сидеть в тени, распевая баллады», и королева Елизавета хотела быть молочницей только в мае. Было много тягот, бедности и холода в этих прелестных деревнях и на фермах; но простота и красота жизни на лоне природы были тогда реальностью, а не только мечтой поэта.
Великое поколение людей, создавших в своей среде «великую английскую трагедию круглоголовых и роялистов», воспитывалось не одной лишь Библией и влиянием сельской жизни, хотя такое ограничение было бы почти верно в отношении Беньяна. Век Мильтона, Марвелла и Геррика был веком поэзии и учености, часто тесно связанных между собой. В эти времена не только писались и перелагались на музыку простые и прекрасные песни, но в домах культурных людей передавали из рук в руки в рукописях наиболее удачно и грамотно написанные поэмы, прежде чем пустить их в печать или предать забвению. Когда музыка Лоуса сочеталась с бессмертным стихом мильтоновского «Комуса» на любительских спектаклях семейства орда Бриджуотера (в 1634 году), культура в английских омах дошла, может быть, до наивысшей точки, которой на когда-либо достигала. Образование того времени – классическое, так же как и религиозное, – распространилось очень широко.
Политические и религиозные споры велись в чрезмерно «ученых», на современный взгляд, книгах и памфлетах. Однако, несмотря на то, что спорящие старались показать свою глубокую эрудицию, их произведения находили страстных читателей, для которых они и предназначались. Даже знаменитый памфлет в защиту тираноубийства под заглавием «Умерщвление – не убийство», написанный республиканцем и переизданный роялистами с самым явным намерением побудить кого-либо умертвить Кромвеля, составлен из ученых цитат, почерпнутых как из классических, так и из библейских источников. Даже при пуританском режиме рядовые читатели считались с учением древних греков и римлян о тираноубийстве в такой же мере, как и с воззрениями на это древнееврейских судей и пророков.
Было действительно очень много ученых среди высших и средних классов города и деревни. Каждому читателю приходилось быть до некоторой степени ученым, так как, кроме поэзии и драматического искусства, почти не было никакой литературы, которая была бы несерьезной. Беллетристики почти не существовало, за исключением баллад для простонародья и таких тяжеловесных «томов» французских романов героического жанра, как «История персидского царя Кира»; они кажутся нам такими же скучными, как проповеди, но в те дни они нравились образованным молодым дамам, вроде Дороти Осборн.
Профессор Нотстейн нашел недавно дневники йоркширского йомена по имени Адам Эр, который одно время служил в парламентской армии, а в 1647 году вернулся домой на свою ферму вДэйлзе. Без сомнения, он читал и думал больше, чем большинство людей из его сословия. Однако диапазон и характер его чтения проливают свет на интеллектуальный склад людей того времени и показывают, почему йомены были вполне способны сами выбрать себе политическую и религиозную партию, часто иную, чем партия их соседей – джентри.
«Адам пригласил плотника, чтобы оборудовать свой кабинет книжными полками, и друзья Адама, такие же йомены, как и он сам, всегда брали книги с этих полок. Редко возвращался Адам из поездки в какой-нибудь крупный город без того, чтобы не привезти домой книгу. Иногда ему присылали целую кипу книг, и он внимательно их прочитывал. «Сегодня я отдыхал дома и провел большую часть дня за чтением» – такова типичная запись в дневнике. Он начал составлять план книги под названием «Положение в Европе». Он прочитал «Доклад Базельского церковного собора», в котором, «как и во всех людских действиях, мало что найдешь, кроме коррупции». Эта пометка дает нам некоторое представление о взглядах Адама на философию истории.
Он читал сумасбродные пророчества Лилли и «Историю мира» Уолтера Рэли – самый ходкий товар в том столетии. Он углублялся в «Похвалу глупости» Эразма (Роттердамского) и «Дендрологию» (политическую аллегорию событий 1603-1640 годов) Джеймса Хоуэлла. Он приобрел книгу Дальтона «Местная юриспруденция», которая представляла собой практическое руководство для мировых судей и других местных должностных лиц.
Большую часть его чтения составляли книги религиозного содержания, написанные в оправдание пресвитерианства, приводящие доводы в пользу индепендентства или конгрегационализма, сборники проповедей того или иного знаменитого проповедника. Количество прочитанных им религиозных книг поразительно, «Сегодня я отдыхал дома весь день, и в голову мне приходили разные мысли по поводу разнообразия человеческих мнений, которое я обнаружил при чтении». Безусловно, рассуждения о разнообразии мнений были уже началом мудрости. Адам не был глубоко религиозным человеком. Он читал эти книги потому, что вся атмосфера того времени была насыщена религией. Она наполняла газеты и памфлеты [41]того времени, подобно тому, как сообщения о забастовках и спортивные новости заполняют нашу ежедневную прессу. Религия переплеталась с деревенскими ссорами в Уэст-Райдинге так же, как и с пререканиями партий в Вестминстере. Вот что читал этот кромвельский йомен. В дворянских же домах в еще большем количестве читались или лежали на полках библиотек наряду с проповедями и памфлетами поэтические произведении и сочинения классиков. Без сомнения, большая часть йоменов, сквайров и купцов читала очень мало, но некоторые из них охотно читали книги. Гражданская война была войной идей, а идеи распространялись или через печать, или в рукописях, а также проповедником и в беседах людей друг с другом.
Гражданские войны Карла и Кромвеля не были, подобно войнам Алой и Белой розы, борьбой за власть между двумя группами аристократических семейств, к которой большинство населения, а особенно горожане, относились с отвращением и безразличием. В 1642 году город и деревня взялись за оружие. Однако это была война не города против деревни, хотя до некоторой степени для Лондона и его окрестностей она стала борьбой против деревенского севера и запада. Меньше всего она была войной между богачами и бедняками. Это была война религиозных и государственных идей.
Люди выбирали себе партию, руководствуясь в значительной степени бескорыстными мотивами и без всякого принуждения. Они делали свой выбор, считаясь со своим собственными религиозными и политическими убеждения ми, и большинство из них находилось в таком экономическом и социальном положении, что могло сделать этот выбор свободно. В сельских местностях феодальная зависимость была большей частью делом прошлого, а огромные укрупненные поместья – в основном еще делом будущего. Это был золотой век мелкого сквайра и йомена, которые гордились своей независимостью, тогда как фермеры-арендаторы в крупных поместьях даже сто и двести лет спустя с гордостью следовали за своими лендлордами к избирательному участку, чтобы голосовать за вигов или тори. Но в 1642 году многие йомены обнажили свой меч против сквайров.
В городах это был тоже век независимости и индивидуализма; жизнь корпораций пришла в упадок; «муниципальная лояльность» человека по отношению к своемугороду была уже менее важна, чем его национальная лояльность по отношению к выбранной им самим партии или секте. В обществе, состоявшем преимущественно из мелких хозяев и подмастерьев, люди твердо держались своих личных убеждений; таким образом, жители городов проявляли широкий и разумный интерес в спорах, занимавших всю страну.
Однако в начале войны большинство могло легче овладеть властью и подавить меньшинство в городе, чем в крупном сельском округе. Таким образом, «круглоголовые» оказались в состоянии сразу же подавить роялистов в Лондоне, в приморских портах и в промышленных городах. Но во многих английских графствах местная гражданская война то замирала, то разгоралась и тянулась в течение нескольких лет подряд, причем велась независимо от кампаний главных армий, хотя и они также иногда вовлекались в эту местную борьбу.
Там, где эти местные войны велись под командованием сельских джентльменов, которые знали друг друга как соседи, а часто и как друзья, хотя и расходившиеся теперь по политическим убеждениям, там было мало ожесточения и проявлялось много личной учтивости, особенно в первые два года. Но некоторые местные войны носили более ожесточенный характер – особенно там, где два резко противоположных общественных уклада вступали в схватку друг с другом. Например, в Ланкашире многие из сквайров были римско-католического вероисповедания, представляя собой старинный полуфеодальный мир времени «Благодатного паломничества». Глубокая пропасть непонимания и ненависти образовалась между ними и их соседями-пуританами в городах, которые недавно выдвинулись благодаря новым отраслям промышленности – шерстяной, хлопчатобумажной и льняной.
Однако в огромном большинстве английских графств роялисты были англиканского вероисповедания – убежденные протестанты. Многие из них были противниками Лода. Таков был старый Эдмунд Верни, знаменосец короля, который умер за своего повелителя при Эджхилле, но не хотел склоняться перед Лодом, сказав перед смертью: «Я не питаю никакого уважения к епископам, из-за которых ведется эта распря».
Вообще говоря, роялизм был сильнее всего там, где экономические и социальные перемены предшествующего столетия чувствовались меньше всего. Короля и церковь больше всего любили в сельских районах и торговых городах, наиболее удаленных от столицы и наименее связанных с заграничной торговлей, Парламентские и пуританские симпатии были сильнее всего там, где экономические перемены были наиболее глубокими, как, например, в Лондоне, где большое влияние оказывали крупные елизаветинские торговые компании, в приморских портах (включая корабли и доки самого короля) и в промышленных городах или в округах, таких, как Тонтон, Бирмингем и округ суконного производства в Дейлз по обоим склонам Пеннин. Сквайры, у которых были самые тесные деловые связи с Лондоном или с торговцами и промышленниками в разных местах, тяготели по своим политическим и религиозным взглядам больше всего к партии «круглоголовых)». Лондонский округ, включая Кент, Суррей и Эссекс, был сразу же захвачен войсками парламента, и роялистское меньшинство там никогда уже больше не было в состоянии поднять голову. То же самое случилось в восточных графствах, объединенных в «Восточную ассоциацию» и находившихся в твердых руках полковника Оливера Кромвеля, – в районе, откуда в предшествующем поколении прибывало большинство пуританских эмигрантов в Новую Англию и где теперь вербовались первые «железнобокие» среди йоменов, читающих Библию.
Сам Кромвель происходил из добропорядочной семьи, состоявшей в родстве с несколькими из самых влиятельных лиц в палате общин. Он был дворянином-землевладельцем, владевшим небольшим поместьем возле Хантингдона, дела в котором он вел сам до тех пор, пока не продал свои земли в 1631 году для того, чтобы взять в аренду богатые заливные луга вблизи Сент-Айвза. Такая продажа своей вотчины показывает, что он смотрел на землю скорее как на средство к существованию, чем как на наследственное владение и предмет общественной или семейной гордости. Он захотел стать трудолюбивым фермером и дельцом на равных правах с простым народом (чьим предводителем он сделался в различных местных спорах), вместо того чтобы остаться простым сквайром. Такая точка зрения характерна для дельцов – сельских хозяев, которые предпочитали быть пуританами и «круглоголовыми», тогда как старомодные сельские сквайры из западных графств, в большей мере сохранившие феодальные взгляды на жизнь и общество, были типичными роялистами. Даже крупнопоместные магнаты из пуританской партии, вроде графов Бедфордских и Манчестерских, были глубоко заинтересованы в увеличении своих состояний и поместий современными капиталистическими методами. Пуритане, от высших до низших, приучались под влиянием своей религии идеализировать деловитость, предприимчивость и трудолюбие. Роялисты обычно отличались более поверхностным и жизнерадостным характером.
Гражданская война поэтому не была социальной войной, а представляла собой борьбу, в которой партии разделились по политическим и религиозным убеждениям, причем линия расхождения соответствовала, с грубым приближением и с многочисленными индивидуальными отклонениями, известным делениям социального характера. В событиях, которые последовали за этой войной, в период английской республики «круглоголовых» (1649-1660) классовое расслоение стало более заметным. Джентри в целом стали все более и более отходить от вождей «круглоголовых» и их дела. Тем временем демократические идеи равенства людей независимо от их положения и состояния оказывали свое влияние на политические события того периода. Но эти «уравнительные» идеи носили скорее политический, чем социальный характер. Теоретики из рядов «армии нового образца» отстаивали избирательные права в парламент для всего взрослого мужского населения, но не социалистическое перераспределение собственности. Только небольшая секта «диггеров» под руководством Уинстэнли провозглашала, что английская земля принадлежит английскому народу и была украдена сквайрами. Их быстро подавили главари армии. Когда «диггеры» предостерегали «правительство цареубийц», что политическая революция будет беспочвенной и не удержится, если не будет основываться на социальной революции, они были правы, как это вскоре и показала реставрация монархии.
Даже идеи политической демократии поддерживались почти исключительно сторонниками крайнего, радикального течения этой победоносной армии. Среди народных масс не было никакого движения в этом направлении, и если бы провести выборы на основе свободного всеобщего голосования, то они окончились бы реставрацией роялистов.
Хотя и не происходило дробления крупных поместий на более мелкие земельные участки на демократической основе, однако некоторое количество земли на короткое время перешло из рук роялистов во владение «круглоголовых». Это были главным образом церковные и королевские земли, продававшиеся для покрытия расходов революционного правительства так же, как столетие назад продавались монастырские земли. Покупателями были большей частью люди из все усиливавшей свое влияние республиканской партии. Но все эти земли отошли обратно к церкви и королю во время реставрации монархии, так что на них не образовалось никакой «новой аристократии». И действительно, солдаты и купцы, которые владели этими землями около десяти лет, не будучи уверены, что они смогут сохранить ее за собой и в будущем, делали мало попыток обосноваться в качестве поместных джентльменов в своих новых имениях, которые они купили главным образом по коммерческим соображениям.
Иначе говоря, из рук в руки перешло поразительно малое количество земли. У сквайра-роялиста вырвали из рук управление графством, и он должен был платить крупные штрафы за «злонамеренность». Но как ни суровы были эти штрафы, они уплачивались за счет вырубки лесов, займов, экономии и различных соглашений с семьей и друзьями. Дело в том, что сквайры были готовы принести величайшие жертвы, только бы не расставаться со своими землями. Последние детальные исследования о землевладении в нескольких графствах Средней Англии в XVII веке показывают, как мало частной земли перешло из рук в руки в первый период республики. Действительно, мелкие поместья более широко продавались уже после Реставрации, и притом по экономическим причинам, которые стали тогда преобладающими. Однако вполне возможно, что парламентские штрафы постоянно ставили в затруднительное положение некоторые мелкие поместья и способствовали их вынужденной продаже в следующем поколении.
Во всяком случае, кажется неправдоподобным, чтобы «виги» в царствование Карла II, как иногда считают, были новым типом землевладельцев, который появился в графстве во времена республики. Прежний дворянский класс (сквайрархия) претерпел много бесчестия и горя, а также побывал во многих унизительных переделках, но не был полностью уничтожен. Роялист Джон Эвелин, совершивший осенью 1654 года поездку по загородным домам своих друзей в Средней Англии, начиная с прелестного Ноттингемшира, «полного джентри», до Кембриджа и Одли Энд, упоминал в своем дневнике много «дворянских гнезд» и ничего не говорил о разорении или отсутствии их владельцев или же о каких бы то ни было изменениях во владельческих правах.
Знать была в еще большем загоне, чем сквайры, так как почти никто из палаты лордов не связал своей судьбы с партией «круглоголовых» в период «цареубийства». Под властью «святош» и солдат лорды перестали играть значительную роль в Англии. Всегда рассудительная и веселая Дороти Осборн заметила по поводу безрассудства своего кузена, выбравшего себе жену только потому, что она была дочерью графа: «Это мне кажется чистейшей причудой, не имеющей никакого смысла, принимая во внимание, что это ничего не прибавляет к ее личности и весьма мало ценится в наш век, если бы даже оно и имело какое-либо значение в лучшие времена». Эти «лучшие времена» Реставрации вернули, само собой разумеется, некоторое почтение к графам и большее стремление жениться на их дочерях.
С другой стороны, многие важные результаты победы парламентских армий сохранились при Реставрации. Одним из них было усиление влияния Лондона и торгового сословия в «высокой политике». Другим было торжество английского обычного права над его соперниками.
Во времена Тюдоров в целях укрепления королевских прерогатив и удовлетворения реальных нужд того века было резко увеличено число и усилена власть независимых судов, причем каждый из них проводил свою собственную систему законодательства, мало считаясь с процессуальной стороной и основами обычного права. Но парламенты, которые сопротивлялись Якову I и Карлу I, инструктированные Эдуардом Коком, величайшим из английских юристов, пытались отстоять доминирующее значение обычного права и в 1641 году оказались в состоянии провести его в жизнь в законодательном порядке. Звездная палата, церковный суд Высокой комиссии и юрисдикция Советов Уэльса и Севера были тогда же уничтожены. Суд адмиралтейства был уже вынужден признать контроль обычного права при разработке важного для Англии торгового права.
Таким образом, английская юридическая система избежала печальной участи быть раздробленной на мелкие куски. Единственным остатком дуализма была независимость Канцлерского суда (возглавляемого лордом-канцлером). Но даже и он перестал быть орудием королевской прерогативы и превратился в дополнительную систему права, выработанного на основе судебных решений, искусно сочетавшуюся с принципами обычного права, которыми руководствовались тогда многие суды.
Победа обычного права повлекла за собой отмену пыток в Англии задолго до отмены ее в других странах и проложила путь к более гуманному обращению с политическими врагами правительства, отданными под суд. Кроме того, победа обычного права над привилегированными судами сохранила средневековое представление о верховенстве закона, который нельзя отмести в сторону в угоду правительству и который может быть изменен только парламентом не единолично королем. Этот великий принцип, ставящий закон выше исполнительной власти, часто нарушался в эволюционный период республики и протектората. Но он снова восторжествовал при реставрации монархии и был подтвержден во время революции 1688 года, которая низвергла Якова II именно в целях установления принципа, ставящего закон выше короля. Это сред не вековое представление о примате закона как чего-то самостоятельного и независимого от воли исполнителя исчезло в континентальных странах. Но в Англии эта идея стала щитом наших свобод и оказала глубокое воздействие на английское общество и образ его мышления.
Во времена республики и протектората конституционный закон часто попирался в чрезвычайных условиях революции. Но даже в этот период обычное право и юристы были очень сильны, – к несчастью, достаточно сильны для того, чтобы воспрепятствовать выполнению настойчивого народного требования о реформе законодательства, вопиющей общественной потребности, которую Кромвель тщетно пытался удовлетворить. Слишком уж много было юристов даже для Кромвеля! Даже он не был вполне диктатором. Солдаты, с одной стороны, а юристы – с другой, в одно и то же время и поддерживали и сдерживали его. Когда в годы Реставрации армия была расформирована, победителями остались юристы.
Можно легко себе представить, что в период между 1640 и 1660 годами строилось мало помещичьих домов. Но мирные годы, предшествовавшие гражданской войне, в общем были цветущим периодом для джентри – крупных и мелких, – продолжавших традиции елизаветинского века и застраивавших свою страну все более и более красивыми и удобными жилищами.
Вновь возводимые господские дома заметно отличались по своему типу от старых. Высокий зал со стропилами, представлявший собою, начиная с саксонских и до елизаветинских времен, характерную особенность деревенского дома, вышел из моды. «Столовые» и гостиные строились высотой в один этаж, так как разнообразные назначения старинного «холла» были поделены теперь между целым рядом комнат обычной величины. Двор, находившийся в центре господского дома, где обычно его население проводило так много времени, также уменьшился или совсем исчез из проектов особняков, строившихся при Якове. Двор теперь находился уже не в середине строения, а позади него.
Карнизы и пилястры в классическом стиле украшали снаружи стены дома. Внутри дома лестница и ее площадки были широкими, а перила украшены искусной резьбой. На стенах в большинстве домов панельная обшивка этой эпохи все более и более вытесняла гобелены, драпировки и стенную живопись, хотя все еще в большом количестве вырабатывались и высоко ценились прекрасные гобелены. По примеру любителей искусства Карла I и его могущественного подданного графа Эрандельского стали украшать залы картинами в рамах и мраморными скульптурами. Рубенс, Ван-Дейк и более скромные голландские художники много работали для английских меценатов.
Лепная работа потолков была изысканно декоративна. На полу изделия из камыша уступили место коврам и циновкам. Это означало, в частности, уменьшение количества блох и, следовательно, снижение числа случаев заболевания чумой. Хорошие ковры вырабатывались теперь в Англии или импортировались из Турции и Персии. Однако в 1645 году у семейства Верни в Клейдоне были «кожаные ковры для столовых и гостиных», «обитая зеленым бархатом мебель» и «табуреты с золочеными гвоздями». В большинстве домов сидели еще на табуретах, так как стулья предназначались для старших и более почтенных. Столы на легких подставках уступили место массивным столам на резных ножках. Немало кроватей и буфетов с великолепной резьбой сохранилось до сих пор во всем своем блеске полированного и потемневшего от времени дуба.
В Англии наступила, и все еще продолжается с тех пор, великая эпоха садов. Бэкон, сказав, что «всемогущий Бог сперва насадил сад», добавил, что без него «здание и дворец представляют собою лишь неуклюжее творение рук человеческих». Конец елизаветинского и начало стюартовского периода ознаменовались увеличением размеров собственно цветников в отличие от «садов» с полезными овощами (к которым теперь прибавился завезенный из Америки картофель). Тогда же появился излюбленный фруктовый сад со своими зелеными аллеями и «плетеная беседка».
Собственно цветник разбивался в виде прямоугольников и квадратов, разделенных широкими дорожками прямо перед фасадом дома. Букс и лаванда вплетались в живые изгороди и орнаментальные украшения.
В этот период в Англии стали выращивать много новых видов растений, деревьев и цветов, а именно: царский венец, тюльпан, золотой дождь, настурцию, бессмертник, садовую чернушку, лунник, тюльпановое дерево, красный клен и многие другие. Любовь к садоводству и цветам, ставшая теперь отличительной чертой англичан, была отчасти привита им нидерландскими беженцами-гугенотами, поселившимися в Норидже и в Лондоне. Ткачи-гугеноты из Слитлфилдса положили начало первым обществам садоводства в Англии. В царствование Карла I в английских книгах, в которых восторженно описывались цветы, разъяснялись методы цветоводства и популяризировалась эта мода.
Кроме разведения цветов, многие из которых и сейчас можно встретить на наших цветниках, наши предки питали также пристрастие к травам,которое несохранилось в та кой же мере до наших дней. Травы в значительной степени применялись для медицинских и кулинарных целей. Солнечные цветы и лабиринты выкладывались из трав и цветов.
Картина идеальной семейной жизни в этот период, закончившийся таким трагическим политическим расколом, увековечена в «Мемуарах семейства Верни». Порядок в их доме в Клейдоне – Бакингемшир – представлял собой все, что было лучшего в образе жизни пуритан и роялистов и поддерживался Эдмундом Верни и его сыном Ральфом, пока упрямство короля и насилия его врагов не заставили даже этих двух умеренных людей примкнуть к противоположным партиям в гражданской войне. При этом их любовь друг к другу не уменьшилась, нисколько не ослабела и их общая заинтересованность в том, чтобы сохранить в неприкосновенности родовой дом и поместье в эти мрачные времена.
На открывающейся нашему взору картине жизни семейства Верни в Клейдоне во время царствования Карла I мы видим английский деревенский дом как центр не только управления имением, но и домашнего производства, в котором членам этой семьи наряду с армией слуг и приживальщиков обоих полов приходилось играть существенную роль.
«Большой дом обеспечивал свои потребности в основном за счет собственного хозяйства, почти без помощи извне [пишет историк семейства Верни]; обитатели такого дома сами варили пиво и пекли хлеб, сбивали масло и мололи себе муку; они выращивали, откармливали и производили убой своих быков и овец, разводили голубей и домашнюю птицу возле своего собственного дома. Своих лошадей они подковывали дома, пилили для себя доски, ковали и чинили свой несложный железный инвентарь. В связи с этим там имелись: мельница, скотобойня, кузница, плотницкая и малярная мастерские, солодовня и пивоварня, лесные склады, заваленные крупным и мелким кругляком, лесопильня и сараи, наполненные всякого рода отходами камня, железа, дерева и напиленными дровами; имелся манеж для верховой езды, прачечная, молочная ферма с маслобойкой, работающей на лошадиной тяге, стойла и хлева для всякого рода крупного рогатого скота и свиней, кладовые для яблок и кореньев, – все это показывает нам, насколько совершенным в то время было представление о самообеспечении».
Голубятни и кишащие рыбой садки, а также пруды, затянутые сеткой для водяной птицы, были не менее важны для хозяйства. Дичь, добытая соколами или с помощью охотничьего ружья, ценилась особенно зимой, потому что обычно единственным видом мяса была солонина, заготавливаемая при осеннем забое. Частым следствием повседневного употребления такой соленой пищи в Клейдоне и во всех других хозяйствах как у знати, так и у простолюдинов были кожные заболевания. Дело в том, что зимние овощи были редки: картофель и салаты только начинали входить в употребление.
Работа с иглой и прялкой составляла весьма необходимую часть женского образования; и поскольку некоторые из беднейших родственниц данной семьи проживали в знатных домах в качестве «помощниц хозяйки дома» (что соответствовало положению пажей для лиц мужского пола), то они были полезнымии желанными членами дома для исполнения этих важных хозяйственных обязанностей. Имеются письма от пяти или шести таких связанных с семейством Верни дам благородного происхождения и воспитания, получивших такое же хорошее образование, как и их соседки; к ним относились, по-видимому, с большим уважением.
В число занятий обитателей женской половины дома в Клейдоне входили: прядение шерсти и льна, шитье из тонких и грубых тканей, кулинария, заготовка впрок и консервирование, винокурение, приготовление лекарств из травпо предписанию врача или по семейным традициям и, наконец, – что особенно важно – изготовление фруктовых сиропов и домашних вин из смородины, белой буквицы и бузины, которые играли большую роль в жизни до того, как в годы Реставрации начали входить в обиход чай и кофе.
Леди Верни вырастила десять детей. Это было большое и дружное семейство, в котором не было праздных людей; находилось время и для обширной переписки с отсутствующими членами семьи. В архивах Верни сохранилось до нашего времени четыреста писем только за один год. Сэр Эдмунд и его дети совершали частые поездки по поручениям короля или парламента или по семейным и личным делам. Обычно они ездили верхом на лошади, и притом довольно быстро, по немощеным дорогам того времени. В 1639 году сэр Эдмунд проехал вместе с королем 260 миль (около400 километров), отделяющие Берик от Лондона, за четыре дня.
Гораздо медленнее передвигались в «семейных каретах» – своего рода телегах без рессор, с кожаным откидным верхом для зашиты от ненастной погоды. Этой чрезвычайно неудобной роскошью пользовались только слабосильные люди или изнеженные женщины, которые не умели ездить верхом.
Во времена республики уже начали распространяться общественные средства передвижения, но они были все еще дорогими и медленными. В 1658 году дилижансы отправлялись из лондонской гостиницы Георга (Олдерсгейт) в различные города при следующих условиях проезда:
вСолсбери – двое суток езды, стоимость проезда 20 шиллингов;
в Эксетер – четверо суток езды – 40 шиллингов;
в Плимут – 50 шиллингов;
в Дарем – 55 шиллингов (без всякой гарантии относительно времени прибытия) и
в Уэйкфилд – по пятницам – четверо суток езды, стоимость проезда 40 шиллингов.
Карета XVII в
Разведение и покупка лошадей всевозможных пород и для всевозможных, целей играли важную роль в жизни семейства Верни в Клейдоне. В этой части Англии лошади постепенно вытесняли быков в езде и пахоте. Упряжных лошадей, принадлежащих Эдмунду Верни, периодически пригоняли в его имение, находившееся в болотистой местности, чтобы откормиться «на дешевом подножном корму».
При сравнении жизни и писем семейства Верни в царствование Карла I с жизнью и письмами семейства Пастонов в царствование Генриха VI бросается в глаза общее сходство, но заметны также и более высокие нравственные инстинкты и традиции, большее добродушие и менее суровый взгляд на семейные отношения и обязанности к соседям. Продолжительное пребывание целого ряда поколений в обстановке мира и порядка в стране, а, возможно, также и другие перемены сделали жизнь более благородной и справедливой. Сэр Тоуби Мэтью, придворный Карла I, который знал несколько чужеземных стран так же хорошо, как свою собственную, будучи новообращенным католиком, мог беспристрастно и критически оценивать своих соотечественников. Он пишет в предисловии к своим «Письмам», что англичане имеют монополию на «некую вещь, называемую добродушием» и что «Англия представляет собой единственную в своем роде Индию, где можно найти этот бездонный родник чистого золота». «Никто так не далек, как англичане, от упорного стремления к нескончаемой и непримиримой мести». Эти хорошие качества подверглись суровому испытанию, когда гражданская война постучалась к каждому вворота – война, более всеобъемлющая по охватываемой ею социальной сфере и территории, чем войны Алой и Белой розы, но такая, в которой эгоистические и материальные соображения играли значительно меньшую роль.
Глава IX Англия периода реставрации
Политическим результатом Реставрации 1660 года было восстановление власти короля, парламента и закона вместо «насильственной власти» военной диктатуры. В церковно-религиозной области она восстановила епископов, «Книгу Общих молитв» и англиканское отношение к религии вместо пуританского. Но в социальном отношении реставрация монархии вернула знати и дворянству их прежнее общественное положение признанных руководителей местной и национальной жизни. Вошедшая в поговорку «любовь англичанина к лорду», почтительный и восторженный интерес к «сквайру и его родственникам» снова приобрели полную силу. И действительно, как показали события, социальное значение пэра и сквайра, дворянина и его жены было «восстановлено» с гораздо большей полнотой, чем власть короля. В природе англичанина, по существу, было кое-что от сноба, но очень мало от придворного льстеца.
Во времена республики с ее демократическими принципами и военной сущностью большая часть наследственного «высшего класса» – сторонники роялистов – потерпела крушение, не сравнимое ни с чем в нашей социальной истории. Как класс они были не уничтожены, но оттеснены. Они не потеряли своих земель и посредством штрафов были лишены лишь некоторой части своих богатств. Но временно солдаты и политиканы, выдвинувшиеся во времена республики и сумевшие приспособиться к быстрым переменам революционной эпохи, захватили их место в государственном и местном управлении и присвоили себе их социальную роль. Некоторые из них, как Олджернон Сидней, Эшли Купер, принадлежали к родовитым фамилиям; другие, как полковник Прайд и Берч, были теми «простыми капитанами в домотканых мундирах», которых любил Кромвель, и при своем возвышении также возвышал, привлекая к управлению страной. Во время Реставрации многие из лидеров «круглоголовых» канули в неизвестность или попали в ссылку; другие же, как Монк, Эшли Купер, полковник Берч и Эндрю Марвелл, сохранили свое положение в парламенте или в рядах правительственных чиновников. Поскольку с цареубийцами было покончено, прежние «круглоголовые» не были объявлены вне закона, исключая лишь тех, кто упорно продолжал посещать тайные «сектантские молельни», как теперь называли места пуританского богослужения.
При Карле II «нонконформисты» в религии время от времени подвергались жестоким преследованиям. Жертвами были люди из среднего и низшего классов, преимущественно живущие в городах. Среди них было много богатых купцов, но еще больше ремесленников; поэтому государственные деятели вскоре начали жаловаться на то, что религиозные преследования серьезно тормозят торговлю. Лишь немногие из пострадавших принадлежали к джентри-землевладельцам; среди сквайров идеи «круглоголовых», видоизменившись, сделались идеями вигов, не желавших вредить своей политической карьере слишком добросовестной приверженностью к пуританству, осужденному законом. Распространенным типом вигов были скептик Шефтсбери и богохульник Уортон, хотя их воззрения были одинаково модными каксреди придворных приверженцев роялистов, так и среди парламентских лидеров партии тори. Однако было очень много вигов, считавших себя истинными христианами, хотя они никогда не принадлежали к сторонникам «высокой церкви»; Расселы, их семьи и другие виги посещали англиканское богослужение с искренним благочестием; но вместе с тем они нанимали пуританских священников (которых теперь вынудили замолчать) в качестве личных капелланов и учителей своих детей. Различие между этими двумя протестантскими религиями не для всех было абсолютно ясным.
После Реставрации сохранилась лишь небольшая горсточка землевладельцев, посещавших тайные сектантские молельни и, как и «нонконформисты», пострадавших от преследования. Англиканизм в несравненно большей степени, чем во времена Елизаветы и при Лоде, сделался религией высшего класса. Правда, прежде всего в Ланкашире, а также в Нортамберленде имелись дворяне – приверженцы римско-католической церкви; они были законами отстранены от всякого участия в местном и государственном управлении – законами, которые король в некоторых случаях мог нарушать в их интересах. Однако, за этими исключениями, высший класс – английское дворянство – был единым в своей приверженности англиканскому богослужению. С этого времени богослужение в приходской церкви находилось под специальным покровительством леди и джентльменов, имевших свои привилегированные места в церкви; большая часть конгрегации, состоявшая из арендаторов и сельскохозяйственных рабочих, зависела от них. Доведение аддисоновского Роджера де Коверли в церкви служит прекрасной иллюстрацией социальной стороны богослужения, которая сохранилась в течение многих последующих поколений:
«Мой друг, сэр Роджер, будучи добропорядочным приверженцем англиканской церкви, украсил церковь внутри различными текстами по своему выбору. Он пожертвовал также прекрасный покров для кафедры и обнес оградой церковный престол за собственный счет. Он часто говорил мне, что по возвращении в свое поместье находил прихожан весьма распущенными и для того, чтобы заставить их преклонять колена в церкви и принимать участие в церковном пении, дал каждому из них подушечку под ноги и «Книгу Общих молитв»; одновременно он нанял странствующего учителя пения, который ходит по всей округе, обучая верующих правильному пению псалмов. Так как сэр Роджер является лендлордом всех членов конгрегации, он держит ее в очень строгом порядке и не терпит, чтобы кто-нибудь, кроме него самого, спал во время богослужения; поэтому, оказавшись случайно замеченным кем-либо в том, что он слегка задремал во время проповеди, сэр Роджер, встрепенувшись, выпрямляется и смотрит вокруг, и если заметит других клюющих носом, то или сам будит их, или посылает к ним своих слуг». С другой стороны, конгрегация диссидентов как вовремена религиозных преследований, так и во времена веротерпимости состояла из людей, гордившихся своей независимостью; они были довольны, если знали, что часовня и ее церковные служители зависят только от них. По крайней мере в социальном отношении они «чувствовали себя легко в Сионе», если только не находились под испытующим взглядом сквайра и его жены.
До начала методистского движения Уэсли конгрегации и собрания диссидентов были сосредоточены почти исключительно в Сити, в рыночных городах и в промышленных округах, хотя во многих деревнях имелись отдельные семьи квакеров и баптистов. Некоторые диссиденты были бедными ремесленниками, как, например, Джон Беньян; другие, особенно в Лондоне и Бристоле, были настолько богатыми купцами, что могли бы скупить имения сквайров, преследовавших их. И часто такие купцы действительно скупали имущество нуждающихся дворян после накопления закладных на их земли. В следующем поколении сын купца-диссидента был уже сквайром или священником. Пройдет еще одно поколение, и леди, вышедшие из этих семейств, с пренебрежением будут говорить о всех, кто посещает собрания диссидентов или занят торговлей.
В таком виде в период Реставрации выработался постоянный социальный характер английских религиозных делений, и он сохранился с небольшими изменениями до времени правления Виктории.
Хотя высший класс был теперь в основном единым по своему вероисповеданию, политически он был разделен на вигов и тори. Тори, значительно более многочисленные, стремились искоренить религиозное сектантство и сделать англиканскую церковь единственной во всей стране. Но виги – пэры и джентри, – это способное и богатое меньшинство, проповедовали новую доктрину веротерпимости, по крайней мере по отношению ко всем протестантам. Их политическая власть проистекала из союза с пуританами промышленных и коммерческих районов, которые могли влиять на муниципальные и парламентские выборы во многих (парламентских) местечках. Тори, подобно их предшественникам «кавалерам», были той частью общества, которая самым искренним образом отстаивала сохранение аграрной Англии. Виги, как и их отцы «круглоголовые», большей частью являлись представителями землевладельческого класса, тесно связанными с коммерсантами и с их коммерческими интересами. Поэтому политика вигов, а не политика тори должна была выиграть в отдаленном будущем благодаря непрерывному процессу экономических изменений, которые вели с неизменно ускоряющимся темпом к аграрному и промышленному перевороту, оставившему лишь очень немногое от того, чем характеризовались старые пути развития страны.
После Реставрации в обществе исчезла та чрезмерная озабоченность церковными делами, которая характеризует Англию Кромвеля. Общественная реакция, ниспровергшая пуритан, была больше светской, чем религиозной. Действительно, англичане с облегчением приветствовали возврат старой англиканской церкви, главным образом потому, что она менее назойливо требовала проявления религиозного усердия в повседневной жизни. Пуритане заставляли людей «принимать религию вместе с хлебом» до тех пор, пока люди не почувствовали отвращения к пуританству.
После 1660 года, в течение жизни одного поколения, пуритан часто жестоко преследовали, но больше по причинам политическим и социальным, чем по чисто религиозным. Но преследования не носили религиозного характера; это не было искоренением ереси. Горькие пьяницы – охотники на лисиц из господского дома – ненавидели пресвитериан соседнего города не потому, что те придерживались учения Кальвина, а потому, что они говорили в нос, цитировали Священное Писание вместо честных общепринятых клятв и голосовали за вигов, а не за тори.
В 1677 году был отменен указ о сожжении еретиков и законом были запрещены все «наказания с лишением жизни при церковном осуждении»; однако фактически в Англии не был казнен ни один еретик после сожжения унитарианцев еще при жизни Шекспира. Пуританство во времена своего господства не превратилось в государственную религию. Англия Кромвеля изобиловала чуждыми учениями и «умеренными» вероисповеданиями и оставила в наследство восстановленным Стюартам остров «с сотней религий». Там, где много различных религий, меньше преследуется неверие. Но в пресвитерианской Шотландии, где секты имели мало влияния, и где установленное государственное вероучение было популярным в народных массах, даже в такие поздние времена, как 1697 год, восемнадцатилетний юноша был повешен за отрицание авторитета Священного писания; в Англии же после гражданской войны не было случаев лишения человека жизни или свободы «за атеизм», хотя на общественном положении это могло отразиться неблагоприятно. В конце столетия унитарианское учение, за которое сто лет назад людей вешали, стало обычным среди английских пресвитерианских конгрегаций «величайшей буржуазной респектабельности», а многие из руководящих государственных деятелей, не исключая самого Карла II ,когда он находился в веселом настроении, проявляли скептическое отношение к религии и порой вели себя просто как безбожники.
Важнейшее значение имело то, что в Англии быстро распространилась экспериментальная наука. Во времена республики в Оксфордском и Кембриджском университетах и в Лондоне имелась группа замечательных ученых, работы которых находились в центре общего внимания и благоволения при дворе реставрированных Стюартов. Под покровительством Карла II и его двоюродного брата принца Руперта, который сам занимался химическими опытами, было основано Королевское общество.
Различные прикладные цели возможного применения науки в сельском хозяйстве, в промышленности, в мореплавании, в медицине и в технике еще взывали к практическому уму англичан. Должно было пройти еще одно столетие, прежде чем промышленный переворот приобрел полную силу в значительной степени как результат приложения науки к производству; но уже в царствование Карла II многие явления, важные для повседневной жизни, изучались в духе последних достижений науки, и этот новый дух уже оказал огромное влияние на научную мысль Англии. Роберт Бойль, Исаак Ньютон и первые члены Королевского общества были религиозными людьми, отвергавшими скептические доктрины Гоббса. Но они знакомили своих сограждан с идеей закономерности во вселенной и с научными методами исследования, необходимыми для открытия истины. Считалось, что эти методы никогда не приведут к какому-нибудь выводу, несовместимому с преданиями Библии или с религией, признающей чудеса. Ньютон жил и умер с этими убеждениями. Но его закон всемирного тяготения и открытия в области математического анализа давали методы познания истины, не имевшие никакого отношения к теологии. Распространение научного исследования оказало влияние на характер религиозного верования, хотя и не повлияло еще на его содержание. Век веротерпимого благочестия, последовавший за революцией 1688 года, был подготовлен этими научными достижениями эпохи Реставрации.
В самом начале царствования Карла II первая «История Королевского общества», его характер и задачи были написаны Спратом, который несколько лет спустя стал епископом Рочестерским, – человеком вполне соответствующим духу нового века, отличавшимся разносторонностью ума и гибкостью своих политических убеждений. Этот служитель «высокой церкви» превозносил «ученый и пытливый век», в котором жил, восхвалял практические цели ученых членов Королевского общества, стремящихся «умножить силы всего человечества и освободить его от оков заблуждений»; он требовал для этих новых философов широчайшего предела исследования – «только эти два естества, Бог и душа, под запретом: обо всем остальном они вольны судить как им заблагорассудится». Надлежало восхвалять Бога изучением системы созданного им мира, утверждал Спрат, но не следовало делать никакой дальнейшей попытки для включения научных открытий в схему теологии, что издревле так долго, и так мучительно пытались делать схоласты. «Бог и душа» принимались как постулат, не требующий доказательства, и их больше не касались. Несомненно, такая позиция была ортодоксальна, но по существу не религиозна. Бог уже больше не был всем во всем. В мире, где господствовали такие исследования, предрассудки были бы вскрыты, поэзия уступила бы почетное место прозе; а разве религия могла бы остаться прежней?
Спрат был одним из прекраснейших писателей периода Реставрации, создавших чистую прозу, но он не был оригинальным мыслителем, и его книга о Королевском обществе (1667) тем более симптоматична для воззрений нового века. Так же, как несколькими годами позже Локк и Ньютон, этот епископ допускает «древние чудеса» библейских времен как исключительное обстоятельство – необычайное вмешательство Бога в дела своего творения. Но новых чудес в протестантской англиканской стране уже нельзя ожидать. «Ход вещей, – объявляет Спрат, – идет спокойно вперед в своем собственном истинном русле естественных причин и следствий». Это больше уже даже не мир Шекспира; для этого философа-епископа «король Оберон и его невидимая армия волшебников» – лишь «лживые химеры». Англичане эпохи революции смеялись над «папистскими чудесами» не только потому, что они были папистскими, но и потому, что они были чудесами. Спрат даже предупреждает своих слишком легковерных соотечественников «не приписывать причин чумы или пожаров или наводнений божьему наказанию за грехи». «Новая философия» физических наук, пишет он, должна стать матерью изобретений, полезных для человека, обогащающих и улучшающих его жизнь. «Тогда как старая философия могла одарять нас только некоторыми бесплодными терминами и понятиями, новая передаст нам опыт использования всего созданного Богом и людьми и обогатит нас всеми благами плодородия и изобилия».
Нет ничего удивительного в том, что в конце столетия, когда епископ Спрат с таким энтузиазмом давал свое благословение пытливому духу науки, образованные люди совершенно не так, как раньше, реагировали на обвинение кого-либо в ведовстве. Показания об этих «удивительных историях» теперь критически, а иногда и с неодобрением расследовались судебными должностными лицами. Народные предрассудки в этой области были почти такими же грубыми, как и прежде, но джентри были теперь предрасположены к скептицизму. Обвиняемые в ведовстве имели два преимущества, Англия была страной, где обычное право не допускало применения пыток с целью вынудить признание, и судьи имели почти такие же возможности контроля, как и присяжные, над процедурой и над результатом судебных испытаний. Для обвиняемых в ведовстве было очень благоприятно то, что Англия все еще управлялась аристократией. Во многих деревенских местностях население продолжало бы топить или сжигать ведьм вплоть до XIX столетия, если бы только джентри не сдерживали его. Но в 1736 году, к большомунегодованию значительной части народных масс, парламент отклонил теперь уже устаревший закон, по которому ведьмы приговаривались к смерти.
Мы можем проследить это постепенное изменение общественного мнения, прежде всего сказавшееся на образованных слоях общества, по отчету Джона Рересби о деле «ведьмы», на котором он присутствовал в 1687 году.
«Одну пожилую женщину постигло тяжелое бедствие оказаться обвиненной в ведовстве. Некоторые, более склонные, чем я, верить таким вещам, считали показания против нее весьма вескими. Мальчик, который говорил, что он околдован, в присутствии суда забился в припадке при виде ее. Но при всем этом было замечено, что у мальчика не было судорог, пены изо рта и что припадок проходил внезапно, а не постепенно; поэтому судья счел нужным ее оправдать.
Однако следует рассказать эту странную историю. Один из моих солдат, стоявший на посту в 11 часов ночи возле ворот Клифордской башни, в ту ночь, когда «ведьма» была привлечена к суду, услышав сильный шум в замке, подошел к входу и увидал сверток бумаги, вылезавший из-под двери, который, как ему показалось при лунном свете, принял сначала образ обезьяны, затем индюка и двигался перед ним взад и вперед. После этого он отправился в тюрьму и позвал помощника тюремщика, который пришел и увидел сверток то танцующим вверх и вниз, то ускользающим под дверь, в отверстие, едва ли более широкое, чем толщина полкроны. Это я услыхал из уст обоих: и солдата и тюремщика».
Следует заметить, что Джон Рересби и судья – образованные люди – были большими скептиками, чем присяжные, солдат и тюремщик.
Карл II и его придворные за их покровительство науке заслуживают всяческой похвалы. Их покровительство театру, который боролся за свое возрождение после его запрещения, вызванного глупым ханжеством пуритан, было также весьма своевременным служением народу, но способ этого покровительства уже в гораздо меньшей степени заслуживает безоговорочных похвал.
Возрожденные театры в некоторых существенных чертах отличались от тех, закрытых в свое время пуританами, в которых впервые играли Шекспира. Все здание театра находилось теперь под крышей, и сцена искусственно освещалась свечами. Теперь театр имел рампу, спускающийся занавес и рисованные театральные декорации. Больше того, женские роли теперь уже исполнялись актрисами, а не хорошо вымуштрованными мальчиками, как до гражданской войны. Мужчины посещали театр столько же ради актрисы, сколько ради пьесы. Личная притягательная сила и обаяние Неллы Гвинн, возможно, имели больше значения, чем все профессиональное мастерство. В значительной степени это был новый театр и новое драматическое искусство с новыми возможностями и новыми опасностями.
За большой промежуток времени в Лондоне был открыт только один театр – Королевский театр на Друрилейн – и время от времени открывались один-два театра. Но в провинции не было постоянных театров; гастролирующих трупп было немного, и они были плохи. Театральное представление не было тогда, как музыка во времена Пёрселла, развлечением широких народных масс и искусством, которым широко занимались дома многочисленные небольшие группы знатоков. Драматические театры были сосредоточены в Лондоне, и даже там театр был рассчитан не на широкие слои населения, а на двор и городских модников. Именно этим извращенным вкусам удовлетворяла драма первых лет периода Реставрации.
В то время бессердечная и циничная фривольность господствовала в Уайтхолле и Вестминстере, гораздо большая, чем во всей Англии. Люди, которые посещали двор Карла II, первые лидеры партии тори и вигов во времена папистского заговора и Акта о престолонаследии, осмеивали все виды добродетели как лицемерие и считали, что каждый человек подкупен.
Однако 2 тысячи пуританских священнослужителей только что отказались от своих церковных приходов с приносимыми ими доходами и терпели преследования за свои убеждения (1662), следуя примеру своих врагов – англиканского духовенства, которое терпело точно такие же гонения в течение 20 истекших лет, но не бросило церковь в тяжелые для нее времена. Пуританское и англиканское духовенство, отказавшееся сохранить ценой отречения источник своего существования, было почти в десять раз многочисленнее католического и протестантского духовенства, которое так же стойко держалось во время частых смен господствующих религий при Тюдорах. Человеческая совесть значила теперь не меньше, а больше, чем прежде. Англия была достаточно здоровой, но в корне испорченными были придворные и политические деятели, потому что сам король и молодое поколение аристократии были деморализованы целым рядом факторов: перерывом в их образовании и разрушением семейной жизни; изгнанием и конфискацией имущества, приведшими к внезапной бедности, толкнувшей их на бесчестные ухищрения; несправедливостью, причиненной им во имя религии; постоянным для того времени зрелищем, когда от с большой легкостью данных клятв и подписанных договоров так же легко и отказывались; всей низостью оборотной стороны революции и контрреволюции, жертвами которых они являлись.
Эти причины привели к упорному отрицанию всякой нравственности, характерному для вернувшихся к власти политических руководителей и законодателей моды и нашедшему свое отражение в драмах начального периода Реставрации, написанных под их духовным руководством. Наибольший успех имела драма Уичерли «Деревенская женщина»; герой, выдавая себя за евнуха, получил доступ в частные покои, что дало ему возможность соблазнять женщин; ожидали, что все будут восторгаться его личностью и его поступками. Ни в какое другое время до Реставрации или после нее такая тема никогда не нашла бы отзвука у английских зрителей.
Несмотря на это, театр был восстановлен, и в его репертуаре было много хороших пьес. Возобновились постановки пьес Шекспира и Бена Джонсона. Поэтические драмы Драйдена и музыкальные импровизации и оперы Пёрселла [42]– этих двух гениев – были украшением театра. Ив следующем поколении совершенно вышли из моды пошлости Уичерли. На смену им пришла новая английская комедия Конгрива и Фаркера. Этих крупных драматургов обычно объединяют в одну группу с Уичерли и относят к «писателям периода Реставрации», но на самом деле хронологически более правильно было бы считать Конгрива и Фаркера «революционными драматургами)», потому что они писали в царствование Вильгельма и Анны.
Таким образом, уичерлиевский период английского театра продолжался недолго, но еще долгое время спустя сказывались его плохие последствия: он внушил многим благочестивым и «благо – пристойно мыслящим» семьям – приверженцам как «высокой церкви», так и «низкой церкви» – враждебный взгляд на драму, взгляд, который во времена Шекспира был свойствен строгим пуританам. До самого конца XIX столетия многим молодым благовоспитанным людям никогда не разрешали посещать театр. И если такая строгость и была скорее исключением, чем правилом, то, во всяком случае, можно сказать, что серьезные люди в Англии никогда не относились к театру серьезно. Это печальное положение в немалой степени было вызвано пуританским ханжеством и привело к фривольности драмы раннего периода Реставрации. Эти неблагоприятные условия были характерны для Англии: век Уичерли в Англии был веком Мольера, Корнеля и Расина во Франции. Там драма, как комедия, так и трагедия, не была фривольной и имела глубокий смысл; французы всегда относились к своей драме, как к серьезному искусству, так же как относились англичане времени Елизаветы к своей драме, расценивая ее как культурный фактор, побуждающий к критическому восприятию окружающей жизни.
Век, который создал ньютоновские «Математические начала натуральной философии», мильтоновский «Потерянный рай», драйденовского «Авессалома и Ахитофела», пёрселловскую музыку, реновские храмы и все многообразие интересных, любопытных фактов повседневной жизни, – этот век был одним из самых славных периодов развития английского гения и цивилизации. Такой век не мог бы быть тем, чем он был, без печатных машин. Однако поразительно, какое небольшое количество печатных изданий выполняло это назначение.
Прежде всего в Англии действовала строжайшая цензура. Ни одна книга, ни один памфлет или газета не могли быть напечатаны легально без разрешения, полученного от властей. Враги существующего церковного или государственного порядка могли распространять свои взгляды, пользуясь лишь спрятанными в лондонских мансардах типографскими станками, на которых работали люди, доведенные до отчаяния, люди, которые в случае ареста несли жестокое наказание; за ними шпионили доносчики.
Санкция цензуры, которая так душила свободу слова, теперь требовалась уже не в силу королевской прерогативы, как прежде, а на основе парламентского закона. Первый закон о цензуре, утвержденный «кавалерским» парламентом в 1663 году [43], имел целью запретить печатание мятежных и еретических произведений, подразумевая прежде всего сочинения «круглоголовых» и пуританских писателей. Этот закон через известный промежуток времени возобновлялся снова; он был отменен палатой общин при вигах и в годы беспарламентского правления (1679-1685); парламентом Якова II он был восстановлен. И лишь в более либеральном веке, рожденном революцией, истекший срок действия закона о цензуре не был продлен, и он утратил свою силу. С 1696 года каждому англичанину разрешено печатать и опубликовывать, что он пожелает, не обращаясь ни к церковной, ни к государственной власти; он мог быть привлечен к ответственности – по обвинению в пасквиле или в призыве к мятежу – только судом присяжных. Так в Англии фактически была осуществлена мечта Мильтона о «свободной печати» спустя поколение после его смерти.
При ограничении свободы печати, когда все еще существовала цензура, писатели и люди науки могли свободнее, чем политические деятели, пользоваться прессой. Церковные цензоры, отказываясь санкционировать некоторые специфические учения диссидентов, однако, не были такими обскурантами, чтобы запретить печатание «Потерянного рая» или «Путешествия пилигрима». Ньютоновские «Математические начала» были разрешены к печати в 1686 году Сэмюэлем Пеписом – президентом Королевского общества.
Однако общее число напечатанных книг и памфлетов было невелико. Постановлениями закона о цензуре число мастеров-печатников в королевстве было сокращено до двадцати и число печатных машин, на которых каждый из них мог работать, было строго ограничено. За исключением печатников двух университетских издательств (в Оксфорде и в Кембридже), все мастера-печатники были сосредоточены в Лондоне в ущерб интеллектуальной жизни страны в целом. В следующем столетии, когда уже не действовал закон о цензуре, печатание было широко распространено по всей стране, что послужило на пользу литературной и научной жизни провинций. Но во времена Стюартов Лондон и два университета монополизировали печатание и издание книг. Когда Вильгельм Оранский во время своего знаменитого похода из Торби занял Эксетер, то столица Западной Англии не могла предоставить ему ни одного печатника и ни одной печатной машины для издания копий его манифеста.
Фактически в Англии не было газет (за исключением немногих лет в царствование Карла II, когда цензура не действовала), потому что нельзя же назвать газетой жиденькую официальную «Gazette». Новости распространялись в «листовках», написанных от руки в Лондоне и рассылавшихся определенным лицам в отдаленные города и деревни. Получившие эти листовки при желании могли прочесть их и передать своим соседям. Именно таким способом были созданы (и благодаря этому продолжали существовать) партии вигов и тори как группы избирателей. Аналогичным путем распространялись всякого рода новости – спортивные, литературные и общего характера. Составлением и размножением этих листовок с новостями была занята целая армия переписчиков в Лондоне, соответствующая журналистам и издателям газет позднейшего времени.
Частные библиотеки занимали все большее место в домашней жизни, различаясь своей величиной и характером – начиная с замечательных собраний Сэмюэля Пеписа и семьи Коттонов и кончал скромными книжными полками в деревенском доме йомена. Уже вошло в моду считать, что в каждом хорошем доме следует иметь хорошую библиотеку, но на практике это еще не было осуществлено так широко, как при Ганноверах.
С другой стороны, так как общественных библиотек было очень мало (если не говорить об Оксфорде и Кембридже), то читателям с небольшими средствами было очень трудно получать книги. Первая публичная библиотека была учреждена в Лондоне в 1684 году Теннисоном, который в то время был ректором Сент-Мартинского аббатства, а впоследствии архиепископом Кентерберийским.
Эвелин пишет в своем дневнике:
«Доктор Теннисон сообщил мне о своем намерении построить библиотеку в приходе св. Мартина для общественного пользования и просил меня и сэра Кристофера Рена оказать ему содействие в выборе места постройки и определении общего вида здания – достойный и похвальный замысел. Он сообщил мне, что в его приходе имеется от 30 до 40 молодых людей духовного знания, служащих наставниками молодых джентльменов или капелланами у знатных людей, и что, когда он упрекал их за частые посещения кабачков и кофеен, они сказали ему, что, если бы у них были книги, они учились бы или лучше проводили бы свое свободное время. Их слова и навели почтенного доктора на эту мысль; и действительно, большой позор, что такой большой город, как Лондон, не имеет ни одной общественной библиотеки, достойной его». Теннисон выстроил большой дом возле церкви св. Мартина и использовал верхний этаж под библиотеку, а нижний – как рабочую комнату для бедняков.
Десятью годами ранее Рен был приглашен своим другом Айзеком Барроу, главой Тринити-колледжа в Кембридже, для составления проекта библиотеки – лучшего из всех библиотечных зданий при колледжах; книжные шкафы были украшены резьбой по дереву, выполненной Гринлинг Гиббонсом. Книг было все еще маловато, но зато ими дорожили и берегли их, как принцев.
Значительная часть населения, даже в отдаленных деревнях, умела читать и писать. Составлялись отчеты; люди обменивались деловыми письмами, писали ради сплетен или душевных излияний; и, как мы знаем, велись дневники, которые писались стенографически или обычным способом. Однако, хотя этот век был веком грамотности в житейском смысле слова, очень мало печатной литературы доходило до менее образованных слоев населения. Тем большее значение получила проповедь, которая так же свободно знакомила с политическими доктринами, как и с религиозными.
Говорили, что деревенские приходские священники восстановленной [англиканской] церкви в своих проповедях чаще твердили о короле-мученике Карле I, чем об Иисусе Христе. Резкий тон при обсуждении политических вопросов, несомненно, был слишком общим явлением, но многие поучения и, проповеди сельского духовенства были более эффективными, чем эти политические дискуссии. Больше того, главным образом в Лондоне имелось влиятельное меньшинство англиканского духовенства, проповеди которых – весьма гуманные, ученые и красноречивые – заслуженно высоко подняли среди всего населения репутацию церкви и ее кафедры. Такими проповедниками были Теннисон, Стиллингфлит, Айзек Барроу и самый выдающийся – Тиллотсон.
Кроме того, церковь периода Реставрации и революции внесла большой вклад в дело просвещения. Церковно политические спорытого времени, когда все стороны обращались к практике прошлого, повысили значение исторического исследования и способствовали созданию Англии первого великого века средневековой учености. Это побуждало к исследованиям духовных лиц и религиозных мирян. Издание средневековых текстов и изучение англосаксонских и средневековых древностей этими людьми в период между 1660 и 1730 годами одинаково поражаюти качеством и количеством. После этого интерес к Средним векам внезапно замер под влиянием «просвещения» энциклопедистов века Вольтера, которое в свою очередь сменил сентиментальный романтизм с его интересом к древностям из эпохи «Айвенго». Но когда в середине и в конце XIX столетия два ученых, Мейтленд и Стеббс, и многие другие раскрывали действительные факты средневековой жизни и мысли, то работа этих новейших ученых была основана на работах эрудитов эпохи вторых Стюартов, точные и капитальные труды которых были проникнуты желанием защитить церковь Англии от Рима и Женевы или стремлением поддержать ту или другую сторону в религиозных спорах об отказе от присяги и конвокации.
В изучении древних классиков профессор богословия и глава Тринити-колледжа Кембриджского университета Ричард Бентли был звездой первой величины среди английских ученых не только своего времени, но и во все времена. Издание его «Фалариса» (1699 год) открыло новую эпоху в изучении греческой культуры, подобно тому, как в физике двенадцатью годами ранее это сделали ньютоновские «Математические начала». Тот факт, что Бентли и его оппоненты издавали свои произведения на английском, а не на латинском языке, свидетельствовал о расширении круга лиц, проявляющих интерес к серьезному научному спору. Но Бентли все же печатал примечания к своим изданиям классиков на латинском языке, точно так же, как Ньютон опубликовал свои «Математические начала» на латинском, потому что эрудиты и люди науки смотрели на себя прежде всего как на граждан всего мира и потом уже как на граждан той или иной страны.
Тем временем квакерская община распространяла свое влияние быстрее, чем какая-либо другая из преследуемых сект. Основанная Джорджем Фоксом в период, когда меч Кромвеля охранял «свободу проповеди» против пресвитериан и англиканского священника, эта своеобразная религия сумела пустить корни, но даже в эту эпоху свободы сект с квакерами обращались дурно вследствие необычного поведения и манер «друзей» [членов] первых квакерских сект. И когда при Реставрации снова началось прекратившееся при Кромвеле преследование сектантов, тяжелее всех пострадали квакеры. Если бы квакеры, отвергающие установленную законом религию, не признающие таинств, не имеющие духовенства или догмы, появились на полстолетия раньше, то их сжигали бы целыми партиями. Но характер преследования, которому они теперь подвергались – избиение и тюремное заключение, – помогал им привлекать еще больше новообращенных, восхищенных терпением и кротостью, проявляемыми ими во время наказания.
С кротостью сочеталось некоторое скрытое упорство, тонко рассчитанное на то, чтобы взбесить чванливых чиновников того времени; так, например, «друзья» отказывались снимать шляпы перед судом, который их судил. Протест их против снобизма и против преклонения перед авторитетами того времени был весьма ценен, но он иногда принимал нелепые формы. Ранний квакеризм при жизни его основателя (Фокс умер в 1691 году) был по своей природе народным духовным возрождением, чрезмерно резко выраженным, благодаря чему он привлекал тысячи новообращенных из простого народа. Во времена правления Вильгельма Оранского и Анны Стюарт «друзья» по численности сделались самой влиятельной из всех английских сект. В XVIII столетии они определились как весьма респектабельное, но довольно замкнутое «объединение» членов секты, не стремившихся обращать в свою веру других, но обретших свои души и направляющих свои жизни светом, который, конечно, отчасти был «внутренним светом», присущим каждому человеку, но отчасти был также результатом традиции и совокупности духовных правил чрезвычайной действенности – правил, переходивших в семьях «друзей» от отца к сыну, от матери к дочери.
Тончайшей сущностью своеобразного учения Джорджа Фокса, общей и для экзальтированных «возрождениев» – его первых учеников – и для «уравновешенных» «друзей» позднейших времен, несомненно, была идея, что внутренние качества христианина имеют большее значение, чем христианская догма. Ни одна церковь, ни одна секта до сих пор не делали это своим жизненным правилом. То, что они придерживались такой морали в деловом мире ив домашней жизни и поддерживали ее без притворства или ханжества, было большим достоинством этих исключительных людей. Англия может гордиться тем, что создала и увековечила эту категорию людей. Пуританский котел кипел очень бурно, но когда он остыл и был опорожнен, то на дне его оказался этот ценный осадок.
Автобиография Джона Рересби – баронета, владельца имения Трайберг вУэст Райдинге (Йоркшир) – являетсятипичным примером изменчивых судеб землевладельческой семьи роялиста. Отец Джона умер в 1646 году – год спустя после битвы при Нейзби, – оставив долг в 1200 фунтов стерлингов «не по причине неумелого хозяйничанья, а по причине войны». За два года до своей смерти он был взят в плен «круглоголовыми», «заключен под стражу в собственном доме» и вынужден был для уплаты штрафов продать «большой участок леса ивесь строевой старый лес в парке». Его сын Джон в двенадцатилетнем возрасте сделался наследником обремененного долгами имения, находившегося под бдительным надзором его матери, которая рассчитывала выпутаться из трудного положения. В ближайшие 20 лет постепенно долги были уплачены, и в 1668 году Джон был в состоянии заняться благоустройством своего деревенского дома. Он облицевал наружный фасад дома камнем вместо штукатурки, в некоторых комнатах «обшил стены новой деревянной панелью», расширил свой олений заповедник, забрав часть пахотной земли, и «обнес его каменной стеной»; для того чтобы восстановить лес, – проданный в годы смутного времени, он насадил ясени и смоковницы, выбранные им как более подходящие к почве, «чем деревья других лучших пород»; он привел сад в соответствие с требованиями времени, сделав «фонтан посредине цветника и грот в летней беседке, подвел воду в свинцовых трубах» и приподнял стены, окружающие сад. Эти работы с большой расчетливостью были растянуты на несколько лет. Наконец, перед самой революцией [1688] он был «озабочен ремонтом и украшением церкви, ее окон и установкой на колокольне нового колокола».
Джон Рересби был далеко не «безграмотным сквайром», а, наоборот, прекрасно владел латинским и поверхностно греческим языком; бегло говорил по-итальянски и не хуже, чем француз, – по-французски. В юношеские годы он пробыл некоторое время в Падуанском университете и в Венеции, изучая музыку и математику. У себя на родине он был энергичным мировым судьей; его клерк, как сам он сообщает о себе, «извлекал ежегодно 40 фунтов стерлингов из этого имения» – больше, чем многие священники получали со своих приходов. Джон Рересби заседал в парламенте как депутат от «гнилого» местечка Олдборо (Йорк), имевшего всего лишь с десяток избирателей, привилегированных владельцев домов, обеспечивающих место в палате общин. Джон, умеренный и осторожный тори, сделался членом парламента, придворным, иногда получал жалованье за службу короне; но он никогда не переставал быть прежде всего сельским джентльменом.
Землевладельцы этого типа, собственники поместий средней величины, имевшие широкие связи и постоянные источники дохода, в эпоху Реставрации могли не только сохранить свою собственность, но и приумножить ее. Но мелкий сквайр, живший с доходов от обработки собственной земли, получавший небольшие ренты или совсем не имевший ни рент, ни других доходов, человек малообразованный, без связей с внешним миром за пределами своего графства, к концу XVII столетия начал терять почву под ногами. Экономическая конъюнктура постепенно оборачивалась против него, ибо требовался капитал для того, чтобы не отставать от новых методов улучшенной сельскохозяйственной техники. Вполне возможно, что штрафы и потери периода гражданской войны и в течение многих лет после Реставрации были тяжелым камнем на шее небольшого поместья. С этого времени больше, чем когда-либо, крупные землевладельцы и люди, накопившие новые капиталы в результате занятия юриспруденцией, политикой или торговлей, искали земель, готовые скупать их на выгодных условиях у нуждающихся мелких собственников. Таким путем постепенно герцоги Бедфордские приобретали акр за акром и один манор за другим, пока им не стал принадлежать чуть ли не весь Бедфордшир.
Процесс роста крупных владений за счет исчезновения небольших достиг своей наивысшей точки в годы правления Георга III, но начался он уже при Карле II. В значительной степени именно этим объясняется враждебность тори, тотчас же после революции 1688 года, к людям с большим капиталом и крупным лордам из партии вигов. Обычно мелкий сквайр был тори, и его больше всего возмущало бремя лежащих на его гибнущем родовом поместье земельных налогов, взимавшихся для оплаты войн Вильгельма и Мальборо; особенно же мелкого сквайра возмущало то, что поступавшие налоги попадали в карманы поставщиков армии низкого происхождения, богатых диссидентов, жителей Лондона и голландцев, ссужавших правительство деньгами. Земельный налог того времени был чувствительным бременем для многих небольших поместий, хотя и менее роковым для всего класса землевладельцев, чем наш современный подоходный налог и налог на наследство.
Война и обложение, конечно, ускорили переворот, но, по существу, создание крупных поместий из ряда небольших было естественным экономическим процессом, аналогичным поглощению небольших промышленных предприятий более крупными в промышленном мире нашего времени. Если наконец теперь на сельское хозяйство стали смотреть как на средство увеличения народного богатства, а не как на сохранение определенного порядка общества, то перемена была неизбежна. Капитал в руках крупных земельных собственников-стяжателей и их стремление к коммерции и повышению прибыльности землевладения были необходимыми условиями этой «аграрной революции», которая в XVIII веке так сильно повысила продуктивность английской земли.
Во времена Карла II эти новшества все еще были в стадии эксперимента. Сельскохозяйственные писатели-теоретики проповедовали – а немногие наиболее просвещенные лендлорды и фермеры вводили на практике – улучшения, которые в следующем столетии сделались общепринятыми: научно проверенный севооборот, правильное кормление скота зимой, разведение корнеплодов и клевера, полевая обработка турнепса и картофеля, заготовка жмыхов и силоса и, наконец, устройство водохранилищ. В период Реставрации вся выгодность этих улучшений была хорошо известна, но их широкое применение задерживалось системой открытых полей с ее полуобщинным ведением хозяйства и недостатком капитала и знаний у мелких сквайров и йоменов – свободных держателей, которым все еще принадлежало так много земли. И даже крупные землевладельцы – в ближайшие годы после потрясения гражданских войн – не имели в достаточной мере веры в будущее, капитала или кредита, а также личной заинтересованности в сельском хозяйстве, чтобы взять на себя ведущую роль в улучшении техники землепользования в большом масштабе, подобно их потомкам во времена Турнепса Тауншенда [44], Кока из Норфолка и Артура Юнга.
После Реставрации земельная рента поднималась, но лишь незначительную часть ее землевладельцы вновь вкладывали в землю и не поощряли к этому исправных арендаторов.
Таким образом, при веселом короле Карле все еще продолжал существовать старый деревенский уклад жизни с его широким многообразием прав на землю, с его сравнительным экономическим равенством, с его открытыми полями и низкой продуктивностью. Но уже стало проявляться стремление к созданию крупных поместий, огороженных полей и к улучшению сельскохозяйственной техники.
Прежде всего, государственная политика уже способствовала увеличению производства для внутреннего и внешнего рынков. Парламентские законы ограничивали импорт скота из Ирландии и зерна из-за границы и предлагали английским земледельцам премии за экспорт. Эта политика, проводившаяся постепенно, шаг за шагом, от Карла II до Анны, отчасти имела в виду компенсировать тяжелый земельный налог и, конечно, была популярна среди мелких сквайров и йоменов. Однако если эта политика помогала им за счет внутреннего потребителя, то еще больше она помогала крупным лендлордам; и особенно же помогала она расширять производство для рынка людям с капиталами и инициативой, которые постепенно скупали небольшие поместья.
Эти покровительственные хлебные законы и премии до времени Ганноверов не имели полного успеха, но их принятие при последних Стюартах показательно для социальных сил, которые направляли нашу государственную политику, тем более что эта система премий за экспорт зерна не была принята ни в одной другой стране. Ее принятие только одной Англией есть результат осуществления права контроля над экономической политикой, которого парламент добился от короны победой в гражданской войне. Власть палаты общин над деловой жизнью страны была подтверждена при Реставрации и еще больше расширена революцией (1688). Палата общин очень внимательно прислушивалась к интересам землевладельцев, к классу которых принадлежало девять десятых ее членов. Избиратели в парламентских округах – большинство их составляли жители небольших городков – предпочитали быть представленными в парламенте соседними джентри, а не официальным депутатом города, принадлежащим к тому же классу, что и они. Вследствие такой системы, столь характерной для выгодного положения английской аристократии, интересам горожан уделялось больше внимания в Вестминстере, и в то же самое время усиливалась политическая и социальная власть палаты общин. Если бы, например, городок Олдборо вместо того, чтобы выбирать Джона Рересби, посылал бы в парламент одного из своих мелких лавочников, то ни король, ни лорды, ни министры не обращали бы внимания на то, что говорил или дума) такой человек. Только Лондон и немногие другие большие города выбирали от себя своих торговых магнатов, чтобы они говорили за них в заседаниях Национального совета, потому что сказанное ими всегда имело вес.
Но хотя палата общин все больше и больше превращалась в палату лендлордов, личные интересы которых были главным образом связаны с землей, отсюда еще не следует, что торговля и промышленность были в пренебрежении. В конце концов, больше четырехсот членов из пятисот были представителями от городов. Такая палата – состоящая главным образом из сквайров, которые были избраны от городов, – была более Чем какое-либо другое собрание склонна уделять должное внимание, как сельскому хозяйству, так и торговым нуждам страны. К тому же большая часть лендлордов обеих палат, особенно самые богатые и влиятельные из них, были лично заинтересованы в промышленных и торговых делах. Поэтому не удивительно, что парламент покровительствовал суконной мануфактуре так же заботливо, как и культуре злаков; он запретил ввоз иностранного сукна и экспорт сырой шерсти, задушил ирландскую суконную торговлю в интересах английских суконщиков и потребовал, чтобы каждого умершего при похоронах одевали только в английское сукно.
Навигационный акт, стремившийся сохранить торговлю Англии за англичанами и за ее торговыми кораблями вместо голландских, прошел в Долгом парламенте в 1651 году в такое время, когда государственная политика находилась под сильным влиянием торговой корпорации Лондона. В этом отношении Реставрация не внесла нового. Двор и парламент были единодушны в отношении политики Навигационных законов, стремясь сохранить перевозку товаров Англии и ее колоний за английскими кораблями и поддерживать сопутствующую этому враждебность к нашим голландским торговым соперникам.
Принцы и министры двора Карла II, так же как оппозиция в парламенте, находились в тесном личном контакте с магнатами Сити, которые вели на риск крупные торговые дела с заграницей. Лица, занимающие самое высокое общественное положение в Англии, имели паи в акционерных компаниях, торгующих на индийских, африканских и американских побережьях. Яков, герцог Йоркский – глава морского министерства и наследник престола, – был председателем королевской Африканской компании и участником Ост-Индской акционерной компании; после принца Руперта он был председателем Компании Гудзонова залива, и на этом посту его сменил Мальборо.
Таким образом, магнаты, руководившие внешней, морской и военной политикой, были в самом тесном контакте с торговыми корпорациями и лично принимали участие в их делах и в их проектах. Войны с Голландией в годы правления Карла II и с Францией во времена Вильгельма Оранского и Анны в значительной степени были торговыми и колониальными войнами, с необходимостью и выгодностью которых были согласны все: двор, парламент и Сити.
Пацифистские настроения приверженцев «маленькой Англии» – сквайров с примитивным деревенским мировоззрением и небольшими доходами от аренды – сыграли свою роль в предвыборной кампании тори, но влияние их на политику государственных людей в Вестминстере и Уайтхолле было невелико. Ряд войн, вызванных торговой и колониальной экспансией сначала против Голландии, затем против Франции, увеличил английские территории в Америке и продвинул английскую торговлю на европейские и мировые рынки. Расходы на эти войны в значительной степени были покрыты земельным налогом. Поэт перед самой революцией тому нет оснований говорить, что английская политика за период от Карла II до Анны пренебрегала торговыми или государственными интересами, что существовало предубеждение в пользу земледелия, или что обращалось чрезмерно большое внимание на мнение большинства землевладельцев.
Старая сельская Англия накануне массовых огораживаний и промышленного переворота часто представляется умственному взору потомства то в одном, то в другом из двух соперничающих образов. С одной стороны, нас просят представить себе страну свободных крестьян, обладающих чувством собственного достоинства, большей частью связанных с землей, но лишь с малыми личными правами на нее, – крестьян, наслаждающихся деревенской тишиной и благоденствием (позднее уничтоженными), прославляющих свое деревенское счастье песнями в барах с возлияниями по случаю праздника урожая (эти песни позже распевали в наших гостиных). Далее нам напоминают, что та же страна была также страной ремесленников, которые жили в деревнях и рыночных городах, отнюдь не лишенных прелести сельской жизни, потому что эти труженики занимались там своим ремеслом, проявляя свое искусство в использовании рабочего инструмента, вместо того чтобы быть только придатком машины. Поэтому они в своей повседневной работе испытывали восторг самобытной творческой личности – тот восторг, жалким суррогатом которого является лихорадочное возбуждение наших современных массовых развлечений, созданных в качестве противоядия скуке машинного и конторского труда. С другой стороны, нам показывают противоположную картину: нас просят вспомнить тяжелый изнуряющий труд до века технических изобретений, с рабочим днем продолжительностью 13 часов и более; детский труд на фабрике вместо начальной школы; болезни и преждевременную смерть вследствие отсутствия медицинского контроля и больничного лечения; отсутствие чистоты и комфорта, которые теперь мы считаем настоятельной необходимостью; пренебрежительную и невообразимую жестокость не только к преступникам и должникам, но слишком часто также к женщинам, детям и широким массам бедноты; и, наконец, условия жизни населения Англии и Уэльса, составлявшего пять с половиной миллионов человек и имевшего меньше материальных благ и удобств, чем современное, в семь раз большее (по данным на 1939 год) население.
Изучение этого периода подтверждает правильность как той, так и другой картины. Но в какой из этих картин содержится большая и более важная доля правды – об этом говорить рискованно: отчасти потому, что спор идет о неосязаемых величинах, так как мы не можем вернуться назад к мышлению наших предков, и даже если бы мы могли это сделать, мы все равно не знали бы, как найти решение задачи; отчасти также потому, что даже там, где могла бы помочь статистика, нет возможности получить такие статистические данные.
Правда, примерно во времена революции (1688) способный социолог Грегори Кинг на основе сведений о налоге на очаги и других данных сделал подсчет вероятной численности различных классов английского общества. Приведенные им цифры являются тонким прогнозом, но не более того. Конечно, они будут полезны в отрицательном смысле – как факты, не допускающие чрезмерного увлечения тех, кто восхваляет прошлое, напоминанием того, что даже до массового огораживания и промышленного переворота число фермеров и йоменов было относительно невелико, тогда как сельскохозяйственный пролетариат был многочисленным.
Два самых больших класса Англии, по исследованию Кинга, значительно превосходящие другие, – это «коттеры и пауперы» и «чернорабочие и полевые рабочие». Первые, как мы можем предполагать, представляют собой тех, кто пытался быть независимым и не работать по найму, причем, согласно Кингу, эта попытка приводила к жалким результатам. Однако те лица, которые добывали средства к существованию на общинной земле, которую они захватили, или на небольшом, принадлежащем им поле позади их хижины, могли быть счастливее, чем предполагал Кинг, даже если они были беднее, чем представляют себе современные апологеты прошлого. Второй большой класс, по Кингу, – «чернорабочие и полевые рабочие» – это люди, работающие по найму. Многие из них имели также некоторые права на общинную землю, садик или крохотный участок, которые повышали их чувство собственного достоинства и интерес к жизни, хотя и не давали собственнику доступа в гордое сословие английских йоменов. Даже многие из занятых в промышленности, особенно ткачи-шерстяники, имели во всех частях Англии небольшие сады или участки земли, которые они обрабатывали в часы досуга. На каменистых высотах вокруг Галифакса каждый суконщик имел «одну-две коровы» на огороженном поле, на крутом склоне которого стояла его хижина.
С другой стороны, в сельском хозяйстве и промышленности имелось очень большое число рабочих, у которых не было никаких прав на землю и никаких иных средств к существованию, кроме своего заработка.
Предполагалось, что заработная плата в земледелии и в промышленности должна регулироваться тарифами, утвержденными мировыми судьями для каждого графства, устанавливавшими в некоторых случаях предельную цену, по которой могли продаваться некоторые товары. Эти тарифы не претендовали на то, чтобы в точности фиксировать заработную плату или цены, а стремились только к тому, чтобы установить максимум, который нельзя было превысить. Поэтому внутри каждого графства допускались отклонения точно так же, как допускались различные ставки в разных графствах. Более того, очень часто объявленный максимум на практике нарушался.
Судя по отсутствию сведений, мы можем заключить, что стачки по сговору и союзы для повышения заработной платы не были общим явлением; гораздо больше сведений имеется о стачках, происходивших в годы правления Эдуарда III, а не при Карле II.
Елизаветинский статут о рабочих, который все еще частично сохранял свою силу, карал тех, кто бросал работу неоконченной, так же, как он карал того, кто давал или кто получал заработную плату, превышающую максимум, установленный мировыми судьями. Но максимум часто превышали в тех случаях, когда дополнительная оплата была в интересах и нанимателя, и рабочего. Тред-юнионизм тогда был слаб, но индивидуальные переговоры о заработной плате велись весьма оживленно.
Даже если принять во внимание низкие цены, заработная плата для некоторых категорий рабочих по современным нормам выглядит низкой; но по сравнению с европейскими ценами того времени она была высокой. Национальной особенностью англичан тогда, так же как и теперь, была не бережливость, а настойчивое требование обеспечения высокого уровня жизни. Дефо как хозяин провозглашал, что:
«Бережливость в хозяйстве – не идеал Англии. Английский рабочий люд съедает и выпивает – особенно выпивает – в три раза больше, в переводе на деньги, чем такое же количество иностранцев любого рода».
Главным предметом питания был хлеб, или, вернее, хлеб, пиво и обычно мясо. Овощи и фрукты в то время составляли весьма незначительную, а мясо очень большую долю в рационе англичанина. У людей среднего и высшего класса завтрак часто состоял из утренней кружки эля (пива) с небольшим количеством хлеба и масла, чего было достаточно до обеда в полдень – обильной трапезы из различных рыбных и мясных блюд. Что касается более бедных хозяйств, то Грегори Кинг вычислил, что половина населения этой категории питалась мясом ежедневно, а другая половина – ее большая часть – ела мясо по крайней мере два раза в неделю. Миллион бедняков, «живших Милостыней», «не ел мяса чаще одного раза в неделю».
Надежных статистических данных о населении Англии и о классах, на которые оно было разделено, нельзя получить до первой переписи 1801 года, но подсчеты (или, может быть, вернее было бы сказать – догадки), которые сделал Грегори Кинг, пользуясь сведениями о налогах на очаги и другими данными времени революции (1688), вполне заслуживают внимания.
Согласно Грегори Кингу, свыше миллиона человек, примерно пятая часть всего населения, жили случайными подаяниями, большей частью в виде общественного пособия, которое выплачивалось приходами. На стране лежало бремя налогов на бедных примерно в 800 000 фунтов стерлингов в год, и эти налоги поднялись при Анне до одного миллиона фунтов. Редко кто стыдился получать денежное пособие, которое выдавалось бедняку, не живущему в работном доме; считалось, что такие пособия раздавались с развращающим излишеством. Ричард Даннинг заявил в 1698 году, что приходское пособие часто в три раза превышает сумму, которую обычный рабочий, обремененный женой и тремя детьми, мог тратить на себя; эти лица, хотя бы раз получившие денежное пособие на дому, отказывались раз навсегда работать, и «редко они пьют что-нибудь иное, кроме крепчайшего пива, или едят хлеб не из первосортной пшеничной муки». К этому утверждению следует относиться с осторожностью, но таков был характер жалоб на закон о бедных некоторых налогоплательщиков и нанимателей.
Вопросы о пособиях, выплачивавшихся не живущим в богадельне или работном доме, во все времена имели много общих черт. Но одной особенностью английского закона о бедных периода Реставрации и XVIII столетия являлся закон о поселении [45], изданный «кавалерским» парламентом при Карле II. По этому закону каждый приходов котором человек пытался поселиться, мог отправить его обратно в тот приход, где он родился, из опасения, что если он останется на новом местожительстве, то когда-нибудь в будущем может оказаться бременем для налогоплательщиков. Девять десятых населения Англии, фактически все, кто не принадлежал к небольшому классу землевладельцев – как бы ни было хорошо их поведение и какую бы, пусть даже высокооплачиваемую, работу они ни имели, – подвергались опасности быть изгнанными из любого прихода, кроме того, где они родились, со всеми вытекающими последствиями – арестом и бесчестием.
Панический страх некоторых приходских властей, как бы вновь прибывшие со временем не обременили налогоплательщиков, вынуждал пользоваться этим несправедливым правом совершенно произвольно. Закон о поселении ставил преграды подвижности рабочих, был грубым нарушением свобод англичан, которыми они так гордились. Однако его редко осуждали до того времени, когда много позднее Адам Смит подверг его уничтожающей критике. Трудно установить точно пределы, в которых этот закон действовал, и, по-видимому, Адам Смит преувеличил причиненный им вред и число случаев жестокой несправедливости. Но даже в лучшем случае он был большим злом; такова была обратная сторона похвальной попытки стюартовской Англии обеспечить содержание бедных с помощью местных общественных властей. Попытка эта в целом была небезуспешна, и в значительной степени ею объясняется мирный характер развития английского общества.
Ничто не указывало с большей очевидностью на возрастающее влияние сельского дворянства (сквайрархии) в палате общин и в государстве, чем законы об охоте периода Реставрация. Подобно тому как лесными законами нормандского периода и периода Плантагенетов интересы всех классов общества были принесены в жертву прихоти короля, пожелавшего превратить огромные лесные массивы в заповедники для охоты на благородных оленей, так и теперь, для того чтобы обеспечить сквайров заповедниками для охоты на куропаток, в жертву были принесены интересы йоменов и фермеров. Куропатки, даже в большей мере, чем политические расхождения, заставляли соседей недружелюбно относиться друг к другу. Дело в том, что йомен – свободный держатель на своем небольшом участке – убивал дичь, которая забегала в его владения из заповедников соседних поместий. И поэтому в 1671 году «кавалерский» парламент издал закон, запрещавший всем свободным держателям с доходом ниже 100 фунтов в год – то есть огромному большинству этого класса – убивать дичь даже на собственной земле.
Таким образом, множество бедных семейств было лишено многих хороших блюд, принадлежащих им по праву; даже и на тех немногочисленных йоменов, богатство которых ставило их вне сферы действия этого достопримечательного закона, смотрели с подозрением. Лучше всего это видно из слов добросердечного Роджера де Коверли; даже он дошел до того, что сказал «об йомене с годовым доходом около 100 фунтов», который как раз «подходил под закон об охоте», что «он был быхорошим соседом, если бы не истреблял так много куропаток» (добавим для ясности: истреблял на своей земле).
Чрезмерное стремление сельского дворянства к сохранению дичи имело серьезные социальные последствия для многих последующих поколений. С появлением охотничьего ружья это стремление значительно усилилось. При Стюартах ружейная стрельба постепенно вытеснила соколиную охоту, и так как птицы истреблялись теперь гораздо быстрее, их количество уже не казалось неистощимым. В царствование Карла II уже обычной была «стрельба влет», на она считалась трудным искусством, тем более что иногда практиковалась при верховой езде. Однако среди дворянства все еще была распространена ловля фазанов при помощи сетей и стрельба по ним, когда они сидели на деревьях.
Модным видом спорта была ловля птиц сетями на земле, часто с собаками, которые делали стойку над дичью, спрятавшейся в траве. Сохранилась запись, что Роджер де Коверли «в молодости взял 40 выводков куропаток за один сезон», возможно, таким способом. Ловля диких уток в большом количестве в сети, натянутые вдоль берегов, была промыслом в болотистых местностях и спортом в прудах при господском доме. Описание ловли всякого рода птиц ветками, намазанными клеем, ловушками и капканами – не только фазанов и диких уток, но также различных видов дроздов – все еще занимало видное место в руководствах «Джентльменских развлечений». Но несомненно, что охотничье ружье стало играть все более важную роль в охоте, и вместе с ним появилась тенденция все больше и больше ограничивать категорию птиц, на которых разрешалось охотиться, некоторыми видами их, определяемыми термином «дичь». Недавно к этой «привилегированной» категории статутом были отнесены тетерев и глухарь; за исключением определенного времени года, заросшие вереском или кустарником места, где они прятались, запрещалось выжигать, и пастух, нарушающий закон, подлежал наказанию кнутом. Аддисоновский сквайр из партии тори заявил, что новый охотничий закон – единственный хороший закон, изданный после революции.
Охота на лисиц при последних Стюартах уже стала принимать черты, сближающие ее с современными видами охоты. В тюдоровские времена лисиц выкапывали из их нор, ловили сетями или, как при охоте на барсуков, травили собаками; крестьяне же убивали лисиц как вредителей. Дело в том, что в те времена олень все еще оставался преимущественно зверем для охоты. Однако вследствие беспорядков гражданской войны были разрушены оленьи заповедники и уничтожено так много красивого зверя, что во времена Реставрации во многих графствах пришлось заменять охоту на оленей охотой на лисиц. Но в графстве или в области все еще не было стай охотничьих собак, содержащихся за счет общественных сборов; дворяне все еще держали свои собственные стаи и приглашали своих соседей на охоту за зверем. Существовавшее прежде мнение, что джентльмены должны охотиться на оленя и на лисицу со своими собственными гончими, в своих собственных лесах, постепенно уступило место иным взглядам, а именно, что охотиться можно во всякой загородной местности независимо от того, кто является ее собственником.
В некоторых графствах лисьи норы заваливались, и лисиц ловили в открытом поле. В таких случаях нередко приходилось гнать лисицу по 10 или даже 20 миль. Но в Ланкашире и, вероятно, в других местах охотники загоняли лисицу в нору и затем ее выкапывали; если не удавалось загнать лисицу в нору, она обычно уходила. Возможно, что тогда еще не была выведена такая неутомимая порода гончих, какая имеется в настоящее время.
Охота на оленя со всей пышностью охотничьего ритуала, освященного временем, все еще сохранилась как благороднейший вид спорта, но постепенно она приходила в упадок, по мере того как потребности сельского хозяйства в земле сокращали количество лесов и ставили предел размерам оленьего заповедника, который каждый дворянин стремился огородить вокруг своего господского дома.
Более широко, чем охота на оленей и на лисиц, была распространена среди населения травля зайца «с мелодично лающими» гончими; дворяне верхом, а простой народ, во главе с егерем, – пешком. Эта охота носила характер народного сельского спорта, возглавляемого, конечно, дворянством, но в нем принимали участие соседи всех общественных слоев – от высших до низших.
Другим видом народного спорта были: борьба по различным правилам и приемам, принятым в различных частях страны; различные примитивные виды футбола, а также всякого рода игра в ручной мяч, часто переходившая в добродушную борьбу между всем мужским населением двух деревень. Фехтование, бокс, поединки, стравливание быка с медведем вызывали восторг народа, который еще не выучился смотреть с отвращением на причиняемые страдания. И действительно, излюбленным удовольствием были зрелища, меньше всего похожие на спорт, – повешение и сечение плетьми. Но из всех видов народного спорта самым популярным был петушиный бой; в устраиваемый при этом тотализатор все классы общества вкладывали свои сбережения, делая еще большие ставки, чем на скачках. Но и скачки начали занимать большее место в национальном сознании благодаря покровительству Карла II скачкам в Ньюмаркете, а также благодаря улучшению породы верховых лошадей в результате скрещивания арабской и берберийской пород.
При последних Стюартах из моды иради здоровья часто посещали курорты. Впервые после римских времен внимание знати начали привлекать воды Бата, но этот прекрасный город тогда еще не был выстроен. Северные джентри и их семьи охотнопосещали Бакстон и Харрогейт, но двор и высший свет Лондона в большом числе и чаще всего можно было встретить среди деревенских коттеджей вокруг Танбридж Уэлза, где в 1685 году придворные выстроили для себя церковь, назвав ее в честь короля-мученика Карла I.
Приморское побережье еще не имело своих приверженцев: доктора еще не открыли целебные свойства его воздуха; никто еще не хотел купаться в водах океана или восторгаться с берега его красотами. Море было «английской общей собственностью», путем к рынкам, «рыбохранилищем», плацдармом для войны и наследием потомству. Но еще никто не стремился к морскому побережью или в горы для восстановления здоровья и бодрости духа.
На протяжении столетия при правлении Стюартов частные обложения налогами английских графств делались в фискальных целях: отчеты указывают суммарно географическое распределение богатств страны. Самым богатым графством был Мидлсекс, так как в него входила значительная часть Лондона; самым бедным – Камберленд; Суррей благодаря расширению Лондона и его рынка поднялся с восемнадцатого места в 1636 году до второго в 1693 году. Следующим по богатству шел Беркшир и группа земледельческих графств к северу от Темзы: Хартфордшир, Бедфордшир, Бакингемшир, Оксфордшир и Нортгемптоншир. Их богатство заслуживает внимания, особенно если учесть, что в них не было больших городов, промышленных округов или угольных копей и что их сельское хозяйство велось преимущественно на открытых полях; но они находились недалеко от лондонского рынка. Таким образом, центральные графства в среднем были самыми богатыми. Затем шли южные графства, включая Кент и Суссекс, с землями старого огораживания, с фруктовыми садами и с овцеводческими пастбищами в долинах. За ними шла Восточная Англия с ее благодатными для земледельца умеренными осадками и Эссекс, примыкающий к Лондону. Следующим по богатству был Запад, находящийся далеко от столицы и страдающий от слишком влажного климата. И, наконец, последнее место занимал Север, еще недавно бывший мятежным и все еще бедный. Самыми бедными графствами в Англии были семь: Чешир, Дербишир, Йоркшир, Ланкашир, Нортамберленд, Дарем и Камберленд. Бедность северных графств тем более поразительна, что все они имели угольные копи, а Йорк и Ланкашир, кроме того, текстильную промышленность. Но богатство, которое производилось этими отраслями промышленности, еще не было использовано в большом масштабе для улучшения сельского хозяйства в этих отсталых северных местностях. Это было сделано в следующем столетии, когда богатство рудников в Тайнсайде было использовано для удобрения болотистых земель соседних графств.
Графства Англии и Уэльса
Если провести черту от Глостера до Бостона, то вся площадь Англии без Уэльса делится примерно на две равные половины – северо-западную и юго-восточную. В настоящее время благодаря развитию тяжелой индустрии большая часть населения живет на северо-запад от этой черты, хотя не так давно начался обратный поток по направлению к югу; однако в царствование Карла II, вероятно, только четвертая часть населения жила к северо-западу от этой черты.
В течение XVII столетия в Уорикшире произошли изменения, показательные для промышленного прогресса и его влияния на сельское хозяйство. В царствование Елизаветы Кемден отметил в своей «Британии», что Уорикшир разделен на две части рекой Эйвон: Фелдон (богатая пахотная область открытых полей) к юго-востоку от этой реки и Вудленд (Арденнский лес) – к северо-западу. В годы правления Вильгельма III Гибсон – позднее знаменитый лондонский епископ – издал новое издание «Британии» с добавлением своих примечаний о переменах, происшедших со времени Кемдена: на месте исчезнувшего Арденнского леса появились богатые пахотные пространства.
«Дело в том, что железоделательные заводы в графствах по всей округе уничтожали лес в таких огромных масштабах, что быстро обнажили местность и постепенно расширяли земельную площадь, пригодную для вспашки. Тем временем жители отчасти своим упорным трудом, отчасти с помощью мергеля, превратили большое количество земли, бывшей под лесом и под кустарником, в пашню и в пастбища и теперь выращивают столько зерна, скота и вырабатывают столько сыра и масла, что их хватает не только для собственного потребления, но и для снабжения других графств». Тем временем по другую сторону Эйвона большие земельные пространства Фелдон а (некогда огромная пахотная область, снабжавшая зерном Бристоль) были запущены, отведены под траву, и население многочисленных деревень (по данным Гибсона) было сведено к небольшому числу пастухов; Гибсон считает, что причиной превращения пашни в пастбища в Фелдоне является то, что новые пахотные угодья, недавно образованные по другую сторону Эйвона, на месте, где прежде были обширные лесные массивы, оказались более плодородными. Таким образом, здесь, в обеих частях Уорикшира, мы имеем большое увеличение огороженных полей: к северо-западу – огораживание старого леса и кустарника, к юго-востоку – огораживание прежних открытых полей. Все это было совершено в эпоху Стюартов, причем без серьезных возражений, потому что протесты против огораживания, столь громкие в эпоху Тюдоров, по-видимому, уже прекратились.
Во времена Стюартов, несмотря на быстрый рост железоделательной промышленности, в Бирмингеме и к западу от него, в Черном крае [46], уголь и коксование еще не применялись в этом производстве. Однако углем пользовались при многих других процессах производства, и он сделался обычным топливом в жилых домах Лондона и во всех тех областях страны, к которым его легко можно было доставить водой. При таких условиях стюартовский период был свидетелем роста угольной промышленности, едва ли менее поразительного для этого раннего периода, чем второй этап ее развитии в самом начале XIX столетия – в век «угля и железа».
На протяжении всего XVII столетия уголь играл большую роль не только в увеличении национального богатства и подъеме благосостояния многих классов общества, но также и в развитии отрицательных черт промышленного переворота, отразившихся на жизни самих шахтеров. Их наниматели – «капиталисты» обращали мало внимания на них и еще меньше заботились об их бытовых и трудовых условиях. По мере того как шахты углублялись, шахтеры все больше времени проводили под землей и все больше и больше были изолированы от внешнего мира; все чаще и разрушительнее были взрывы вследствие скопления рудничного газа; в качестве подсобной силы все чаще и чаще использовался женский и детский труд. В Дареме и в Нортамберленде огромные союзы, охватывающие тысячи шахтеров и судовых команд угольных барж на реке Тайн, боролись без большого успеха за улучшение своего положения. В Шотландии рабочие каменноугольной промышленности были сведены на положение «крепостных», прикрепленных к работе в копях. В Англии этого сделать было нельзя, но положение этих рабочих и их семейств во многих отношениях было хуже, чем любого другого широкого слоя английского общества.
Но было много районов, в которые уголь не мог быть доставлен ни морем, ни по реке. В некоторых из этих районов вследствие уменьшения леса не хватало топлива для удовлетворения основных нужд – для отопления и приготовления пищи, и они оставались в таком положении до тех пор, пока уголь начали доставлять каждому потребителю на дом благодаря улучшенным дорогам, каналам и, наконец, в позднейшую эпоху – благодаря железным дорогам.
Так, в годы правления Вильгельма III отважная путешественница мисс Силия Фьеннс во время своей поездки по юго-западному району страны писала, что в Пенцансе ужин для нее «готовили на жаровне, в которую непрестанно подкладывался кустарник дрока, бывший единственным топливом для приготовления мясного обеда и печения хлеба», потому что корнуоллские леса исчезли, а французские каперы во время войны мешали доставке в южные корнуоллские порты угля из Уэльса. В Лестершире коровий навоз, который должен был бы удобрять поля, собирали и сушили для топлива.
Точно так же в 1695 году Гибсон в своем издании кемденовской «Британии», комментируя описание оксфордширских холмов, «покрытых лесом», сделанное этим елизаветинским исследователем старины, пишет: «Все здесь так сильно изменилось в результате последних гражданских войн, что немногие места, исключая Чилтерн, теперь могут соответствовать этому описанию». Так как в этой местности очень мало топлива, оно обычно продается на вес не только в Оксфорде, но и в других северных частях графства. Но в Оксфорде горожане и лица, принадлежащие к университетской корпорации, все же могли пользоваться для обогревания своих помещений и приготовления пищи углем, доставленным баржами по Темзе, «тогда как для городов в северных частях графства» недостаток топлива был более серьезным вопросом.
Угля не хватало даже для приготовления пищи, и поэтому в течение последующего столетия все более широким слоям рабочих семей приходилось питаться лишь хлебом с сыром; в зимние времена в жалких хижинах бедняков, надо полагать, было ужасно холодно. В тех частях страны, где между веком дерева и веком угля имелся временный разрыв, много страданий приходилось на долю бедняков и кое-какие неудобства на долю богатых. Но даже до появления шоссейных дорог уголь можно было бы доставлять в глубь страны по дорогой цене на далекие расстояния от угольных шахт, если бы обслуживание потребителей угля было хорошо организовано. Фьеннс описывает движение барж с «морским углем»: из Бристоля они шли вверх по реке через Бриджуотер к месту, находящемуся в трех милях от Тонтона, «где уголь выгружали из барж, засыпали в мешки и в них на вьючных лошадях доставляли в города и окрестные селения. За один раз каждая лошадь перевозила два бушеля, которые в месте разгрузки барж стоили 18 пенсов, а после доставки в Тонтон – уже два шиллинга. Дороги были забиты такими караванами вьючных лошадей, движущимися в обоих направлениях».
Рост Лондона (1600-1900)
Лондон в своем росте все больше и больше обгонял другие города, и после Реставрации это продолжалось непрерывно. Около 1700 года в столице проживало значительно больше десятой части всего населения Англии, достигшего пяти с половиной миллионов [47]. Бристоль и Норидж, по величине первые города после Лондона, насчитывали каждый по 30 тысяч жителей. Пропорционально шире была и торговля Лондона. В 1680 году таможенная портовая администрация Лондона обходилась в год в 20 тысяч фунтов стерлингов, Бристоля – 2 тысячи фунтов; Ньюкасла, Плимута и Гулля – по 900 фунтов стерлингов. Порт Ньюкасл жил за счет экспортаугля, причем три четверти этого экспорта приходилось на долю Лондона; Гулль расцвел благодаря охоте на китов и рыбному промыслу, а также благодаря своей роли главного гарнизонного города Северной Англии: Плимут, так же как огромный Бристоль и развивающийся Ливерпуль, стал процветать благодаря росту торговли с американскими колониями и своему значению как западной базы королевского флота.
В Уитби, Ярмуте и Харидже развивалось кораблестроение. Но много других городов морского побережья, такие, как Линн и небольшие портовые города Восточной Англии, приходили в упадок, так как центры торговли все больше и больше перемещались к устью Темзы или на запад, для того чтобы охватить и торговлю с американскими колониями. Целью Навигационных законов было покровительствовать колониальной торговле Англии за Атлантическим океаном и сократить ее внешнюю торговлю со скандинавскими и балтийскими странами в ущерб всем портам восточного побережья, за исключением Лондона. И даже на западе небольшие порты, такие, как Фови и Бидефорд, приходили в упадок вследствие того, что для заокеанского дальнего плавания теперь пользовались лишь кораблями огромного размера. Кроме того, лондонские купцы и лондонская столица контролировали торговлю других городов.
Жизненная и обновляющая сила Лондона, непрерывно питающегося притоком эмигрантов и богатств извне, подверглась серьезному испытанию вследствие чумы и пожара (1665-1666) – бедствий, не имеющих себе равных, которые, однако, почти не отразились на могуществе, изобилии и росте населения столицы.
Знаменитая «лондонская» чума была последней и, может быть, не самой опустошительной из всех вспышек на протяжении трех столетий. В промежутке между сражениями при Креси и Пуатье «черная смерть», появившись с далекого Востока из какого-то неведомого источника, быстро пронеслась над всей Европой с силой, присущей новым явлениям. Многим, даже самым уединенным, хижинам не удалось избежать ее. Считается, что примерно треть – а возможно, и половина – молодых соотечественников Боккаччо, Фруассара и Чосера погибла в течение трех лет. Бациллы «черной смерти», прозванной чумой, остались в почве Англии. Никогда снова она не охватывала всю страну одновременно, но постоянно вспыхивала в различных местах, особенно в городах, в портах и в прибрежной полосе, где размножались крысы – носители блох. В Лондоне при Ланкастерах и Тюдорах чума в течение длительного времени имела эндемический и почти непрерывный характер; при Стюартах она появлялась редкими, но сильными вспышками. Торжества в Лондоне по случаю коронации Якова I были приостановлены вспышкой чумы, унесшей 30 тысяч человек. Восшествие на престол Карла I явилось сигналом для другой, не менее опустошительной вспышки. Более слабая вспышка была также в 1636 году. Затем для Лондона наступил тридцатилетний период сравнительного иммунитета – период, во время которого произошли другие события, заставившие людей забыть разговоры об ужасах чумы, от которой пострадали их отцы и деды. В 1665 году разразилась последняя вспышка, и, хотя она не унесла больше лондонских жителей, чем некоторых из ее предшественниц, чума произвела большее впечатление, потому что теперь она появилась во времена более развитой культуры, комфорта и безопасности, когда о таких бедствиях меньше вспоминали, меньше их ожидали; за ней тотчас же – как бы по божьему велению – последовала другая катастрофа, равной которой не было в самых древних анналах Лондона [48].
Великий пожар 1666 года свирепствовал в течение пяти дней и уничтожил весь район Сити между Тауэром и Темплом; но все же он лишил крова не более половины населения столицы. «Слободы» за городскими стенами были лишь слегка затронуты, а в них находилась значительно большая часть населения, Лондон рос за последние 60 лет с невероятной быстротой. Его население достигало почти половины миллиона. Во всех других городах Англии население все еще дышало деревенским воздухом, в условиях, которые мы сейчас назвали бы полугородской-полудеревенской жизнью. Только в Лондоне условия жизни имели другой характер, становились все более специфичными условиями большого города и во многих отношениях приобретали исключительно отвратительную форму. Бедняков вытеснили из Сити и трущобные районы на задворки « слобод»в Сент-Джайлс, Крипплгейт, Уайт-чепл, Степни, Вестминстер, Ламбет, где, несмотря на огромную детскую смертность, число их чрезвычайно быстро росло.
Пожар и реконструкция Лондона немногим улучшили санитарные и морально-бытовые условия населения трущоб. Рассадником чумы всегда были «слободы», окружавшие Сити, в которых жили бедняки. Так как эти районы не сгорели, то их и не перестраивали. Поэтому в 1723 году Дефо заявил, что «они все еще в том же положении, в каком были раньше». Отсюда ясно, что «реконструкция Лондона», вызванная пожаром, не являлась главной причиной прекращения в Англии чумных эпидемий после ее последней большой вспышки.
От пожара в Лондоне пострадал жилой и деловой квартал в центре самого Сити: большие торговые дома, где работали и жили купцы со своими благонравными и упитанными домочадцами. Эти обители богатства, торговли и гостеприимства, возникшие в средние века, с их садами, раскинувшимися позади, и с двором внутри, по-прежнему были обращены своими дощатыми или оштукатуренными стенами на кривые и узкие улицы; двухскатные крыши иногда настолько выступали над фасадом лавки, что подмастерья, работавшие на чердаках, могли пожимать друг другу руки через улицу. Когда благодаря ветру огонь стал быстро распространяться, эти старые и шаткие здания оказались прекрасный материалом для пламени. И только в немногих местах, где огонь встретил преграду в виде каменных стен, он был вынужден замедлять свой бег и с трудом пробивать себе путь. Купцы воспользовались случаем для того, чтобы на месте старых домов построить новые, каменные дома, более гигиеничные, хотя и не столь живописно выглядящие с улицы. Санитарное состояние самого Сити было улучшено вынужденной перестройкой большого числа очень старинных зданий.
Тот факт, что чума снова не повторялась в Англии, отчасти объясняется увеличением числа кирпичных зданий и заменой коврами и панельной обшивкой соломенных циновок и суконной драпировки, так как крысы были лишены теперь пристанища. Но возможно, что главная причина исчезновения чумы была вызвана не каким-нибудь действием человека, а неизвестными нам изменениями в мире животных. Именно в этот период современная коричневая крыса уничтожила и вытеснила средневековую черную крысу, а коричневая крыса меньше, чем ее предшественница, способствовала размножению чумных блох.
Реконструкция лондонского Сити была совершена с быстротой, поразившей мир.
«Не так поразительны были ужасные последствия пожара [писал Джон Рересби], как реконструкция этого большого города, который благодаря мероприятиям короля и парламента и огромным богатствам и запасам самого города был с большим великолепием отстроен заново из кирпича в четырех- или пятилетний срок (хотя прежде стены домов здесь делались большей частью лишь из дранки и извести)». Лондону, потерявшему пятую часть своего населения от чумы, удалось восстановить эту убыль также легко и совершенно незаметно – так непрерывен был приток населения из всех графств Англии и из доброй половины европейских стран. Средневековое и тюдоровское Сити исчезло в пламени; сохранился только план расположения узеньких уличек и переулков. Расположение улиц величайшего города в мире продолжало оставаться наихудшим; ни один смертный не мог увидеть полностью с улиц Лондона реновский собор Св. Павла в перспективе.
Во время пожара сгорело 89 церквей, включая старый готический собор. Если им суждено было погибнуть, то нельзя было выбрать более удачное время для этого всесожжения, потому что Кристофер Рен, только что достигший расцвета своих творческих сил, входил в моду при дворе и в Сити. Его гений наложил свой отпечаток на церковную архитектуру нового Лондона. Его церкви, пережившие общую реконструкцию улиц Лондона, стоят на тех же улицах (1939), свидетельствуя о широком классическом величии этого века и о величии человека, создавшего их на месте расположения их средневековых предшественников.
Реконструкция собора Св. Павла была результатом общих усилий, достойных великой нации. Для этих целей парламентом был вотирован налог на уголь, ввозимый в лондонский порт. Величайшее творение спокойно, из года в год, росло ввысь, несмотря на все волнения в связи с папистским заговором, несмотря на революцию и войны Мальборо. Создание его было завершено в период расцвета славы королевы Анны, за 12 лет до смерти его зодчего.
Новый собор Св. Павла был выстроен из белого портлендского камня, доставленного морем непосредственно с каменоломен этого удивительного полуострова. Хотя эти каменоломни были известны уже давно, но только во времена Стюартов портлендский камень вошел в широкое употребление. Добыча огромного количества камня, потребовавшегося для этого колоссального творения Рена, открыла новые перспективы для «острова Портленд» и его населения. Началась разработка обширных каменоломен, были сооружены дороги и молы. Крупные суммы тратились на «жалованье агентам, начальникам пристаней, на ремонт дорог, молов и кранов и на выплату вознаграждения людям, присланным из Лондона для наблюдения за ремонтными работами и для руководства ими, а также для контроля над ходом работ на каменоломнях и для урегулирования различных вопросов, касающихся отношений с жителями острова».
С этого времени белый портлендский камень играл важную роль в архитектурной истории Англии; на мой взгляд, он так же хорошо гармонирует с холодной величавостью монументального творчества Рена и Гиббса, как теплый тон красного кирпича с уютной интимностью жилых домов того же периода.
Глава X Англия времен Дефо
Когда нам нужно составить представление о повседневной жизни Англии времен королевы Анны, мы обращаемся к написанному по данному поводу Даниэлем Дефо, который в одиночестве разъезжал по стране, внимательно наблюдая ее жизнь. Одной из его целей было объехать Британию и собрать некоторые сведения; в конце каждого дня путешествия в гостинице какого-нибудь небольшого городка он писал письма своему хозяину, Роберту Харли, который, как и сам Дефо, был предпринимателем и любителем точной информации, тайно полученной. В этих письмах он излагал взгляды местных жителей. В воскресенье он посещал диссидентскую часовню, где наблюдал своих единоверцев и узнавал об их делах. Будучи не только предпринимателем, но и нонконформистом (конечно, не того типа нонконформистом, совестливость которого вошла в поговорку), Дефо мог угодить каждому, кроме пуританина, предпочитавшего прочные доморощенные изделия показной роскоши.
Подобно Коббету, который сто лет спустя также разъезжал по Англии и писал о ней, Дефо был реалистом и человеком из народа, но в отличие от своего преемника он не был ослеплен гневом против существующих властей, так как век Анны был прелюдией к долгому периоду довольства, а Дефо, больше даже, чем Свифт, был типичным представителем своего времени. Дефо-предприниматель приветствовал наступление эры делового процветания столь же искренне, как Коббет – обездоленный йомен – оплакивал сельское прошлое. Дефо первый усовершенствовал искусство репортера; и даже его романы, такие, как «Робинзон Крузо» и «Молль Флендерс», являются воображаемым репортажем о повседневной жизни – на пустынном ли острове или в воровском притоне. Поэтому то, что сообщает этот человек об Англии времен царствования Анны, является для истории подлинным сокровищем, ибо Дефо был одним из первых людей, взглянувших на старый мир проницательными глазами современного человека. Его рассказ может быть проверен и дополнен большим количеством других свидетельств, но он занимает центральное место в наших мыслях и представлениях.
Эта картина Англии, нарисованная Дефо с таким богатством прозаических деталей, создает теперь представление о здоровой национальной жизни, в которой город и деревня, земледелие, промышленность и торговля были гармоничными частями единой экономической системы. Правда, многое из административного механизма управления – особенно «несчастные гнилые местечки», которые Дефо ненавидел, – являлось уже антикварным хламом, слишком свято сохраняемым. Но в течение многих лет ни один голос не высказался за реформу, потому что принцип свободы, уважавшийся тогда в Англии, допускал процветание частной предприимчивости и давал возможность новым росткам пробиваться сквозь старые заросли. Бюрократизм тех дней не мог подавить экономической инициативы, свойственной этому острову.
При таком устройстве Англия процветала и в основном благоденствовала даже во время войны, что отчасти объяснялось хорошими урожаями и дешевизной продовольствия в первую половину царствования Анны. Только в последние три года десятилетней борьбы с Францией (1702-1712) появились признаки нужды и недовольства, вызванные военными условиями. Впрочем, промышленность, земледелие и торговля – все продолжало развиваться; общество бессознательно двигалось к промышленному перевороту, который произошел в ближайшее столетие как следствие условий, описанных Дефо. Заморская торговля, речные перевозки – особенно каменного угля, – овцеводство и суконная торговля, национальная торговля сельскохозяйственной продукцией, которую вели оптовые торговцы, – на все это Дефо обращает особое внимание» ибо именно они давали многим землевладельцам возможность уплачивать земельный налог, который был главным источником средств для войн Мальборо. Они ворчали, но платили до тех пор, пока война не была выиграна, а тогда они выпроводили вигов и заключили мир.
Верно, что сельские сквайры, сидя за октябрьским элем, проклинали финансистов и торговцев как экономических паразитов, спекулянтов и диссидентов за их стремление вмешиваться в политическую жизнь, которая была, по мнению сквайров, сферой интересов только земельных собственников. Но в экономическом отношении деятельность этих проклинаемых лиц удвоила ренту многих сквайров, о чем, конечно, они были отчасти осведомлены. К тому же закон о веротерпимости, редко, правда, упоминаемый без жалобы на испорченность века, дал стране и богатство, и спокойствие.
В царствование Анны и Георга I крестьяне и ремесленники еще продолжали вести прежний образ жизни, но при особо благоприятных условиях. Предприимчивые торговцы и посредники находили новые рынки для продуктов труда крестьянина и ремесленника, и уже многое было сделано для того, чтобы уменьшить ту бедность, в которой они жили в Средние века, не нарушая, однако, сельской простоты их привычек. Деньги, приобретенные торговлей, все чаще вкладывались в землю преуспевающими лендлордами, которые приобретали или увеличивали свои состояния в качестве пайщиков торговых предприятий. Такая взаимосвязь города и деревни, не разрушавшая еще старого социального порядка, придавала Англии времен королевы Анны прочную гармонию и силу, несмотря на внешнюю резкость противоречий между сектами и партиями.
В то время как религия разъединяла, торговля объединяла нацию, и поэтому приобретала относительно большее значение. С Библией теперь соперничал гроссбух. Шестьдесят лет назад пуританин был Кромвелем с мечом в руке; тридцать лет назад – Беньяном, распевающим гимны в тюрьме, а теперь следовало признать пуританином торговца-журналиста Дефо. Квакер также перестал публично выступать с проповедями, направленными против церкви, истал бережливым дельцом, стремящимся к покою. По старой памяти пуритан и квакеров еще называли в просторечии «фанатиками». Однако такое яростное рвение этих сторонников «высокой церкви» постоянно умерялось патриотическими и экономическими соображениями, которые сильно влияли на умы умеренных тори, руководимых тем самым Харли, чьим тайным слугой был Дефо. Англия тогда была страной, которая при удаче и хорошем руководстве могла во время войны проявить достаточное единство, богатство и силу, чтобы поставить на колени могущественного французского короля Людовика XIV, повелителя дворян и бедных крестьян, который раз и навсегда избавился от своих нонконформистов, отменив Нантский эдикт.
Английское земледелие улучшилось, и пшеницы теперь выращивалось уже больше, чем во времена средневековья. Пшеничный хлеб составлял 38 процентов всего хлеба, потребляемого населением; затем шла рожь, а ячмень и овес занимали третье и четвертое места. Поэтому цены устанавливались в зависимости от цен на пшеницу и рожь.
Огромное количество ячменя, выращиваемого на острове, уходило на приготовление солода для эля и пива. Например, Кембриджшир, южнее Или, являлся «почти всецело зерновой областью», и, как отметил Дефо, пять шестых этого зерна составлял ячмень, который обычно продавался в Уэре, Ройстоне и других больших городах Хартфордшира, производящих солод.
За исключением некоторых графств запада, где преобладал сидр, эль в прежние времена повсюду был национальным напитком, употреблявшимся повседневно не только мужчинами, но и женщинами и детьми; соперничество крепкого спирта, с одной стороны, и чая и кофе – с другой, только еще начинало ощущаться. В то время даже леди еще употребляли эль. В 1705 году леди Карнарвон говорила, что мисс Кок «совершенно зачахла и ее голос стал слабым и глухим», потому что «она все это лето пила выдохшееся пиво». Дети пили совсем слабое пиво, и во многих случаях это было для них лучше, чем употребление грязной воды, которая часто представляла единственно возможную замену.
Из ячменя приготовляли повсюду наиболее распространенный напиток, но в некоторых районах он являлся также и основной пищей. Мелкие фермеры, жившие на холмах Уэльса,питались превосходным ячменным хлебом. Крестьяне северных графств употребляли в различных видах овес и рожь; а в Шотландии еще много лет спустя доктор Джонсон имел возможность утверждать, что там овес «поддерживал народ». В центральных районах Англии рожь и ячмень употреблялись наравне с пшеницей, и только на юго-востоке с его более сухим климатом преобладала пшеница.
Однако уже в годы правления Анны происходил оживленный обмен сельскохозяйственными продуктами между различными районами, особенно там, где существовало речное сообщение. Поэтому-то главным образом работа по углублению рек и сооружению шлюзов и стала характерной чертой этого периода. Темза на всем ее протяжении вниз о Оксфорда и ее притоки Уэй, Ли и Медуэй были местом оживленного и многолюдного движения: съестные припасы, напитки и лесные материалы шли вниз, в Лондон, уголь Тайнсайда и заморские продукты везли вверх по рекам, в глубь страны. Абингдон и Рединг являлись центрами крупных сельскохозяйственных районов, отправлявших свою продукцию в столицу водным путем. Прибрежные районы Суссекса и Гемпшира отправляли морским путем в Лондон свое зерно, так же как Чешир и другие западные графства сыр, прорываясь сквозь ряды французских каперов из Дюнкерка. Дороги большую часть года были непроходимы для повозок, но даже в самую скверную погоду из северных центральных графств можно было пригонять в Лондон овец и рогатый скот, гусей и индюшек. По пути они кормились на обширных пастбищах, находившихся по краям дороги. Еще перед унией 1707 года Шотландия ежегодно посылала в Англию 30 тысяч голов скота; странная речь уэльских погонщиков скота также была хорошо знакома на дорогах близ Лондона. Но ирландская торговля скотом стала жертвой зависти британских скотоводов и была уничтожена специальным актом, изданным при Карле II.
Англия и Уэльс уже образовали вместе наиболее значительное пространство в Европе, на котором происходила беспрепятственная внутренняя торговля, а в середине царствования Анны к ним была присоединена еще и Шотландия. «Большим счастьем для Англии, – писал Дефо, – является то, что мы не дошли до налога на соль или на зерно, как Италия и многие другие страны». Проницательный венецианский посол Мосениго в 1706 году, к концу своего пребывания на нашем острове, сообщал своему правительству, что отсутствие внутренних таможен являлось единственной причиной того, что «промышленность развилась в Англии сильнее, чем в какой-либо другой части мира». И в Лондоне, и в любом провинциальном городе можно было беспрепятственно торговать съестными продуктами, не уплачивая никаких пошлин при въезде в город. Поощряемые этой свободой хлеботорговцы и комиссионеры наводняли остров, скупая повсюду для спекуляции фермерские урожаи как прямо на корню, так и уже сжатые, но еще не обмолоченные; в поисках скота с целью откармливания его в английских загонах они проникали в совершенно невероятные места, даже в опасные горные долины Шотландии, И всюду ускоряли сельскохозяйственный прогресс, открывая новые рынки для продукции отдаленных поместий и деревушек.
Благодаря такой предприимчивости, различным усовершенствованиям и введению премии за экспорт Англия могла экспортировать хлеб в больших количествах. В середине царствования Анны среди лиц, занятых в угольной промышленности Глостершира, вспыхнуло возмущение против высоких цен на хлеб, вызванных тем, что бристольские купцы в больших количествах вывозили местные запасы за границу. Даже к северу от Трента простые сквайры считали экспорт хлеба важной статьей в своих собственных доходах и в доходах своих арендаторов.
Эта радужная картина сельскохозяйственного и торгового оживления не должна, однако, создавать ложного впечатления, что Англия уже была той страной усовершенствованных сельскохозяйственных методов и реконструированных путей сообщения, какой она стала в конце столетия. Оживленность речного сообщения была показателем дурного состояния дорог. Пахотные земли, потенциально лучшие в Англии – в центральных графствах и на севере Восточной Англии, – были еще по большей части неогороженными. В этих районах обширные и неогороженные деревенские поля еще обрабатывались средневековыми методами, которые вызвали бы одобрение составителей «Книги Страшного суда», по не могли не возмутить современный ум Артура Юнга.
На таких деревенских полях, где разбросанные полоски отдельных владельцев по необходимости должны были обрабатываться по плану, составленному для всей общины, всякая инициатива лендлорда или фермера, стремившегося к каким-либо улучшениям в методах земледелия, наталкивалась на ограничения. Никто не мог с выгодой выращивать на своей неогороженной полоске турнепс или кормовые травы, так как все «поле» сразу же после уборки урожая превращалось в пастбище для деревенского скота, который, конечно, съел бы и клевер, и турнепс, причинив этим убыток их владельцу. Неогороженное поле обрабатывалось по единому плану. Небольшие городки, вроде Годманчестера, например, еще требовали через своих бейлифов, чтобы все фермеры являлись, согласно старинному обычаю, в здание суда и там «давали обещание, что ни один из них не будет сеять ячмень на общинном поле раньше пятницы 21 марта» (1700 года), «да и в этот день можно засевать только крайние участки».
Большая инициатива, а следовательно, и больший прогресс были возможны, хотя отнюдь не неизбежны, на недавно огороженных фермах, число которых постоянно возрастало, и в районах более раннего огораживания – в Южной, Западной иСеверной Англии. Но те районы, где огораживания были наиболее распространены, являлись обычно менее плодородной частью острова, с худшим климатом. Правда, кентские поля хмеля и фруктовые садыЗападной Англии следует отнести к землям раннего огораживания, но к ним же следует отнести и распаханные пустоши среди подверженных бурям вересковых зарослей запада и севера. Большая часть лучших пахотных земель центральных графств оставалась еще не огороженной.
Овцы и рогатый скот были по большей части жалкими и тощими, так как паслись на скошенном поле, на вересковых пустошах и на общинных выгонах, а зимой к их корму не добавлялись ни корнеплоды, ни кормовые травы. Вес такого животного на смитфилдском рынке в 1710 году составлял менее половины веса обычной овцы или коровы в 1795 году. В начале столетия прокормить скот зимой было настолько трудно, что с исчезновением летних кормов весь скот, за исключением оставляемого для воспроизведения стада, резали и мясо засаливали, а оставшихся животных держали до весны на очень скудном рационе. Когда в 1703 году поднялась цена на соль, в палату общин была подана петиция с жалобой на то, что это причинило «горе более бедным людям, которые питались главным образом солониной».
Время турнепсовых полей лорда Тауншенда и жирных овец и рогатого скота Кока Норфолкского еще не наступило. Но Уилтширские и Котсуолдские нагорья, на которых откармливались овцы для западных суконщиков, были уже достойны внимания. «На приятных взору долинах», в шестимильном радиусе от Дорчестера, как сообщили Дефо, паслось более полумиллиона овец, и он отметил, что на солсберийской равнине и в дорсетских долинах земля стала более плодородной благодаря перемещению загонов для овец каждую ночь на новое место, что способствовало унавоживанию известковой почвы, годной прежде только под пастбища, и делало ее пригодной и для пашни.
Со времени Тюдоров, а особенно со времени Реставрации, с печатных станков сходило все больше книг об усовершенствованных методах земледелия. Дух научного исследования, проникавший из сфер Королевского общества в обыденную жизнь, был постоянным возбуждающим средством, хотя часто весьма болезненным для простого фермера. Поэтому люди, имеющие опыт, и модернизаторы так редко приходили к согласию. Известный своими усовершенствованиями Джетро Талл, который во времена царствования Анны ввел в своем собственном хозяйстве рядовую сеялку и конную борону, ошибался во многих других вопросах, как это обнаружилось из последующих опытов. Но люди уже были склонны применять новые методы, как только будет доказана их ценность, особенно там, где огораживание участка обеспечивало свободу для всяких нововведений.
С распространением идеи о необходимости улучшений в методах земледелия огораживание общинных полей и пустошей не только практиковалось столь же часто, как и в предшествующие столетия, но и проповедовалось современными теоретиками как долг перед государством. Во времена Тюдоров почти все полемисты были на стороне общин и общинников, против огораживания. Но к тому времени, когда на престол вступила Анна, сельскохозяйственные писатели уже стали называть общины «сборищем ленивых и вороватых людей», у которых овцы выглядели «жалкими, были покрыты клочковатой шерстью и заражены шелудивостью», а кормившийся вереском рогатый скот состоял из «голодных, низкорослых животных с вздувшимися животами, негодных ни для молочной фермы, ни для пахоты». Это была другая фаза вечного спора о социальной ценности прав на общинное поле, в котором Коббет сто лет спустя явился защитником побежденных общинников. По существу этого спора современные нам историки еще не пришли к соглашению. В период правления Анны большая часть огораживаний производилась не на основе парламентских постановлений, а на основе обычного права, по соглашению или каким-либо иным путем.
Убожество средневековой деревни уже давно уступило место благородной простоте и комфорту сельского среднего класса. В царствование Анны фермеры всюду расширяли свои дома или строили новые: каменные, кирпичные или полудеревянные, в зависимости от местных традиций и материалов. В архитектурном отношении процветание деревни было более заметно на постройках, возводимых в тех привилегированных районах, где суконная промышленность предъявляла большой спрос на местную шерсть, например на великолепных каменных фермах Котсуолда, датируемых от XV до XVIII века, или на жилищах камберлендских и уэстморлендских горцев, богатства которых возникли совсем недавно благодаря развитию местной суконной промышленности. Наряду с прекрасными старыми фермами, знакомыми сегодня всякому путешественнику по Озерной области, тогда там было много с тех пор уже разрушившихся хижин, в которых обитали большие и дружные семьи более бедных жителей долин. Дети находились рядом с матерью, занимавшейся прядением для суконщика, до тех пор, пока они не подрастали настолько, чтобы идти пасти овец на склонах холмов или складывать те огромные каменные стены по краям пропастей, которые являются чудом для нашего менее трудолюбивого века. Только в XVIII столетии прекрасная родина Вордсворта достигла на миг истинной гармонии между природой я человеком. В предшествующие века долины были «заглохшими, заросшими, болотистыми и бесформенными», а в наши дни человек слишком успешно видоизменяет лицо природы при помощи машин. Но в царствование Анны долины как раз начали приобретать то недолговечное совершенство прелести сельской природы, приведенной в порядок, но еще не покоренной, которое представляло контраст с великолепием окружающей горной местности.
Тем не менее посетители в Озерной области, «наиболее дикой, бесплодной и безобразной» во всей Англии, по отзывам Дефо и его современников, были крайне редки. Немногие чужестранцы, которых дела или любопытство заставляли проехаться верхом по крутым каменистым тропкам под Уиндермиром и над Харднотом, жаловались, что хлеб в Озерной долине «чрезвычайно черный, грубый и неприятный», а дома представляют собой «скверные маленькие хижины» из неоштукатуренного камня, более пригодные для скота, чем для людей. Но «кое-где уже были и оштукатуренные дома», а иногда встречались и овсяные лепешки, искусно выпеченные и восхитительные на вкус. И знаменитый деликатес Уиндермира – «рыба, называемая форелью, – заготовлялась впрок и отправлялась в Лондон». Из подобных впечатлений путешественников мы можем заключить, что значительные улучшения в благосостоянии этого счастливого сельского района (с его хорошо осушенной почвой в долинах, прочными фермерскими постройками и дубовой мебелью в них) еще не были завершены в царствование Анны, хотя благодаря суконной мануфактуре в Кендале они быстро развивались еще со времени Реставрации.
В соседнем графстве Нортамберленд, еще недавно столь воинственном и варварском, путешествующие вдоль побережья и в долине Южного Тайна находили «изобилие хорошего хлеба и пива», так же как кур и голубей и большие запасы кларета (последнее, несомненно, благодаря соседству с Шотландией, где джентри, несмотря на войну, импортировали кларет из Франции). В тот период, когда Анна вступила на престол, еще существовал «хранитель графства» Нортамберленд, который получал 500 фунтов жалованья для возмещения из этой суммы ущерба, наносимого кражей скота. Хотя дикие вересковые заросли, расположенные между Редсдейлом и Римским валом, еще пользовались дурной репутацией, хранитель графства извлекал выгоду из этой сделки и «сообщал путешественникам, что разбойничье ремесло теперь находится в столь большом пренебрежении, что небольшой суммой можно компенсировать все грабежи, ежегодно совершаемые в графстве». Мир с Шотландией, богатство угольных копей Тайнсайда и торговля Ньюкасла были факторами, поднимающими уровень жизни в Пограничных областях. Но более отдаленные сельские районы Нортамберленда, Камберленда и Дарема были еще очень бедными, хотя и были населены гуще, чем впоследствии. Во многих «местечках», которые сегодня состоят из единственной процветающей овечьей фермы, тогда было полдюжины коттеджей мелкофермерского типа, теснившихся вокруг пограничной башни, в которых обитали отважные пограничные жители, не приученные к комфорту и обрабатывающие заболоченные пространства для того, чтобы собрать скудный урожай овса.
При Стюартах, особенно со времени Реставрации, на месте замков, в которых были вынуждены жить пограничные джентри в прошедшие беспокойные времена, поднимались прекрасные сельские дома. Некоторые из таких стюартовских особняков существовали уже в годы правления Анны.
Но работа по сооружению дорог, огораживанию и осушению болотистых участков Нортамберленда, насаждение буковых лесов и обширных фруктовых садов, обнесенных кирпичными стенами, были главным образом делом последовавшей Ганноверской эпохи. Эти значительные перемены во внешнем виде и продуктивности района, так долго бывшего отсталым и варварским, завершились в течение XVIII столетия. Этому способствовали установление свободной торговли с Шотландией после унии 1707 года и деньги, полученные от эксплуатации тайнсайдского угля и вложенные в землю. Политические события, такие, как восстание 1715 года, способствовали экономическому стремлению семей промышленников и торговцев согнать с земли прежних якобитских и католических лордов, как это было, например, с Осбалдистонами в «Роб Рое» Вальтера Скотта. Новые владельцы приносили с собой богатства, нажитые в промышленности, и вкладывали их в купленные поместья, чтобы увеличить ренту со своих ферм, улучшить благосостояние своих арендаторов и комфорт в своих новых сельских жилищах.
В самых южных областях Англии, где цивилизация была более древней, увеличению жизненных удобств способствовал мир, не нарушаемый со времен гражданской войны. Та прекрасная гармония между природой и человеком, которая характерна для ландшафта XVIII века, повсюду находилась в процессе становления. В то же самое время, когда живые изгороди и фруктовые сады завоевывали пустыню, происходила и постройка новых или перестройка прежних коттеджей, фермерских жилищ и помещичьих особняков – или в старом, традиционном стиле, или в той благородной, но простой манере, которая известна нам как «стиль королевы Анны». Этот стиль, который теперь кажется нам подлинно английским, отчасти обязан своим происхождением голландскому влиянию. Внутренняя отделка соответствовала архитектуре; в 1710 году один из иностранных путешественников заметил, что «теперь в Англии гобелены больше не в моде, но все украшено дорогостоящей панелью». Предпочтение отдавали обширным панелям пятифутовой высоты и соответствующей ширины, а не низкой панельной обшивке времен первых Стюартов. Большие подъемные окна с широкими стеклами заменили готические и елизаветинские решетчатые. В моду вошли высокие, хорошо освещенные помещения.
Китайские изделия, завезенные в Европу купцами голландской и английской Ост-Индских компаний, стали страстью дам. Обычным украшением многих городских и деревенских особняков во времена королевы Анны стали белые и синие кувшины, стоящие в отделанных панелью нишах, и высокие дедовские часы, украшенные лакированными безделушками, привезенными с Востока. Из Вест-Индии начало прибывать красное дерево, а вместе с ним появилась и та более легкая и красивая мебель, которая у нас ассоциируется со вкусами XVIII века. Иностранные торговцы произведениями искусства были изумлены представившимися здесь возможностями и «совершенно обдирали англичан, продавая за большие суммы то, что они вывозили из Франции и Италии как безделицу». Иностранные художники говорили, что знать и джентри, над которыми царствовала королева Анна, хранили в своих сельских особняках столько же картин известных итальянских мастеров, сколько их было во всех дворцах и музеях самого Рима.
Бленхейм-хауз Ванбруха с его великолепным художественным замыслом и сомнительными деталями отнюдь не является характерным для архитектуры времен королевы Анны. В церквах, академических и общественных зданиях преобладал, как правило, более тонкий вкус, тогда как для обычных частных зданий этого времени была характерна «элегантная простота». Рен был еще жив и трудился над лондонскими церквами и Хэмптон-Кортом, а Гиббс изучал то искусство, которое скоро должно было создать сводчатое помещение библиотеки Радклифа в Оксфорде. Вместе они научили последующие поколения достигать «слияния классического изящества с народной мощью». Правила пропорции, сформулированные этими великими людьми, проникнув в учебники, употребляемые обычно местными архитекторами и строителями, подготовили для XVIII столетия долгий и счастливый период строительства простых английских зданий в деревушках и провинциальных городках. И только б XIX веке, когда люди попытались восстановить архитектуру древних Афин или средних веков, эта английская традиция была утрачена и ее сменила отвратительная анархия любительских фантазий и экзотических мод.
Степень богатства и культуры сельских джентльменов была весьма различной. На верхней ступени социальной лестницы стояли герцоги, которые во всякой другой стране титуловались бы принцами; по роскоши и великолепию их имения превосходили дворы союзных монархов, получавших денежную помощь от Англии. На нижней ступени лестницы находился сквайр, получавший две или три сотни фунтов годового дохода, обрабатывавший часть своей собственной земли, говоривший на грубейшем провинциальном наречии, но отличавшийся от йоменов, к которым он был близок по образу жизни, тем, что имел небольшой штат слуг для охоты, герб и пользовался всеобщим почтением как «джентльмен». Если он однажды в своей жизни приезжал по делам в Лондон, то выделялся в столичной толпе париком из конского волоса, жокейским поясом и старомодной верхней одеждой без рукавов. Его библиотека состояла по традиции из Библии, «Хроники» Бэкера, «Гудибраса» и книги «Мучеников» Джона Фокса, и, читал ли он эти произведения или нет, его взгляд на пуритан и папистов совпадал обычно с взглядами, выраженными в двух последних книгах.
Но и этот старомодный мелкий сквайр начал чувствовать гнет времени. Тяжелый поземельный налог (в четыре шиллинга с фунта дохода), который ему пришлось платить для того, чтобы виги могли вести войны, больно задел его и увеличил его приверженность к торизму. Жизнь даже в сельских местностях неуклонно дорожала по мере того, как становилась менее простой, более изысканной и подвергалась большему влиянию города. И если мелкому сквайру было все труднее сводить концы с концами, то тем легче становилось ему распродать все за хорошую цену, так как многие крупные землевладельцы подкарауливали возможность скупить владения своих соседей и увеличить свои собственные крупные имения.
Теперь, когда существует так много других форм помещения капитала, которые лишили землю той монопольной ценности, какую она имела первоначально как средство для наиболее простого употребления капитала, может показаться удивительным, что среди более богатых членов общины мог быть столь силен земельный голод. Простые купцы, которые при Тюдорах приобретали землю, ренту или десятину для своих детей, теперь помещали капиталы в государственные процентные бумаги. Но для лиц, обладавших политическим и социальным честолюбием, привлекательность землевладения была большей, чем когда-либо. Хабекук, внимательно исследовавший изменения в землевладении в Нортгемптоншире и Бедфордшире, происшедшие между 1680 и 1740 годами, пишет;
«Покупали землю те, кого особенно волновали соображения социального престижа и политической власти. Среди них было несколько крупных купцов, которые стремились к политике; но большинство новых землевладельцев или были связаны каким-нибудь путем с правительством, или являлись судьями, которые желали приобрести в обществе то значение, которое могло дать только наличие земельной собственности. Они покупали участки земли в различных частях страны, скупали владения у некоторых соседних джентри. Они не столько стремились вложить свои капиталы в землю, сколько получить побочные привилегии класса землевладельцев – возможность беспрепятственно контролировать жизнь соседней округи. Когда они осматривали поля, то хотели видеть только свою собственную землю – и ничего, кроме нее. Ненависть мелких сквайров и джентри ко всяким крупным лордам, старым или новым, которые вытесняли их с земли, является темой многих современных пьес».
Рисуя жизнь деревенского помещичьего дома этого периода, мы прежде всего представляем вельмож, наполняющих сельские дворцы картинами из Италии, мебелью из Франции, изданиями итальянских, французских или латинских авторов, которых они не только собирали, но и читали, – мы представляем тех людей, которых молодой Вольтер во время своего посещения Англии в 1726-1729 годах противопоставлял французской знати как покровителей литературы и науки. Среди них были лорды, занимающиеся философией, подобно третьему графу Шефтсбери, ученые государственные мужи, вроде Сомерса и Монтегю, величайший из всех собирателей древностей Роберт Харли, который, правда, будучи «главной опорой нации», был слишком занят, чтобы самому отыскивать книги и манускрипты, но зато повсюду имел для этой цели частных агентов. Лорды из клики вигов и их сторонники и враги в Вестминстере и Сент-Джеймсском дворце, будучи сельскими джентльменами по рождению или сделавшись таковыми, гордились своими сельскими жилищами, в которые всегда, по крайней мере на словах, стремились вернуться замученные заботами государственные деятели.
Лондонский сезон заканчивался в начале июня, когда светские люди разъезжались по своим поместьям или отправлялись в Бат. Более длительное пребывание в городе разорило бы многие семьи, которым приходилось делать большие усилия, чтобы привезти своих дочерей в Лондон на ярмарку невест, в то время как их соседи должны были довольствоваться столицей графства или рядом таких сельских визитов, которые женщины могли совершать летом в карете, а на Рождество, когда тропинки были покрыты грязью, – верхом, сидя на седле позади своих братьев.
Мэри Уортли Монтегю, блестящая ученая женщина, в письме осуждает сквайров одного из южных графств за «равнодушие ко всем другим удовольствиям», кроме бутылки и охоты. «Бедные женщины в такой семье редко могли воспользоваться каретой, а их мужья и повелители не нуждались в каретах, так как утро они проводили среди охотничьих собак, а ночи – с весьма похожими на последних по своей натуре грубыми собутыльниками за тем напитком, который могли достать». Однако в том же письме она не только осуждает, но и хвалит общество сквайров Нортгемптоншира. Не менее реальным, хотя и более редким, чем мужиковатый западный сквайр, был ученый сельский джентльмен.
Несмотря на это, когда перелистываешь сотни писем зажиточных джентри времен королевы Анны, остается впечатление, что эти люди не были ни сельскими учеными, ни деревенскими мужланами. Мы знакомимся с подлинными мыслями сквайров, которые озабочены состоянием своих счетных книг, замужеством дочерей, долгами и деятельностью своих сыновей. Они занимались и своими имениями, и делами графства. Они интересовались своими стадами и прудами несколько больше, чем своими книгами, живя, как мы можем полагать, здоровой и полезной жизнью, наполовину общественной, наполовину частной, с достаточным досугом, естественно и достойно. Многим из зажиточных помещиков, судя по их письмам и дневникам, их имения приносили ежегодно несколько тысяч фунтов дохода.
В одном отношении расходы, требуемые от сельского джентльмена, богатого или бедного, были очень малы. Тогда не считалось обязательным посылать сыновей в дорогостоящие патрицианские школы. В ближайшей местной школе дети сквайра сидели рядом с предназначенными для духовной карьеры сыновьями йоменов или лавочников. Иногда юных джентльменов учили дома приходские священники, а в более богатых семьях – частный капеллан. Когда приглашался специальный наставник, им часто являлся гугенотский беженец, так как страна была полна образованными людьми этого типа, радушно принимаемыми заботливыми родителями за их французский язык, а в семьях вигов – и из уважения к их страданиям и их принципам. Итон, Винчестер и Вестминстер, правда, пользовались покровительством значительной части аристократии, но далеко не всей. И даже в Вестминстере можно было встретить в конце царствования Анны «дома, в которых мальчики платили 20 фунтов в год за содержание и только 5 или 6 гиней за обучение». Школа в Харроу, основанная при Елизавете для удовлетворения местных и плебейских нужд, при Георге I стала выдвигаться в разряд фешенебельных.
Из этого следует, что если в наши дни джентльмен среднего достатка считает себя обязанным истратить шестую часть своего дохода на образование одного мальчика, то в те времена он мог довольствоваться затратой одной сотой части дохода. Сквайр Моулзуорт, например, имея доход около 2 тысяч фунтов, платил за каждого из своих сыновей по 20 фунтов в год – включая питание, обучение, одежду и все прочие издержки. Его тяжелые родительские обязанности начались только тогда,когда оба юноши оставили школу и младший пошел в армию. Тут уже «Дика нужно было снабдить сотней фунтов, без которых он не мог сделать шага. Он должен был купить и лошадей, и одежду, и экипаж». А так как «он не попал в список офицеров, убитых в недавней блестящей битве при Бленхейме или во время какого-нибудь отчаянного штурма Лилля», что было бы печальной экономией, то Дик продолжал в течение многих лет быть причиной все возрастающих расходов и гордости своего йоркширского дома.
Старший сын Джек избрал дипломатию, не менее дорогой способ служения государству. В 1710 году отец пишет: «Я действительно думаю, что двое наших сыновей истратили за последние семь или восемь лет 10 тысяч фунтов; они и дочери остались без средств. Хорошо еще, что они могут жить в хорошем отцовском доме». Пять лет спустя пристрастие Дика к его полку заставило его «истратить 600 фунтов сверх суммы, выдаваемой ему, – настолько он любит свою службу».
Более мелкие сквайры тратили на обучение сыновей соответственно меньшие суммы и предназначали их для более дешевых профессий, чем армия или дипломатическая служба. В таких условиях джентри могли позволить себе иметь большие семьи, и, хотя значительная часть детей умирала в юности, эти семьи обеспечивали Англии постоянный приток отважных молодых людей, которые способствовали ее успехам дома и за границей. В Англии младшие сыновья – в отличие от младших сыновей континентальной знати – охотно принимали участие в повседневной жизни человеческого рода и не стремились к сохранению своего положения джентри. То, что младший сын покидал дом, чтобы сделатьсебе карьеру в армии или за конторкой адвоката, в промышленности или в торговле, было одной из основных причин, благоприятствующих вигам и сближающих их интересы с интересами промышленников и торговцев, и это же противоречило стремлению крайних тори сохранить за поземельным дворянством положение исключительно господствующего класса. Этот класс оставался господствующим в течение еще одного столетия, но ему пришлось открыть широкий доступ в свою среду новым лицам и поощрять сотней различных способов тесный союз с другими, не землевладельческими классами в областях, весьма отдаленных от интересов помещичьего дома и деревенской церкви. Сельские джентльмены еще управляли Англией и в XVIII веке, но управляли уже в значительной мере в интересах торговли и империи.
Обычное образование, даваемое молодым людям из высшего и среднего классов, постоянно критиковали за его строго классический характер. Некоторые даже утверждали, что «девочка, воспитанная матерью дома, в двенадцать лет бывает умнее, чем мальчик в шестнадцать лет», который знает только латынь. Второй классический язык изучался в школах и колледжах настолько скверно, что превосходные латинисты не знали в достаточной степени греческого языка, чтобы понять, что Бентли называет их в «Письмах Фалариса» тупицами. Лишь в XIX веке обычный английский ученик был одинаково хорошо знаком и с Аристофаном, и с Горацием.
Однако изучение греческого языка в Англии, современной Бентли, было все же более глубоким, чем в остальной Европе. В современной ему Германии не только не изучался больше греческий язык, но даже были неизвестны имена и рахитичные эпизоды из мифологии иистории Эллады. В Англии же они были хорошо известны образованным людям, если не из греческих, то из латинских и английских авторов. При Георге I всякий светский человек знал Гомера, хотя бы по переводам Поупа. Мильтон почти достиг той высоты в иерархии английских поэтов, на которой находился Шекспир, и употребление им классических идей и мифологии послужило примером для поэтов более позднего периода, хотя немногие из них обладали столь же высокой эрудицией. В архитектуре и ее украшениях исчезла готика, и ее сменили идеи, внушенные, прямо или косвенно, храмами и статуями древнего мира.
Было бы, однако, ошибкой предполагать, что в то время не изучали ничего, кроме классического искусства; существовали весьма разнообразные типы школ, которые посещались джентльменами. Роберт Питт, отец могущественного сына, пишет в 1704 году своему едва ли менее знаменитому отцу, губернатору Мадраса:
«Оба моих брата находятся в академии г-на Мэр близ Сохо-сквер, считающейся лучшей в Англии. Они изучают латынь, французский, счет, фехтование, танцы и рисование. Следующим летом я думаю отправить их в Голландию для пополнения образования. Если мой тесть, генерал-лейтенант Стюарт, будет сопровождать герцога Мальборо, то я отдам их под его попечение, чтобы они могли увидеть кампанию».
Среди критиков наших методов образования были и мудрый Локк, и добродушный Стил, оба утверждавшие, что постоянная порка не является лучшим способом передачи знаний и поддержания дисциплины. Все соглашались, чтообразование высшего классануждается в реформе, но никакие реформы не проводились.Свифт, при всей его ненависти к шотландцам, согласился на этот раз с Бернетом, что шотландские помещики (лэрды) давали своим сыновьям более основательное образование, чем более богатые и обеспеченные англичане.
Все же XVIII столетие, несмотря на дефекты в системе образования, создало из тех, кто прошел эти школы, больше замечательных и самобытных англичан, чем в состоянии дать наш век, хотя образование и стоит теперь гораздо выше. И несмотря на жестокую порку со стороны «привилегированных тиранов в лице школьных учителей» и постоянное запугивание со стороны своих товарищей-забияк – этих непривилегированных тиранов, – школьники имели много счастливых моментов, так как у детей еще оставался досуг, который они проводили на сельских просторах. Строгость к тому же не была повсеместной; юный лорд, недавно прибывший в Итон, пишет домой: «Я считаю, что Итон – весьма нестрогая школа. Я уверен, что здесь никто не может быть недовольным, если только он не отъявленный повеса».
Образование женщин находилось в плачевном состоянии. Среди низших классов оно, может быть, было немногим хуже мужского, но дочери более зажиточных людей значительно уступали вобразовании своим братьям. «Женские академии» еще не появились, и хотя существовали пансионы для девочек, их было мало и они не отличались какими-либо достоинствами. Большинство девочек учились читать, писать, рисовать, шить и вести хозяйство у своих матерей. Мы не слышим уже о прекрасных эллинистках прежних времен, подобных леди Джейн Грей и королеве Елизавете. Но некоторые девушки могли читать итальянских поэтов, почему и пользовались особым «почтением у своих поклонников». Так, Свифт писал, что он встретил двух женщин, которые по своему интеллектуальному развитию могли быть поставлены в один ряд с мужчинами. Но именно он жаловался, «что из тысячи дочерей джентльменов не найдется и одной, которая могла бы читать на своем родном языке или судить о самой легкой книжке, написанной по-английски».
Недостатки женского образования были общепризнанным фактом, при обсуждении которого одни защищали существующее положение как необходимость для удержания женщин в должном повиновении, а другие, руководимые наиболее видными литературными деятелями, приписывали фривольность и склонность к азартным играм светских дам воспитанию, которое лишало их более серьезных интересов.
Тем не менее письма, которые приходили из сельских особняков, свидетельствуют о том, что жены и дочери были разумными советчиками мужчин. Такие корреспондентки не были просто безмозглыми игрушками или домашней прислугой. Значительная часть современной литературы писалась в такой же степени для женщин, как и для их отцов и братьев. Женщины принимали участие, часто слишком ревностное, в той вражде между вигами и тори, которая разделяла город и деревню. Что же касается сельских развлечений, то прототип Дианы Вернон из «Роб Роя» следует искать в Белинде из пьесы Фаркера, которая говорит своему другу: «Я могу скакать галопом все утро на звук охотничьего рога и провести весь вечер за скрипкой. Короче говоря, я могу ни в чем не отставать от отца, кроме выпивки и стрельбы влет».
Для девушек высшего и среднего классов мужей часто выбирали по принципу открытой торговой сделки. «Что касается Клоки, – пишет ее отец, сквайр Моулзуорт, – то мы недостаточно богаты, чтобы пристроить ее здесь», так что ее придется послать в Ирландию искать там мужа, который потребует меньшее приданое. Другой сквайр, по имени Гиз, который искал жену для себя, пишет: «Леди Диана послала некую очень почтенную особу осмотреть мои владения и была весьма удовлетворена полученными сведениями и, я думаю, искренно пожелала отдать за меня свою дочь». Но дочь имела другие виды, так что Гиз нашел утешение в ином месте:
«Когда я был на квартальной сессии мировых судей, один из них отвел меня в сторону и спросил, не хочу ли я жениться на женщине, обладающей состоянием в двадцать тысяч фунтов. Леди я видел, хотя и никогда не говорил с нею, и весьма охотно принял его предложение».
Некий корнет пишет с подобной же откровенностью:
«Не рассчитывая получить что-нибудь от этой военной кампании, я подумал о другом пути и решил попробовать свое счастье на любовном поприще, и поэтому около двух недель назад я был представлен (некоторыми друзьями) женщине с очень хорошим состоянием, но пока не могу сказать, удастся ли мне достичь чего-либо большего, чем благосклонная беседа».
С тех пор как почти все стали считать одиночество большим несчастьем, женщина не считала для себя обидным, что ее рукой распоряжались другие. С ней, несомненно, обычно советовались (в большей или меньшей степени, в зависимости от характера и обстоятельств) о том, что касалось ее судьбы. Свифт в обращении «к очень юной леди по поводу ее свадьбы» говорит «о человеке, который выбран вам в мужья вашим отцом и матерью», и почти тотчас же добавляет: «Ваш брак свидетельствует о благоразумии и хорошем вкусе и не имеет никакой примеси нелепой страсти» романтической любви. Подобное замечание можно было, вероятно, сделать по поводу большей части «устроенных» браков того времени. Но, с тех пор как «нелепая страсть» начала отстаивать свои права, довольно часты стали браки с побегами. И даже без таких отчаянных мер все большая часть браков являлась результатом взаимной склонности.
Развод в то время был почти неизвестен. Его можно было добиться только через церковный суд и то только тогда, когда решение этого суда сопровождалось специальным парламентским актом; за двенадцать лет правления Анны было разрешено всего шесть разводов.
И мужчины и женщины и фал и в азартные игры, прекрасные дамы и джентльмены – даже больше, чем деревенские сквайры. В Лондоне, Бате, Танбридж Уэлзе все интересы сосредоточивались вокруг игорного стола, тогда как в имениях большее значение имели конюшни и псарни. Расходы на азартные игры и спорт, так же как и благородная страсть к строительству, разведению садов и насаждению аллей, обременяли поместья ипотекой, являвшейся большим препятствием и для каких-либо усовершенствований в сельском хозяйстве, и для домашнего счастья. Карты и кости способствовали переходу огромных сумм из одних рук в другие.
Игра в кости
Пьянство было общепризнанным национальным пороком англичан всех классов, хотя, впрочем, женщины не были подвержены ему. Проповедь всеобщей воздержанности была совершенно невозможна в те дни, когда кофе и чай еще не были доступны каждому, а питьевая вода была грязной. Но трактаты о пользе умеренности при употреблении спиртных напитков широко распространялись религиозными общинами и отдельными заботливыми патриотами: в них описывались скрасочными подробностями различные истории об ужасных судьбах пьяниц, одни из которых были убиты при попытке ехать ночью в нетрезвом виде домой, а других хватил удар в то время, когда они богохульствовали, и все они попадали прямо в ад. Простой народ еще употреблял эль, но у него уже появился соперник, гораздо более опасный, – неочищенный спирт с его пагубной привлекательностью. Наивысшей точки употребление дешевого спирта достигло, правда, только при Георге II, но события уже развивались в этом направлении и при Анне.
Высшие классы в это время пили и вино, и эль. Трудно сказать, кто был большим пьяницей – светский джентльмен или сельский дворянин. Но возможно, что различные упражнения на открытом воздухе – охота на лисиц, спорт, земледельческие занятия – способствовали тому, что сквайр мог еженощно поглощать значительное количество октябрьского эля без особого вреда для себя, тогда как игроки и политиканы с Сент-Джеймс-сквера не могли избежать дурных последствий бесконечных вигских тостов, запиваемых портвейном, и торийских, запиваемых французским кларетом и шампанским. Судьи зачастую появлялись в суде разгоряченные вином, в связи с чем военный суд, согласно мудрой предусмотрительности закона о мятеже, имел право заседать только перед обедом.
Табак употреблялся еще в длинных глиняных трубках. В некоторых сельских домах была отведена «курительная». Только «щеголь» Нэш запретил курение в общественных местах в Бате, так как «это и невежливо,и неприятно дамам». Среди простого народа юго-западных графств все – мужчины, женщины и даже дети – курили по вечерам трубки. Когда в 1707 году через парламент проходил билль об охране англиканской церкви, доктор Белл, сторонник течения «высокой церкви», епископ собора Св. Давида, подозревая в симпатиях к вигам некоторых епископов, караулил их, «сидя в кулуарах палаты лордов и все время куря трубку». Свифт рассказывает, как его собратья-священники разбирали по косточкам его характер, сидя с трубкой в зубах в их излюбленном уголке в кофейне Трэби:
Дымят, в сомненье головой качают
И на безбожие поэтов намекают.
Обычай нюхать табак сильно распространился в Англии в первые годы правления Анны, когда на лондонском рынке появилось огромное количество табака после захвата в сражении при бухте Виго испанских кораблей, груженных нюхательным табаком.
Пьянство, азартные игры и жестокая политическая вражда в высшем обществе приводили к частым дуэлям, многие из которых плохо кончались. Оставшийся в живых, если он мог доказать, что игра велась честно, обвинялся обычно в непредумышленном убийстве и подвергался короткому аресту, а в лучшем случае, если ему удавалось «добиться защиты у своего духовенства», отделывался символическим наказанием: к нему «притрагивались холодным оружием» и отпускали на свободу. Носить шпаги и убивать друг друга по правилам было привилегией всех джентльменов, начиная с герцога. Нередко по вечерам мужчины, изрядно напившись, затевали ссору из-за пустяков, а поссорившись, тут же в комнате хватались за шпаги и, если убийство не совершалось на месте, отправлялись в сад, расположенный позади дома, и сражались этой же ночью, с еще не остывшей кровью и нетвердой рукой. Если компания не имела при себе шпаг, то ссора могла быть отложена до утра и забыта или же улаживалась утром, когда поспорившие приходили в трезвое состояние. Шпаги, ношение которых было весьма обычным явлением в Лондоне, где они составляли, подобно длинным парикам, часть парадной одежды, не были, к счастью, распространены в провинции среди неизысканных, но добродушных сельских сквайров, которые больше бранились, чем на самом деле сердились. В Бате «щеголь» Нэш просто употребил свою деспотическую власть, чтобы заставить светскую публику откладывать в сторону свои шпаги, когда они входят в его владения. Этим он оказал большую услугу обществу, так же как и тем, что научил неотесанных сельских сквайров сбрасывать свои высокие сапоги и облагораживать свой язык во время вечерних собраний и танцев. За время своего длительного господства в качестве церемониймейстера, продолжавшегося почти все царствование Анны и царствование двух первых Георгов, Нэш сделал, может быть, больше, чем кто-либо другой в XVIII веке, для улучшения грубых манер человеческого рода. Но он поощрял азартные игры и брал при этом проценты с выигрышей.
Драка в трактире
Лондон и столицы графств были самой обычной ареной для дуэлей. Открытая местность позади Монтегю-хауз, где теперь находится Британский музей, выбиралась дуэлистами даже чаще, чем Лестерфилдс, так как она была в то время окраиной нового Лондона. Для города были довольно обычным явлением такие, например, события:
«Как сообщают, Нэд Гудйир убил щеголя Фелдинга и убежал. Ссора началась в театре Друри-лейн. В ту же ночь некий капитан оказал подобную дружескую услугу молодому Фулвуду, так что теперь здесь будет двумя уорикширскими франтами меньше. Капитан – в Ньюгейте».
Со времен Реставрации иностранцы восхищались английскими лужайками для игры в шары, «которые были настолько ровными, что шар шел по ним так же легко, как по большому бильярдному столу. И так как эта игра являлась обычным развлечением провинциальных джентльменов, то они имели специальные катки для выравнивания лужаек». Как раз при Анне примитивный род крикета начинает занимать свое место среди других спортивных развлечений наряду с более старинным футболом. Новая игра особенно привилась в Кентском графстве, а «среди кентцев претендовали на первенство жители Дартфорда».
Во время петушиного боя все выкрикивали свои ставки около маленького амфитеатра. Если бы иностранец попал случайно на такой петушиный бой, то, как мы полагаем, «он, конечно, решил бы, что все собравшиеся – сумасшедшие, судя по их непрерывным выкрикам – «шесть к четырем», «пять к одному», -повторяемым с большой серьезностью. Каждый зритель принимал такое участие в своем излюбленном петухе, как если бы дело шло о партийной борьбе». Скачки представляли собой подобное же зрелище, но на более широкой арене: зрители, большинство которых прибыло сюда верхом, скакали вдоль ипподрома, крича от возбуждения. Встречи по-прежнему еще проходили по районам или графствам. Единственное национальное состязание бывало в Ньюмаркете. Там действительно «огромная толпа всадников, собравшихся на равнине для состязания, включает всех без разбора – от герцога до крестьянина. Никто не носит шпаг, но все одеты соответственно моде и условиям конного спорта. Каждый, как говорится, стремится превзойти другого». Королева Анна из секретных сумм давала призы за состязание в Ньюмаркете и Дэчете близ Виндзора. Годолфином и другими знатными покровителями спорта были ввезены в Англию арабские и берберийские кони, что привело в будущем к значительным изменениям в качествах и внешности лошадей в Англии.
Когда мы пытаемся представить, как развлекалось большинство наших предков, мы не должны забывать, что, как правило, они жили в сельских местностях, на большом расстоянии друг от друга. Для большинства людей все сношения ограничивались пределами одной деревни. Деревенские состязания в крикет, суматоха футбола или бега на лужайке были весьма отличны от «организованной атлетики» современной арены. Но в основном люди совершали «упражнения» в ходе своей работы – когда обрабатывали землю, шли или ехали куда-нибудь по своим повседневным делам. Для высшего и среднего класса верховая езда была обычнейшим занятием.
Наиболее обычными и доступными спортивными развлечениями являлись рыболовство и ловля всевозможных птиц, особенно (хотя и не исключительно) дичи. Англия тогда изобиловала дичью и множеством птиц, которые теперь стали редкими или совсем вымерли, начиная от дрофы дюн и орлов Уэстморленда и Уэльса до множества более мелких пород, которые еще уцелели и описаны Бьюиком. Большая часть земель строго охранялась их владельцами, но обширные пространства были открыты всякому, кто мог раздобыть сеть или ружье или умел хорошо ставить силки. В царствование Анны, да и в течение всего столетия, болота и пустыри около Кембриджа являлись обычным местом совершенно беспрепятственной охоты студентов, откуда они возвращались с фазанами, куропатками, утками, бекасами, голубями и цаплями. Во всех частях прекрасного острова заброшенные пустоши, рощи и болота, предназначенные в ближайшем будущем к осушению, запашке или застройке, оставались пока убежищем для множества дичи всякого рода. Англичанину достаточно было отойти на несколько ярдов от своего дома, чтобы вступить в общение с прекраснейшей природой, а его любовь к охоте заставляла его бродить повсюду.
Лишь незначительная часть деревенских жителей имела представление о городской жизни. Большая часть народа оставалась всю свою жизнь под влиянием Пана и его чар. Духовную пищу английских детей составляли истории, рассказываемые у камина, о «домах, посещаемых призраками, о феях, духах и колдуньях», которым верили, быть может, только наполовину, но которые вызывали приятную дрожь. Теперь, когда изобличенная колдунья не подвергалась опасности быть тотчас повешенной или утопленной, распространение таких легендарных историй не могло причинить особого вреда. Для простого народа, не затронутого скептицизмом города, феи еще продолжали танцевать в лесах, хотя, когда путник проходил около кустов, они всегда исчезали. Книг в деревне было мало. Простой фермер и коттер не видели другой печатной продукции, кроме Библии, молитвенника и баллад.
А поэтому даже в конце «века разума», в период существования искусной поэзии у господствующих классов, в английском народе не умерла вера в чудеса. Вордсворт приписывает высокое развитие своего воображения отчасти историям о феях и балладам сельского севера, которые он слышал в детстве вопреки рационализму школы XIX столетия. Никакие городские газеты или журналы еще не штамповали одинаковых представлений в сознании нации. Каждое графство, каждая деревушка были изолированы от мира и имели свои собственные традиции, свои интересы и свой характер. За исключением таких чрезвычайных событий, как, например, битва при Бленхейме, деревенский народ мало интересовался чем-нибудь, кроме своих собственных дел. О тех делах, которые они знали и понимали, они делали свои острые и простые замечания, прибегая к выразительному диалекту своей местности. Человеческие драмы, происходившие ежедневно в их деревне – случаи браконьерства, приключения контрабандистов, вражда и любовь, привидения и самоубийства, ссоры мельника с трактирщиком или священника со сквайром, – все это давало достаточный материал для всяких сплетен и сенсаций.
Скверное состояние дорог вызывалось отсутствием соответствующего административного механизма, который бы следил за их восстановлением и починкой. Каждый приход, через который проходила дорога, должен был поддерживать ее в хорошем состоянии, используя для этого бесплатный труд фермеров в течение шести дней в году, без всякого контроля извне; один человек из местного населения выбирался в качестве смотрителя. Перекладывание бремени по починке дорог не на тех, кто этими дорогами пользуется, а на приходы, через которые дорога случайно проходит, было столь же несправедливым, сколь нелепыми были надежды на то, что фермеры, совсем не заинтересованные в этом, будут безвозмездно трудиться в качестве искусных строителей дорог. В результате всего этого лишь очень немногие прочные дороги были построены заново или поддерживались в хорошем состоянии с тех пор, как римляне оставили остров. В Средние века, когда торговля была невелика, это не имело большого значения. При последних Стюартах, когда торговля стала обширной и продолжала быстро расти, значение дорог возросло. Отсутствие их начало восприниматься как национальный позор. Поэтому в нескольких худших районах законами парламента была введена новая система дорожных застав для того, чтобы оплату расходов на починку дорог возложить на тех, кто ими пользуется. Когда Анна вступила на престол, охрана дорожных застав находилась в ведении местных мировых судей, но к концу ее царствования рядом статутов были учреждены специальные корпорации хранителей застав. Однако до начала царствования Ганноверского дома этим путем не было достигнуто ничего похожего на генеральную реформу. Дефо таким образом описывает главную дорогу в Ланкашире:
«Сейчас мы находимся в такой местности, где дороги вымощены мелким булыжником, так что по краям мостовой, ширина которой достигает обычно около полутора ярдов, можно идти или ехать верхом. Но средняя часть дороги, где должны ездить повозки, очень скверная». Зимой и в плохую погоду проехать по дороге на колесах и не пытались, а всадники отправлялись в путь ранним утром, чтобы попасть впереди вереницы вьючных лошадей, которых было трудно миновать на узком шоссе.
В этих условиях морское и речное сообщение, хотя и более медленное, имело большое преимущество перед сухопутным, особенно для перевозки тяжелых товаров. Рыбу можно было доставить из Лайм-Регис в Лондон на лошадях, часто сменяемых на станциях, но уголь везли сюда морем. Уголь, привозимый морем, облагался налогом, который шел на перестройку собора Св. Павла и на войну с Францией. Уголь был дешевле в тех городах Йоркшира, Ланкашира и западной части центральных графств, куда его можно было доставить с места добычи по таким рекам, как Колдер и Северн, так как уголь, транспортируемый по рекам, в отличие от доставляемого морем, не облагался налогом, не подвергался нападениям со стороны каперов Дюнкерка, его не обременяли и ограничения неудобной системы конвоирования, осуществляемого военно-морским флотом между Тайном и Темзой.
Владение рудниками и получение прибыли от их разработки не считалось унизительным для наиболее крупной земельной знати, так как в Англии, в отличие от большинства других стран Европы, все полезные ископаемые, кроме золота и серебра, считались собственностью владельца земли. В числе шахтовладельцев-аристократов того времени был, например, лорд Дортмут, которому принадлежали многие шахты Стаффордшира, расположенные около его имения в Сендвелле. Его соперником был некий Уилкинс, сельский джентльмен, про которого говорили, что он «захватил в свои руки угольные разработки Лестершира».
Для поддержки свода шахты тогда обычно оставляли угольный столб, вместо того чтобы употреблять деревянные подпорки. Были заложены шахты глубиной до 400 футов и даже больше, а в Ланкашире инженеры изобрели в 1712 году специальную машину для откачки воды из шахты, которая была описана как «первая настоящая паровая машина». В Тайнсайде для спуска тележек с углем к реке, где они грузились на специальные плоскодонные суда, предназначенные для перевозки угля, применялись деревянные рельсы. В окрестностях одного только Ньюкасла для перевозки угля использовали двадцать тысяч лошадей. С тех пор как шахты стали делаться более глубокими, чем в Средние века, участились взрывы, вызываемые рудничным газом, как это было в 1705 году в Гейтсхеде и в 1708 году в Честер-ле-Стрит, когда погибли сотни углекопов и был причинен «большой ущерб многим домам и людям на несколько миль вокруг. Один человек был выброшен из шахты, которая имела в глубину 300 футов, и найден на значительном расстоянии от места взрыва». Два года спустя, во время другого взрыва в Беншеме в том же северном Дареме, погибло еще восемьдесят человек. Но было еще довольно значительным и число поверхностных разработок угля; на западе было много мелких угольных разработок, каждая из которых производилась двумя-тремя углекопами, а иногда даже и одним человеком.
Наличие всякого рода горняков и рабочих каменоломен является важным исключением из общего положения, по которому в старой Англии существовала лишь домашняя промышленность. Были и другие исключения, которые, правда, труднее уточнить. Многие мастерские имели столь обширные помещения и держали так много учеников и наемных рабочих, что их уже можно считать стоящими на полпути между домашним и фабричным способом производства. Основой промышленности все еще было ученичество – единственный легальный путь к ремеслу для мальчиков и девочек. Жестокие хозяева и хозяйки часто злоупотребляли системой ученичества и с бедными учениками обращались так же плохо, как обращались с детьми в худшие времена наступившей за этим фабричной системы. Не было ни инспекторов, ни какого-либо контроля, препятствующего плохому обращению. Но, с другой стороны, ученик был членом «семьи» хозяина, а обычно человек не любит видеть у себя за столом и в доме несчастные лица. Кроме того,система ученичества была очень полезной, так как она приучала к дисциплине и давала полезные знания как раз в период того «послешкольного» возраста, который в наши дни находится в пренебрежении. Ученичество вполне компенсировало недостаточность школьного образования. Ученичество было старой английской школой ремесла и характера.
Маленьких детей, которых по возрасту еще нельзя было отдать в ученики, нередко заставляли работать дома с такого же раннего возраста, как и фабричных детей в более поздние времена. Особенно часто их использовали для прядения шерсти. Дефо с одобрением отмечал, что в Колчестере и Тонтоне ком текстильном районе «ни в городе, ни в окрестных деревнях нет ни одного ребенка старше четырех лет, который, если только его родители позаботились о том, чтобы обучить его, не был бы в состоянии зарабатывать свой хлеб». В долинах Уэст-Райдинга, где также было развито суконное производство, он также встречал детей, «едва достигших четырех лет, которые могли содержать себя своим трудом». Бедные крошки! Но по крайней мере, когда родители разрешали им играть, они могли играть в поле, а не в грязных трущобах.
Прядильным ремеслом занимались главным образом женщины и дети в деревенских коттеджах, а ткацким – по преимуществу мужчины, в селах и в городах. Оба процесса, хотя и происходили в домашних условиях, требовали капиталистической организации и наблюдения или со стороны предпринимателей, или со стороны посредников, которые скупали товары, произведенные коттерами. Организация суконного производства имела различные формы в разных районах Англии.
Суконное производство являлось наиболее распространенной отраслью промышленности того времени. Две пятых английского экспорта составляло сукно, произведенное в Англии. Многие мероприятия в нашей внутренней, экономической и иностранной политике были направлены к достижению великой национальной цели – увеличению производства сукна и расширению его продажи как в самой Англии, так и за границей. В этом заключалось для нас действительное преимущество перед нашими соперниками голландцами при ведении мировой торговли, так как мы имели свою промышленность, продукцией которой и нагружали отплывающие корабли, а голландцы мало что могли экспортировать, за исключением сельдей, и действовали главным образом как перевозчики чужих товаров.
Стремление сохранить открытыми для английского сукна крупные мировые рынки было главным побудительным мотивом для поднятия в 1702 году оружия против франко-испанской державы, которая в тот момент, по приказу Людовика XIV, намеревалась закрыть для наших товаров Испанию, Нидерланды, Южную Америку и Средиземное море. Захват и сохранение за собой Гибралтара в 1704 году удовлетворяли не только военное и морское честолюбие Англии: свободный вход в Средиземное море и торговля с Турцией были чрезвычайно важны и для суконнойпромышленности .Мы не только продавали там большое количество сукна, но наши купцы вывозили из Испании и Южной Америки масло, употребляемое в суконном производстве. Испанская мериносовая шерсть обрабатывалась в Англии, ивыработанное из нее сукно продавалось затем в самой Испании, национальная промышленность которой находилась на последней стадии упадка. За последние годы, когда овец стали откармливать «клевером и другими кормовыми травами», количество английской шерсти значительно увеличилось и качество ее улучшилось. Наши американские колонии являлись очень ценным рынком для нашего сукна. С начала XVIII столетия спрос на наше сукно стал возрастать и в России.
Только на Востоке было невозможно продавать тяжелое английское сукно, и это обстоятельство было наиболее опасным аргументом, с которым могла столкнуться Ост-Индская компания, защищая свое дело перед парламентом. Правда, ввозом кофе и чая компания искупала свои большие экономические преступления – то, что она не продавала английское сукно и осмеливалась вывозить золото, чтобы покупать вещи, заменяющие сукно. Напрасно купцы соперничающей компании, которая вела торговлю на турецких рынках, жаловались, что «если шелк будет привозиться из Индии, где его покупают хотя и дешево, но за золото, то тем самым будет разрушена наша торговля с Турцией, где мы покупаем шелк в обмен на сукно». Требование моды и роскоши перевешивали все доводы суконщиков, купцов турецкой компании и ортодоксальных экономистов. «Наши великолепные франты предпочитают одеваться в индийские ткани, а не в ткани, выработанные в Спитлфилдсе», говорили им. Кроме того, все дамы пили чай. Поэтому индийской торговле было разрешено процветать, но, несмотря на это, суконная торговля также процветала.
Благодаря кораблям Ост-Индской компании не только чай, но и кофе стал обычным напитком, по крайней мере среди более богатых классов. Со времен Карла и до первых Георгов лондонская кофейня была центром общественной жизни. Она способствовала ослаблению укоренившейся тогда привычки к спиртным напиткам, так как употребление алкоголя в ее помещении не допускалось. В далеко не полном списке кофеен, существовавших во времена Анны, насчитывалось около пятисот названий. Каждый почтенный лондонец имел свою излюбленную кофейню, где друзья или клиенты всегда могли найти его в определенный час.
В «Богатом лавочнике» Нэда Уорда (1706 год) день героя распределялся таким образом: в 5 часов он вставал, был в конторе до 8; затем завтракал поджаренным хлебом и чеширским сыром; проводил два часа в лавке, а затем шел в соседнюю кофейню за новостями; после этого возвращался и был дома (он жил над своей лавкой) до обеда, который состоял из «здоровенного куска филе»; в час отправлялся на торговую биржу; в 3 – в кофейню Ллойда по делам; снова возвращался на часок в лавку и затем шел в другую кофейню (уже не к Ллойду) для отдыха, который проводил с приятелями за бутылкой белого испанского вина; оттуда возвращался домой, съедал «легкий ужин» и ложился спать, «прежде чем колокол пробьет девять часов».
Высший свет собирался в кондитерской Уайта, на Сент-Джеймс-стрит, где, как горько жаловался Харли Свифту, молодых дворян обдирали и развращали светские игроки и распутники. Тори посещали кондитерскую «Кокосовое дерево», виги – кофейню на Сент-Джеймс-стрит. Кофейня Уилла, близ Ковент-гарде на, была излюбленным приютом поэтов, критиков и их патронов; кофейня Треби обслуживала духовенство, а «Греческая» – людей науки. Не было недостатка в кофейнях специально для диссидентов, для квакеров, для папистов и для якобитов. «Всеобщая свобода слова английской нации», звучащая среди облаков табачного дыма и направлявшаяся с одинаковым ожесточением как против правительства и церкви, так и против их врагов, долго была предметом удивления для иностранцев; она составляла квинтэссенцию жизни кофеен.
Кофейня тогда занимала место, предназначенное теперь клубу, но ее обычаи были проще и непринужденнее и туда легче допускались посторонние. В те дни, когда люди подчеркивали свое высокое общественное положение, кофейня способствовала сглаживанию социальных различий. В кофейне можно было увидеть обладателей синих лент и звезд, сидящих запросто рядом с простыми дворянами, как будто они оставили дома свою знатность и степени различия. Но и это было не все. В те времена, когда еще не было ни телеграмм, ни настоящей журналистики, всякие новости легче всего было узнать в кофейне. Кофейня «Виндзор» на Чаринг-кросс рекламировалась «как место, где имеется лучший шоколад по 12 пенсов за кварту и свежий номер «Гарлем курант», привезенный с последней почтой». В кофейне, особенно у Ллойда, искали не только общих, военных или политических новостей, но и новостей о торговых делах. Эдуард Ллойд, имя которого теперь постоянно на устах у людей, когда они говорят о тогдашнем торговом флоте, при своей жизни в царствование королевы Анны был всего-навсего содержателем кофейни на Ломбард-стрит. В его дом купцы приходили и за последними новостями, и для личной беседы, и за советом, необходимым для всяких сделок. В газетах тогда не печатался материал о торговле или торговых перевозках. Печатное слово наших дней заменялось тогда устным, и купцы получали эти устные сообщения у Ллойда. В конце царствования Анны Ллойд установил помост для аукционов и для чтения вслух торговых новостей.
Вражда «высокоцерковников» с приверженцами «низкой церкви» и диссидентами являлась главной темой политического и церковного гнева и красноречия. Однако, с другой стороны, время правления Вильгельма и Анны было периодом исключительной религиозной активности и возрождения, которое оставило несомненный отпечаток на жизни страны. Век, которому мы обязаны созданием благотворительных школ и Общества для распространения христианских знаний, был наполнен не только спорами «высокоцерковников». В этой полезной деятельности сторонники обеих партий иногда объединялись друг с другом и с диссидентами.
Религиозное возрождение началось в короткое и бурное царствование Якова II. Торийский памфлетист Девенант, живший в начале царствования Анны, вспоминая о том, как эти времена действовали на людские души, пишет:
«Меры, предпринимаемые королем Яковом II для изменения религии страны, возбуждали новое рвение в умах людей; они крепче держались за то, что они боялись потерять. Придворные готовы были скорее отказаться от своих должностей, чем причинить какой-нибудь ущерб англиканской церкви. Распущенность, имевшая место во флоте и армии, не поколебала наших моряков и солдат в их принципах. Они все держались стойко. Духовенство проявило готовность умереть вместе со своей паствой и обращалось со спорными местами богословия с грубоватой отвагой и замечательной ученостью. Церкви были везде переполнены, а перспектива гонения, хотя бы и весьма отдаленная, порождала благочестие». Симптомы этого морального и религиозного возрождения не исчезли полностью вместе с прекращением породившего их кризиса. Прежде всего был дан сильный толчок деятельности религиозных обществ, уже существующих внутри англиканской церкви. Эти «общества» представляли собой группы «серьезных молодых людей», которые собирались вместе, обычно под влиянием какого-нибудь деятельного священника, чтобы укрепить друг друга как в духовной, так и в практической жизни. Первоначальная идея Джона Уэсли много лет спустя состояла только в том, чтобы создать в церкви «общества», подобные тем, которые его отец как ревностный священник поддерживал и защищал во времена Вильгельма и Анны. Первоначальной целью таких групп было способствовать распространению христианского образа жизни среди отдельных лиц и семей, поощрять посещение церкви, семейные молитвы и изучение Библии. Но вскоре эта деятельность переросла в деятельность общественного характера. Отчасти она осуществлялась при соперничество с диссидентами, отчасти в сотрудничестве с ними.
Диссиденты, которые не допускались в университеты по закону, а вомногие школы – по закону или по обычаю, основали по всей стране большое число своих собственных прекрасных школ и академий, охватывающих все ступени образования, от низшего до высшего. Они вызывали большую зависть, и в конце царствования Анны «высокоцерковники», для того чтобы уничтожить эти школы, наконец добились проведения так называемого закона о схизме [закона о преследовании нонконформистов], отмененного приГеорге I. Англиканская церковь, правда, отвечала на вызов нонконформистских школ и более благородным образом. При Анне по всей Англии были основаны сотни «благотворительных» начальных школ для обучения детей бедноты чтению, письму, нравственному поведению и принципам англиканской церкви. Такие школы были очень нужны, так как государство ничего не предпринимало для просвещения бедноты, а обычный приход не имел какой-либо субсидируемой государством школы, хотя во многих деревнях местные «дамы» и другие неофициальные лица за небольшое вознаграждение учили сельскую детвору письму. Содержавшиеся государством классические школыдавали образование людям среднего класса.
Состоятельные люди, возглавлявшие движение за создание благотворительных школ, ввели принцип демократической кооперации в области субсидирования образования. Эти школы зависели не только от поддержки немногих богатых основателей. Политика инициаторов этого движения состояла в том, чтобы вызвать заинтересованность прихода в создании школы. Мелкие лавочники и ремесленники благодаря участию в подписке постепенно почувствовали личную заинтересованность в успехе той школы, содержать которую они ежегодно помогали, и стали принимать личное участие в контроле над такой школой. Принцип «акционерных предприятий» применялся в ту эпоху в различных областях жизни, между прочим, и в деле филантропии и образования. В конце царствования Анны свыше 5 тысячмальчиков и девочек посещало новые благотворительные школы в Лондоне иоколо 20 тысяч – в остальной Англии. Это движение было подхвачено в пресвитерианской Шотландии Генеральной церковной ассамблеей. В задачу таких школ входило снабжение учащихся детей приличной одеждой и обучение их полезным ремеслам. В 1708 году в одной из лондонских школ одежда «бедного мальчика» стоила девять шиллингов и два пенса, а «бедной девочки» – десять шиллингов и три пенса.
Другой характерной организацией этого периода было «Общество для исправления нравов». В нем англиканские священники и диссиденты объединялись для борьбы против распущенности века. Издавались тысячи памфлетов, направленных против пьянства, непристойного поведения и занятия какими-либо делами в воскресные дни. Мы не знаем, однако, какого успеха достигли «Добрые предостережения против ругани», распространяемые среди лондонских ломовых извозчиков, или подобные же «Добрые предостережения лодочникам», раздаваемые среди лодочников западной части Англии. Возможно, что бесчисленные судебные преследования давали больший эффект. Судей стыдили за применение устаревших законов. Их деятельность вызывала неистовую оппозицию. Некоторые «высокоцерковники» требовали, для того чтобы уничтожить порок, безнравственность, ересь и раскол, возврата к «древней дисциплине церкви» вместо учреждения этого новомодного «Общества для исправления нравов», в котором могли участвовать миряне и даже диссиденты и которое апеллировало не к церковному, а к светскому суду. Некоторые благоразумные епископы и судьи опасались, что поощрение доносов приведет к процветанию враждебности, подкупов и вымогательств. Многие судьи решительно отказывались выслушивать показания филантропов-доносчиков. Толпа в некоторых местностях была весьма опасной для таких «исправителей нравов», и однажды некий слишком ревностный член «общества» был убит на месте.
Тем не менее десятки тысяч судебных преследований все же имели место. Говорили, что только знатные персоны могли безнаказанно ругаться в общественных местах. Было, правда, довольно много сторонников подобных судебных процессов. Многие мирные граждане считали, что со времен реставрации Стюартов судьи и местные власти стали скандально нерадивыми в деле ограждения трезвых граждан от приставания со стороны пьяных, защиты женщин от оскорблений и сохранения хотя бы видимости приличия и порядка. К занятиям делами по воскресеньям большинство общества действительно относилось неодобрительно. Мэр Дила, мужественный и энергичный человек, единолично начал крестовый поход против нравов города, осуществил большую часть своей программы и в 1708 году был вновь избран мэром. Возможно, правда, что многие судебные преследования, особенно за сквернословие и за воскресные путешествия, часто вызывали досаду, и ко времени Георгов «Общество» стало приносить столько же вреда, сколько и пользы, вследствие чего оно и распалось. Но его деятельность в период правления Анны помогла сделать улицы и таверны менее неприятными для порядочных людей, помогла сократить масштабы пьянства и превратить воскресенья в действительный день отдыха от всяких дел и трудов.
Унылость английского воскресенья поразила в 1710 году немецкого путешественника:
«После полудня я отправился в Сент-Джеймсский парк посмотреть на народ. Никакие другие развлечения не допускаются в воскресенье, которое здесь соблюдается особенно строго. Не только запрещаются всякие игры и закрываются трактиры, но ограничиваются Даже поездки на лодках или в карете. Наша хозяйка не разрешила даже иностранцам играть на виоле или на флейте, опасаясь наказания».
Он прибавил, довольно сердито, что это соблюдение воскресенья было единственным видимым признаком того, что англичане вообще были христианами.
Наиболее важный и прочный след религиозного возрождения был оставлен «Обществом для распространения христианских знаний» и выросшим из него «Обществом для пропаганды Евангелия в чужих землях». Одни и те же люди были сторонниками обоих «обществ», и среди них прежде всего неутомимый доктор Томас Брей. Идея, характерная впоследствии для движения, уничтожившего работорговлю и рабство, воодушевляла и эти добровольные общества, состоящие из евангелистов, светских и духовных, сторонников «высокой» и «низкой» церкви, неприсягнувших и нонконформистов. В конце царствования Вильгельма и в первые годы правления Анны эти «общества» действовали уже весьма активно. Их главной целью было распространение Библии и другой религиозной литературы. Поэтому они были горячими защитниками благотворительных школ, в которых бедные могли научиться читать эту литературу; два движения шли бок о бок. Распространение этой литературы одобрялось Мальборо в армии и Бенбоу и Руком во флоте. Дешевые Библии и молитвенники посылались в сельские районы. В больших количествах начали отправлять Библию и другие книги в Америку, но в другие части мира их отправляли еще не так много по сравнению с гигантской деятельностью «общества» в более поздние времена – деятельностью, все более усиливавшейся по мере возрастания могущества и богатства Англии. Подобная деятельность «общества» означала инстинктивное стремление английского религиозного мира уйти, хотя бы отчасти, от сектантской и политической вражды, в которую он былвовлечен, в область более широких интересов, где усердие могло породить нечто лучшее, чем ненависть.
В царствование Анны, так же как задолго до него и спустя много времени после него, религиозные различия были движущей силой политических страстей. Следовательно, для английского историка совершенно невозможно игнорировать религиозные вопросы, если он хочет объяснить другие явления.
Но, несмотря на ожесточенность партийной борьбы, в настроениях образованных англичан преобладали та спокойная веротерпимость и оптимизм, которые характерны для британца XVIII века. Верно сказано:
«Англия эпохи Аддисона была счастливой не только потому, что имела в прошлом славную революцию 1688 года, но и потому, что имела некогда такого поэта, как Мильтон, такого физика, как Ньютон, и такого философа, как Локк.
Все наиболее дорогие стремления британца были осуществлены; конституция была утверждена и «свобода» обеспечена; появились поэты, равные Гомеру и Вергилию, если даже не превосходящие их; был открыт закон, указывающий путь звездам, был выявлен подлинный механизм деятельности человеческого разума. Все это было сделано не просто англичанами, но и христианами. Блестящие объяснения Ньютона и Локка не только устранили неверное представление о жизни таинственной вселенной, но и укрепили принципы религии».
В двух милях от здания парламента в Вестминстере и Сент-Джеймсского дворца королевы Анны находился центр величайшего города в мире, менее зависимого от юрисдикции двора и парламента, чем какая-либо другая часть английской земли. Лондоном управляли его собственные свободно избранные магистраты; полицейский надзор, насколько он вообще тогда существовал, осуществлялся его собственными констеблями; охранялся он своей собственной милицией, а его огромная и самая непокорная на всем острове толпа казалась грозной находившемуся по соседству правительству. Его население составляло тогда одну десятую часть современного, его территория составляла менее одной десятой части территории, занимаемой им теперь, но его значение в Англии было гораздо большим, чем теперь. Он превосходил своих ближайших английских соперников – Бристоль и Норидж – по количеству населения по крайней мере в пятнадцать раз. Его купцы и рынки контролировали большую часть всех деловых операций английских городов и деревень. Бристольцы особенно гордились тем, что лишь они сохранили торговую независимость от Лондона, привозя американские товары непосредственно в свой порт и перепродавая их на запад через своих собственных агентов. Торговлей остальных городов управляла столица. Норидж покупает в Лондоне саржу Эксетера, а Эксетер покупает там же шерстяную материю Нориджа. Все графства принимали участие в снабжении Лондона продовольствием, углем, сырьем. В обмен Лондон посылал в графства предметы роскоши и импортные товары. В лондонском порту сосредоточивалась практически вся Ост-Индская торговля, большая часть европейской, средиземноморской и африканской и значительная часть американской.
Лондон в царствование Георга I
Низшие слои населения столицы, докеры и не имеющие постоянной работы неквалифицированные рабочие большого рынка и порта, жили в страшной скученности, в совершенно антисанитарных условиях, без всякого полицейского и врачебного надзора и вне пределов досягаемости филантропии, просвещения и религии. Таково было во времена Дефо их положение и в самом Сити и вне его пределов. Смертность среди них была ужасающей и увеличивалась в связи с тем, что они научились пить спирт вместо эля. Привилегированное убежище разбойников в «Эльзасии» – районе, существование которого оскорбляло достоинство соседних юристов в Темпле, – было, правда, уничтожено за несколько лет до вступления Анны на престол, но распавшееся братство воров, разбойников с больших дорог и проституток быстро распространилось отсюда по всей метрополии. В этот период их тайный организатор, знаменитый Джонатан Уайлд, процветал, официально – как усердный член муниципалитета,а в действительности – как крупный скупщик краденых вещей.
Даже вполне порядочные рабочие из числа неквалифицированных не получали в Лондоне никакого образования: Джонатан Браун, выдающаяся личность среди лодочников, признался диссидентскому проповеднику Келами, что он и его товарищи «никогда толкомне слыхали о том, кто такойбыл Христос», хотя люди более высокого ранга легко могли толкнуть их на поджог молитвенного дома диссидентов илипапистской капеллы – в зависимости от политических требований момента. Именно для борьбы с таким положением вещей основывались, при помощи общественной подписки, благотворительные школы, и для этого же в 1711 году парламент решил построить в предместьях – на средства налогоплательщиков – пятьдесят новых церквей для нескольких тысяч лиц, не имевших возможности посещать англиканскую церковь. Диссиденты, которых в этом районе парламентский комитет насчитывал около 100 тысяч, уже построили свои собственные часовни.
Лондон был прежде всего городом контрастов. Порт и рынок, где происходил обмен английских и иностранных товаров, требовали не только большого количества чернорабочих, но и целой армии надсмотрщиков, клерков, лавочников и всевозможных посредников. Но Лондон был не только рынком. В Лондоне производились различные товары, перерабатывались полуфабрикаты, выделывались предметы роскоши, что требовало использования самых квалифицированных рабочих. Многие тысячи гугенотских мастеров по выделке шелка недавно обосновались в Спитлфилдсе, да и другие квалифицированные ремесла, существовавшие раньше только во Франции, теперь развивались в Лонгейкре и Сохо теми же беженцами, которые скоро превращались в англичан и уже поддерживали вигов, для того чтобы обеспечить и упрочить ту веротерпимость, которой они пользовались как кальвинисты. Лучшие английские ремесленники также концентрировались в Лондоне. В лучших мастерских Сити учениками были младшие сыновья сельских джентльменов, которые в свободное от работы время носили длинные парики и, вероятно, к концу жизни становились богаче своих старших братьев. Лондон являлся также центром литературной и прочей духовной жизни, моды, закона и управления. Поэтому в Лондоне наряду с самым грубым невежеством процветали мастерство и интеллект. Умы лондонцев развивались не только благодаря развитию национальной и мировой торговли, но и благодаря ежедневному соприкосновению с юристами и политиками Вестминстера и со знатью и светскими людьми Сент-Джеймсского дворца. В течение всего лондонского сезона [май-июнь] знатные люди Лондона жили в собственных особняках или пансионах к западу от Темпл Бар и в такой же мере являлись лондонцами, в какой являются английскими те ласточки, которые ежегодно возвращаются в Англию.
Город, в котором сосредоточивалось более одной десятой части всего населения Англии и добрая половина всех образованных людей страны, который был расположен настолько близко к Вестминстеру (где находилось правительство), что образовал с ним единую столицу, – такой город не мог не оказывать решающего влияния на весь ход английской истории в те времена, когда трудности передвижения еще изолировали двор и парламент от других городов и графств страны. Правда, Лондон никогда не стремился управлять Англией так, как Рим правил Италией или как Афины стремились управлять Грецией. Лондон принимал правительство Англии, в форме монархии или парламента, до тех пор, пока правители оставались в Вестминстере и не затрагивали старинных муниципальных привилегий и пока они вели религиозные и иностранные дела в согласии с принципами, популярными в Лондоне. Политическая структура, созданная теми королями и королевами, которые пользовались благосклонностью Лондона – Генрихом VIII, Елизаветой, Вильгельмом III и Анной, – пережила их самих, а порядок, установленный теми, кто ссорился с Лондоном – Марией Тюдор, обоими Карлами, обоими Яковами и протектором (хотя Оливер Кромвель и Карл II своим приходом к власти были обязаны главным образом поддержке Лондона), – был недолговечным.
Лондонский Тауэр, который должен был держать горожан в благоговейном страхе, был построен Вильгельмом Завоевателем около Сити, в стороне от Вестминстера. Отчасти поэтому он недолго держал их в страхе. При Стюартах он уже не мог из-за своего изолированного положения служить Вестминстеру и Уайт холлу защитой от оскорблений со стороны лондонской толпы. При Анне Тауэр использовался в качестве главного арсенала, из которого грузились на корабли пушки и порох для заморских войн. Кроме того, в нем находился Монетный двор, в котором чеканились деньги королевства. Во главе Монетного двора стоялНьютон. Наружные стены Тауэра окружала сеть улиц, населенных чиновниками этих двух учреждений. При случае Тауэр служил еще и государственной тюрьмой. Однако он имел и более отрадное назначение, так как был зоологическим садом и музеем столицы. Посетителям показывали коронные драгоценности и недавно законченную оружейную палату, в которой были выстроены в боевом порядке фигуры ряда английских королей. Львы и другие дикие животные содержались здесь еще с тех пор, когда Тауэр был любимой резиденцией средневековых королей; их коллекция пополнялась за счет подарков, сделанных королеве Анне монархами североафриканской «Берберии», с которыми английские купцы вели торговлю, а английские военные – завоеватели Гибралтара – заключили союзные договоры против Франции и Испании.
Между Тауэром и Темпл Баром простиралось собственно Сити. В ширину оно шло к северу от реки только до заставы Смитфилда, Холборна и Уайт-Чепла. Однако наступление кирпича и извести разрушило муниципальные границы, главным образом в западном направлении, в сторону местопребывания национального правительства в Вестминстере. Юрисдикция Сити начиналась от Стрэнда. Но муниципальные привилегии Вестминстера не являлись соперниками привилегий Лондона. Ни Лондон, ни королевский двор, ни парламент не хотели иметь дело с лорд-мэром Вестминстера. Таким образом, Вестминстеру никогда не позволялось пользоваться правом самоуправления или приобрести корпоративный характер. Он управлялся двенадцатью горожанами, назначенными пожизненно лордом-сенешалем, и даже их власть была скоро заменена властью мировых судей и представителей различных приходов. Верно, что избирательное право было в Вестминстере демократическим и в то время, когда большая часть городов имела весьма ограниченный круг избирателей. Но само местное управление Вестминстера было простой бюрократией, если только оно вообще представляло собой что-либо лучшее, чем анархию соперничающих юрисдикций.
С другой стороны, лондонское Сити пользовалось правом полного самоуправления, проявлявшегося в необычайно демократической форме. В то время лишь очень немногие английские города – таким исключением являлись, пожалуй, лишь Ипсвич и Норидж – были столь же свободны от элементов олигархии. В Лондоне около 12 тысяч домовладельцев, уплачивающих налоги, участвовало в своих кварталах в выборах 26 олдерменов и 200 муниципальных советников. Эти налогоплательщики городских кварталов были почти идентичны привилегированным членам 89 гильдий и компаний; тем удобнее они могли контролировать старинный и сложный механизм лондонского самоуправления.
Лавочники выбирали в муниципальный совет главным образом людей своего класса, а не крупных торговых тузов, известных в финансовом и политическом мире. Магнаты Сити чаще избирались на должности олдерменов. Серьезные столкновения между крупными биржевыми дельцами и мелкими лавочниками предотвращались благодаря общему для тех и других чувству гордости привилегиями и могуществом Лондона и ревнивой заботе о его независимости. Иногда, правда, бывали трения, и в период правления Анны у демократического муниципального совета стала обнаруживаться склонность к торизму, а у мэра, олдерменов и богатых магнатов Сити – к вигизму.
Юрисдикция выборных муниципальных советников Лондона не ограничивалась территорией их собственного Сити. Их власть не распространялась на Вестминстер, носуществовала во всех окружавших его районах. Они занимали должности шерифа в Мидлсексе и бейлифов в Саутуорке. Они управляли лондонским портом и облагали его налогом. Лорд-мэр был членом управления охраны реки на протяжении свыше шестидесяти миль – от Грейвсенда и Тилбери до Стейнс-бриджа. Лондон взимал пошлины на уголь на территории радиусом в двенадцать миль и установил свою торговую монополию в радиусе семи миль.
Собственно Сити было наиболее густонаселенной территорией Англии. Тогда его не покидали в сумерках на «кошек и сторожей»; крупные купцы и мелкие лавочники вместе со своими семьями ночевали в помещениях, расположенных над их конторами или лавками. Слуги и ученики спали на чердаках, а носильщики и посыльные – где-нибудь в подвалах или на складах.
В еврейском квартале и особенно на Бейзингхолл-стрит были расположены дома некоторых из богатейших людей Англии. Но вельможи уже покидали свои родовые дворцы, находившиеся в многолюдном Сити и на Стрэнде, где быстро исчезали сады. В течение лондонского сезона знать жила около Ковент-гардена, Пикадилли, Блумсбери, Сент-Джеймс-сквера или в некоторых районах Вестминстера. Сельские джентльмены, различные чиновники, члены парламента и лица свободных профессий имели меньшие дома, расположенные вокруг особняков знати в тех же самых районах. Таково происхождение многих знаменитых лондонских «скверов» (кварталов).
Богатые купцы еще продолжали жить в своем излюбленном Сити, как из деловых соображений, так и из чувства привязанности. Кроме того, они имели и загородные дома, и виллы среди лесов, полей и приятных деревушек в пределах 20 миль от Лондона. В этих загородных жилищах, расположенных по берегам рек – в Хэмстеде, Уэст-Хэме, Уолтемстоу и ниже Ипсом Даунс, а особенно вдоль зеленых берегов Темзы вверх от Челси, – богатыми лондонцами было, возможно, выпито и съедено столько же, сколько и в самом Сити. Более бедный люд совершал в праздничный день загородные прогулки по излюбленным местам, подобным Долвичу.
Река была наиболее людной проезжей дорогой Лондона. Лодки с пассажирами с трудом пробирались среди крупных торговых судов под аккомпанемент потоков обычной брани и болтовни, которыми обменивались лодочники и матросы. На северном берегу, между Лондонским мостом и Парламентской лестницей, было по крайней мере тридцать пристаней, у ступеней которых лодки ожидали пассажиров, чтобы переправить их через реку. Сановники и священники, переезжавшие в Ламбет, или подмастерья и начинающие адвокаты, отправлявшиеся по более легкомысленным делам в Кьюпидс-гарден, переправлялись туда на лодках. Для перевозки карет и лошадей существовали паромы. До постройки в 1738 году Вестминстерского моста Лондонский мост являлся единственной дорогой через реку. Проходившая через этот мост улица была после опустошений, причиненных Великим пожаром, отстроена в более современном стиле, но выступавшие над водой старые быки моста все еще препятствовали движению по реке и подвергали опасности торговый флот. «Проскочить под мостом» все еще было смелым предприятием. Говорили, что Лондонский мост был построен для того, чтобы умные люди передвигались по нему, а глупцы – под ним.
Крупные торговые суда не могли поэтому подниматься по реке выше моста, но ниже моста река была покрыта целым лесом мачт. Подобную картину можно было наблюдать еще разве только в Амстердаме. Фарватер был особенно людным, так как больших доков, за исключением доков в Детфорде, тогда еще не было, а единственный док в Блэкуолле предназначался только для судов Ост-Индской компании.
Среди лугов на берегу Темзы стоял в величавом одиночество госпиталь Челси, в котором четыре сотни солдат, пенсионеров, участников сражений при Седжмуре, Лэндене и Бойне, жили, обсуждая еженедельные известия об операциях Мальборо с профессиональной серьезностью. Невдалеке находилась деревня Челси, в которой несколько светских людей вздумали устроить себе приют, настолько же удаленный от шума Лондона и Вестминстера, как и сам Кенсингтонский дворец.
С тех пор как уголь стал топливом почти для каждого лондонского очага, воздух в Лондонестал настолько грязным, что один иностранный ученый жаловался: «Всегда, когда я изучаю лондонские книги, мои манжеты делаются черными, как уголь». В те дни, когда северо-восточный ветер нес облака дыма, даже район Челси становился опасным для астматиков, как имел все основания жаловаться болезненный философ граф Шефтсбери. Не удивительно поэтому, что король Вильгельм, обладавший слабыми легкими, жил, когда это было возможно, в Хэмптон-Корт и лишь по необходимости – в Кенсингтоне. Анна после вступления на престол могла бы без всякого ущерба для своего здоровья перенести королевскую резиденцию из деревни в город, из Кенсингтона в Сент-Джеймсский дворец. Но это было бы единственным удовлетворением, которое она дала бы своим подданным; она не только бывала часто в Бате, а еще чаще в Виндзоре, но даже в то время, когда приезжала в город, двери Сент-Джеймсского дворца открывались только для ее министров и фавориток и для тех, кого министры или фаворитки приводили к ней с парадного или черного хода. На протяжении всего своего царствования она никогда не чувствовала себя вполне здоровой. Как Вильгельма мучила астма, так подагра или водянка мучили Анну. Трястись в карете, направляясь в Вестминстер, чтобы открыть парламент, или в собор Св. Павла, чтобы принести публично благодарность за какую-нибудь славную победу, было для нее подлинным наказанием, которое она соглашалась терпеть лишь изредка.
Поэтому королева Анна заботилась о поддержании дворца так же мало, как и Вильгельм. Как метафорически, так и буквально Уайтхолл «веселого монарха» [Карла II] лежал в развалинах и никогда больше не был восстановлен. За исключением трагически известной Банкетной палаты (Банкетинг-хауз), весь дворец сгорел в 1698 году, и его стены, лишенные крыши, еще загромождали берег реки. Светская публика, дефилируя в портшезах и шести конных каретах по Мэлл или прогуливаясь в более уединенном саду, расположенном прямо под окнами Сент-Джеймсского дворца, должна была довольствоваться лишь мыслью о том, что находится вблизи от невидимой королевы. Это было тем более важно, что в нескольких минутах ходьбы в другом направлении помещались обе палаты парламента.
«Двор» был микрокосмом и пульсирующим сердцем Англии еще со времен Альфреда, при норманнах и Плантагенетах, во времена Генриха и Елизаветы и вплоть до дней Карла II; двор последнего являлся не только ареной развлечений, вольностей и скандалов, но и тем центром, в котором оказывалось покровительство политике, моде, литературе, искусству, науке, изобретательству, предприимчивости и сотне других видов деятельности энергичных подданных короля, искавших известности или вознаграждения. Однако после революции слава двора потускнела. Ни политическое положение короны, ни личный темперамент тех, кто ее носил, уже не были прежними. Суровый Вильгельм III, болезненная Анна, Георги-немцы, Георг-«фермер» и склонная к домашней жизни Виктория – никто не желал содержать двор с той же пышностью, какой он отличался во времена королевы Елизаветы. Отныне двор был резиденцией уединившегося монарха-короля, показывающегося только издали, труднодоступного, за исключением случаев каких-либо официальных церемоний, известных своей скукой. Покровительства теперь искали в других местах: в кулуарах парламента, в приемных министров, в загородных домах любезнейшей аристократии мира, наконец, в обращении к образованной публике. Этот упадок двора привел ко многим прямым и косвенным последствиям в жизни Англии. Он не имел аналогии в современной Франции, где Версаль еще притягивал людей, подобно магниту, обедняя жизнь провинции и замка.
Глава XI Англия времен Сэмюэля Джонсона (около 1740-1780 годов)
Первые 40 лет XVIII века, время царствования Анны и правления Уолпола, составляют переходный период, в течение которого вражда и борьба за идеалы эпохи Стюартов, бушевавшие еще недавно и опустошавшие страну, подобно потоку расплавленной лавы, теперь начали разливаться по каналам и застывать в прочно установленных ганноверских формах. Век Мальборо и Болингброка, Свифта и Дефо был точкой соприкосновения двух эпох. Только в последующие годы (1740-1780) мы встречаемся с поколением людей, типичных для XVIII века, – обществом со своей собственной системой взглядов, уравновешенным, способным судить о самом себе, освободившимся от волнующих страстей прошлого, но еще не обеспокоенным тем будущим, которое скоро должно было стать настоящим в результате промышленного переворота и французской революции. Боги милосердно даровали человечеству этот небольшой промежуток мира между религиозным фанатизмом и фанатизмом классовым и расовым, который скоро должен был появиться и стать господствующим. В Англии это был век аристократии и свободы; век правления закона и отсутствия реформ; век индивидуальной инициативы и упадка учреждений; век широкой веротерпимости в высших слоях и усиления влияния методистской церкви в низших; век роста гуманных и филантропических чувств и усилий; век творческой силы во всех профессиях и искусствах, которые обслуживают и украшают жизнь человека.
Это был «классический» век, в котором заурядные философы, подобные Сэмюэлю Джонсону, имели много досуга, чтобы заниматься морализированием на сцене человеческой жизни, в счастливой уверенности, что положение общества и образ мыслей, к которым они привыкли, представляют собой не меняющиеся панорамы вращаемого калейдоскопа, а постоянные установления, конечный результат разума и опыта. Такой век не стремится к прогрессу, хотя на деле он может быть прогрессирующим; он смотрит на себя не как на отправляющегося в путь, а как на прибывшего; он благодарен за то, что имеет, и наслаждается жизнью без «глубоких размышлений, которые приводят к бесконечным огорчениям». И поэтому люди «классического» века, оглядываясь назад, чувствовали родство с далеким античным миром. Высший класс рассматривал греков и римлян как почетных англичан, своих предшественников в области свободы и культуры, а римский сенат – как прототип британского парламента. Средневековый период с его «готическими» стремлениями и варварством перестал на некоторое время пользоваться симпатиями и даже не изучался.
Казалось, что Англия является лучшей страной, какая только возможна в несовершенном мире, и что поэтому ее надо оставить в покое в том положении, в какое ее так счастливо поставили провидение и революция 1688 года. Их оптимизм в отношении Англии основывался на пессимизме в отношении всего рода человеческого, а не на вере в постоянный и повсеместный «прогресс», который так приветствовали простые сердца в XIX веке.
Правда, наименее довольны были те люди, которые наиболее внимательно присматривались к реальности английской жизни, – они действительно вскрывали отдельные пороки так же беспощадно, как сам Диккенс. Но даже их критика держалась в пределах классической и консервативной философии времени. Самодовольство этого века не было совсем неосновательным, хотя оно и причиняло вред, так как поддерживало атмосферу враждебности какому-либо стремлению к реформе.
В течение XVIII века, за период, протекший со времени вступления на престол Анны до 1801 года, население Англии и Уэльса увеличилось с 5 с половиной до 9 миллионов. Этот беспрецедентный рост, вестник больших перемен в жизни нашего острова, не был вызван иммиграцией; приток дешевого ирландского труда, который теперь стал важной чертой нашей социальной и экономической жизни, в количественном отношении уравновешивался тогда английской эмиграцией за море. Рост населения указывал на значительно большую рождаемость и сильно уменьшившуюся смертность. Выживание значительно большего числа детей и увеличение средней продолжительности жизни взрослого населения отличает современность от прошлого, и эта великая перемена началась в XVIII веке. Она связана главным образом с улучшением медицинского обслуживания.
В первые десятилетия века смертность резко поднялась и превысила рождаемость, Но эта опасная тенденция прекратилась между 1730 и 1760 годами, а после 1780 года смертность очень резко понизилась.
Увеличение смертности и ее последующее падение связаны отчасти с усилением и последующим ослаблением привычки пить вместо пива дешевый джин. Ужасные следствия этой перемены в привычках бедноты обессмертил Хогарт в знаменитом изображении ужасов «Переулка джина», противопоставленных процветающей «Пивной улице». В третье десятилетие века государственные люди и законодатели сознательно поощряли потребление джина, допуская широкое распространение перегонки спирта и устанавливая на спирт слишком низкий налог. Перегонка, говорил Дефо, повышала спрос на зерно и была, следовательно, выгодна земельным собственникам, как полагал парламент лендлордов. Но так как просвещенная филантропия постоянно напоминала депутатам об ужасных социальных последствиях широкого потребления джина, то для смягчения зла был сделан ряд нерешительных шагов. Однако зло не было по-настоящему искоренено до 1751 года, когда спирт наконец был обложен высоким налогом и прекратилась его розничная продажа перегонщиками и лавочниками.
«Закон 1751 года, – говорит автор книги о Лондоне XVIII столетия, – действительно уменьшил невоздержанность в потреблении спирта. Он был поворотным пунктом социальной истории Лондона, и таковым его считали его современники». Даже после этой благословенной даты медики еще приписывали одну восьмую часть всех смертей среди лондонского взрослого населения неумеренному потреблению спирта; но худшее уже миновало, и с середины столетия чай становится грозным соперником алкоголя у всех классов – и в столице, и по всей стране.
В период наибольшего потребления джина, между 1740 и 1742 годами, похорон в районе Лондона было вдвое больше, чем крещений! Столица пополняла свое население благодаря неиссякаемому потоку иммигрантов из более здоровых и более трезвых сельских местностей. Изменение к лучшему со второй половины столетия было очень значительным. В 1750 году смертность в Лондоне составляла 1:20; к 1821 году она упала до 1:40. Население Лондона между 1700 и 1820 годами удвоилось (с 674 тысяч до 1274 тысяч), но ежегодное число зарегистрированных похорон было неизменным. Другими словами, хотя мишень, которую Лондон выставлял длястрел смерти, была в 1820 году вдвое больше, чем столетием раньше, число их попаданий не возросло.
В период своей дешевизны (1720-1750) джин способствовал значительному уменьшению населения столицы. В стране в целом разрушения, им причиненные, были ужасны, хотя в деревне еще крепко держался эль. Правда, историки-социологи иногда преувеличивали влияние потребления джина на статистику смертности населения вне территории Лондона. Например, джин не повинен в быстром росте смертности между 1700 и 1720 годами, так как в эти годы значительное потребление дешевого спирта только еще начиналось. А как раз в те годы, когда потребление джина было наибольшим (1730-1750), смертность во всей Англии, в отличие от территории Лондона, быстро падала.
Мы должны, следовательно, искать другие причины, кроме уменьшения потребления спирта, чтобы объяснить то замечательное падение смертности, которое отличает середину столетия и особенно его последние 50 лет. Основными причинами того, что смерть стала похищать гораздо меньшее число младенцев, детей и взрослых, было улучшение условий жизни и медицинского обслуживания. Значительный успех земледелия в XVIII веке дал многим, хотя и не всем, более обильную пищу. Успехи транспорта и изменения в методах промышленного производства создали возможность обеспечить работой большее число людей, способствовали установлению более высокой оплаты и дали возможность покупать в большем количестве и более разнообразные товары. Верно, что переворот в промышленности и сельском хозяйстве оказал некоторое весьма неблагоприятное влияние на общество и на образ жизни в деревне и в городе. Он не всегда приводил к довольству и счастью, но, конечно, благодаря ему теперь производилось больше пищи, одежды и других предметов на душу населения, хотя их распределение и было позорно неравным. И это большее изобилие, удлинявшее человеческую жизнь, было одной из причин непрерывного роста численности населения.
Но еще в большей степени уменьшение смертности было вызвано успехом медицины. Все XVIII столетие медицина двигалась вперед от мрачных веков мнимой учености и традиционных суеверий к свету знаний. Росли не только знания врачей, хирургов, аптекарей и практиков, не имеющих врачебного диплома, но и их преданность своему делу, особенно в отношении к бедноте, которая до сих пор находилась в ужасном пренебрежении. Наука и филантропия были лучшей стороной духа «века просвещения», и этот дух вдохновлял отдельных лиц на улучшение медицинского образования и медицинской практики.
В начале столетия оспа была наиболее ужасным бедствием, гибельным не только для красоты, но в еще большей степени для жизни. Путешественница Мэри Уортли Монтегю привезла из Турции понятие о предохранительной прививке, и в Лондоне был основан госпиталь для оспопрививания. Хотя многие считали, что это средство противоестественное и даже нечестивое, оно имело некоторый успех и уменьшило смертность, вызываемую оспой. Но оспа еще уносила 1/13 часть каждого поколения до тех пор, пока Дженнер не изобрел в конце века вакцину.
Шотландия начала оказывать значительное культурное влияние на жизнь пограничного с ней района Англии. Объединение умов последовало за объединением парламентов и торговли. Джон Прингль, братья Хантер и Уильям Смелли пришли из Шотландии в Лондон; братья Хантер своим учением превратили британскую хирургию из ремесла «брадобрея-костоправа» в науку специалистов. Смелли подобным же образом революционизировал практику акушерства; в то же время Прингль реформировал военную гигиену на научных принципах, которые оказали также большое влияние на привычки и на методы лечения гражданского населения.
Значительному усовершенствованию профессионального мастерства способствовало основание госпиталей, в которых век Филантропии дал трезвое выражение своим чувствам, так же как век Веры вложил свою душу в камни монастырей и кафедральных соборов. В главных городах были открыты родильные дома. В графствах были основаны госпитали для лечения всякого рода болезней. В столице между 1720 и 1745 годами были построены госпитали – Гюи, Вестминстерский, св. Георгия, Лондонский и Мидлсексский; средневековый госпиталь св. Фомы был вновь отстроен в царствование Анны, а в госпитале св. Варфоломея быстро улучшались обучение медицине и врачебная практика. В течение 125 лет после 1700 года в Британии было учреждено не менее 154 новых госпиталей и аптек. Они не были муниципальными учреждениями – они были плодом инициативы, объединенных добровольных усилий и пожертвований частных лиц.
В то же время возраставшая благотворительность вступила в борьбу с угрожающей детской смертностью среди бедноты и, особенно, среди брошенных незаконнорожденных детей. Джонас Хэнви, много сделавший для уменьшения детской смертности, заявил, что «немногие из приходских детей доживали до такого возраста, когда их можно было начать обучать ремеслу». Тысячи детей не доживали и до того, чтобы попасть на иждивение прихода, а умирали, брошенные в каких-нибудь пустых зданиях или оставленные на улицах матерями, которым они причиняли бы только стыд и расходы. Капитан Корэм с его добрым сердцем моряка не мог видеть малюток, покинутых на дороге, в то время как почтенные горожане проходили мимо, фарисейски пожимая плечами. В течение ряда лет Корэм агитировал за проект «Приюта для найденышей»; наконец он добился хартии от Георга II; композитор Гендель подарил приюту орган, Хогарт написал картину, провели подписку, и в 1745 году приют был выстроен, оборудован и открыт. Жизнь многих детей была спасена, многие брошенные дети были вскормлены и обучены ремеслу.
Через несколько лет, когда добрый капитан умер, в истории основанного им учреждения наступил тяжелый момент. В 1756 году парламент сделал вклад в его капитал на условии, что в приют будут приниматься все приносимые туда дети. Вскоре там оказалось пятнадцать тысяч детей, и не удивительно, что только 4400 из них дожили до юношеского возраста. После этого гибельного эксперимента «Приют для найденышей» снова стал частным учреждением, с ограниченным приемом и уменьшившейся смертностью. Он долго продолжал свою полезную деятельность, до тех пор, пока в более счастливых социальных условиях начала XX столетия не был переведен из города в другую местность, а «участок найденышей» был сохранен как место для игры детей и переименован в «поля Корэма».
В начале царствования Георга III настойчивые усилия Хэнви увенчались парламентским законом, который обязывал лондонские приходы держать «приходских детей» не в работных домах, где они вскоре умирали, а в деревенских хижинах, где они жили и выходили в люди [49].
Из тех же побуждений генерал Оглеторп привлек внимание к позорному положению долговых тюрем. В 1729 году он убедил парламент осведомиться об ужасах тюрем Флит и Маршалси, где тюремщики мучили должников до смерти, пытаясь извлечь деньги у людей, которые потому и попали сюда, что у них не было денег. Английские тюрьмы оставались до конца столетия национальным позором, так как они по-прежнему сдавались местными властями на откуп подобным негодяям, поскольку власти хотели избавиться от беспокойства и расходов, связанных с содержанием специально оплачиваемых чиновников. Но Оглеторп по крайней мере привлек внимание к положению вещей и смягчил некоторые из наихудших злоупотреблений. Предшествующие поколения редко стремились узнать, что происходит в стенах этих обителей горя и страдания.
Доблестный генерал стал также основателем и первым губернатором новой колонии Джорджии, в которую он переселил многих должников и просто обедневших людей.
С начала и до конца столетия приверженцы нового пуританизма, такие пылко религиозные люди, как Роберт Нельсон, леди Элизабет Гастингс, Уэсли, Каупер, и, наконец, Уилберфорс, старались применять милосердие Нового Завета вместо более грубых наставлений Ветхого, с которыми шли в битву войска Кромвеля. Большая чуткость к нуждам и страданиям других людей, особенно бедноты, не только отражалась в литературе, но была заметна в жизни филантропов и во всей последующей деятельности века: в создании первых благотворительных школ, затем – больниц, а в последние годы столетия – воскресных школ. Она игнорировала расовые границы, смягчала суровое благоразумие государственных людей. «Бурное сострадание» вдохновляло красноречие и внушило некоторые из заблуждений в вопросе об Индии и Франции и, наконец, побудило совесть англичан к великому восстанию против работорговли.
Однако, в то время как новый дух гуманности воодушевлял частную инициативу, он оказывал еще слабое влияние на исполнительную, муниципальную и законодательную деятельность. Частные наниматели лучше обращались со своими слугами, чем правительство со своими солдатами и моряками. Флот пополнялся путем случайной и принудительной вербовки, так как количество добровольцев было недостаточным из-за пресловутых жутких условий жизни на кораблях военного флота. Жизнь рыбака и матроса на торговом судне была достаточно сурова, но лучше жизни на военном корабле, где пища была отвратительной и скудной, плата недостаточной и нерегулярной, никто не заботился о здоровье людей, а дисциплина была железной. Добрый адмирал Вернон, пострадавший при Георге II за то, что был искренним другом матросов, заявил, что «наш флот комплектуется при помощи насилия и удерживается в повиновении при помощи жестокости».
Не лучше было и положение рядового солдата в армии. Внутри страны не было казарм, и солдаты расквартировывались в кабаках, где и жили за счет населения, которое ненавидело «красные мундиры» и относилось к ним в соответствии с этими своими чувствами. Солдаты были наиболее непопулярны потому, что они представляли собой единственную государственную силу, боровшуюся с беспорядками и контрабандой. Что касается дисциплины, то во времена Георга II один солдат получил 30 тысяч плетей за 16 лет службы. И если таков был жребий солдат дома, то гарнизонная служба в Вест-Индии была равносильна смертному приговору. Так вознаграждались те люди, которые на суше и на море завоевывали Англии ее колонии, защищали ее торговлю и обеспечивали ее богатство и счастье внутри страны.
В течение всего столетия парламент продолжал добавлять статут за статутом к «кровавому кодексу» английских законов, постоянно дополняя длинный список преступлений, караемых смертью; наконец их число достигло 200.
Уголовным преступлением являлась не только кража лошади или овцы и чеканка фальшивых монет, но и кража в лавке предмета стоимостью в 5 шиллингов и кража чего-нибудь у отдельного лица, даже хотя бы только носового платка. Нелогичный хаос законов был, однако, таков, что покушение на убийство наказывалось очень легко, хотя разбивший нос человеку карался как уголовный преступник. Следствием возрастающей строгости законов в этом постепенно становившемся более гуманным веке было то, что присяжные часто отказывались признавать людей виновными в небольших преступлениях, которые привели бы их на эшафот. Более того, для уголовных преступников было легко с помощью мудрых законодателей ускользнуть на основе чисто формальных юридических ухищрений из сетей старинной и хорошо разработанной процедуры. Из шести воров, приведенных в суд, пять могли тем или иным путем спастись, тогда как одного несчастного вешали. Но, пожалуй, всех шестерых можно было удержать от преступления, если бы все они были твердо убеждены, что им неизбежно придется отбывать за него определенный срокзаключения .
В довершение несчастья случаи арестов были редки, так как на острове не было настоящей полиции, за исключением «полицейских» из той конторы, которую братья Филдинг основали в середине столетия в своем доме на Боу-стрит.
Кроме солдат, не было другой силы, способной рассеять беспорядочную толпу. Отсюда позорный случай мятеж Гордона (1780), когда уличными толпами в Лондоне был сожжено 70 домов и 4 тюрьмы. Действительно является чудом, что наши предки вообще могли охранять общественный порядок и частную собственность. Они должны были быть по крайней мере столь же моральным и законопослушным народом, как наше собственное поколение. Каков был бы эффект от уничтожения полиции в наших современных больших городах?
Однако возможно, что до тех пор, пока на континенте не был принят кодекс Наполеона, английское правосудие, каким бы плохим оно ни было, являлось лучшим в мире. Оно имело по крайней мере два преимущества перед европейскими кодексами «старого режима». Во-первых, оно давало заключенным по политическому делу действительную возможность защищаться против правительства – улучшение, явившееся результатом закона 1695 года об измене и общей тенденции политической и судебной практики со времени революции. Во-вторых, ни в каких судебных делах, ни в политических, ни в каких-либо других, не разрешалось применять пытку, чтобы исторгнуть показания или признание. Но нельзя сказать, что английское правительство избегало пытки как средства наказания, так как хотя колесование и не было известно на нашем острове, но порка, особенно в армии и во флоте, часто превращалась в пытку.
Англичане все еще любили присутствовать при наказании тех, чьи действия они не одобряли. Два отрывка могут быть процитированы из «Дневников» священника Вудфорда, человека мягкосердечного, необычайно доброго к людям и животным:
«1777 год. 22 июля, Роберт Бигген, привязанный к тележке, подвергся сегодня днем бичеванию палача на улицах Кэри (Сомерсет) за кражу картофеля. Его бичевали на всем пути от Джордж Инн до Энгел, оттуда вели обратно вдоль улицы к королевскому дубу в Южном Кэри и назад к Джордж Инн. Так как он был рецидивистом, то здесь собрали 17 шиллингов 6 пенсов для палача, чтобы он воздал ему должное. Но это нельзя считать дорогой оплатой – палач был старик и весьма гнусный малый. Со своей стороны я не внес на это ни единого фартинга.
1781 год. 7 апреля. Позволил моему слуге Вилли пойти сегодня утром в Норидж, за 10 миль, посмотреть на трех разбойников, повешенных там сегодня. Вилли вернулся около 7 часов вечера. Они были все трое повешены и казались раскаявшимися».
Независимо от того, что английское правосудие в целом было менее скверным, чем континентальная практика тех времен, философы Европы и Англии уже тогда начали свои знаменитые атаки на существующую систему закона и наказания. Эта большая чувствительность к порокам, которые все предыдущие века принимали как естественное дело, была частью общего движения гуманности, связанного на континенте с Вольтером и «философами», а в Англии – с «философией» и с религией. За нападками на уголовный кодекс Европы итальянского реформатора Беккариа последовал показ Говардом скандального положения тюрем в Англии и за границей и анализ Бентамом бесполезных и запутанных нелепостей английского закона, «законных интересов», дорогих сердцу людей наиболее консервативной из профессий.
Превосходная идея правления закона как чего-то высшего по отношению к воле правителей была сильна среди англичан XVIII столетия. Она была упрочена событиями революции и последующей несменяемостью судей, которые больше не были простыми исполнителями воли правительства, став независимыми посредниками между короной и подданными.
Это высокое понятие о верховенстве закона было популяризировано «Комментариями к законам Англии» (1765) Блэкстона, книгой, широко распространенной среди образованных людей Англии и Америки в этот век юриспруденции. Ошибкой было то, что закон, идеализированный таким образом, рассматривался преимущественно статически, как вещь, данная раз навсегда, тогда как, если закон действительно должен быть постоянным правилом жизни нации, он должен быть способным изменяться вместе с изменением обстановки и потребностей общества. В XVIII веке парламент проявлял незначительную законодательную активность, исключая издание частных актов об огораживании земли, о дорожных заставах или других экономических вопросах. В административных вопросах законодательство развивалось медленно, в то время как значительное промышленное развитие каждый год меняло социальные условия и увеличивало потребности растущего населения.
Поэтому Иеремия Бентам, отец реформы английского закона, рассматривал Блэкстона как заклятого врага, который стоял на пути перемен, приучая людей делать фетиш из законов Англии в той именно форме, в которой они когда-то появились, – в форме, продиктованной не потребностями настоящего века, а потребностями веков, давно прошедших.
Первый удар по Блэкстону был нанесен в «Фрагментах о правлении» молодого Бентама в 1776 году, в том плодотворном году, который увидел опубликованными «Богатство народов» Адама Смита, первую часть «Истории» Гиббона и американскую Декларацию независимости. Когда восьмидесятичетырехлетний Бентам умер в 1832 году, законы Англии только что начали отличаться от тех, какими они были тогда, когда он впервые осудил их в дни Блэкстона. Однако его продолжительные усилия не были напрасны, так как он привил свои взгляды подрастающему поколению. С этого времени наши законы быстро изменялись в согласии со здравым смыслом и принципами утилитаризма, сформулированными Бентамом.
Реформа должна была стать особым вкладом XIX века. Особым вкладом более раннего ганноверского периода было установление правления закона; а этот закон, со всеми его тяжелыми ошибками, был все-таки законом свободы. На этом прочном основании были построены все наши последующие реформы. Если бы XVIII век не установил закона свободы, то XIX век в Англии прошел бы в революционных насилиях вместо парламентских изменений закона.
Те злоупотребления законом о бедных, о которых так много было слышно в Англии XVIII века, вызывались недостатком современных органов управления и, кроме того, полным отсутствием контроля со стороны какой-либо центральной организации. Проблема бедности и безработицы была, по существу, национальной или по крайней мере региональной, однако каждому маленькому приходу приходилось решать ее своими силами, находясь притом в состоянии враждебности один к другому. Деревенское невежество и приходская зависть должны были разрешать эту ужасную проблему соответственно своим собственным намерениям, и главной их заботой было изгнать из прихода всякого, кто предположительно мог увеличить бремя налога в пользу бедных, – политика, которая ограничивала текучесть рабочей силы и резко увеличивала безработицу. Но проблема бедности в Англии имела то преимущество перед проблемами полиции и тюрем, что закон обязывал каждый приход собирать налог в пользу бедных и тратить его на бедных этого прихода, в то время как налогоплательщики считали большой тягостью для себя, если местный судья повышал какой-нибудь налог для оплаты расходов на дороги, тюрьмы, на улучшение санитарных условий или на полицию.
Сельская Англия управлялась патриархальной властью мировых судей. Это им надлежало решать, должен ли быть увеличен местный налог для какой-либо цели и как его следует расходовать. Судьи, номинально назначаемые короной, в действительности назначались лордом-наместником графства под влиянием мнения местного дворянства. Будучи номинально государственными должностными лицами, мировые судьи фактически представляли местную территориальную власть. Тайный совет не держал их больше в страхе и не руководил их действиями на основе национальных принципов, как во время Тюдоров и первых Стюартов. Революция 1688 года была до некоторой степени восстанием этих неоплачиваемых местных чиновников против центрального правительства, злоупотреблявшего их лояльностью и в политике, и в религии. Из-за безрассудного властолюбия Якова II привилегии парламента и вольности англичан были вновь утверждены ценой значительного ослабления центрального контроля над местными властями даже в тех вопросах, которые были не политическими, а социальными. Тайный совет, стремясь к абсолютной власти во всех делах, потерял даже ту свою власть, которой прежде пользовался для общего блага. Можно сказать, что в XVIII веке мировые судьи скорее контролировали центральное правительство через большие национальные квартальные сессии парламента, чем сами находились под каким-либо контролем правительства. Повсюду местные власти не считались тогда с «Уайтхоллом». Власть и функции мировых судей охватывали все стороны жизни графства. Они осуществляли правосудие на квартальных или на малых сессиях мировых судей или в частном доме отдельного мирового судьи. Они должны были следить за поддержанием дорог и мостов, тюрем и работных домов. Они давали разрешения на открытие трактиров. Они взимали налоги в графстве в тех случаях, когда вообще взимался какой-либо налог. Все это и сотни других дел графства находилось под их контролем. Однако они не имели никакого собственного аппарата или штата чиновников для осуществления задач местной администрации. Содержание штата вызвало бы необходимость в новом налоге, который жители графства не были расположены платить, – они предпочитали бездействующее местное управление, лишь бы оно было дешевым. Современная английская практика столь отлична в этом отношении, что трудно представить, насколько велики были эти изменения.
В середине столетия Филдинг, Смоллет и другие писатели, видевшие несправедливость жизни, писали едкие сатиры о безответственности мировых судей и их частых злоупотреблениях, приводивших к тирании и фаворитизму. Существовал тип продажных мировых судей, известных под именем «торгующих судей». Это были люди из низших слоев общества, которые добивались чиновничьих постов, чтобы извлечь из своего положения финансовую выгоду. Но, вообще говоря, судьями, которые делали наибольшую работу в сельских районах, были зажиточные сквайры, достаточно богатые, чтобы не быть продажными или нечестными, достаточно гордые, чтобы выполнять тяжелую общественную работу безвозмездно, стремившиеся снискать расположение соседей, но часто невежественные и полные предрассудков, не желавшие совершать несправедливость, но часто допускавшие произвол.
Обычно ошибочно рассматривают XVIII век в Англии как век нерелигиозный. Этический кодекс, основанный на христианской доктрине, был тогда правилом жизни для значительно большей части общества, чем это было в периоды позднего средневековья и Тюдоров. В самом деле, век Уэсли, Каупера и Джонсона был, может быть, столь же «религиозным», как и XVII век, хотя он перестал бороться с мечом в руках с враждебными доктринами христианства и был, следовательно, до некоторой степени более терпимым к еще более широкому различию мнений.
Вывод Локка, что веротерпимость была не только политической уловкой, но, несомненно, справедливой и правильной мерой, постепенно становился в XVIII веке общепризнанным. Доказано, что веротерпимость вовсе не сделала этот век менее христианским. Человеческий опыт так долго ассоциировал религию с ;нетерпимостью, что, когда нетерпимость несколько поостыла, люди подумали, что религия пришла в упадок. Это заключение можно оспаривать.
Даже Локк, писавший в царствование Якова II и Вильгельма III, утверждал, что ни атеист, ни католик никак не могли претендовать на терпимость со стороны общества, так как один подрывал нравственность, а другой – государство. Но в действительности и тот и другой извлекли пользу из той более либеральной и веротерпимой философии, распространению которой в следующем столетии способствовало влияние самого Локка.
«Разумность христианства» Локка (само название отмечает нечто новое в мышлении и религии) явилась отправным пунктом для двух новых течений – широкой веротерпимости, которая на некоторое время стала преобладающим настроением англиканской церкви (хотя это еще не был методизм), и английского деизма, на который все респектабельные англичане смотрели с подозрением.
В первые 30 лет столетия «деистам» позволялось безнаказанно высказывать свои взгляды, выраженные весьма осторожно; в то время эти взгляды встречали возражение не только в сатире Свифта, но и в аргументах людей, превосходивших деистов интеллектуально, – епископа Батлера, епископа Беркли, Бентли и Уильяма Лоу. Вольтер, смелый и наиболее грозный последователь этих английских деистов, не нашел во Франции таких противников, но ему в большей степени приходилось опасаться активного преследования со стороны церкви и государства. Отчасти по этой причине континентальный деизм стал более непреклонным и более антихристианским, чем английский. Действительно, наиболее современный историк идей XVIII века говорит об «этом исключительно английском явлении – священном союзе науки и религии, который существовал почти до конца столетия». Гармония науки и религии нашла свой благородный символ в сооружении в 1775 году в одном из приделов часовни Тринити-колледжа (Кембридж) статуи Ньютона работы Рубийяка.
Во всяком случае, научный скептицизм английского XVIII века был адресован только высокообразованной публике. Его оптимистическая философия была результатом условий жизни высшего класса. И когда в период французской революции Том Пейн обратился к массам с призывом принять деизм как истинную веру демократии, это было уже началом Нового времени. В период жизни требовательного и консервативного Гиббона, как уже было сказано, неверие, как и пудреные волосы, могла позволять себе только аристократия. Большинство нации состояло из активных или пассивных христиан, принимавших религию такой, какой ее проповедовали. Низшие слои общества, правда, вообще ничему не учились, но благотворительные школы и уэслианские миссии старались поднять их из невежества до умственного уровня разумных христиан.
Английская религия XVIII века и в самой англиканской церкви, и в среде диссидентских общин состояла из двух школ, которые мы можем для краткости называть латитудинариями (веротерпимыми) и методистами. Если удалить одну из них с переднего плана, то социальный ландшафт этого века получится искаженным. Каждая из этих двух систем имела свои собственные функции, каждая имела свои недостатки, которые возмещала другая. Латигудинарии стояли за веротерпимость, из-за недостатка которой христианство в течение столетий производило жестокое опустошение в том мире, который оно должно было спасать; они стояли также за разумность в интерпретации религиозных доктрин, без которой эти доктрины являлись слишком неправдоподобными для восприятия их более развитым современным сознанием. Методизм, в свою очередь, возродил самодисциплину и истинное рвение, без которых религия теряет свою силу и забывает свои цели; и этот новый евангелизм объединился с активной филантропией. И латитудинаризм, и методизм этого периода менялись в зависимости от изменения обстановки. Но те принципы, которые они особенно охраняли и осуществляли, процветали в новых формах и комбинациях, сохраняя религию на протяжении жизни многих сменившихся поколений как мощную силу в английской жизни.
Со времени революции политическая обстановка благоприятствовала латитудинаризму. И после восшествия на престол Георга I государственные деятели – виги, которые пользовались правом назначать кандидатов на более высокие церковные должности, чувствуя себя особенно обязанными покровительствовать ганноверской династии, поощряли более веротерпимое духовенство из числа ученых государственных людей, подобных Гиббону и Уэйку и даже пользующемуся плохой репутацией Ходли, и охлаждали «энтузиазм», который во времена Уолпола был равнозначен «высокой церкви» и якобитскому фанатизму Аттербери и Сачеверелла. По мере того как шли годы, «энтузиазм» всех оттенков, включая и уэслианский, стал рассматриваться англиканским духовенством и высшими классами как дурной тон.
Ко времени восшествия на престол Георга III церковь уже вполне примирилась с ганноверским домом и политические мотивы уже перестали оказывать влияние на латитудинарнзм. Однако движение за распространение веротерпимости продолжалось под действием не только его собственной инерции, но и сил более глубоких, чем политические мотивы. Даже после своей смерти Локк и Ньютон еще продолжали властвовать. Все возрастающий научный дух этого века требовал, чтобы была доказана и подчеркнута «разумность христианства». Чудеса уже казались менее реальными, а для некоторых – заслуживающими мало доверия. «Неизменный закон», царящий во вселенной, такой, как закон тяготения, указывающий путь звездам, рассматривался теперь как атрибут божьей славы.
Раскинутый небесный свод, Эфир лазоревых высот, И звездный мир, в венце огня, Поют источник бытия. Неутомимо солнца луч Твердит о том, что Бог могуч, И освещает всем вокруг Творенья всемогущих рук.Этот гимн Аддисона появился в «Спектейторе» в 1712 году, он повторялся до конца столетия.
Такая религия легко могла впасть в унитаризм или деизм. И действительно, английская пресвитерианская церковь стала главным образом унитаристской, а ее руководителем стал философ и ученый Пристли. В предшествующие столетия религия прежде всего и главным образом была догмой. Теперь стало общепринятым проповедовать ее как мораль, с примесью догмы. Каноник Чарльз Смит так изображает англиканскую религию:
«В англиканской церкви XVIII века доминирующим влиянием было влияние архиепископа Тиллотсона (1630-1694). Его наследие одновременно было и благом, и злом. С одной стороны, Тиллотсон в том веке, когда наши церкви, подобно знаменитым церквам монахов позднего средневековья, были намеренно «приспособлены к аудитории», ввел в речь английских проповедников понятную, простую, разговорную прозу. Триумф этого стиля означал решительный разрыв с традиционными формами церковного красноречия, берущими свое начало в средневековой церкви. Можно считать, что Тиллотсон спас англиканское красноречие от загнивания в болоте педантизма и аффектации. С другой стороны, основное содержание его проповедей составляла благоразумная мораль, основанная скорее на разуме, чем на откровении, и сознательно обращаемая к здравому смыслу».
«Евангелие моральной честности» оказало английскому характеру такую услугу, игнорировать которую могут только фанатики; поэтому мы обязаны тиллотсонианизму тем, что англичанин всюду, куда бы он ни попал, несет с собой чувство долга. Хотя тиллотсонианизм во многом не соответствует христианскому Евангелию, тем не менее он еще господствует как наша истинная национальная религия если не на кафедрах английской церкви, то по крайней мере в сознании английских мужчин и женщин.
В первые годы царствования Георга III священник поднимается по социальной и культурной лестнице, живя уже в равных условиях с мелкопоместным дворянством (джентри), чего никогда прежде не было. Но его общение с массой прихожан не стало от этого более тесным. Его проповеди, весьма тщательно составленные, зачитывались с кафедры, как литературные упражнения, имеющие в виду удовлетворить вкус элегантных молодых людей, сидевших на высоких скамейках вокруг дремлющего сквайра, но эти проповеди были слишком абстрактны и безличны, чтобы затронуть чувства терпеливой деревенской публики, заполнявшей середину церкви. А в новых промышленных и горнорудных районах население было вообще лишено возможности слушать богослужение англиканской церкви, устаревшая география которой редко приводилась в соответствие с современными требованиями путем создания новых церковных приходов. Религиозная миссия в этих районах выпала на долю Уэсли.
Вполне естественно, что в аристократический, нереформированный, индивидуалистический, «классический» век в Англии существовала церковь, обладавшая такими же достоинствами и недостатками, как и другие привилегированные учреждения страны. Каждый священник мог поступать совершенно свободно, согласносвоей собственной точке зрения, как бы эксцентрично это ни выглядело. Он мог обладать игривым умом, он мог даже, если был так дурно воспитан, быть «методистом», подобно опасному другу Каупера Джону Ньютону или Берриджу Эвертонскому, проповеди которого причиняли прихожанам его собственного и соседних приходов буквально физические страдания. Чаще же священник был «типичным англичанином», добрым, чувствительным, умеренно благочестивым. Это была церковь, известная ученостью, культурой и свободой. Правда, епископский авторитет и общественное мнение все же оказывали на духовенство некоторое давление, чтобы заставить священников проявлять больше усердия, чем они этого хотели.
Бенефиций, подобно месту депутата парламента или положению члена колледжа, рассматривался как «часть патроната», которая присуждалась как милость и которой пользовались как привилегией.
Весьма характерно для этого века, что Гиббон в своей «Автобиографии», высказывает мимоходом сожаление о том, что «не избрал прибыльной профессии юриста или торговца, не попытал счастья на гражданской службе или в рискованных путешествиях в Индию и не прельстился даже сытной и спокойной жизнью церковника». Церковная история, написанная архидиаконом Гиббоном, была бы столь же ученой и многотомной, но волей-неволей была бы более приличной и с более тонкой иронией, чем действительный шедевр Эдуарда Гиббона, эсквайра.
Социальная пропасть между богатым и бедным духовенством была еще почти так же широка, как и во времена средневековья. Но число более состоятельных священников возросло; так как теперь в это число входили не только прелаты и плюралисты [50], но и та часть приходского духовенства, которая происходила из знатных фамилий, имела связи, жила в пасторском доме и исполняла свои обязанности. Увеличение ценности десятины и доходности церковного участка земли, связанное с усовершенствованием методов земледелия, способствовало росту числа состоятельных священников. В царствование королевы Анны из 10 тысяч приходов 5597 приносили меньше 50 фунтов стерлингов годового дохода, а сто лет спустя только 4 тысячи приходов давали меньше 150 фунтов стерлингов в год. В течение XVIII века сельские джентльмены все больше склонялись к мысли, что церковные приходы являются вполне достойным местом для их младших сыновей. Идеальным порядком, прочно установившимся ко времени Джейн Остин, как знают ее читатели, является такой порядок, при котором хороший пасторский дом, с окнами в виде фонаря, построен в прекрасном месте, за милю от дома владельца манора, и его занимали сын или зять сквайра. Семейная группа держалась, таким, образом, вместе, и религиозные потребности деревни обслуживались джентльменом, образованным и изысканным, хотя, может быть, и не очень усердным, так как только после начала XIX века священник-джентльмен стал «серьезным», то есть евангелистом.
Но половина приходов Англии не была обеспечена настолько, чтобы содержать сына сквайра. Существовала еще большая группа бедных священников, хотя и не столь многочисленная, как в дни Чосера или Карла II, когда Ичард писал свои «Причины и поводы для презрения к духовенству», из которых главными были их бедность и низкое происхождение. Но даже в царствование Георга III были еще тысячи обедневших и презираемых «чернорясников», занимавших приходы с доходом от 50 до 100 фунтов в год или получавших жалованье в 50 фунтов в качестве заместителей временно отсутствующих плюралистов. Плюрализм, однако, не всегда был злоупотреблением, так как часто лучшим был именно такой порядок, когда один священник обслуживал два соседних прихода, из которых ни один не был в состоянии содержать священника самостоятельно.
Епископы, почти без исключения, были или родственниками знати, или бывшими капелланами в знатных семьях, или наставниками сыновей знатных лиц; некоторые из них, подобно Джозефу Батлеру, Беркли и Уорбертону, были известными философами или учеными. Но никто не достигал епископского сана за услуги, оказанные церкви, а только за услуги, оказанные науке, светскому патрону или политическим партиям. Назначение на церковные должности, подобно многим другим выгодным делам, стало теперь одним из проявлений партийного патроната вигов и тори, который наследовал королевскому патронату прошедших времен. В Средние века епископы были гражданскими слугами короля, теперь их светские обязанности свелись к регулярному посещению сессии парламента, чтобы голосовать там за министра, который их назначил и который мог способствовать их перемещению в более доходную епархию (некоторые епархии давали в год в 10 раз больше дохода, чем многие другие). Но прелат XVIII века, освободившись от своих парламентских обязанностей, имел больше досуга, чтобы посвятить себя своим церковным обязанностям, что не всегда могли сделать средневековые епископы, которые постоянно были на службе короны. Некоторые из ганноверских епископов, хотя отнюдь не все, много трудились в своих диоцезах, особенно во время длительных путешествий по скверным дорогам для свершения конфирмации верующих. Невозможно сказать, что епископы совершенно пренебрегали своими церковными обязанностями или что религиозное рвение населения направлялось только в уэслианство. Имеется много доказательств того, что церковная жизнь, по крайней мере во многих районах, была суровой, бурной и энергичной. Тем не менее кое-где встречалась нерадивость и небрежность. Во всяком случае, аристократическое духовенство, описанное нами, чаще было образцом латитудиарианских заслуг, чем методистских добродетелей.
Тот образ жизни, который стал называться «методизмом», появился раньше, чем само название «методизм», – еще до начала деятельности братьев Уэсли. Мальчиками они воспитывались в атмосфере методизма в пасторском доме их отца – «высокоцерковника», в Эпуорте. Это был образ жизни, посвященный не только религиозным обрядам, но самодисциплине и труду для других. Методизм оказал заметное влияние на светского неприсяжника Роберта Нельсона и вдохновлял тех священников и диссидентов, которые во времена Вильгельма и Анны сотрудничали с Нельсоном в деле создания Общества для распространения христианских знаний и благотворительных школ. Методизм сказывался и в строго благотворительной жизни прелестной леди Элизабет Гастингс (1682-1739), которую Стил обессмертил эпиграммой: «Любовь к ней была духовным самосовершенствованием»; она пожертвовала свое большое состояние на дело благотворительности, особенно на осуществление хорошо продуманных проектов школьного и университетского образования бедных учащихся. Методизм в той или другой форме являлся стимулом для большей доли той филантропической деятельности века, которая окончилась с Уилберфорсом.
Этот «метод» религиозной жизни был широко распространен среди торговых и ремесленных классов, как церковников, так и диссидентов. Методизм был по характеру одновременно и пуританским и буржуазным; он был даже сильнее среди светских людей, чем среди духовенства; его последователи не отвлекались от жизненных дел, но старались посвятить их Богу; поведение, а не догма характеризовало пуританина XVIII века… Он непреодолимо тянулся к служению человеку, который из-за нищеты, невежества или распутства лишал Бога той славы, которой он был достоин. Для людей такого склада благотворительность была обязательной. Цитаделью этого образа жизни был дом человека среднего класса с его семейным богослужением, откуда методизм отправлялся обращать души, просвещать умы и заботиться о плоти оставляемой в забвении бедноты.
Наибольшим, и по справедливости наиболее известным, проявлением методизма были призывавшие к возрождению религии проповеди братьев Уэсли и Уайтфилда, которые глубоко трогали обширную массу людей, находившихся до этого в пренебрежении у церкви и государства. К счастью, гений Джона Уэсли заключался не только в его силе проповедника, призывающего к возрождению религии, но и в его талантах организатора. Объединяя вновь обращенных в постоянные конгрегации, он начал этим новую главу в религиозной и социальной истории рабочего класса и в вопросе о его просвещении. Совпадение во времени жизни Уэсли и промышленного переворота оказывало глубокое влияние на Англию в течение последующих поколений.
«Неуклонное обмирщение религии» было логическим результатом протестантской атмосферы в Англии того времени. Активное участие, принимаемое мирянами, индивидуально и коллективно, в религиозной организации и филантропической деятельности, связанных между собой, было заметно уже в дни Роберта Нельсона, при королеве Анне, но еще более очевидным оно стало сто лет спустя, особенно среди уэслианских конгрегаций.
Другим важным вкладом, сделанным XVIII веком в современную английскую религию, была книга гимнов, Исаак Уотс (1674-1748), брат Джона Уэсли Чарльз и другие менее значительные лица создали собрание гимнов, которые постепенно заменили собой повсюду, и в церкви и в домашней часовне, метрические стихи псалмов и приобрели большую популярность у тех конгрегаций, которые любили приветствовать Бога радостными звуками.
Другим видом посвящения своей жизни Богу и человеку была спокойная деятельность квакеров. Они предоставили Уэсли дело возрождения в народе религии, над которой так горячо трудились сами при жизни основателя их сект; Теперь они погрузились в буржуазную респектабельность искупаемую чувством любви, которое распространяли тол на филантропическое общество квакеров. В начале царствования Георга II они были уже известны своими успехами делах, которые вели очень честно.
Гуманный дух XVIII века, заботившийся о плоти и ум бедных и несчастных, способствовал действительному улучшению положения вещей. Однако и он допускал ошибок. Основание больниц, улучшение медицинского обслуживания и забота о благополучии детей – все это было несомненным плюсом. Но работа, проделанная для просвещения умов, ценная сама по себе, все же может быть подвергнута ретроспективной критике. Движение за создание благотворительных, а затем и воскресных школ, достигшее таких значительных размеров после 1780 года, действительно было первой систематической попыткой дать какое-нибудь образование массе трудящегося народа и отличалось от прежней системы, при которой старая классическая школа давал возможность «выбиться в люди» лишь избранным, способным мальчикам. Новые благотворительные и воскресные школы имели то достоинство, что они пытались сделать кое, что для всех, но они слишком настойчиво стремились удержать учеников в предназначенной для них сфере жизни и воспитать из них покорное поколение. Современное образование в наше время заходит слишком далеко в противоположном направлении, создавая излишнее число образованных пролетариев. Но ошибкой XVIII века, продолжавшей существовать и в системе образования начала XIX века, было чрезмерное подчеркивание классовой дифференциации и необходимости сохранения «должной субординации в низших классах». Историк благотворительных школ М. Джонс справедливо писала:
«XVIII век был отмечен весьма реальным чувством сострадания и ответственности за тех детей, чьи физические и духовные интересы находились в прискорбном пренебрежении. Это чувство соединялось с решением улучшить их положение путем применения того, что Дефо удачно назвал «великим законом субординации». Политическая и религиозная смута XVII века в немалой степени содействовала желанию высших и средних классов установить социальную дисциплину среди бедноты, которая, в современном представлении, была особенно восприимчива к яду мятежа и неверия… Однако было бы неверным истолкованием века милосердия видеть в очевидном применении принципа подчинения жестокое и недоброжелательное отношение высшего класса к низшим. Совсем нет. XVIII век был веком точно определенных социальных различий».
Но в начале XIX века в вопросах благотворительности и образования бедноты еще слишком чувствовался сознательно-классовый и покровительственный характер, в то время как дух равенства, неизвестный XVIII веку, уже делал подобную заботливую снисходительность неприемлемой и не соответствующей нуждам и проблемам иной эпохи.
Положив начало массовому просвещению основанием благотворительных и воскресных школ, XVIII век в то же время потерял почву под ногами в вопросе среднего образования, допустив упадок многих из старых классических школ, содержавшихся государством. Можно считать поистине общей чертой века, что, в то время как частная предприимчивость и филантропическое усердие открывали новые пути, старые привилегированные учреждения становились неповоротливыми и продажными. Нашумевшая неудача нападения Якова II на закон и на закрепленные в хартиях права придала следующему столетию чрезмерно легальный и консервативный характер. Сослаться на хартию значило избежать всякой критики. Почти до конца столетия не было разговоров ни о реформе, ни о парламентских избирателях, ни о городских корпорациях, университетах или благотворительных учреждениях, а в конце века, увы, «несчастный пример Франции» предал реформу проклятию. Подобно тому как выборная муниципальная олигархия тратила общественные средства на праздничные обжорства и пренебрегала своими обязанностями городской администрации, заведующие школами, находившиеся на государственном содержании, часто не обращали внимания на эти школы, а в некоторых случаях просто закрывали их и жили на средства, отпускаемые государством для школы, как на свои собственные деньги.
Ущерб, причиняемый такими порядками делу среднего образования, был восполнен частными школами, которые финансировались только за счет частных пожертвований и добились в XVIII веке значительных успехов. Такие школы, включая и диссидентские академии, давали за умеренную плату хорошее образование, в котором живые языки и естественные науки занимали место рядом с изучением классики. Старые государственные школы, так же как и университеты, не обучали таким новомодным предметам.
Диссидентские академии, в которых были такие люди, как Пристли, также до некоторой степени восполняли недостатки Оксфорда и Кембриджа. Оба имевшихся в Англии университета отстраняли всех лиц неангликанского вероисповедания и давали тем, кого они допускали в свои стены, такое плохое и дорогостоящее образование, что со времен Лода и Мильтона число студентов сократилось более чем вдвое.
Действительно, на берегах Айзиса и Кем дух привилегированной монополии обнаруживался в наихудшем виде. Профессор колледжа мог оставаться членом колледжа пожизненно, если не получал церковного бенефиция; его не заставляли заниматься какой-либо научной работой, ему не разрешалось жениться, и в большинстве колледжей ему приходилось принять духовный сан. Ленивый, слабовольный, безбрачный клерикализм профессоров XVIII века роднил, их с монахами XV века; кстати сказать, и те и другие были одинаково полезны. Гиббон, который, как член палаты общин, был в 1752 году допущен в общество членов Модлин колледжа в Оксфорде, так описывает их нравы:
«Они не обременяли себя размышлениями, чтением ил письмом. Их разговоры ограничивались кругом дел колледжа, политикой тори, личными историями и частными скандалами; живая невоздержанность юности оправдывала их скучные и тайные попойки».
В обоих университетах студенты находились в полном пренебрежении со стороны большинства членов колледжа, хотя кое-где наставник колледжа ревностно выполнял те обязанности, которые должны были бы разделить с ним все члены корпорации. Сыновьям вельмож и богатым студентам делались большие уступки в вопросах дисциплины, и они часто ходили в сопровождении их собственных частных наставников. Профессора университета редко выполняли какую-нибудь из их предполагаемых функций. Между 1725 и 1773 годами в Кембридже не была прочитана ни одна лекция кем-либо из королевских профессоров [51]современной истории; «третий и наиболее позорный» из представителей этой кафедры умер в 1768 году после того, как упал с лошади, возвращаясь в пьяном виде домой из своего прихода в Овере.
В Оксфорде около 1700 года для получения степени не приходилось держать никаких серьезных экзаменов. В Кембридже экзамены для желающих получить почетную награду по математике представляли действительное испытание достоинств честолюбивых кандидатов. Гиббон заявил, что «Кембриджский университет, кажется, не так заражен пороками монастыря, как его собрат; его лояльность к ганноверскому дому более давняя, и имя и философия бессмертного Ньютона впервые стали почитаться в стенах его родной академии».
Только в самом конце столетия началось движение за внутренние реформы, которое привело оба университета на путь самоусовершенствования. Его можно датировать в Тринити-колледже в Кембридже с кризиса 1787 года, когда после суровой борьбы, в ходе которой участники движения предстали перед судом президента университета, было решено, что звание члена колледжа должно присуждаться по справедливости, согласно результатам тщательного экзамена. После этой перемены Тринити-колледж опередил наконец своего соперника колледж Сент-Джона и по численности студентов, и в научном отношении, хотя колледж Нордеворта и Уилберфорса продолжал воспитывать выдающихся людей.
Общеизвестное якобитство Оксфорда при первых двух Георгах весьма показательно для ограниченности власти правительства и степени свободы, обеспеченной подданному хартией и законом. Право замещения церковных должностей было в руках вигских министров, которые скорее сделали бы епископом магометанина, чем якобита. Но Оксфордский и Кембриджский колледжи находились вне их юрисдикции, а безуспешность нападок Якова II на университеты была достаточным предостережением, чтобы огородить академическую свободу в Англии от вмешательства со стороны будущих правительств. Если бы оксфордские профессора, после того как они обеспечили свой доход присягой ганноверскому дому, вздумали провозглашать на пирушках якобитские тосты, министры короля Георга не смогли бы этому помешать. Таким образом, практикой XVIII века была установлена та необходимая свобода университетов, которая вразличной степени нарушалась Тюдорами, Стюартами и сторонниками Кромвеля. Иногда этой неприкосновенностью злоупотребляли, но она была сохранена.
Тем не менее, несмотря на упадок обоих университетов, единственных тогда в Англии, несмотря на упадок государственных школ, особенно школ среднего образования, интеллектуальная жизнь страны никогда не была более блестящей и количество одаренных людей, приходившихся на душу населения в Англии времен Георга III, с ее плохой системой образования, было значительно больше, чем в наши дни. Может показаться, что высочайшие произведения человеческого разума были скорее результатом удачи, свободы и разнообразия, чем результатом деятельности единообразной организации, скорее результатом равновесия между городом и деревней, чем результатом активности самой городской жизни; скорее результатом влияния литературы, чем журналистики; скорее результатом развития искусства и ремесла, чем машин. Но даже если будущее никогда не сможет вновь создать гигантов, подобных Бёрку, Гиббону и Джонсону, не говоря уже о Мильтоне, Ньютоне и Рене, число образованных, культурных людей может быть все же большим, чем в прошлом.
В XVIII веке народ Уэльса благодаря религии и образованию вновь зажил своей собственной духовной и умственной жизнью, отдельной от духовной жизни Англии. История эта настолько же своеобразна, насколько и важна.
Валлиец-англичанин Генрих VIII намеревался своей политической унией двух стран сделать валлийцев свободной и равноправной частью английского народа. В значительной степени он достиг цели, потому что здесь не было той эксплуатации земли и ее обитателей со стороны англичан, какая существовала в Ирландии, и религия здесь не разделяла двух рас. Валлийские джентри усвоили во времена Тюдоров английский язык, взгляды и литературу и перестали покровительствовать туземным бардам. Крестьяне, не имея руководства, покорились, но они продолжали говорить на своем языке и петь свои песни под аккомпанемент арфы.
В царствование Елизаветы с переводом Библии и молитвенника на валлийский язык церковь начала бессознательно противодействовать стремлению государства англизировать Уэльс. Это были семена многих последующих явлений, но прошло много времени, пока из них полностью созрел урожай. Английский пуританизм кромвелевского типа не привлекал валлийцев. Пехотные войска короля Карла, которые погибли при Нейзби, были в большинстве своем уроженцами гористых районов Уэльса.
В начале XVIII столетия в Уэльсе, как это было и в Англии, крупные лендлорды стали скупать земли у более мелких сквайров. Уэльс юридически становился страной крупных поместий, но по своей основной социальной структуре это была страна мелких крестьянских ферм, занимавших в среднем от 30 до 100 акров каждая. Такие фермы держались на условиях краткосрочной или годовой аренды и обрабатывались дедовскими методами, которые обеспечивали прокормление семьи фермера, но не позволяли везти продукцию на рынок. Крупных фермеров и людей среднего класса в Уэльсе было немного. Под покровом системы крупных поместий Уэльс в действительности являлся уравнительной демократией крестьянских фермеров; Южный Уэльс был также и страной горняков.
Уэльс, подобно другим западным и кельтским частям острова, был страной раннего огораживания. Системы открытых полей здесь никогда не существовало, за исключением тех частей Пембрукшира, где поселились англичане, но теперь и здесь происходило огораживание. Обычные уэльские фермы огораживались каменными стенами или валами из дерна.
Традиционные обычаи этого отдаленного и грубого народа на были во время Стюартов нарушены каким-нибудь движением – социального, национального, политического или религиозного характера. Они по-прежнему были преданы традиционной музыке арфы и своим песням, а их религия заключалась главным образом в пении гимнов. Но они были слишком безграмотны, чтобы подняться до уровня читающих Библию протестантов того времени. В экономическом и культурном отношении Уэльс был изолирован от проникновения английского влияния вследствие географических трудностей доступа. Еще в 1768 году Артур Юнг описывал горные дороги Уэльса как «просто каменистые тропы, полныеогромных камней, величиной с лошадь».
Поэтому если валлийцы нуждались в возрождении религии и образования, они должны были позаботиться об этом сами; и они это сделали. Начиная с царствования Вильгельма и Анны и в течение всего XVIII века уэльские филантропы насаждали просвещение и религию среди своих соотечественников. Методистская церковь стала в конце концов наиболее важной частью уэльского евангелизма, который возник еще до рождения Джона Уэсли.
Научить крестьянина читать и дать ему в руки уэльскую Библию – такова была цель тех, кто насаждал народное просвещение по всему Уэльсу. В Англии, без сомнения, благотворительные и воскресные школы также были основаны по религиозным мотивам, но там эти мотивы соединялись с более мирскими целями – защитой англиканской церкви от диссидентов и якобитов и воспитанием из детей бедноты послушных и усердных членов тщательно разграниченной социальной структуры. В более простом и равноправном крестьянском обществе Уэльса такие проблемы не появлялись и «буржуазные» идеи выгоды были неизвестны; те, кто основывал школы, желали только спасти души мужчин и женщин, то есть воспитать из них евангелических христиан, способных читать Библию. Эта цель была достигнута, и в то же время, по мере того как уэльский народ становился более грамотным, перед ним открывались перспективы духовного развития, развития национальной культуры, правда, всегда имевшие религиозный оттенок, но распространяющиеся и на другие сферы. Историк благотворительных школ, сама валлийка, писала:
«Было бы трудно преувеличить важность и влияние движения за создание благотворительных школ на историю и характер уэльского народа. Постоянное сосредоточение внимания на благочестии как конечной цели всякого обучения превратило веселый и простой народ, равнодушный к религии и лишенный политической сознательности, в такой народ, для которого политические и религиозные интересы стали доминирующими. Библия стала учебником валлийцев. Ее язык был его языком, ее учение господствовало в его социальной и политической жизни. В ней и в гимнах Уильяма Пентиселина нашли удовлетворение эмоциональные и духовные интересы крестьянства.
Политическое влияние движения за создание благотворительных школ было не менее важным. Современный уэльский национализм является детищем литературного и лингвистического ренессанса XVIII века, и здесь, как и в религиозном возрождении, движение за создание благотворительных школ сыграло очень важную роль. Перед тем как школы начали свою деятельность, валлийскому языку, «языку князей и поэтов», угрожала гибель. В конце XVIII века он опять стал языком поэзии и прозы, но уже не был княжеским, а носил на себе следы своего крестьянского происхождения и религиозного вдохновения».
Глава XII Англия времен Сэмюэля Джонсона (Продолжение)
Хотя промышленный переворот является наиболее важным движением в социальной истории, тем не менее так же трудно сказать, когда он начался, как и решить, когда кончились «Средние века». Капитализм, уголь, заокеанская торговля, фабрики, машины и тред-юнионы – все это, как мы видели, появилось в Англии задолго до ганноверской эпохи. Но вторая половина XVIII столетия рассматривается как время, когда изменения в промышленности, стимулируемые научными изобретениями и ростом населения, стали совершаться с такой неудержимостью и быстротой, признаков уменьшения которой не видно и сегодня.
С подобными же оговорками мы можем приписать XVIII веку и сельскохозяйственный переворот. Огромный рост продуктивности сельского хозяйства на острове, имевший место в то время, оказался необходимым вследствие быстрого увеличения его населения, которое в те дни невозможно было прокормить привозным продовольствием. Эта настоятельная национальная потребность была удачно использована благодаря особым социальным и экономическим условиям времени. В XVIII веке лендлорды как класс могли и стремились направить свои усилия и накопленные богатства на улучшение почвы и методов ее обработки. Капитал, созданный в результате начинающегося промышленного переворота, во многих случаях направлялся в крупнопоместные хозяйства, чтобы развивать земледелие с помощью средств, извлеченных из производства сукна, хлопка, добычи угля и из торговли. Но капитал перемещался также и в обратном направлении – из сельского хозяйства в промышленность; многие из новых промышленников, которые в XVIII веке учреждали фабрики, заводы и торговые предприятия, вкладывали в них деньги, приобретенные благодаря успешной деятельности их (или их отцов) в области земледелия. Банки графств, которые теперь быстро множились и росли, способствовали этому двойному потоку капитала: из промышленности в сельское хозяйство и из сельского хозяйства в промышленность.
Действительно, связь сельскохозяйственного и промышленного переворотов была чем-то большим, чем простым совпадением во времени. Один способствовал другому. Их действительно можно рассматривать как единое усилие, которым общество было реконструировано настолько, чтобы быть в состоянии прокормить и обеспечить работой население, численность которого благодаря улучшению медицинских условий возрастала с беспримерной быстротой.
Перемены, достигнутые за 100 лет, могут быть суммированы путем сопоставления положения страны в царствование Георга II и Георга IV.
В начале царствования Георга II (1727-1760) мануфактура была одним из элементов экономической жизни деревни. «Мануфактуристы» – термин, относившийся тогда не к капиталистическому предпринимателю, а к самим производителям, – жили обычно в деревнях, население которых само строило себе жилища обычного типа, само снабжало себя одеждой, утварью, а также хлебом, мясом и пивом. Только помещик, живший в ближайшем парке, посылал в столицу графства или в Лондон за лучшей мебелью, книгами, фарфором и другими предметами роскоши, свойственными этому веку изысканного вкуса и больших расходов, и за деликатесами для стола, хотя обычная пища поступала из имения.
Кроме того, многие деревни производили не только дешевые товары для собственного потребления, но и некоторые специальные виды предметов роскоши для рынка. Возьмем один пример из очень многих: у меня есть высокие стоячие часы, сделанные еще в XVIII веке в маленькой уорикширской деревушке Прайоре Марстон и до сих пор верно показывающие время. Сукно, которое все еще составляло главную статью внутренней и внешней торговли, выделывалось в основном в сельской местности, а быстро растущая хлопчатобумажная промышленность развивалась, не выходя за пределы коттеджа. Города принимали некоторое участие в производстве, но главным образом они были распределительными центрами: Бристоль и Норидж распоряжались сукном, производимым в Котсуолдс и деревнях Восточной Англии; Лидс и Галифакс продавали товары, вытканные на фермах и в сельских домах, разбросанных вдоль крутых склонов йоркширских долин; при каждой ферме и домишко имелось свое поле, в каждом дворе – корова.
Города Англии в начале ганноверского периода существовали не столько благодаря товарам, которые они сами изготовляли, сколько благодаря своим рынкам, лавкам и торговле. Лондон, правда, был как промышленным, так и торговым городом и уже обладал многими особенностями современного «большого города». Бирмингем всегда был городом мелкой промышленности. Порты Англии, от крупного Бристоля и его растущего соперника Ливерпуля до маленьких Фови и Олдборо, лучшие дни которых уже отошли в прошлое, жили своей собственной жизнью приморских городов. Но большинство других городов было атрибутами той сельской местности, которую каждый из них обслуживал. Они забыли свой ревностный гражданский патриотизм замкнутого средневекового «бурга» и потеряли монополию своих гильдий на производство товаров. Они стали рынками для фермеров и местами сборищ, которые джентри и их семьи посещали, чтобы сделать закупки, потанцевать и заняться делами графства. Многие сквайры среднего достатка, особенно те, которые жили далее чем за 100 миль от столицы и которым был не по средствам «лондонский сезон», сами строили хорошие дома в столице графства или около нее, куда их семьи, имеющие матримониальные надежды, приезжали ежегодно на некоторое время из своих сельских домов. Кафедральные города процветали под почтенной сенью клерикального патроната. Но более крупные города графств, такие, как Ньюкасл на Тайне и Норидж, являлись, кроме того, своего рода торговыми складами национального значения.
В годы царствования Георга IV (1820-1830) Англия была! уже совершенно иной. К этому времени в ней, особенно в западной части центральных графств и на севере ее, можно было отчетливо видеть новое явление: многие из «мануфактурных городов» и городских районов после создания в них фабрик и машинной промышленности совершенно обособились от окружающей сельской жизни. Стройное здание старого английского общества раскалывалось по вертикали – между городом и деревней, и одновременно расширялась старая горизонтальная трещина – между бедными и богатыми. Правда, в это время резкое различие между сельской и городской жизнью существовало еще только в некоторых районах, но за время правления Виктории оно стало всеобщим.
В период правления Георга IV произошли соответствующие изменения и в самой сельской жизни. Производство специализированных товаров, включая многие процессы выделки сукна и хлопчатобумажной ткани, перешло из деревень в фабричные районы. Улучшение дорог уничтожило необходимость в самоснабжении деревни, и жители сельских местностей теперь покупали в городе те предметы обихода, которые их отцы и матери производили для себя сами. Многие деревенские портные, плотники, пивовары, мельники и шорники потеряли в связи с этим свой заработок. Веретено хозяйки редко теперь кружилось по полу в деревенском доме; выражение «пряха» становилось анахронизмом. Современный фермер производил теперь хлеб и мясо прежде всего для городского рынка и только во вторую очередь – для домашнего потребления.
К 1820 году в итоге сельскохозяйственного переворота все открытые поля были разбиты на большие прямоугольники огороженных полей, где могло проводиться научное чередование пашни и пастбища и где жирный скот откармливался до размера и веса, даже не снившихся в прежние времена. Сотни тысяч акров пустоши и прежних лесистых участков также были огорожены под пашню.
Даже знакомая фигура разбойника исчезла с замощенных дорог с тех пор, как были распаханы плугом те вересковые степи и чащи, в которых он обычно скрывался. Новые плантации охранялись лесничими с помощью ловушек и западней.
Столь значительные изменения назывались ретроспективно «сельскохозяйственной революцией», потому что они вели к созданию новой системы. Большие компактные поместья, сдаваемые в аренду крупным фермерам, использовавшим для обработки земли безземельных рабочих, занимали все большую земельную площадь за счет различных форм мелкой земельной собственности. Мелкие сквайры и крестьяне, имевшие незначительные права на землю, вытеснялись, чтобы дать место новому порядку. Открытые поля пахотных земель центральных графств были включены в шахматный узор огороженных полей, который стал отличительным признаком английского ландшафта. И даже в той части Англии, где огороженные поля существовали всегда, даже там происходили аналогичные социальные перемены. Повсюду более крупные собственники расширяли свои имения посредством покупок; повсюду сквайры и фермеры действовали при помощи новых методов. И всюду лучшие дороги, каналы и машины способствовали перемещению промышленности из сельских домишек, из деревень на фабрики и в города, лишая этим крестьянскую семью возможности заниматься прядением и другими видами мелкой промысловой деятельности, служившими средством пополнения скудного бюджета семьи.
Принимая во внимание большое разнообразие местных условий, правильно будет сказать об Англии в целом, что огораживание было лишь одним, возможно, наиболее важным, из многих изменений, совместное влияние которых уменьшало количество независимого крестьянства, увеличивая в то же самое время общий объем богатства всельской местности.
В графствах Центральной Англии, напротив, огораживание открытых полей было основной причиной исчезновения многих мелких крестьян, имевших права на землю, но даже в центральных и восточных графствах огораживания отнюдь не всегда уменьшали число земледельцев – собственников йоменского типа.
Эти изменения еще продолжались в эпоху Трафальгара и Ватерлоо, но в основном они происходили между 1740 и 1783 годами, и поэтому весь процесс может быть рассмотрен в этой главе. Когда он закончился, весь привычный уклад жизни сельской Англии совершенно изменился.
В царствование последних Стюартов и Георга I огораживание открытых полей, общинных выгонов и пустошей проходило быстро – или путем соглашения между заинтересованными сторонами, или путем покупки; но огораживания еще были в большей степени местным делом, чем национальной политикой. После третьего десятилетия XVIII века процесс огораживания продолжался уже при помощи новой процедуры, применение которой приобрело теперь массовый характер: через парламент стали проходить частные законы, которые не принимали во внимание сопротивление огораживанию со стороны отдельных собственников; каждый должен был довольствоваться земельной или денежной компенсацией, назначенной ему парламентскими комиссарами, решения которых имели силу закона. Такие революционные законы целыми пачками быстро проводились через каждый парламент Георга III (1760-1820) – собрание, не прославившееся никаким другим радикальным законодательством. Но это был радикализм богатых, часто за счет бедноты.
С 1740 года процесс огораживания земли шел с каждым десятилетием все быстрее и стал особенно быстрым в конце столетия. Но ко времени восшествия на престол Виктории этот процесс был почти завершен в отношении пахотных полей, хотя огораживание общинных земель еще продолжалось в течение первых 30 лет ее царствования. Законы об огораживании серьезно затронули около половины английских графств, расположенных к югу от Ист-Райдинга (Йоркшир), включая Линкольн и Норфолк и центральные графства до Уилтшира и Беркшира. На основании парламентских актов было огорожено более половины всей земельной площади Нортгемитоншира и свыше 40 процентов площади Хантингдоншира, Бедфордшира, Оксфордшира и Ист-Райдинга; Лестершир и Кембриджшир тоже не отставали.
Но Кент, Эссекс, Суссекс, северные и западные графства и Уэльс были мало затронуты законами об огораживании, потому что значительная часть их земельной площади состояла или из полей, огороженных много лет назад, или из вересковых пастбищ, столь обширных, что никто не был в состоянии огородить их до появления проволочных оград. Только два процента земельной площади Нортамберленда попало под действие законов об огораживании, хотя как раз и это время его лендлорды вложили в сельское хозяйство большие суммы, полученные от угольных копей Тайнсайда.
Век огораживаний был также веком новых методов, применяемых при осушке почвы, севе, использовании удобрений, разведении и кормлении скота, строительстве дорог, постройке фермерских жилищ, и сотен других перемен, требовавших затраты капитала. Все возрастала появившаяся во времена Реставрации тенденция к аккумулированию земли в больших компактных поместьях. Магнаты королевства, крупные политические пэры владели в 1760 году более обширными земельными пространствами, чем в 1660 году, а более мелкие деревенские сквайры, наоборот, в 1760 году имели меньше земли, чем в 1660 году. Класс лендлордов, следовательно, имел больший капитал и больший кредит, который он мог употребить на модное теперь усовершенствование способов земледелия.
Собственники больших поместий взяли на себя руководство в этом деле – это были люди, подобные «Турнепсу Тауншенду», отставному государственному деятелю начала царствования Георга II, а 40 лет спустя – подобные «(Томасу) Коку Норфолкскому», другу Фокса и врагу Георга III. И Тауншенд, и Кок ввели в Норфолке новые культуры и новые методы – прежде всего корнеплоды и удобрение легких земель мергелем. Благодаря им это отсталое графство стало передовым в области земледелия. Между 1776 и 1816 годами Кок настолько повысил урожайность своей земли, что поднял арендную плату своих холкэмских поместий с 2200 фунтов до 20 тысяч фунтов в год, и при этом арендаторы, которые платили эту высокую ренту, разбогатели; он гарантировал им долгосрочную аренду при соблюдении точных условий обработки. Согласно отзыву радикального Коббета, они говорили о своем лендлорде, как любящие дети говорят о своих родителях. Его «стрижка овец» в Холкэме стала известной по всей Европе и посещалась сельскохозяйственными экспертами, которые иногда собирались в этом отдаленном углу Норфолка в количестве до 600 человек, чтобы посмотреть, как можно обрабатывать землю и выкармливать овец. Лишь 80 из его посетителей могли быть одновременно размещены в имении их гостеприимного хозяина, остальных же приходилось размещать на соседних фермах.
Тауншенд и Кок имели последователей среди своих собратьев-лендлордов в каждом графстве. А фермеры нового типа, подобные Роберту Бейкуэллу из Лестершира, который разводил улучшенные породы овец и скота, сами были активными новаторами. Непосредственным результатом всего этого было огромное увеличение количества зерна, производимого в стране для потребления в виде хлеба и пива, и еще больший количественный рост и улучшение породы скота. Многие из лучших земель в Англии, которые до сих пор обрабатывались как обширные открытые пашни, где скот блуждал в поисках пищи среди жнивья, теперь были разделены на небольшие по размерам, огороженные живой изгородью боярышника поля, на которых скот мог пастись на хорошей траве. И в то же время значительно больше пахотной земли использовалось для повышения урожайности кормовых трав и корнеплодов, чтобы кормить скот и овец в течение зимы.
Благодаря этому впервые с тех пор, как человечество стало заниматься земледелием, прекратился массовый убой скота осенью. Соленое мясо было заменено свежей говядиной и бараниной. Немедленным результатом было то, что цинга и другие болезни, которые в XVII веке мучили даже благороднейшие семьи, подобные семьям Расселов и Верни, стали редкими даже среди бедноты. Появление новых возможностей кормления животных в течение круглого года побудили лендлордов и фермеров покупать племенной скот и изучать научные методы разведения скота. Средний вес скота и овец, продаваемых в Смитфилде, удвоился между 1710 и 1795 годами [52].
Этот удивительный рост производства говядины и баранины произошел не за счет какого-нибудь уменьшения пашни. Напротив, пшеница и ячмень долгое время выращивались в таком количестве, что их было вполне достаточно для снабжения хлебом и пивом местного населения, которое в течение столетия почти удвоилось; в то же самое время премии за вывоз зерна поддерживали английский экспорт; и только во второй половине века, когда население стало расти еще быстрее, импорт зерна постепенно сравнялся с экспортом, а потом и превзошел его.
Улучшения в земледелии достигли такой степени, что пшеница стала расти там, где прежде выращивались лишь рожь, овес или ячмень. Почва и климат Англии были подходящими для возделывания пшеницы лишь в немногих районах, главным образом в Восточной Англии. Однако искусственное повышение плодородия земли при помощи капитала, доставляемого крупными поместьями, дало блестящие результаты, и в течение XVIII века англичане всех классов стали настолько разборчивыми, что требовали чистого пшеничного хлеба, считавшегося прежде роскошью, доступной лишь богачам. Это новое требование возникло в городе, но распространилось и на деревню, даже на нищих. Отказ покупать более грубый хлеб из непросеянной муки побудил нечестных пекарей добавлять различные примеси при выпечке белого хлеба и вредно сказался на здоровье и зубах англичан. Но это было доказательством действенности капиталистического земледелия.
Социальной ценой, уплаченной за этот экономический выигрыш, было уменьшение числа независимых земледельцев и рост количества безземельных батраков. В значительной степени это было неизбежное зло, и оно не было бы очень велико, если бы возросший дивиденд в сельском хозяйстве распределялся справедливо. Но в то время как рента лендлорда, десятина священника и прибыль фермера и посредника быстро выросли, сельскохозяйственный рабочий, лишенный даже его небольших прав на землю и возможности устроить членов своей семьи на работу в промышленности, не получал за свой труд достаточно высокой заработной платы, а в южных графствах очень часто был вынужден обречь себя на полную зависимость от хозяина и доходил даже до пауперизма.
Быстрый рост численности населения снизил рыночную цену труда в то самое время, когда рабочий терял свои независимые источники существования. Батрак эпохи Георга III не мог, следовательно, требовать за свой труд обеспечения того прожиточного минимума, которого могли добиться его предки в царствование Эдуарда III, когда «черная смерть» сократила количество рабочих рук. Кроме того, бедняки были теперь безоружны и не умели воевать. «Луки и топоры» не могли уже сделать чернь столь грозной, как в период восстания 1381 года.
Тяжелое положение крестьян не привлекало теперь такого внимания государственных людей и публицистов, как во время значительно менее распространенных огораживаний тюдоровской эпохи. Тогда огораживание рассматривалось как общественное преступление; теперь его рассматривали как общественный долг. Не встречая симпатии со стороны тех классов, которые издавали законы об огораживании, крестьянин был не в состоянии успешно отстаивать свои интересы. Когда он терял свою полоску в открытом хлебном поле или пастбище для своей коровы на общинном выгоне, то несколько гиней, данных ему в обмен, скоро проматывались им в трактире. Даже если парламентский комиссар возмещал крестьянину теряемые им общинные права несколькими акрами земли, расположенной далеко от его дома, как мог он огородить и осушить их? Он мог только снова дешево продать их состоятельным людям, стремившимся приобрести новые компактные фермы, занимавшие место общинных выгонов и открытых полей. Только эти лица были в состоянии огородить и осушить землю за свой собственный счет, рассматривая это как выгодное помещение капитала, который мог через некоторое время примести большой доход.
В будущем, для того чтобы возделывать землю Англии, надо было или иметь свой собственный капитал, или иметь за собою капитал других. Фермер-арендатор пользовался капиталом своего лендлорда, и оба прибегали к займам из банка. Английская банковская система выросла вместе с огораживанием земли, так как даже богачи производили огораживания и различные улучшения на деньги, взятые взаймы. При такой системе представители беднейшего класса, которые не могли пользоваться кредитом, имели незначительные возможности создать свою ферму, а в дальнейшем эти возможности еще более сократились из-за слишком частого пренебрежения их интересами при новом распределении деревенских земель. Огораживание общинных выгонов, хотя и очень желательное с точки зрения национального производства, означало лишение бедного человека его права иметь корову и гуся, а часто и многих других прав – права заготовки топлива и т. п., пользуясь которыми, он поддерживал независимое существование.
Это, правда, отнюдь не означает, что при новой системе деревенская беднота была в худшем материальном положении, чем раньше. Но ее экономическая независимость от сквайра и фермера уменьшилась. В аристократический век это не казалось важным. Но когда в последующую эпоху демократия, обретшая новые силы в городах, обратила суровый, острый взгляд на «сельскохозяйственные интересы», она почувствовала инстинктивное отвращение к аристократическим пережиткам. В Англии, в отличие от других европейских стран, крестьянство уже не просило больше защиты. И поэтому, когда в конце царствования Виктории начало сказываться действие иностранной конкуренции, городские избиратели уже не хотели выслушивать никаких предложений, имеющих своей целью спасти британское земледелие от разрушения.
В XVIII веке многие из тех, кто был обезземелен в связи с переменой системы земледелия, покидали землю довольно охотно и искали компенсации в другом месте. Большая часть семей купцов, промышленников и лиц свободны профессий, выросших и процветавших в новой и более богатой Англии, происходила из среды мелких сквайров, йоменов и крестьян, которые переселялись в города, имея карманах лишь небольшую сумму денег, полученных от продажи своей земли. Врожденное стремление англичанина к «возвышению» дало толчок быстрому росту его богатства, силы и культуры как в деревне, так и в городах и за морем. Только в некоторых отношениях англичане являются «консервативной нацией». Промышленным и сельскохозяйственным переворотом они проложили путь для всего мира. И так как они первые вступили на этот новый путь, они сделали некоторые ужасные ошибки.
Перемещение из деревни в город как людей, так и производства обусловливалось улучшением сухопутных и водных перевозок. Артур Юнг, всегда принимавший близко к сердцу интересы сельского населения, радостно отмечал, что, когда были сделаны хорошие дороги с заставами, открывшие доступ к новым рынкам и давшие возможность более быстрого распространения новых идей вследствие более частых путешествий, рента в сельских районах быстро возросла вместе с улучшением земледелия. С другой стороны, он видел и оплакивал начало того «сельскохозяйственного исхода», который начался с этого времени. И это также он приписывал лучшим дорогам. В своих «Письмах фермера» он писал:
«Находить недостаток в хороших дорогах кажется, по-видимому, парадоксом и абсурдом, но тем не менее несомненно, что возможность более быстрых путешествий опустошает королевство. Молодые мужчины и женщины в сельских местностях сосредоточивают свои взоры на Лондоне как на своей последней надежде. Они нанимаются на работу в деревне только затем, чтобы собрать достаточное количество денег для поездки в Лондон, что было не таким легким делом в те времена, когда почтовая карета расстояние в 100 миль проползала в 4 или 5 дней. Плата за проезд и путевые расходы были очень высокими. А теперь! Деревенский парень за 100 миль от Лондона впрыгивает на козлы кареты утром и за 8 или 10 шиллингов к ночи прибывает в город, что составляет уже существенную разницу. Кроме того, в связи с тем, что движение сделалось более удобным, число тех, кто бывал в Лондоне, возросло в десять раз, и, конечно, десятки раз хвастливые речи звучали в ушах деревенских глупцов, чтобы побудить их покинуть их здоровые, чистые поля ради грязного, зловонного и шумного района».
Без улучшения средств сообщения ни промышленный, ни сельскохозяйственный переворот не мог бы иметь места. Подданные королевы Анны имели большие корабли, на которых свободно отправляли свои тяжелые товары в Америку и Индию, но внутри своего собственного острова мешки угля и металлические изделия все еще перевозили на спинах вьючных лошадей, так как колесный транспорт застрял бы в грязи и разбился на выбоинах дорог, изобиловавших глиняными ямами. Без изменения такого положения вещей нельзя было многого достичь на пути экономического прогресса.
Подлинных дорожных властей не существовало – ни местных, ни центральных. Содержание в хорошем состоянии дорог, которыми пользовались главным образом дальние путешественники, было обязанностью (как это ни нелепо) не графства, а прихода. Приходы, естественно, выполняли эту работу кое-как или совсем не выполняли.
Это, правда, отнюдь не означает, что при новой системе деревенская беднота была в худшем материальном положении, чем раньше. Но ее экономическая независимость сквайра и фермера уменьшилась. В аристократический это не казалось важным. Но когда в последующую эпоху демократия, обретшая новые силы в городах, обратила суровый, острый взгляд на «сельскохозяйственные интересы, она почувствовала инстинктивное отвращение к аристократическим пережиткам. В Англии, в отличие от других европейских стран, крестьянство уже не просило больше защиты. И поэтому, когда в конце царствования Виктории начало сказываться действие иностранной конкуренции, городские избиратели уже не хотели выслушивать никаких предложений, имеющих своей целью спасти британское земледелие от разрушения.
В XVIII веке многие из тех, кто был обезземелен в связи с переменой системы земледелия, покидали землю вольно охотно и искали компенсации в другом месте. Большая часть семей купцов, промышленников и лиц свободных профессий, выросших и процветавших в новой и более богатой Англии, происходила из среды мелких сквайров, йоменов и крестьян, которые переселялись в города, имея карманах лишь небольшую сумму денег, полученных от продажи своей земли. Врожденное стремление англичанин «возвышению» дало толчок быстрому росту его богатства силы и культуры как в деревне, так и в городах и за морем. Только в некоторых отношениях англичане являются «консервативной нацией». Промышленным и сельскохозяйственным переворотом они проложили путь для всего мира. И так как они первые вступили на этот новый путь, они сделали некоторые ужасные ошибки.
Перемещение из деревни в город, как людей, так и производства обусловливалось улучшением сухопутных и водных перевозок. Артур Юнг, всегда принимавший близко сердцу интересы сельского населения, радостно отмечал, что, когда были сделаны хорошие дороги с заставами, открывшие доступ к новым рынкам и давшие возможность более быстрого распространения новых идей вследствие более частых путешествий, рента в сельских районах быстро возросла вместе с улучшением земледелия. С другой стороны, он видел и оплакивал начало того «сельскохозяйственного исхода», который начался с этого времени. И это также он приписывал лучшим дорогам. В своих «Письмах фермера» он писал:
«Находить недостаток в хороших дорогах кажется, по-видимому, парадоксом и абсурдом, но тем не менее несомненно, что возможность более быстрых путешествий опустошает королевство. Молодые мужчины и женщины в сельских местностях сосредоточивают свои взоры на Лондоне как на своей последней надежде. Они нанимаются на работу в деревне только затем, чтобы собрать достаточное количество денег для поездки в Лондон, что было не таким легким делом в те времена, когда почтовая карета расстояние в 100 миль проползала в 4 или 5 дней. Плата за проезд и путевые расходы были очень высокими. А теперь! Деревенский парень за 100 миль от Лондона впрыгивает на козлы кареты утром и за 8 или 10 шиллингов к ночи прибывает в город, что составляет уже существенную разницу. Кроме того, в связи с тем, что движение сделалось более удобным, число тех, кто бывал в Лондоне, возросло в десять раз, и, конечно, десятки раз хвастливые речи звучали в ушах деревенских глупцов, чтобы побудить их покинуть их здоровые, чистые поля ради грязного, зловонного и шумного района».
Без улучшения средств сообщения ни промышленный, ни сельскохозяйственный переворот не мог бы иметь места. Подданные королевы Анны имели большие корабли, на которых свободно отправляли свои тяжелые товары в Америку и Индию, но внутри своего собственного острова мешки угля и металлические изделия все еще перевозили на спинах вьючных лошадей, так как колесный транспорт застрял бы в грязи и разбился на выбоинах дорог, изобиловавших глиняными ямами. Без изменения такого положения вещей нельзя было многого достичь на пути экономического прогресса.
Подлинных дорожных властей не существовало – ни местных, ни центральных. Содержание в хорошем состоянии дорог, которыми пользовались главным образом дальние путешественники, было обязанностью (как это ни нелепо) не графства, а прихода. Приходы, естественно, выполняли эту работу кое-как или совсем не выполняли.
Так как в XVIII веке казалось невозможным реформировать или привести в порядок местное самоуправление, то прибегали к помощи частной инициативы, в которой нашел свое выражение прогрессивный дух этого века. Парламентские власти разрешали компаниям дорожных застав сооружать заставы и ворота и взимать пошлину с тех, кто действительно пользуется дорогами, взамен чего компания должна была восстанавливать и поддерживать отдельные участки дорог. Между 1700 и 1750 годами было принято 400 законов о дорогах, между 1751 и 1790 годами – 1600. Это был главный механизм, при помощи которого в ганноверскую эпоху постоянно улучшалось сухопутное сообщение. Было много стадий в процессе улучшения дорог и в соответствии с этим также много стадий в процессе улучшения экипажей. Во времена королевы Анны «застекленную карету» тащила шагом упряжка в 6 лошадей. К 1760 году почтовая карета, запряженная двумя или четырьмя лошадьми, стала более легкой и быстрой, но была еще без рессор и имела, подобно фургону, тяжелые колеса; в ней было шесть пассажирских мест внутри, но ни одного места снаружи, хотя беднякам иногда разрешалось примоститься рядом с багажом накрыше. Кареты часто останавливались и опрокидывались; для их охраны требовалось много стражников с мушкетами, так как разбойник, будучи еще грозой для проезжих, мог легко пресечь всякую попытку убежать. В 1775 году нориджскую карету подстерегли в Эппингском лесу семь разбойников, из которых стражник убил троих прежде, чем сам был убит на своем посту.
По мере улучшения дорог и частные экипажи становились легче и элегантнее. В конце столетия стало модным развлечением катать леди в двухместном фаэтоне с высокими колесами, запряженном парой изящных лошадей. Для длительных путешествий обычно нанимали почтовые кареты с форейторами, особенно на главных магистралях, где на почтовых постоялых дворах можно было регулярно сменять лошадей. На дорогах было тесно, как никогда прежде, ибо, в то время как число карет уже возросло, число всадников еще не уменьшилось. Широкое развитие социального, торгового и культурного общения в дни Сэмюэля Джонсона, вызванное главным образом улучшением средств сообщения, было причиной и характерной особенностью высокой цивилизации эпохи.
Действительно, страсть к путешествиям охватила англичан всех классов, каждого соответственно его средствам. Наиболее богатые совершали большие поездки во Францию и Италию; после 6 месяцев или 2 лет, проведенных порой в гостиницах, а порой и в качестве гостей в домах иностранной знати, они возвращались в свои загородные дома с большим количеством картин и статуй, выбранных их хорошим вкусом или навязанных их невежеству. Стены английских помещичьих домов увешивались подлинными и поддельными произведениями старых мастеров, привезенными из-за моря, бок о бок с местными произведениями, которые в таком изобилии доставлялись Рейнольдсом, Ромни и Гейнсборо. Английские «милорды» (а все английские джентльмены были «милордами» для заграничных содержателей гостиниц) пользовались почти полной монополией в туристических путешествиях по Европе, и их требования стали стандартом порядков для почтовых станций от Кале до Неаполя. В 1785 году Гиббону говорили, что 40 тысяч англичан, считая хозяев и слуг, путешествовали или жили на континенте.
Внутри страны улучшенные дороги уводили посетителей настолько далеко, что в 1788 году, по словам Уилберфорса, «берега Темзы» были едва ли более посещаемы, чем берега озера Уиндермир, хотя пока еще никто, кроме пастухов, не поднимался в соседние горы. Благодаря лучшим дорогам и экипажам Бат во времена «щеголя» Нэша был так переполнен посетителями, что сочли уместным перестроить его улицы в стиле, соответствующем великолепию и комфорту этого века. По первой переписи 1801 года было обнаружено, что этот модный курорт насчитывает 30 тысяч жителей и по населенности занимает девятое место в списке английских городов.
Но состояние дорог было еще далеко не всюду одинаковым и находилось в зависимости от местных природных условий. Еще в 1789 году проезжие дороги в Херефордшире после осенних дождей становились не проезжими для фургонов и телег, и в течение полугода жители графства могли посещать друг друга только верхом; молодые женщины ездили верхом, сидя на подушках за седлом братьев; к концу апреля поверхность выравнивалась при помощи плугов, каждый из которых тащили 8 или 10 лошадей. В большинстве графств, однако, главные проезжие дороги уже не находились в «первобытном» состоянии, оно сохранилось лишь на проселочных дорогах.
Постоянно применяя все новые технические методы для улучшения поверхности дорог, хранители дорожных застав достигли наконец совершенства дорог, построенных по методу Макадама, по которым сменяемые на почтовых станциях лошади мчали кареты со скоростью до 10 миль в час. Эта перемена произошла в период недолгой славы проезжих дорог – в период между Ватерлоо и введением железных дорог. К 1840 году в Англии было 22 тысячи миль хороших проезжих дорог и около 8 тысяч застав и шлагбаумов, построенных для взимания пошлин.
С улучшением проезжих дорог перевозка товаров увеличилась в той же степени, как и перевозка пассажиров. Фургоны сначала дополняли, а потом и совсем заменили вьючных лошадей. Одним из наиболее обычных звуков на дороге была мелодия колокольчиков, подвешенных на хомутах лошадей и возвещающих о приближении фургона, запряженного четырьмя крупными лошадьми. По неписаным дорожным законам фургонная повозка имела преимущества, и всякий другой транспорт должен был отъезжать в сторону, чтобы дать ей проехать.
Улучшения, проведенные в области каботажного плавания, были едва ли менее важными для беспрепятственного промышленного развития, чем улучшение дорог. Первая половина XVIII века была периодом большой активности в деле углубления судоходных рек и снабжения их шлюзами; вторая половина увидела уже сооружение новых искусственных водных путей. Герцог Бриджуотер известен как «отец каботажного плавания», но он может быть более точно назван отцом английских каналов, так как в Англии всегда существовало «внутреннее судоходство» по естественному течению рек: Йорк, Норидж и многие другие центры внутренней торговли всегда зависели от водного транспорта. Герцог Бриджуотер, подобно многим другим пэрам, был собственником угольных копей и относился к своим обязанностям и возможностям очень серьезно. Для того чтобы соединить каналом свои угольные копи в Уорсли с Манчестером, этот вельможа в 1759 году объединил свое парламентское влияние и свой капитал с гением полуграмотного инженера Бриндли. Это знаменитое сотрудничество, настолько же характерное для английской знати, насколько противоречащее обычаям знати на континенте, положило начало тому движению, которое в ближайшие 50 лет покрыло всю Англию сетью водных путей. Благодаря развитию инженерной техники были проведены туннели через Пеннины и Котсуолд и возведены высокие акведуки над речными долинами.
Строительство каналов началось в быстро развивающемся промышленном районе Южного Ланкашира и в западной части центральных графств и скоро распространилось по всей стране. В шестидесятых годах Бриндли, поддерживаемый герцогом, завершил замечательное сооружение инженерного искусства – Манчестерско-Ливерпульский канал. В следующее десятилетие они соединили Мерсей с Трентом Большим соединительным каналом; влияние этого канала на те части страны, которые он обслуживал, было описано в 1782 году Томасом Пеннантом следующим образом:
«Коттедж, ранее лишь наполовину покрытый жалкой соломенной крышей, покрывали теперь прочной черепицей или шиферными плитами, привезенными с отдаленных холмов Уэльса или Камберленда. Поля, прежде бесплодные, были теперь осушены и благодаря удобрению, привезенному по каналам без уплаты пошлины, покрылись прекрасной зеленью. Те места, в которых редко употреблялся уголь, теперь были полностью снабжены этим важным товаром на доступных условиях. Особенно важным и полезным для общества было то, что монополисты-скупщики зерна уже не могли осуществлять свою постыдную торговлю, так как было открыто сообщение между Ливерпулем, Бристолем и Гуллем и канал проходил через местности, изобилующие зерном, что делало возможной неизвестную в прошлые века перевозку зерна».
Система каналов и дорожных застав не только стимулировала обмен товаров внутри страны, но и ускорила рост заморской торговли. Товары из Европы, Америки, Азии и Африки могли теперь продаваться в большом количестве по всей Англии; их покупали за границей теперь более охотно благодаря возросшему экспорту угля и фабричных товаров.
Теперь стало легко доставлять водным путем в порты Лондона, Ливерпуля, Бристоля или Гулля для погрузки на заморские корабли не только огромные массы минералов, но и текстильные товары из «Черного края» и Пеннин и хрупкие изделия стаффордширских гончарен.
Таким образом, британская торговля начала принимать современную форму снабжения необходимыми предметами потребления всего населения вместо поставки предметов роскоши только для богатых. В Средние века заморская торговля Англии доставляла вино, специи, шелк и другие модные товары для знати, рыцарей и купцов, мало заботясь о потребностях сельского населения. Во времена Стюартов такое положение еще сохранялось в силе, хотя больший тоннаж кораблей свидетельствовал об увеличении объема импорта и экспорта и употребление предметов роскоши распространялось среди более широкого богатого среднего класса этого периода. Но только в XVIII веке предметы общего потребления стали привозиться из-за моря для того, чтобы дать возможность одеться и утолить свою жажду и более скромно живущим подданным короля.
Возьмем один пример из многих: в царствование Карла II тысячи зажиточных лондонцев посещали «кофейни», чтобы насладиться новым напитком, привозимым Ост-Индской компанией. Но в начале царствования Георга III люди всех сословий в городе идеревне уже пили чай в собственныхдомах. В своих «Письмах фермера» Артур Юнг жаловался в 1767 году, что «на чай и сахар расходуется столько лишних денег, что их хватило бы на хлеб для 4 миллионов подданных». Чаепитие превратилось в национальный обычай; чай стал соперником спирта и пива; «напиток, веселящий, но не опьяняющий» был уже так же хорошо известен и так же высоко ценился в домике рабочего, как и в гостиной поэта Каупера. В 1797 году Фредерик Иден писал:
«Всякий, кто хочет дать себе труд войти в хижины Мидлсекса и Суррея во время еды, найдет, что в бедных семьях чай является обычным напитком не только утром и вечером, но обычно его пьют в больших количествах и за обедом».
Беднота подслащала горький напиток большим количеством сахара. Сахар с Британских островов Вест-Индии был теперь на каждом столе, тогда как в дни Шекспира он доставлялсяиз средиземноморских портов в весьма ограниченном количестве и считался предметом роскоши [53].
До тех пор, пока Питт-младший не снизил высокие пошлины, контрабандная торговля чаем велась в громадных масштабах. В 1784 году Питт подсчитал, что в королевстве было потреблено 13 миллионов фунтов чая, из которых только за 5 с половиной миллионов была заплачена пошлина. Контрабанда добавляла к жизненным ресурсам народа почти столькоже, сколько браконьерство, и считалась столь же невинной. Священник Вудфорд, действительно хороший и респектабельный человек, писал 29 марта 1777 года:
«Контрабандист Эндруз принес мне этой ночью мешок зеленого чая весом в 6 фунтов. Он нас немного испугал свистом под окном гостиной как раз тогда, когда мы ложились спать. Я дал ему джина и заплатил за чай 10 шиллингов 6 пенсов за фунт».
Обитатели этого пасторского дома, находящегося внутри страны, думали и говорили о «контрабандисте Эндрузе» точно так же, как кто-нибудь может говорить о «бакалейщике Эндрузе».
Проникновение чая, сахара и табака во все дома (или через таможни, или в мешке контрабандиста), а также резкое расширение импорта строевого леса, доставляемого главным образом из-за границы, приближают нас к историческим границам современной Англии, государства, которое существует как центр огромной заморской империи и еще большей заморской торговли, обеспечивающей все классы предметами массового потребления. Ко времени вступления на престол Георга III некоторые из главных отраслей английской промышленности, особенно быстрорастущая хлопчатобумажная промышленность Ланкашира, уже полностью зависели от сырья, привозимого из отдаленных стран. Для викторианской эпохи к списку товаров, доставляемых главным образом из-за моря, осталось добавить только хлеб и мясо. Это устраняло последнее препятствие к увеличению богатства и населения маленького острова, но было очень опасно в случае войны в будущем.
Вернемся, однако, к середине XVIII века. Лондонский порт принимал корабли из всех районов земного шара; кроме того, он монополизировал ост-индскую торговлю Англии. Из Китая и Индии к берегам Темзы привозились теперь не только селитра, специи и шелка; чай, фарфор и хлопчатобумажные ткани импортировались теперь из этих отдаленных мест в таких количествах, что становились доступными массе населения. Они создавали новые потребности, и народный спрос был так велик, что местные фабриканты начали производить хлопчатобумажные ткани и фарфоровые изделия.
Торговлю с американскими колониями наряду с Лондоном вели Бристоль и Ливерпуль. Ливерпуль в Средние века был подсобным портом Честера, но так как устье реки Ди было занесено илом, то старый римский город постепенно лишился своей морской торговли, а город-выскочка в устье Мерсея занял его место. По переписи 1801 года Ливерпуль насчитывал 78 тысяч жителей, больше, чем какой-либо другой провинциальный город, за исключением соседнего Манчестера-Сэлфорда с его 84 тысячами жителей.
Отраслью американской торговли, монополизированной Ливерпулем, была работорговля, тесно связанная с хлопчатобумажным производством Ланкашира. Более половины рабов, перевозимых через Атлантический океан, совершили этот переезд в трюмах английских кораблей, хотя в ужасной торговле участвовали также французские, голландские и португальские конкуренты. В 1771 году 58 невольничьих кораблей отплыли из Лондона, 23 – из Бристоля и 107 – из Ливерпуля. Они перевезли за этот год 50 тысяч рабов.
Одним из первых, кто стал протестовать против работорговли по причинам морального характера, был Сэмюэль Джонсон, вторым был Хорее (Горацио) Уолпол, который уже в 1750 году писал Манну:
«Последние две недели мы заседали по поводу Африканской компании; мы, британский сенат, этот храм свободы и оплот протестантского христианства, последние 2 недели обдумывали способы – как сделать более эффективной эту ужасную перевозку проданных негров! Для нас очевидно, что ежегодно 46 тысяч этих несчастных продается только на наши плантации! Стынет кровь! Я не хотел, чтобы мне пришлось говорить, что я голосовал за это, действуя в интересах Америки».
Ливерпульские невольничьи суда везли хлопчатобумажные ткани из Ланкашира в Африку, меняли их на негров, везли негров через Атлантику и возвращались нагруженные хлопком, табаком и сахаром. Плантаторы Вест-Индских островов и американского материка покупали ланкаширские хлопчатобумажные ткани, чтобы одевать своих рабов, а доставка негритянской рабочей силы из Африки позволяла им заготовлять сырье для ланкаширской промышленности. Преступная торговля и невинное производство во многих отношениях взаимно помогали друг другу.
Хлопчатобумажные ткани употреблялись уже всеми классами Англии и стали страшным соперником «добротному английскому сукну». В памфлете 1782 года мы читаем: «Что касается женщин, то они едва ли носят теперь что-нибудь другое, кроме бумажной ткани, коленкоров, муслина или шелка; теперь они думают о шерстяных материях не больше, чем мы о старом календаре. Мы едва ли имеем теперь в наших комнатах что-нибудь шерстяное, кроме шерстяных одеял, да и они были бы охотно отброшены в сторону, если бы мы могли не мерзнуть без них». В середине века увеличение привоза хлопка-сырца дало многим тысячам мужчин, женщин и детей занятие в их собственных домах. Дом рабочего, занятого обработкой хлопка-сырца, был миниатюрной фабрикой; женщины и дети очищали хлопок, мужчины ткали. Эта домашняя система была источником независимости и давала средства существования для многих семей и для многих одиноких женщин, которые иначе были бы нищими. Но это не был идеальный образ жизни, так как дом, который был хлопчатобумажной мастерской, не мог быть ни чистым, ни комфортабельным, а хозяйка, также работавшая в этой мастерской, могла отдавать стряпне и домашним обязанностям только остаток своего времени.
В этом столетии изобретения постепенно все больше и больше превращали мастерские в настоящие хлопчатобумажные фабрики, которые обычно располагались около источника проточной воды, в холмистой местности; до тех пор пока пар не заменил энергию воды, хлопчатобумажная промышленность не концентрировалась в городах. Перепись 1801 года показала, что Ланкашир вырос за 100 лет настолько, что превратился из графства с 160 тысячами жителей в графство с 695 тысячами жителей, богатейшее и наиболее населенное после Мидлсекса. Эта перемена была вызвана обработкой хлопка – в домах ремесленников или на фабриках, расположенных у речек, текущих со склонов Пеннин, – для нужд морской торговли Ливерпуля и для торговли и различных текстильных мануфактур Манчестера.
Хлопчатобумажная промышленность была уже весьма развита, но шерстяная еще продолжала занимать первое место и была наиболее распространенной национальной промышленностью.
Она продолжала оставаться фаворитом парламента, и ей покровительствовал тщательно разработанный кодекс законов против экспорта сырой шерсти и импорта готового сукна. После изобретения прялки «Дженни» Харгривсом (1767) и «мюль-машины» Кромптоном (1778) прядение шерсти постепенно перемещалось из домиков ремесленников на фабрику, из деревни в город, хотя процесс этот не был завершен до XIX века. Но более квалифицированным ткацким ремеслом еще занимались на фермах, имевших по одному или по нескольку ткацких станков. Тканье шерстяных материй еще было источником дополнительного дохода для сотен деревень по всей Англии. Купцы Лидса и Галифакса, Нориджа и Эксетера собирали и распределяли готовую продукцию. Только с появлением в более позднюю эпоху паровой энергии ткачи последовали за прядильщиками из отдельных домишек на фабрики, из деревень и маленьких городов в большие города. В течение нескольких поколений, постепенно изменяясь, домашняя и фабричная системы в текстильной промышленности существовали бок о бок.
Британские Вест-Индские острова и южные колонии североамериканского материка посылали в метрополию не только хлопок, но также сахар и табак. Это был век длинных глиняных курительных трубок. Затем, в начале царствования Георга III, почти внезапно курение среди высших классов вышло из моды. «Курение вышло из моды», – сказал Сэмюэль Джонсон в 1773 году. И оно оставалось «немодным» в течение 80 лет. По-прежнему можно было видеть армейских офицеров, подобных Мароу, куривших трубки и сигары, что символизировало их бесшабашное отношение к жизни. Но другие джентльмены считали употребление табака «недостойным» или «легкомысленным» занятием до тех пор, пока Крымская война не ввела снова в моду курение и ношение бороды – и то и другое из подражания «нашим крымским героям».
Но народные массы не были связаны капризами моды, и национальное потребление табака в царствование Георга 11 все возрастало. То же происходило и с потреблением хлопчатобумажной ткани и сахара. Поэтому Вест-Индские острова считались богатейшей драгоценностью английской короны. Наиболее близкими к «американским миллионерам», известным в Англии тех дней, были Креолы – британские собственники Вест-Индских рабовладельческих плантаций, в которые было вложено много английских капиталов. Другим богатым заморским слоем английского общества, вызывавшим много разговоров и критики, были «набобы». Это прозвище давали возвратившимся из Индии англичанам, эксплуатировавшим новые территории, завоеванные Робертом Клайвом, с беззастенчивой жадностью, предел которой положило следующее поколение английских правителей Индии. «Набобы» поднимали цену парламентских мест и восстанавливали против себя давно сложившееся аристократическое общество, в которое они вторгались со своими чужеземными обычаями.
Северные колонии американского материка покупали английское сукно и другие фабричные товары и посылали взамен строевой лес и железо. Лес, железо и корабельные материалы приходилось покупать также в Скандинавии и в Прибалтике, так как Англия XVIII века опустошила свои природные леса и не имела собственной древесины ни для кораблестроения, ни для строительства домов, ни для топлива. Уголь в значительной мере возмещал недостаток в топливе для домашних цехов и для многих мануфактур, но употребление его в больших масштабах для выплавки железа еще только начиналось. Поэтому, несмотря на потенциальное богатство Англии железной рудой, железо ввозилось из тех стран, которые еще могли сжигать девственные леса.
Быстрый промышленный прогресс Англии в XVIII веке еще не портил в эту счастливую эпоху прелести ландшафта острова. Лондон оставался еще «единственным большим городом», и Вордсворт в 1802 году думал, «что на земле нет ничего более прекрасного», чем вид, открывающийся с Вестминстерского моста. Постройки еще более подчеркивали красоту суши, а корабли – красоту моря. Но «век угля и железа» должен был все-таки наступить.
Джосиа Веджвуд (1730-1795) является характерной фигурой того периода, когда промышленность, уже начинавшая выпускать массовую продукцию, еще не порвала с хорошим вкусом и искусством. Он типичен для утонченного английского буржуазного общества XVIM века. Средний класс предпринимателей, даже расширяя свои дела в большом масштабе, находился еще в тесной личной связи со своими рабочими; многие из предпринимателей принимали активное участие в развитии культуры и искусства этого периода.
Импортные товары английской и голландской Ост-Индских компаний уже побудили Европу соперничать с Азией в области производства художественных изделий из фарфора. И Англия не осталась в этом состязании позади. Фарфор из Челси, Боу, Дерби и Вустера соперничал с изысканными произведениями Севра и Мейсена. Все это, правда, были предметы роскоши, недоступные англичанину среднего достатка. Но Веджвуд из своих стаффордширских мастерских доставлял для всех классов фаянсовые и яшмовые изделия, создавая обширный рынок и внутри страны, и за границей. Он был одинаково удачлив в производстве как необходимых предметов потребления, так и предметов роскоши. С одинаковым рвением он трудился и над отысканием новых типов красоты, знакомясь с классическими образцами искусства, недавно найденными при раскопках Помпеи, и над расширением и удешевлением своего производства. Веджвуд беспрерывно испытывал новые научные методы, искал новые формы и узоры. Он неутомимо поощрял сооружение каналов и хороших проезжих дорог для того, чтобы уменьшить транспортные издержки и процент поломок при перевозке товара, и для того, чтобы связать свои отдаленные стаффордширские гончарни, построенные в глубине страны, с Корнуоллом – месторождением фарфоровой глины – и с заморскими рынками, которые он надеялся использовать. В период между 1770 и 1790 годами он наводнил своими изделиями не только Англию, но и Европу и Америку. В течение этого периода оловянная посуда вышла из общего употребления и была заменена глиняными тарелками и сосудами, так что еда и питье стали более гигиеничными и более приятными. В следующем поколении люди уже не говорили больше об «обыкновенной оловянной посуде», но об «обыкновенном Веджвуде». Так, например, одна радикальная газета писала сатирически о «лордах и леди», как о тонких фарфоровых безделушках нации, стоящих гораздо выше простой веджвудовской посуды – народной массы.
Наиболее значительный и характерный этап всего промышленного переворота – момент соединения железа с углем – еще только наступал. Со времени царствования королевы Анны ряд поколений семьи Дерби внедрял в производство метод использования кокса вместо древесного угля при выплавке чугуна. В! 779 году третий из Абрахамов Дерби закончил постройку первого в мире железного моста через Северн, поблизости от фамильных заводов в Коулбрукдейл, в Шропшире. Значительное развитие производства железа, которое последовало за этим открытием с возрастающей скоростью, особенно в начале XIX века, имело место главным образом в Южном Уэльсе, Южном Йоркшире и в Тайнсайде – в тех районах, где уголь и железо находились вместе, – там, где железо находилось близко от моря, или там, где до него можно было добраться по рекам и каналам. Однако «век угля и железа» нельзя датировать временем, более ранним, чем период наполеоновских войн.
В 1769 году Аркрайт взял патент на гидравлический станок, а Джеймс Уатт – на свою паровую машину; 1769 год, следовательно, был годом рождения механической движущей силы в хлопчатобумажной промышленности и технике. И Уатт, и Аркрайт жили в особой атмосфере беспокойного севера, увлеченного разработкой проектов механизации производства. В последовавшую за 1760 годом четверть века было выдано больше патентов, чем за предыдущие полтора столетия.
Постоянный рост английской промышленности и заморской торговли в течение всего XVIII века зависел от наличия денег для этих целей. Найти же их было тогда не так легко, как в более поздние времена: правительство являлось сильным конкурентом в займах. Но техника денежного рынка в Лондоне совершенствовалась. После упадка Голландии Сити стало «центром мировых финансов, где капитал было получить легче, чем в любом другом месте земного шара». Методы акционерных компаний были дискредитированы после того, как в 1720 году лопнул мыльный пузырь «Компании Южных морей», но они пережили свой позор, и люди научились быть в будущем несколько благоразумнее. Акционерная компания действительно удивительно подходила к социальной структуре этого аристократического, но коммерческого по своему духу столетия, так как земельные магнаты могли, не превращаясь при этом в отвратительных «лавочников», встречаться на заседаниях правления Сити с банкирами, действовать совместно с ними, соединяя свое политическое влияние с их деловым рассудком.
Но в еще большей степени, чем акционерные компании, финансировали промышленный и аграрный переворот растущие повсюду провинциальные банки. Они создавались семьей или одним лицом и, следовательно, не всегда были достаточно надежным кредитором, но в целом были в состоянии удовлетворить необходимыми фондами нужды расширяющихся предприятий.
Ведущую роль в делах Сити и банковского мира Англии стали играть также евреи и квакеры, принося туда свои специфические достоинства.
За время, прошедшее от изгнания евреев при Эдуарде I до возвращения их при Кромвеле, англичане научились самостоятельно вести свои собственные финансовые и деловые предприятия. Поэтому здесь не было опасности иудейского преобладания и ответной реакции антисемитизма. В ганноверский период Англия была достаточно сильна, чтобы перенести умеренный наплыв евреев. Когда процветание Голландии пошло на убыль, многие из евреев двинулись из Амстердама в Лондон и занялись здесь маклерством. Во время Семилетней войны Гидеон Сэмпсон был в Сити важным банкиром; в следующем поколении выдвинулись Голдсмиты, а в 1805 году Натан Ротшильд основал самый известный из всех еврейских банкирских домов в Лондоне, выгодно связав его с предприятиями семьи в других европейских странах. Но наряду с такими известными евреями Сити существовал также низкий тип иудейского ростовщика, к которому (и не без основания) питали отвращение его жертвы – бедняки и расточители всех классов.
Квакеры также становились силой в финансовом мире. Они занимались банковскими делами, и много сделали для установления в этой области лучших английских традиций; честные, спокойные, либеральные и миролюбивые, они оказывали сдерживающее влияние на неистовую жестокость и джингоизм финансового мира.
Глава XIII Англия времен Сэмюэля Джонсона (Продолжение)
Если Англия XVIII века при руководстве аристократии была страной искусства и изящества, то этому способствовала ее социальная и экономическая структура. В те времена в стране еще не наблюдалось значительного развития фабрик с их массовым производством товаров для оптовой торговли, губящим мастерство и художественный вкус их производителей и резко отделяющих рабочих от нанимателей. Большая часть наемных рабочих состояла из искусных ремесленников, часто столь же образованных, состоятельных и занимавших такое же социальное положение, как и мелкие предприниматели и лавочники.
При таких благоприятных обстоятельствах умелыми руками ремесленников создавались для обычного рынка товары, так художественно выполненные и такого высокого качества – фарфор, стекло, серебряные блюда, книги, прекрасно изданные и переплетенные, чиппендейлские стулья и шкатулки, всевозможные предметы, служащие для украшения и бытового употребления, – что до сих пор они высоко ценятся знатоками и коллекционерами. Даже самые обычные высокие стоячие часы, показывавшие время на кухне деревенского дома, были просты и выразительны по рисунку, что являлось результатом сочетания традиции и индивидуальных вариаций бесчисленных мелких фирм.
В архитектуре развивался незамысловатый английский стиль, известный теперь как «георгианский». В те дни все здания, сооруженные в городе или деревне, от городских холлов и сельских особняков до ферм, деревенских домиков и садовых беседок, радовали глаз, потому что правила пропорции в расположении дверей и окон по отношению к размерам всего здания были тогда понятны обычным строителям. Эти простые люди хранили секрет, утерянный позднее претенциозными архитекторами Викторианской эпохи, которые отказались от простого английского георгианского стиля, чтобы следовать сотне экзотических фантазий – греческих, средневековых и т. п., – и были достаточно сведущи во всем, касающемся их работы, кроме ее существа.
В XVIII веке искусство было частью обычной жизни и предпринимательства. Картины Хогарта, Гейнсборо, Рейнольдса, Ромни и Зоффани, школа миниатюрных портретов, которая достигла кульминационного пункта в работах Косвея, гравюры Вертю и Вуллетта, бюсты и статуи Рубийяка, мебель и отделка братьев Адам – все это было не вспышкой гения, протестующего против его окружения, а естественным результатом характера века, частью процесса спроса и предложения. И то же самое может быть сказано о литературном мире Грея, Голдсмита, Каупера, Джонсона, Босуэлла и Бёрка. По своему спокойному, установившемуся единству цели и мысли это был классический век, не похожий на беспокойный викторианский век, когда большинство великих людей – Карлейль, Раскин, Мэтью Арнольд, прерафаэлиты, Уильям Моррис, Уистлер, Браунинг и Мередит – восставали против испорченных идеалов их времени или отважно боролись, чтобы навязать публике свой собственный удивительный гений. Однако XVIII век произвел и величайшего из всех мятежников: Уильям Блейк родился в 1757 году.
«Ветер дует куда хочет»: историк-социолог не может претендовать на то, чтобы объяснить, почему искусство и литература в какой-то период процветали или развивались необычным путем. Но он может указать на некоторые общие условия, благоприятствующие появлению тонкого вкуса и созданию художественных произведений в Англии времен Сэмюэля Джонсона.
Богатство и досуг увеличивались и охватывали все более широкие слои общества; гражданский мир и личная свобода были более обеспечены, чем в какой-либо предшествующий век; войны, которые мы вели за морем при помощи маленьких профессиональных армий, почти не мешали мирным занятиям обитателей счастливого острова. Никогда империя не приобретала чего-либо с меньшими затратами, чем Канаду и Индию. Что касается Австралии, то капитан Кук просто подобрал ее из моря (1770). Даже гибельная война, в которой мы потеряли расположение старых американских колоний, хотя она и причинила значительное расстройство торговле, мало затронула самый уклад жизни в побежденной стране, потому что наше морское могущество, хотя и оспаривалось, но было сохранено; даже тогда, когда французский флот некоторое время плавал по Ла-Маншу (1779), мы боялись не голода, а вторжения, однако опасность скоро миновала. Так же было и во время наполеоновских войн. Один год современной тоталитарной войны более губителен для общества и более разрушителен для высших проявлений цивилизации Англии, чем целый цикл войн в дни старшего или младшего Питта.
Но одни только богатство и безопасность не могут быть достаточными причинами появления великого века вкуса и искусства. Викторианский век был даже более богатым и еще более безопасным; однако дома, построенные в этот период, и находящиеся в них предметы домашнего обихода (за исключением книг) были невысокого качества. В XVIII веке вкус не был испорчен обилием машинной продукции. И производитель, и покупатель товаров ориентировались еще на ремесленные образцы. Художник и производитель еще не придерживались диаметрально противоположных взглядов. Оба были ремесленниками, снабжающими немногочисленную группу покупателей, вкус которой не был испорчен, так как ей еще не приходилось видеть действительно плохих вещей. Жизнь и искусство были еще человеческими, а не механическими, и качество ценилось значительно больше, чем количество.
Другим обстоятельством благоприятным для искусства в Ганноверскую эпоху, было аристократическое влияние, которое окрашивало не только политику, но и многие другие аспекты жизни. Аристократический слой общества тех дней включал не только крупную знать, но и сквайров, и более богатое духовенство, и образованный средний класс, который вступал с ними в близкие отношения. Этот обширный слой, достаточно многочисленный и имевший неоспоримые социальные привилегии, мог позволить себе требовать во всем прежде высокое качество. Высшие слои этой аристократии задавали той буржуазии и интеллигенции, а они за это отдавали знати свои умственные способности и идеи – как, например, Берк снабжал своими идеями лорда Рокингэма, Лидеров общества XVIII века не мучил постоянный зуд стремления доставать все больше и больше денег, производить все больше и больше товаров, неважно какого сорта, как это было с могущественными детьми Маммоны, которые в XIX веке задавали тон в Англии, Америке и во всем мире. Аристократическая атмосфера была более благоприятна для искусства и вкуса, чем буржуазная и демократическая, установившаяся позднее в Англии, или тоталитарная – в Европе.
Действительно, аристократия была даже лучшим покровителем искусства и литературы, чем королевская власть в ее старомодной форме. Монархия иногда может иметь вкус, как это было во Франции во времена Людовика XIV и Людовика XV, но он существовал только при дворе, как единственном признанном центре просвещенности и прогресса. Английская же аристократия имела не один центр, а сотни, разбросанные по всей стране в «жилищах джентльменов» и провинциальных городах, каждый из которых был центром учености и вкуса, что вполне возмещало упадок учености в официальных университетах и упадок вкуса при ганноверском дворе. Георг II покровительствовал только музыке Генделя и ничему больше. Но это не имело большого значения, так как покровительство оказывали тысячи других лиц – хотя, однако, еще не миллионы. Оксфордский университет ничего не сделал для Гиббона, а король не нашел ничего лучшего, как сказать ему: «Ну, ну, мистер Гиббон, пишите, пишите, пишите». Но читающая публика тех дней была достаточно многочисленна и разборчива, чтобы должным образом оценить его величие в тот момент, когда появился первый том его сочинений (1776).
Вкус XVIII века не был совершенным. Ограниченность его симпатий в литературе хорошо известна. Даже в искусстве слишком много, может быть, думали о Рейнольдсе и недостаточно – о Хогарте и Гейнсборо. Основанием Королевской академии в 1768 году Джошуа Рейнольдс сделал покупкукартин модным занятием среди поднимающегося среднего класса, который стремился «приобщиться» к знати. Без сомнения, он обеспечивал этим материальные выгоды для своих собратьев-художников, создавая более широкий спрос на их товары. Но не подготовил ли невольно этот наиболее благородный рыцарь путь для вульгаризации искусства? И не послужила ли его Королевская академия тому, что отдельные виды живописи и скульптуры стали слишком стереотипными?
Романтические обстоятельства, открытие погребенных под пеплом городов Геркуланума и Помпеи, возбудили огромное любопытство, которое, может быть, имело более благоприятные последствия для археологии, чем для искусства. Греко-римская скульптура второго разряда была взята как мерило суждения, и следующее поколение скульпторов Академии, Ноллекенс и Флаксман, настаивало на том, что все статуи, даже современных британских государственных деятелей, должны отливаться по этому образцу, должны быть задрапированы в тогу древних (подобно статуе Фокса в Блумсбери-сквер), да и в других отношениях скульптура должна перестать следовать традиции подлинного Ренессанса Рубийяка (умершего в 1762 году). Но, как это ни странно, в то же самое время Бенджамен Уэст отказался применить этот закон об одежде к исторической живописи: вопреки серьезным, но дружеским протестам самого Рейнольдса Уэст настоял, чтобы его картина осмерти Вольфа (выставленная в Академии в 1771 году) изображала генерала и его людей в современной британской форме, а не в древних доспехах, в каких эти современные герои сражений хотели быть изображенными для большей известности. Своей настойчивостью, проявленной им в борьбе за это смелое нововведение, Уэст добился хартии вольности для школы исторической живописи, которую он основал и сделал чрезвычайно популярной, особенно благодаря распространению гравюр.
Но, несмотря на капризы моды в искусстве и большое разнообразие талантов его выдающихся представителей, весь характер XVIII века был благоприятен для высокого развития искусства и ремесла. В Англии было полно всяких прекрасных вещей всех сортов, старых и новых, местных и иностранных. Дома в городе и деревне были так же богаты, как музеи и художественные галереи, но книги, гравюры, фарфор, мебель и картины не выставлялись напоказ, а находились в домах гостеприимных хозяев на своих естественных местах как предметы домашнего обихода.
И внутренний вид домов, и все, что находилось вне их стен, говорило о том, что Англия была прекрасной страной. Деятельность человека, пожалуй, не только не уменьшала, но даже увеличивала красоту природы. Фермерские строения и домики местного стиля и из местного материала органически входили в спокойный ландшафт и гармонически разнообразили и украшали его. Поля, окруженные каймой ежевики и боярышника, обсаженные высокими вязами, и новые насаждения дуба и бука были прекрасной заменой голых открытых полей, вересковых степей и густого кустарника прежних дней. Правда, не все это исчезло. Еще почти в каждой деревне был парк при господском доме, с группами больших деревьев, под которыми олени ощипывали побеги.
В последнее десятилетие века возникла известная школа художников-пейзажистов, главным образом акварелистов, – за Гертином и юным Тэрнером скоро последовали многие другие, включая Крома и Котмана из нориджской школы и самого Констебля. Они рисовали Англию в наиболее совершенный момент ее жизни, прежде чем началось поругание ее красоты. Вначале модный спрос на портреты и сюжетные картины был больше, чем на пейзажи, несмотря на талант, проявленный в этом жанре Гейнсборо и Ричардом Уилсоном. Но затем в течение всего этого периода возрастало сознательное восхищение пейзажем, ландшафтом в его более широких очертаниях. Оно отражалось и поощрялось литературой, начиная с первого появления «Времен года» Томсона в 1726 году, а затем сказалось и в произведениях Каупера, пока Вордсворт наконец не преобразил и не возвысил эту тему. Но никакое печатное слово не могло выразить единственную в своем роде красоту нашего острова, которую могли показать только художники, – меняющиеся свет и тени неба, земли и листвы в нашей насыщенной водой атмосфере. Таким образом, восхищение англичан своей страной получило отражение в литературе и искусстве, в работах Вордсворта и художников-пейзажистов именно тогда, когда XVIII век кончился и началась новая эра.
Уже в царствование Георга II это новое увлечение и интерес, проявляемый к более дикому и обширному ландшафту, изменил манеру разбивки парков в загородных особняках. Английские сады, преобладавшие при Вильгельме III и Анне, аллеи, украшенные свинцовыми статуэтками в голландском стиле, и живые изгороди из кустов тиса (которым, подстригая их, придавали самую фантастическую форму) исчезали, чтобы дать доступ траве и деревьям парка к стенам помещичьего дома. Фруктовый сад и огород внутри высоких кирпичных стен теперь рассматривались как существенная принадлежность сельского дома, но размещались они не перед окнами фасада, а на небольшом расстоянии.
Без сомнения, при этом были и потери, и выигрыши. Печально, что сотни прелестных свинцовых фигур были уничтожены, переплавленные в пули для стрельбы в американцев и французов. Но уничтожение голландских садов для того, чтобы освободить место для травянистых склонов и деревьев, видимых из окон, свидетельствовало о растущем восхищении природой, которое вскоре заставило англичан находить удовольствие даже в гористых пейзажах, побудило их отправляться в Озерную область, а в следующее столетие – в шотландские горы и Альпы, прежде внушавшие цивилизованным людям отвращение.
Это инстинктивное тяготение к более ярким картинам неукрощенной природы было неизбежной реакцией со стороны все более цивилизирующегося общества. В прежние времена леса и чащи были повсюду совсем рядом, и человек постоянно вел войну с дикой природой; в те дни он искал разнообразия и развлечения от этой борьбы в образцовых садах. Теперь же он победил. Сельская местность, все еще прекрасная, была принесена в жертву живым изгородям и насаждениям. Поэтому теперь природу в ее нетронутом виде следовало искать где-нибудь вдали, согласно мистическим доктринам Руссо.
Пристрастие к горам, появившееся в конце XVIII века, сопровождалось столь же горячей любовью к морскому побережью, доселе пренебрегаемому. Правда, в первой половине века новый обычай посещения приморских мест преследовал медицинские цели. По совету докторов люди отправлялись вдыхать морской воздух в деревне Брайтельмстон (Брайтон), пить целебные воды в Скарборо и даже погружаться в волны. Картина побережья Скарборо в 1735 году показывает плавающих посетителей-мужчин; а в Маргете около 1750 года «передвижная купальня Била», запряженная лошадьми, въезжала прямо в море и из нее представители того или иного пола спускались в воду по закрытой от посторонних взоров лестнице и затем, если желали, могли плыть дальше.
Но те, кто приезжал сюда, чтобы лечить тело, находили также лекарство и для души. Созерцание моря и берегового пейзажа привлекало все больше людей к утесам и отмелям, прежде всего ради здоровья, но также и для духовного наслаждения, которое было одним из средств улучшения здоровья. Знаменательно, что в конце царствования Георга III морские волны были впервые правдиво и любовно изображены Тэрнером. Прежде реально изображали лишь корабли, но не воду, по которой они плавали. Поэты тогда часто описывали ужасы океана; теперь они описывали его красоту и призывали его волноваться!
В XVIII веке местоположение новых сельских домов впервые стало выбираться по эстетическим, а не только по практическим соображениям. Часто дома строились на возвышенном месте, там, откуда «открывалась широкая перспектива». Конечно, люди стремились превзойти самих себя в строительстве своих домов, и это стремление к «улучшению» порой вынуждало их закладывать свои имения, как это было с последним графом Верни из Клайдона.
Мода имеет много странных причуд. Пристрастие к искусственным руинам на много лет предшествовало «готическому возрождению» в литературе, религии и архитектуре. Прежде чем родились Пьюджин или Вальтер Скотт и на полстолетия до того, как стало заметно их влияние, уже воздвигались как часть пейзажа «разрушенные средневековые замки» и некоторые дома украшали причудливым «готическим» орнаментом. Но, к счастью, особняки, которые многие люди воздвигали в XVIII веке для себя, были по большей части построены в георгианском стиле, иногда со следами классики, такими, как портики и фронтоны, которые, однако, естественно сочетались с георгианским стилем, связанным по своему происхождению с Ренессансом. Больше претенциозности было в палладинском и некоторых других стилях, привнесенных в тот или иной особняк его владельцем, который, путешествуя по Италии, видел здания, построенные в таком стиле.
Мебель второй половины XVIIIв .
В этих сельских домах, больших и маленьких, жизнь била ключом. Стремление к налаживанию поместья и к сельскохозяйственным улучшениям заставляло сквайра целые дни разъезжать, а остававшиеся дома женщины также не тратили времени понапрасну, организуя свое обширное домашнее хозяйство, сидя за рукоделием или хлопоча в кладовой. В течение недель, а то и месяцев здесь гостили большие группы приезжих, которых обильно угощали, развлекали охотой, музыкой и литературой, картинами и игральными костями, приводившими иногда к разорению хозяина или гостя. Теперь для сельского дома было обычным иметь библиотеку, соответствующую его величине, наполненную томами в кожаных переплетах, помеченных фамильным гербом, – книгами английских, латинских и итальянских классиков и множеством обширных томов превосходно иллюстрированных путешествий, местных историй или книг, гравюр и эстампов. Цивилизация XX века не имеет ничего аналогичного таким частным библиотекам.
Во многих отношениях это было общество без предрассудков. Чарльз Фокс ввел в моду небрежность в одежде. Палата общин – центр английской аристократии – производила на иностранного посетителя в 1782 году впечатление «дезабилье».
«Нет ничего особенного в одежде членов палаты; они даже приходят в палату в пальто и в сапогах со шпорами. Не является вообще чем-то необычным увидеть члена палаты лежащим растянувшись на одной из скамей, в то время как другие дебатируют. Одни грызут орехи, другие едят апельсины. Без конца входят и выходят; и как только кто-нибудь желает выйти, он становится перед спикером и кланяется ему, подобно школьнику, когда он спрашивает разрешения у учителя».
Может быть, с тех пор как стал существовать мир, ни одно общество мужчин и женщин не наслаждалось жизнью в такой степени и так разносторонне, как английский высший класс в этот период. Литературные, спортивные, светские и политические круги состояли из одних и тех же лиц. Когда наиболее неудачливый из всех великих политиков Чарльз Фокс сказал на смертном ложе, что он жил счастливо, он сказал правду, Высочайшее красноречие, энергичная политика, долгие дни, проведенные на охоте за куропатками, деревенский крикет, бесконечные и интереснейшие беседы, страсть к греческой, латинской, итальянской и английской поэзии и истории – всем этим и, увы, также безумным азартом игрока Фокс наслаждался в полной мере и разделял все эти удовольствия с многочисленными друзьями, которые любили его. Он был не менее счастлив и во время долгих дождливых дней в Холкхэме, которые он проводил, сидя у изгороди, невзирая на дождь, и вступая в дружеские разговоры с пахарем, объяснявшим ему тайну культуры турнепса.
Непостоянство Фокса в выборе рода деятельности и наслаждений вполне отвечало характеру того общества, в котором он так долго был ведущей фигурой. Всякая деятельность города и деревни, общественная и частная жизнь – все привлекало этих либерально настроенных, чистосердечных аристократов, которых соотечественники вовсе не стремились гильотинировать. Наиболее известные среди них имели крупные недостатки. Вопреки выражению «пьет, как лорд» имеется много доказательств, что чрезмерное пьянство было привычкой всех классов английского общества, как низших, так и высших. Но азартная игра и супружеская неверность были, возможно, более заметны в высших кругах общества того времени, пока евангелическое влияние, имевшее дело сперва с простым народом, не стало сдерживать и высшие классы, подготавливая их к тем испытаниям, которые ожидали эти круги в XIX веке, когда стало возможным обсуждать их поведение и оспаривать их привилегии. До тех пор время принадлежало им, и это было золотое время.
Этот классический век, в котором «Словарь» Сэмюэля Джонсона (1775) способствовал созданию истинно английских слов, видел также и установление правописания при помощи правил, принятых теперь всеми образованными людьми. В век Мальборо даже королевы и знаменитые генералы писали так, как им нравилось. Но в 1750 году лорд Честерфилд писал своему сыну:
«Я должен сказать тебе, что орфография, в истинном смысле слова, абсолютно необходима и для писателя, и для джентльмена, так как одна ошибка в правописании может сделать его смешным на всю жизнь. Я знаю высокопоставленного человека, который никогда не мог избавиться от насмешек за то, что написал «wholesome» без «w».
Одновременно он советует юноше читать Платона, Аристотеля, Демосфена и Фукидида, которые не знакомы никому, кроме знатоков, хотя многие цитируют Гомера. Именно знание греческого языка, добавляет Честерфилд, должно отличать джентльмена; одной латыни недостаточно. Это значит, что высший жрец моды в тот период, когда мода имела такое большое значение, считал классическое образование обязательным для джентльмена.
Старинные виды охоты уступали теперь место охоте на лисиц. Охота на оленя – благороднейший вид спорта прошедших веков – стала воспоминанием, исключая Эксмур и несколько других районов. Уже в 1728 году некоторые охотники опустились до позорной охоты на оленя «с повозки», что было началом конца. Причина этого очевидна: уничтожение лесов, огораживание пустошей и расширение запашки вызывали непрерывное уменьшение стада диких оленей, которые привыкли бродить на широких сельских просторах. В царствование Георга III олени, щипавшие траву под дубами, еще являлись украшением парка джентльмена и пользовались полной безопасностью в пределах парка, но уже не были больше предметом охоты. В соответствующий сезон их могли убивать для господского стола лишь сам владелец парка или его лесничий.
Охота на зайцев, любимая Шекспиром и Роджером Коверли, исчезала более медленно. Хотя охота на лисиц успешно развивалась в течение всего XVIII века, однако еще в 1835 году спортивный журнал насчитывал 138 свор собак, с которыми охотились на зайцев, против 101 своры собак, использовавшихся для охоты на лисиц. Охота на зайцев имела то преимущество, что пеший деревенский охотник легче мог держать в поле зрения короткие круги, совершаемые преследуемым зайцем, чем следить за более долгим и прямым бегом лисиц. Но хотя демократический пеший элемент принимал меньшее участие в охоте на лисиц, охота с ее красными и синими куртками, сворами собак и звуками охотничьих рогов захватывала воображение всех живущих в сельской местности; песни, посвященные охоте на лисиц, звучали так же громко и весело в трактире, как и за обеденным столом владельца манора.
В царствование Георга III охота на лисиц была в основном такой, какой она осталась и впоследствии, за исключением того, что лишь очень немногие, не живущие в графстве, присоединялись к охотничьему обществу. Но охота уже перестала быть делом одного или двух соседей, разъезжающих по своим собственным землям. Собачьи своры рыскали теперь по всему району, и крупные охотничьи общества, подобные «Бедминтону», «Питчли» и «Кворну», подняли науку охоты на такой уровень, на котором она находится и теперь. С годами расстояние увеличивалось, а законы об огораживании, перерезав открытые поля в охотничьих графствах Центральной Англии изгородями, предъявили большие требования к качествам и лошади, и всадника.
В XVIII веке соколиная охота на дичь или охота при помощи сетей и приманок была быстро вытеснена охотой с ружьем. Приемы птичьей охоты также постепенно приближались к современной практике, но более медленно, чем методы охоты на животных. Вспугивание птиц, однако, еще не применялось. Высокие стебли скошенной вручную травы позволяли охотникам близко подкрадываться к куропаткам вслед за своим верным сеттером.
Фазанов не вспугивали из гнезд, высоко над головами охотников, а выгоняли из кустарника и рощиц при помощи своры лающих спаниелей и стреляли их во время взлета. В северных вересковых степях белых куропаток было тогда меньше, чем в наши дни, но они были менее дикими. В некоторых местах было много глухарей и уток, а целые полчища зайцев причиняли большой ущерб фермерам. Кролики еще не были таким бичом, каким они являются теперь (в 1939 году), потому что тогда лугов было меньше, чем пашен. Голубей, цапель, полевых куликов, каменок, коростелей и других диких птиц стреляли так же свободно, как и более обычную дичь.
Заряжаемое с дула кремневое ружье с медленным воспламенением очень отличалось от современного ружья с выбрасывателем гильзы; действие кремневого ружья было более медленным, стрелять приходилось намного впереди птицы. Это обстоятельство вызывает сомнение в подвигах Кока из Норфолка, который якобы не один раз убивал по 80 перепелок менее чем сотней выстрелов. Перезарядка ружья требовала много времени и, если производилась небрежно, была опасной; поэтому после каждого выстрела охотник должен был останавливаться, а собаке приказывал «замереть», пока заряжалось ружье. В середине XVIII века лесничие, подобно Черному Джорджу в «Томе Джонсе» [Филдинга], были вообще не столь почтенными людьми, как их преемники в позднейшие времена. Часто они сами были «самыми отъявленными браконьерами, убивавшими одну пару птиц для господина и две для себя». Но ни джентри, ни их лесничие не были единственными охотниками за дичью; в войне с браконьерством в старой Англии никогда не наступало перемирия.
Во времена Стюартов вГемпшире и Кенте незаметно появился крикет, ставший развлечением простого народа. Первоначальный способ счета путем «зарубок» на палке является доказательством безграмотности народа. Однако в начале XVIII столетия крикет расширил свои географические и социальные границы. В 1743 году отмечалось, что «знать, дворяне и духовенство» принимали участие в качестве партнеров в игре «мясников, сапожников или медников». Три года спустя, когда Кент выиграл 111 очков против 110 у сборной команды Англии, лорд Джон Сэквилль был членом той победившей команды, капитаном которой был садовник Ноул. Деревенский крикет быстро распространился по всей стране. В те дни, когда игра в крикет еще не была подчинена строгим правилам и сопровождалась быстрой сменой забавных инцидентов, когда каждый мяч мог создать потенциальный кризис в игре, – в то время было очень интересно наблюдать за ней. Сквайр, фермер, кузнец и поденщик, пришедшие с женами и детьми посмотреть на забаву, – все собирались вместе в летнее послеполуденное время и все одинаково веселились. Если бы французское дворянство было способно играть в крикет со своими крестьянами, его замки никогда не были бы сожжены. До последних лет этого столетия крокетные ворота состояли из двух вертикально стоящих колышков в один фут высотой, находившихся на расстоянии около 24 дюймов, и третьей палки, или перекладины, положенной на них. Пространство между колышками, куда игрок должен был успеть всунуть конец своей биты прежде, чем вратарь сможет втолкнуть туда мяч, с риском получить сильный удар по пальцам, называлось «popping hole». Бросающий мяч игрок заставлял его быстро катиться по площадке по направлению к низким воротам; если, как это часто случалось, шар проходил между колышками, не задевая их, отбивающий мяч игрок не выходил из игры. Бита была изогнута на конце, подобно хоккейной клюшке. К концу века игра радикально изменилась: было уничтожено «popping hole», был прибавлен третий колышек и высота ворот увеличена до 22 дюймов. В результате этих перемен была введена прямая бита.
Англичане XVIII века любили хороший стол, и наша островная кухня уже приобрела некоторые характерные достоинства и дефекты. Иностранцы удивлялись большому количеству и превосходному качеству рыбы и красного и белого мяса, потребляемых на острове, но невысоко оценивали отношение англичан к овощам, которые только что появились как приправа к мясу. Английские повара, казалось, столь же неспособны были изготовить овощное блюдо, как и приготовить что-нибудь лучшее, чем «коричневую воду» в качестве кофе. Но в каком бы виде они ни подавались, огороды богачей и бедняков давали теперь много самых разнообразных овощей: картофель, капуста, морковь, брюква, брюссельская капуста, огурцы и салат употреблялись с мясом в таком же количестве, как и сегодня. Сладкие блюда и пудинги уже гордо занимали место на английском столе.
Счет Вудфорда на муку за 1790 год составил всего 5 фунтов 7 шиллингов 6 пенсов, что указывает на очень ограниченное количество хлеба, испеченного и съеденного в доме приходского священника. За тот же период его счет на мясо составлял 46 фунтов 5 шиллингов. Питание англичан среднего класса в этот период состояло в основном из мясной пищи, потребление которой значительно превышало потребление хлеба. За тот же год счет Вудфорда на солод для его домашнего пивоварения составил 22 фунта 18 шиллингов 6 пенсов. Достойный священник описывал свои обеды в дневнике: обычный, хороший обед для избранной компании (в 1776 году) состоял из «вареной бараньей ноги, пудинга из взбитого теста и пары уток». Другой обед (1777) состоял из «пары кроликов, тушенных с луком, вареной бараньей шеи и жареного гуся, изпудинга с коринкой и простого пудинга, за которым последовал чай». «Очень изысканный обед», которым он наслаждался в церкви Христа в Оксфорде (1774), приближается к нашему представлению о таких корпоративных празднествах, в которых находили столько удовольствия более привилегированные из наших предков:
«Первая перемена блюд состояла из большой трески, бараньего филе, супа, пирога из цыпленка, пудинга, корнеплодов и т. п. Вторая перемена – из голубей и спаржи, телячьего филе с грибами и превосходным соусом, жареного сладкого мяса, свежих омаров, абрикосового торта, а посредине стояла пирамида из сбитых сливок с вином и желе. После обеда были поданы фрукты, мадера, белый и красный портвейн. Мы все были очень бодры и веселы». В сельских местностях жители, возвращавшиеся домой темной ночью верхом и навеселе, часто становились жертвой несчастных случаев.
Молодой немец Мориц, живший в Англии в 1782 году, имея скудный кошелек, питался хуже, чем священник Вудифорд, так как он оказался во власти хозяек английских пансионов, которые обращались с ним так, как слишком многие из них до сих пор обращаются со своими несчастными постояльцами.
«Английский обед [писал он] для таких жильцов, как я, обычно состоит из куска полусваренного или полузажаренного мяса и небольшого количества капустной листвы, сваренной в воде, которую они поливали соусом, сделанным из воды, муки и масла».
(Я подозреваю, что именно эту жижицу имел в виду Вольтер, когда сказал, что у англичан сто религий и только один соус!) Но, добавляет Мориц:
«Прекрасный пшеничный хлеб, который я нашел здесь, наряду с превосходным маслом и чеширским сыром восполнял мои скудные обеды. Ломтики хлеба с маслом, которые подаются к чаю, тонки, как лепестки мака. Но есть и другой, обычно употребляемый с чаем, сорт хлеба с маслом, который поджаривается на огне и бесподобно хорош. Вы берете один ломтик за другим и держите их на огне на вилке до тех пор, пока масло не растает настолько, что проникнет через все ломтики сразу: этот хлеб называется тост».
Экономические условия сделали первую половину XVIII века периодом относительного изобилия для трудящегося класса. По крайней мере многие рабочие имели за завтраком пиво, хлеб, масло, сыр, иногда – мясо. В полдень многие ели обильную, хотя и грубую пищу. Смоллет в «Roderick Random» (1748) описывает свое посещение «харчевни», где он «почти задыхался от удушливого запаха варившегося мяса и был окружен компанией извозчиков, носильщиков и нескольких лакеев, не имевших места или не получавших еды в доме хозяина. Все они, сидя за отдельными столами, покрытыми скатертями, вид которых вызывал тошноту, ели мясные кости, рубец, студень из бычьих ног и колбасу». Однако бесчисленные местные различия в заработке и условиях жизни требуют, чтобы обобщения о питании рабочего класса делались чрезвычайно осторожно. Многие питались главным образом хлебом с сыром, с небольшим количеством овощей, пивом и чаем.
Театр был очень популярен в Англии XVIII века. В первые годы его возрождения при Карле II он обслуживал только Лондон и пользовался покровительством двора. Теперь сфера его деятельности значительно расширилась. В более крупных провинциальных городах были основаны труппы, а странствующие актеры постоянно бродили по стране, играя перед простой публикой в сараях и городских залах для собраний. Священник Вудфорд сообщает об их периодическом появлении в Корт-хауз, Касл-Кэри, в одной сомерсетширской деревне, насчитывавшей 1200 жителей, где время от времени они играли «Гамлета», «Оперу нищих» и другие хорошие пьесы. «Уловка щеголей» Фаркера оставалась популярной еще долгие годы после безвременной смерти ее автора в 1778 году, но недостаток в хороших новых пьесах чувствовался до тех пор, пока более чем 60 лет спустя Голдсмит и Шеридан не создали несколько первоклассных комедий.
В то же время, как мы и можем ожидать в стране, где так покровительствовали ораториям Генделя, музыкальная сторона театра была превосходна. Томас Эрн (1710-1778) положил на музыку песни Шекспира и написал музыку ко многим пьесам. И английская легкая опера (развитие которой продолжается со времен «Оперы нищих» до Гильберта и Салливана) чрезвычайно расцвела в дни Дибдина (1745-1814). Будучи еще очень молодым, он написал музыку «Лионель и Кларисса»; и позднее он еще долго писал для своих земляков сентиментальные, патриотические и морские песни, вроде «Бедного Джека» и «Тома Боулинга», которые они любили распевать. Англичане того времени не ограничивались только слушанием музыки. Они не стыдились пробовать свои собственные голоса, когда не торопясь ехали верхом, шли или работали в одиночестве на свежем воздухе, да и в стенах дома они имели много досуга, и если хотели музыки, то должны были создавать ее для себя сами.
Драматический гений Дэвида Гаррика в середине столетия и Сары Сиддонс после него сделали лондонский театр знаменитым. Искаженная версия Шекспира, которую они играли – «Король Лир» со «счастливым концом», – вызывает у нас ужас. Но мы должны признать заслуги актеров и литературных критиков этого века, убедивших англичан, что Шекспир был величайшей славой нашей нации.Его читали, цитировали, его вообще знали гораздо лучше, чем сегодня, так как поэзия и художественная литература не встречали тогда какой-нибудь серьезной конкуренции со стороны печатных изданий менее долговечного характера. Читающий мир был достаточно широк, чтобы предоставить художественной литературе наилучшие возможности. Мильтон был тогда известен и уважаем немногим меньше, чем Шекспир.
Печатная газета около середины века совсем вытеснила рукописные «новости». В начале царствования Георга III газета стоила два или три пенса – в зависимости от налога, – а по объему она выросла до четырех страниц in folio, которые Каупер ожидал каждый вечер в своем сельском уединении и громко читал за чашкой чая дамам.
Каждая из четырех страниц имела четыре столбца. После 1771 года, когда обеими палатами парламента было молчаливо разрешено публиковать дебаты, это стало одной из основных задач газеты. С этих пор ее немногочисленные читатели были хорошо осведомлены о политике, так как во время парламентских сессий больше половины газеты отводилось отчетам о сессии. Много места – целая страница, а то и более – отводилось платным объявлениям, сообщениям о книгах, концертах, театрах, нарядах и различных людях, нуждающихся в домашних слугах. Остальное место в газете было занято поэзией, серьезными и юмористическими статьями, письмами в газету (подписанными именем корреспондента или псевдонимом), обрывками информации и театральными или светскими сплетнями, перемешанными с газетными объявлениями и длинными официальными отчетами об иностранных делах. Современная газета тогда еще находилась только в процессе своего создания. Ее тираж был пока весьма ограниченным: 2 тысячи экземпляров считались хорошим тиражом; в 1795 году тираж «Морнинг пост» упал до 350 экземпляров, тогда как тираж «Таймс» поднялся до 4800. Занятие журналистикой не давало возможности ни приобрести, ни потерять большие состояния: наградой было приобретение влияния, особенно в политике. Было несколько хороших провинциальных газет, подобных «Нортгемптон меркьюри», «Глостер джорнэл», «Норидж меркьюри» и «Ньюкасл курант».
Со времен Карла II не только театр и газеты, но и издание книг стало проникать из столицы в провинцию. Ослабление цензуры и закон о лицензиях, изданный в царствование Вильгельма III, устранили существовавшие ранее ограничения для прессы, в результате чего не только значительно выросли типографские и издательские фирмы в Лондоне, но и была учреждена провинциальная пресса во многих других городах. Все дела по изданию и продаже книг велись тогда одной и той же фирмой. Между 1726 и 1775 годами в Англии было 150 таких фирм вне Лондона и почти столько же в столице.
Оживленная литературная и научная жизнь многих провинциальных городов во времена Сэмюэля Джонсона поощрялась местными газетами и местными издательскими фирмами, которые часто достигали больших успехов. В конце столетия такой блестящий труд, как «Британские птицы» Бьюика, с его знаменитыми гравюрами на дереве, был напечатан и издан в Ньюкасле на Тайне. Книгопечатание XVIII века, хотя именее причудливое, чем в елизаветинские времена, и менее механически правильное, чем викторианское, стояло выше и того и другого как вид изящного искусства.
Многие издания, особенно большие и дорогостоящие тома, которыми восхищалось это аристократическое столетие, продавались по подписке, которую автор проводил среди своих друзей и покровителей. Большая часть книг поступала в прекрасные частные библиотеки. Но и в Лондоне, и в провинции, особенно в курортных местах, были основаны библиотеки, выдающие книги на дом; первая такая библиотека была открыта в 1740 году. Бат и Саутгемптон имели прекрасные общедоступные библиотеки. Среди соседей и друзей были распространены также книжные клубы.
Поэзия, путешествия, история и романы – все находило место в народном чтении. Заявление немца Морица, сделанное им после посещения Англии, является замечательным свидетельством высокой степени нашего литературного развития в этот период (1782 год):
«Конечно, верно, что английские классические авторы читаются несравненно больше, чем немецкие, которые в общем читаются только учеными или самое большее средним классом народа. Английские же национальные авторы широко распространены и читаются всем народом, достаточным доказательством чего служат бесчисленные переиздания их произведений. Моя квартирная хозяйка, которая является всего лишь вдовой портного, часто читает Мильтона; она говорила мне, что ее покойный муж влюбился в нее именно по этой причине, так как она читает Мильтона с особенным выражением. Этот единственный пример доказывает немного, но я беседовал с некоторыми людьми из низшего класса, и все они знали своих национальных авторов и читали многих из них, если не всех».
В течение XVIII века сосредоточение крупных имений у знати и у более богатых из мелкопоместного дворянства и развитие капиталистического сельского хозяйства привели к исчезновению мелкого сквайра с годовым доходом от 100 до 200 фунтов, который обрабатывал собственную землю или сдавал одну-две фермы в аренду. Этот особый тип, некогда столь важный в жизни и управлении сельских местностей, сталтеперь значительно менее заметным. Его место в некоторых отношениях было занято возросшим числом мелкопоместных дворян и интеллигенции, живущих в сельской местности на различные небольшие доходы, но пустивших здесь менее глубокие корни, чем старые сельские сквайры. Такая перемена имела как положительные, так и отрицательные стороны. Она способствовала более высокому уровню культуры: Беннет в «Гордости и предрассудке» является человеком нового типа, более привязанным к своей библиотеке, чем к земле. Священник Вудфорд писал в своем дневнике, что его годовой доход – только 400 фунтов, но на эти средства он мог держать 5 или 6 слуг, в доме и вне его, заботиться о своих родственниках, свободно путешествовать и оказывать щедрое гостеприимство богатому и бедному. Его привычка отмечать в дневнике каждый истраченный или отданный шестипенсовик свидетельствует о том, что он понимал необходимость быть бережливым и поэтому ему удавалось жить безбедно при своем скромном доходе.
Расходы на наилучшего домашнего или дворового слугу составляли только 10 фунтов в год жалованья и стоимость его содержания; многие довольствовались даже значительно меньшим. На таких условиях армии слуг, мужчин и женщин, наполнили дома дворян.Многие становились «старыми слугами», привилегированными и близкими, которых их хозяева и хозяйки никогда не думали увольнять; это было важным и облагораживающим моментом в старой английской жизни. Часто сменявшие друг друга девушки-служанки, которые недолго пребывали в этой роли и скоро уходили, чтобы выйти замуж, учились во время своего пребывания в услужении искусству приготовления пищи и ведению домашнего хозяйства, что оказывалось весьма полезным для них впоследствии, когда они становились женами и матерями. В жилищах крестьян и рабочих также существовали стародавние традиции ведения хозяйства. В те дни, когда еще нельзя было купить в соседней лавке за углом все, включая консервы, беспомощная и необученная хозяйка дома была значительно более опасным, а поэтому и более редким явлением, чем в современной городской жизни.
Глава XIV Шотландия в начале и в конце XVIII века
Так как рамки этой работы ограничены историей Англии, то ничего еще не было сказано о соседнем королевстве – Шотландии. На протяжении более двух столетий после войн Эдуарда I и Уоллеса англичане и шотландцы мало общались друг с другом, если не считать отдельных военных столкновений. В царствование Елизаветы они перестали быть активными врагами, потому что у них появился общий интерес – защита острова против держав католической реакции; но они усвоили совершенно различные формы церковной политики, которые в дальнейшем внесли различия в характер социальной и духовной жизни по обе стороны границы.
С восшествием Якова VI Шотландского на английский трон (1603) его два королевства оказались связанными стеснительными узами дуалистической монархии. Сам Яков понимал Шотландию лучше, чем Англию, но при его сыне и внуках меньшее из двух королевств управлялось в соответствии с планами, состряпанными в Лондоне епископами, придворными или членами парламента, которые ничего не знали о нуждах и обычаях Шотландии и стремились лишь заставить ее служить определенным целям английской политики того времени. Эдинбургский Тайный совет получал свои приказы из Уайтхолла. У шотландцев эта вассальная зависимость от управляющего ими из Англии властителя-чужеземца, каково бы ни было его имя: Карл, Оливер или Яков, – вызывала глубокое негодование. Они теперь еще плотнее закутывались в плащ своих собственных предрассудков и стали еще более подозрительно, чем когда-либо прежде, относиться к влияниям, исходящим от их более крупного соседа.
При таких политических условиях социальная жизнь в каждой из этих двух стран развивалась самостоятельно. На пути более тесного общения между двумя народами стояли также экономические и естественные препятствия. Сношения затруднялись не только из-за тарифов, но и из-за состояния Большой Северной дороги. Лондон отделяла тогда от Эдинбурга почти целая неделя пути, а английские графства, расположенные близко от границы, были наименее развитыми и наиболее враждебными к шотландцам. В религии, законах, воспитании, в методах земледелия, во взаимоотношениях классов шотландцы не обнаруживали никакого стремления приблизиться к английскому образцу и еще меньше – подать какой-нибудь пример Англии.
Действительно, эти соседние нации, которыми король Вильгельм III управлял с трудом, были столь противны друг другу, что перед смертью Вильгельма III в 1702 году наиболее мудрым головам в обоих его королевствах стало ясно, что необходимо или создать более тесный политический и торговый союз, или же вновь обособить королевства, что почти наверняка приведет к войне. После революции 1688 года эдинбургский парламент занял новую позицию, позицию независимости, которая делала невозможным для англичан дальнейший контроль за делами Шотландии посредством ее покорного Тайного совета. Система дуалистической монархии провалилась. Обе страны должны были выбирать между более тесным союзом, заключенным на равных условиях, и разрывом существующих связей.
Был сделан правильный выбор, хотя и с глубокими опасениями со стороны шотландцев. При королеве Анне, как первом суверене нового государства – «Великобритании», – уния объединила парламенты и торговые системы двух наций в одно целое, в то время как их церкви и законы остались различными. В действительности уния 1707 года означала, что Шотландия шла на прекращение деятельности своего парламента, но зато выигрывала взамен полное равенство на рынках и в колониях Англии. Эта привилегия открыла перед ней возможность избавиться наконец от угнетающей ее вечной бедности.
В течение жизни одного поколения или даже больше выгоды унии сказывались медленно. Но после ликвидации в 1745-1746 годах якобитской проблемы Шотландия быстро двинулась вперед к более счастливым дням. Ее земледелие, которое было до последней степени устаревшим и жалким, могло, до конца столетия, служить примером для английских лендлордов. Шотландские фермеры, садовники, инженеры и врачи пришли на юг и многому научили англичан. Англичане начали посещать Шотландию и восхищаться и ее горами, и ее людьми. Шотландцы принимали большое участие в торговле, в колониальных и других войнах Британской империи, в управлении Индией.
Освобожденная из тюрьмы бедности, где она томилась в течение веков, Шотландия вспыхнула неожиданным блеском. Ее религия утратила многие мрачные стороны и фанатизм, оставаясь в то же время живой и демократической. Гений ее сыновей увлек за собой философскую мысль всего мира: Юм, Адам Смит, Робертсон, Дугальд Стюарт распространили свое влияние не толькона всю Британию, нои насалоны континентальных философов, в то время как Смоллет, Босуэлл и Бёрнс прославили родную страну в литературе, а Рейберн – в искусстве. Таким образом, в последнюю треть XVIII столетия начался золотой век Шотландии, продолжавшийся и в течение второго славного поколения, когда Вальтер Скотт своими песнями и романами распространил шотландские идеи по всей Европе.
Чтобы ясно представить размер и характер перемен, которые произошли в Шотландии в Ганноверскую эпоху, я в этой главе опишу ее сначала такой, какой она была ко времени унии, заключенной в царствование королевы Анны, а затем такой, какой она стала в середине царствования Георга III.
I Шотландия ко времени заключения унии 1707 года
I Шотландия ко времени заключения унии 1707 года
Со времени Бёрнса и Вальтера Скотта англичане восхищались шотландскими преданиями и историей как горных местностей, так и долин, доходя иногда до сентиментальности. Они приезжают в Шотландию, чтобы восхищаться ее пейзажами, и признают, не без зависти, достоинства ее сыновей. Но в царствование Анны невежество еще порождало враждебность и презрение. Связь между двумя народами была непрочной и по большей части несчастливой. Шотландцы все еще искали свое счастье главным образом на континенте Европы, а не в Англии. Якобитские изгнанники жили в Италии и Франции. Пресвитерианское духовенство и юристы отправлялись в голландские университеты заканчивать свое образование у первоисточника кальвинистской теологии и римского права. Шотландские заморские купцы имели дело с Голландией и Скандинавией, но были отстранены от английских колоний. Англичане, которые пересекали Чевиот, направляясь на север по делам, были немногочисленны, исключая пограничных жителей, питавших традиционную враждебность ко всему шотландскому; завистливые нортамберлендцы обычно предупреждали путешественников с юга, что Шотландия – «наиболее варварская страна в мире». Шотландские гуртовщики продавали свой скот на ярмарках Северной Англии, но в других отношениях деловая связь между двумя странами была настолько слаба, что лондонский почтовый мешок иногда доставлял в Эдинбург всего одно письмо.
Возможно, не более десятка англичан посещало ежегодно Шотландию ради удовольствия. А из этих немногих более слабые быстро возвращались из-за недостатка удобств в неряшливых гостиницах, где хорошее французское вино и свежая лососина не могли компенсировать отсутствие каких-либо других аппетитных продуктов и чрезвычайную грязь помещения. Английский путешественник не только жаловался на отношение к нему самому, но не менее был огорчен и тем, что его лошади отводили помещение, едва ли пригодное для свинарника, где бедное животное заставляли жевать солому вместо сена. Правда, если бы эти туристы приезжали, запасшись рекомендациями, и могли воспользоваться шотландским гостеприимством в доме джентльмена, как это делали местные джентри во время своих путешествий, они были бы накормлены не так скверно.
В Шотландии не было ничего такого, что могло бы привлечь искателя прекрасного, как оно понималось в те дни. Пейзаж был почти безлесен, не был пересечен изгородями, лишен, исключая непосредственного соседства с Эдинбургом., прекрасных особняков и парков, хорошо построенных ферм и величавых приходских церквей, которые путешественник привык видеть в своей собственной стране. Что касается гор Северной Шотландии, то те немногие англичане, которые по своим собственным делам или по служебной обязанности проникали когда-либо в эти глухие места, называли их «ужасными», «страшными» и «особенно неприятными тогда, когда цветет вереск».
Шотландец был или якобитом, или пресвитерианином, и в обоих этих случаях вызывал отвращение у четырех из каждых пяти англичан. И англичанин любой религии или вообще неверующий возмущался или забавлялся суровостью светской дисциплины шотландской церкви. Солдаты Кромвеля в дни, когда он господствовал в Шотландии, насмехаясь над порядками церкви, часто садились на «позорный стул» в приходских церквах; а во времена Анны это орудие морального преобразования было так же чуждо свободному духу английских диссидентских сект, как оно было чуждо скромному авторитету англиканского деревенского священника. Кэлами, вождь английских нонконформистов, во время своей поездки, предпринятой в 1709 году с целью сближения с шотландскими пресвитерианами, оскорбил церковную ассамблею, назвав некоторые ее действия «возрожденной инквизицией». И независимо от всех вопросов политики и религии лишенному воображения англичанину казалась смешной национальная и личная гордость шотландца, если она сочеталась с бедностью. Для английского купца, носившего одежду из тонкого сукна, казалось абсурдом, что джентльмен может быть гордым, хотя он и бедно одет. И шотландец, когда он на каждом шагу сталкивался с этим вульгарным презрением, становился только более молчаливым и более непреклонным.
Шотландцы действительно смотрели на англичан с угрюмым отвращением, как на кичившихся своим богатством и спесивых соседей. Народная поэзия, традиция, история, имевшие сильное влияние на одаренную воображением и эмоциональную расу, – все указывало на Англию как на древнего врага. Постоянно возобновляющиеся на протяжении четырех веков войны с южанами составляли сюжет шотландских легенд и баллад. Едва ли в древнем королевстве найдется селение, жители которого не могли бы рассказать, как англичане его сжигали.
Эдинбургский парламент никогда не имел большого значения в социальной жизни и воображении народа, хотя он и приобрел несколько большую важность послереволюции. Он проводил свои сессии в большом зале на Хай-стрит, известном как дом парламента; после унии дом был передан юристам столицы и до сих пор остается наиболее знаменитым помещением в Шотландии. Здесь, под его высокой деревянной крышей, заседали вместе вельможи, бароны и горожане; они считались тремя отдельными сословиями, но обсуждение и голосование проводились совместно, в одной палате.
Бароны или депутаты от графств, непохожие на своих коллегв английской палате общин, не избирались всеми свободными держателями, обладавшими годовым доходом в 40 шиллингов (как это было в Англии); каждый депутат выбирался несколькими десятками джентльменов, которые случайно оказывались в глазах старого шотландского закона непосредственными держателями земель короны. Городки были все такими же «гнилыми», как наиболее гнилая часть английских городов. Представительный элемент был, следовательно, в шотландском парламенте слабее, чем в английском; такое представительство народа, какое здесь действительно существовало, вернее было бы назвать «реально возможным». Вельможи были наиболее могущественным элементом в палате. Это они главным образом руководил и ее дебатами, возглавляли ее партии и формулировали ее акты и политику.
Господство аристократии не ограничивалось парламентом. В каждом районе сельской местности обычай, гордость, боязнь и надежда на покровительство связывали простой народ с каким-нибудь значительным «домом», который представлял их район в глазах Шотландии. Лэрды, как назывались мелкопоместные дворяне Южной Шотландии, привыкли употреблять оружие, с которым они обычно не расставались, находясь вне дома; местный вельможа угощал их по-королевски на банкетах в своем особняке, поддерживал их жалобы, покровительствовал им, уверенно ожидая, что в ответ они последуют за его штандартом, если он поднимет его за правительство, которое дало ему должность, или против правительства, которое пренебрегло его притязаниями.
Если бы виги и якобиты перешли врукопашную, то каждый район собрался бы под знаменами Аргайла, Атолла, Мара и некоторых других вельмож и Южная Шотландия немногим бы уступила в этом отношении Горной области. Если бы вся знать объединилась против правительства, маленькая шотландская армия не смогла бы долго удержать ее в повиновении. Но, подобно другим классам, шотландская знать не была сплоченной. Почти все, кто занимался политикой, были жадны на должности, почти все были вынуждены поддерживать свое положение феодалов на скудную ренту и платежи натурой с населения отчаянно бедной сельской местности, и они все привыкли рассматривать должность как естественное подспорье для финансов крупной знати. Но многие как в лагере якобитов, так и среди вигов были столь же патриотичны, как и своекорыстны, а некоторые были, кроме того, проницательными и ловкими государственными деятелями: они знали, как следовать истинным интересам своей страны, а их аристократическое положение и воспитание поставило их выше необходимости искать популярности у толпы. Таковы были люди, которые приняли решение об унии.
За знатью шли лэрды, или сельские джентльмены. Их высокие каменные особняки, каждый со ступенчатым орнаментом на фронтоне крыши, мрачные и похожие на крепость, возвышались в безлесном, не знающем огораживания ландшафте. Архитектура здесь не процветала, как в Англии. Многие из этих сельских домов выросли как неуклюжее добавление к военным башням прежних дней. Редко какое-нибудь окно было обращено на северную сторону, даже когда этого требовал прекрасный и неповторимый пейзаж. Время газонов, аллей и обнесенных стеной садов еще не наступило. Фермерские постройки с их грубыми запахами и мусорными свалками примыкали к господским домам; хлебное поле подходило к их стенам с одной стороны, а с другой находился запущенный сад с капустой, лечебными травами и местными цветами.
Внутренняя часть дома была равным образом лишена роскоши, обычной на юге острова. Обстановка была самая простая, на полу не было ковров, на стенах обычно отсутствовали обои, панельная обшивка, ковры и картины. В спальнях, за исключением вызывавшей зависть «каминной комнаты», не было каминов. В гостиной всегда находилась приготовленная для гостей кровать, так как для захмелевшего лэрда не всегда было безопасно ехать домой ночью.
Гостеприимство выражалось в обильном угощении простым мясом, приготовленным в виде одного блюда, запиваемого шотландским элем и французским коньяком и кларетом, а в Горной области – местным виски. Чай был известен шотландским подданным королевы Анны только как дорогое лекарство. Бережливость была жестокой необходимостью, но гостеприимство было национальным инстинктом. Соседи прибывали верхом с неожиданным визитом на полдня; их сердечно принимали, так как развлечений в сельском доме тогда было меньше, чем в современной Англии.
В окрестностях Эдинбурга и других городов развлечением, освященным веками, был гольф. Повсюду в Шотландии охотились (на зайцев, белых куропаток, глухарей или простых куропаток) с собаками, ястребами, силками и реже – с длинным ружьем. Но красный зверь, некогда часто встречавшийся повсюду, был уже загнан в узкие долиныГорной области. Необычайное изобилие лососей и форели не только доставляло хорошее спортивное развлечение, но и давало дешевую пищу для народа. В некоторых местах джентри презирали лосось, как блюдо, которым пресытились, а сельскохозяйственные рабочие бросали работу, если их кормили лососиной каждый день.
Джентри Южной Шотландии разделялисьпримерно поровну на пресвитериан и епископалов – разделение, которое едва ли отличалось от политического деления на вигов и якобитов. Тори в английском смысле слова здесь не было, так как английский тори был епископалом, который принял революционные порядки, поскольку революция оставила его церковь государственной и привилегированной, тогда как в Шотландии и после революции епископальная церковь осталась отделенной от государства и, согласно закону, не пользовалась веротерпимостью; шотландские епископалы, следовательно, неизбежно были якобитами, стремившимися к контрреволюции для своего освобождения. В этом было существенное различие между английскими и шотландскими политиками, и оно оказывало сильное влияние на социальную жизнь и отношения в Северном королевстве.
Семейная и религиозная дисциплина была более строгой в пресвитерианских, чем в епископальных семьях. В домах якобитов было обычно больше удовольствий и свободы. Но глубокое пресвитерианское благочестие и суровое чувство общественного долга не проявляли терпимость к пьянству, праздничному гостеприимству, глубокой учености и свободомыслящей культуре. Когда Анна взошла на трон, псалмопение, проповеди и импровизированные молитвы в епископальном молитвенном доме во многом походили на проповеди и молитвы пресвитерианской церкви. Молитвенник начал появляться в некоторых молитвенных домах только в последней половине ее царствования. Доктрины, исповедуемые соперничающими сектами, мало отличались друг от друга, за исключением вопросов церковного управления, но даже и в этом различие было невелико, принимая во внимание, что епископалы также имели своих пресвитеров и церковные сессии, которые занимались вопросами морали.
Различие, следовательно, было глубоким только в политических вопросах; оно не касалось основ общего шотландского мышления и цивилизации. Свободная мысль, однако, не проникла еще из страны Шефтсбери и Болингброка в страну Юма. В царствование Вильгельма III несчастный эдинбургский студент был повешен за высказанные им сомнения о Троице и авторитете Священного Писания, причем эти сомнения были высказаны в таких выражениях, которые в лондонской кофейне вызвали бы только неодобрительные замечания.
Почти все шотландские семьи, особенно семьи джентри, регулярно посещали или приходскую церковь, или епископальный молитвенный дом, где получали одни и те же духовные лекарства, только разбавленные различным количеством воды.Бедность и религиозные споры привели к образованию национального характера, пренебрегая острыми политическими различиями и объединяя всех шотландцев в умственном и моральном антагонизме по отношению к более богатой и более свободомыслящей цивилизации на юге от Чевиота. Популярность «Спектейтора» Аддисона и Стила среди эдинбургских леди и джентльменов в конце царствования Анны была одним из первых примеров действительного культурного завоевания севера Южной Британией. Вследствие унии подобные влияния становились все более частым явлением.
Духовное единство нации крепло, а взаимопонимание классов, составляющих эту нацию, все увеличивалось, потому что шотландские лэрды в те дни посылали своих собственных детей в деревенскую школу. Идея отправки сыновей шотландских джентльменов в английские «общественные школы» была неприемлемой как по причине бережливости, так и из-за патриотизма. Воспитание в деревенской школе усиливало любовь юного лэрда к родной стране и вызывало у него, когда он становился взрослым, симпатию к арендаторам его земли, которые некогда были его школьными товарищами. Резкий шотландский язык, которого не стыдилась и знать, предания ибаллады округи были общим наследием всех. Вот почему два поколения спустя, в дни Бёрнса и Скотта, поэзия и предания Шотландии распространились и завоевали воображение людей, воспитанных в менее счастливых странах, где богатые и бедные не имели общей культуры. Шотландия была одновременно и более феодальной, и более равноправной, чем Англия. Удивительная свобода слова, проявлявшаяся даже в отношениях между классами, стоявшими на совершенно различных ступенях социальной лестницы, характеризовала отношения между людьми, которые сидели на одной школьной скамье и отцы которых скакали плечом к плечу во время набегов и столкновений.
Но в век Анны ни литературное, ни культурное первенство на мировой арене еще не было завоевано Шотландией. Ее бедность была еще слишком горька, а ее религия – еще слишком ограниченна. Но в этом уже таились семена ее будущего величия; сами бедность и религия помогали формированию национального сознания и характера. Уже Свифт, ненавидевший шотландцев, как пресвитериан, признавал, что их юноши были лучше воспитаны, чем английские; в то же время Дефо писал, хотя и с некоторым преувеличением:
«Вы найдете очень немного невежественных или неученых джентри. Более того, Вы обычно не сможете найти в Шотландии слугу, который не мог бы читать или писать». Когда Форбс из Калодена в 1705 году отправился для завершения своего юридического образования в Лейденский университет, он был вынужден противопоставить присущие его соотечественникам за границей серьезность и усердие «разгулу и распущенности» молодых английских расточителей, путешествующих за границей».
Однако по современным стандартам шотландское школьное образование считалось бы совершенно недостаточным. Во время Реформации вельможи присвоили церковные вклады, которые были предназначены по «благочестивому намерению» Джона Нокса на дело образования. С тех пор церковь продолжала бороться за дело образования народа, получая все так же мало поддержки со стороны джентри и скупых «наследников», которые контролировали расход денег на школы. Превосходные законы 1633 и 1696 годов предписывали, чтобы в каждом приходе была устроена и содержалась на местные средства хорошо оборудованная школа. Но в действительности дело обстояло иначе. В царствование Анны многие приходы вообще не имели школ, а там, где школа была основана, она часто представляла собой темную, грязную хибарку, в которой дул сквозной ветер, а учитель или учительница обычно жили на жалкое жалованье. В Файфе в конце царствования королевы подписать свое имя могли только двое мужчин из трех, только одна женщина из двенадцати, а в Галлоуэе лишь немногие жители могли читать.
Однако, хотя здесь было и недостаточно школ, в имевшихся школах очень часто изучали латынь; обычно хорошо изучалась латынь также в городских школах, содержавшихся на средства города. Сельские и городские школы не были просто начальными школами; некоторые из старших и лучших школьников подготовлялись для поступления в университет учителями, которые сами были членами колледжа.
Действительно, многие из полуголодных школьных учителей, хотя они были не в состоянии покупать книги, хорошо разбирались в них, и, хотя они обучали только часть населения, эта часть была самой лучшей среди шотландской демократической молодежи; юноши учились приносить жертвы, чтобы получить образование, они довольствовались доступным им скудным учебным оборудованием, каким никакая другая нация в Европе не смогла бы обойтись, и все-таки они получили образование сами и подняли свою страну до высших ступеней цивилизации.
Университеты Шотландии находились в печальном положении. Век жестоких гражданских потрясений редко является благоприятным для академических учреждений, контролируемых государством. Епископальный режим Карла II оторвал половину шотландских образованных людей от научной жизни, а революция вытеснила большую часть другой половины, заменив их людьми, которые на тайных молитвенных сходках, подвергавшихся нападениям драгун, приобрели больше фанатизма, чем начитанности.
Студенты были из всех классов: сыновья знати, лэрдов, священников, фермеров и ремесленников. Большая часть из них стремилась стать священниками, имеющими бенефиции, но кандидатов на духовные должности было слишком много. Значительное количество небольших стипендий и стремление шотландского крестьянства к знанию в те дни, когда было мало других профессий, доступных простому, хотя и образованному человеку, обусловили формирование слишком многочисленного слоя духовенства. Жребий священника, не имеющего прихода, и наставника лэрда или низкооплачиваемого школьного учителя был тяжек. Но те, кто был в состоянии получить приход, жили, по скромным нормам того времени, не так плохо.
Шотландский юноша, ведя тяжелую борьбу за достижение этой спокойной гавани, поддерживал свою жизнь в университете при помощи мешка овсянки, прислоненного к стене чердака какого-либо городского дома, на котором он ютился. В специально отведенные для этого каникулярные дни деревенский студент отправлялся домой с пустым мешком и возвращался вновь, наполнив его из урожая с приусадебного поля своего отца.
Крестьяне в шотландских поместьях жили в условиях традиционно близких отношений с лэрдом, который во время своих ежедневных поездок по своим землям должен был прислушиваться к резкому языку откровенного люда. Тем не менее они находились одновременно в феодальной и экономической зависимости от лэрда. Этот род взаимоотношений отмечался английскими путешественниками как нечто новое для них. Частная юрисдикция над держателями, только гражданская в одних случаях, гражданская и уголовная – в других, была обычной по всей Шотландии, хотя в Англии такие феодальные курии давно уже перестали существовать.
Крестьяне держали свои фермы на условиях ежегодной аренды, что оставляло их на милость лэрда или его управляющего и неизбежно отбивало у них охоту предпринимать что-либо для улучшения той земли, которую они обрабатывали. А лэрд, со своей стороны, редко затрачивал свой капитал для улучшения ферм своих держателей. Если он и хотел это сделать, то не имел средств для таких целей. Рента в 500 фунтов считалась в Шотландии большим богатством, рента в 50 фунтов была обычной, а многие мелкие лэрды содержали свои семьи на 20 фунтов ренты и продукцию со своих собственных приусадебных участков. Эти цифры должны быть увеличены в 10 раз, чтобы дать представление о богатстве английских сквайров соответствующих рангов. Более того, рента в Шотландии уплачивалась более чем наполовину натурой: овца, домашняя птица, овсяная мука, ячмень и торф привозились держателями на дворы помещичьего дома не в повозках, так как они их не имели, а во вьюках, на спинах полуголодных лошадей. Другим продовольственным источником в домашнем хозяйстве лэрда были его голубятни с множеством голубей, которые пожирали зерно на окрестных полях, превращая большую часть скудного урожая держателей в мясо для стола лендлорда. Кроме того, шотландский фермер, подобно виллану средневековой Англии, должен был удобрить, засеять и убрать приусадебный участок лэрда, часто в те короткие периоды хорошей погоды, когда он мог бы спасти свой собственный ненадежный урожай и обеспечить свою семью от голода в наступающем году.
При этих условиях не удивительно, что в царствование королевы Анны 9/10 полей Шотландии не было огорожено стеной или изгородью. Скот приходилось привязывать или сторожить днем и запирать на ночь. Редко где виднелась живая изгородь боярышника, и об отсутствии ее не сожалели, так как считалось, что она является приютом для птиц, которые пожирают зерно. Так же неразумно относились и к деревьям. Молодые деревья не только поедались скотом, но и намеренно уничтожались крестьянами, несмотря на угрозу наказания. Но деревьев было вообще мало, за исключением небольших пространств вокруг помещичьего дома и церкви. Древние леса, в которых население обычно пряталось во время английского нашествия, теперь почти повсюду исчезли. А современное стремление к древонасаждениям, для того чтобы предохранить местность от ветра и снабжать рынок лесным материалом, находилось еще в младенческом состоянии. Общий вид Шотландии был тогда более безлесен, чем когда-либо раньше или позднее. Кое-где, в частности в Клайдсайде, можно было встретить значительные леса, а на далеком и уединенном севере старые леса еще шелестели ветвями от дуновения горных ветров. Даже в Южной Шотландии лишь пещеры и крутые берега ручьев скрывали в своих сырых впадинах редкие остатки березы, ольхи и карликового дуба, которые некогда были распространены по всей стране.
Дома крестьян соответствовали убогому ландшафту и отсутствию какой-либо системы сельскохозяйственных улучшений. Чтобы правильно представить себе дом шотландского фермера в царствование королевы Анны, мы должны забыть прекрасные каменные фермы более поздних времен и представить нечто похожее на хижину Западной Ирландии. Этот дом почти всегда был одноэтажным и часто даже однокомнатным. Стиль и материалы строения и степень бедности варьировали в различных районах, но стены из дерна или из не скрепленного известью камня, законопаченные травой или соломой, были обычным явлением; печные трубы и стеклянные окна были редкостью; пол был просто земляной; во многих местах скот жил в одном конце комнаты, люди – в другом, без всякой перегородки. Семья часто сидела на камнях или на куче дерна вокруг очага, в котором горел торф; дым от очага выходил через дыру в соломенной кровле. Так как люди работали на плохо осушенной почве, еще покрытой наполовину болотом и тростником, и возвращались в сырые дома в мокром платье, часто не имея в запасе другого, чтобы переодеться, то в результате их постоянно мучили ревматизм и лихорадка, укорачивая их жизнь.
Мужчины и женщины носили платье, сделанное по соседству местными ткачами и портными; часто пряли и красили в своей хижине. Дети, а часто и взрослые, ходили босиком. Мужчины носили широкие, плоские, круглые синие шапки из шерсти – национальный головной убор шотландцев. Только лэрд и священник щеголяли в войлочных шляпах; но они также носили домотканые платья, сшитые деревенским портным. К удивлению диссидентов из Южной Британии, священник не носил черной или духовной одежды ни в церкви, ни вне ее и совершал свои обходы и произносил проповеди в обычном галстуке и цветном кафтане и жилете из домашней шерсти.
В Шотландии, как это было и в Англии в досаксонские времена, многие из земель, которые потенциально были наилучшими для земледелия, еще оставались в виде необработанных болот, покрывающих дно долин, в то время как крестьяне старательно погоняли свои упряжки на бесплодных склонах холмов. Огромные плуги примитивной конструкции были деревянными, за исключением лемеха и резака, и обычно изготовлялись самими фермерами; их тянули по косогору 8 или 10 маленьких и тощих быков, понукаемых ударами и резкими окриками полдюжины возбужденных фермеров. Кортеж благодаря объединенным усилиям людей и животных процарапывал пол-акра в день.
Несколько фермеров обычно обрабатывали свои земли совместно и делили прибыль по системе чередования участков (делянок); каждый фермер требовал урожай одного участка, и каждый новый урожай он получал с иного участка. Одна ферма, уплачивающая 50 фунтов чистой ренты или ее эквивалент продуктами, могла иметь полдюжины или больше держателей, среди которых земля распределялась каждый год по жребию. Такая система и непостоянные условия ежегодной аренды, даваемой лэрдом, делали невозможными какие-либо сельскохозяйственные улучшения. Ссора внутри группы объединившихся фермеров также часто задерживала общую обработку на целые недели. Фермеры должны были ждать каждое утро, пока лентяй или более сердитый из их соседей прибудет, чтобы присоединиться к примитивной обработке поля.
Ферма, кроме того, была разделена на приусадебные и отдаленные участки. На приусадебные участки деревушки расточались все удобрения, которые могли быть собраны на месте, включая иногда солому, покрывающую дерн на крыше хозяйской хижины. Но дальние участки, составлявшие, возможно, три четверти обшей пахотной земли, оставались неудобренными и использовались как пастбище для скота 8 или 10 лет подряд, а затем их косили один-два года, после чего вновь превращали в пастбище. Эта система была чрезвычайно неэффективной по сравнению с трехпольной системой, обычной для английских открытых полей, но нечто похожее на нее встречалось в некоторых частях Западной Англии, Уэльса, Корнуолла и Ист-Райдинга.
Шотландский урожай состоял из овса, являвшегося основной пищей, и ячменя для приготовления ячменных лепешек или шотландского эля, остававшегося здоровым национальным напитком шотландца-южанина до тех пор, пока не произошло зловещее вторжение виски из Горной области. Для домашней кухни выращивались капуста, горох и бобы. Но турнепс и кормовые травы для скота были еще неизвестны, а картофель выращивался лишь немногими садовниками в качестве приправы к мясным кушаньям лэрда, но еще не возделывался фермерами в качестве сельскохозяйственной культуры и не стал пищей народа.
В результате господства этих примитивных традиционных способовобработки, сохраняемых самим народом, последний почти всегда находился на грани голодания. Урожай при таких методах земледелия был немногим больше количества посеянного зерна.
Лэрды были прочно скованы своей собственной бедностью и не могли помогать ни себе, ни своим держателям. Однако именно лэрды теперь, в начале нового столетия, научились и извлекать пользу из коммерческих отношений, введенных унией, и революционизировать систему земледелия, и способствовать благосостоянию всех классов.
Последние шесть лет царствования Вильгельма III были «дорогими годами» в шотландской памяти – шесть лет подряд держалась ужасная погода, при которой урожай не мог вызреть. Страна не имела средств для того, чтобы покупать продовольствие за границей, поэтому народ погибал от голода. Число обитателей многих приходов уменьшилось до половины или трети прежнего количества. Это тяжелое испытание, от которого нация медленно оправлялась в течение тех лет, когда обсуждался договор об унии, исказило перспективу для северного британца, углубило его предрассудки и сгустило его политические страсти, особенно в отношении к ненавистному англичанину, который наблюдал, как добрые шотландцы умирают от голода, и не пошевелил пальцем, чтобы спасти их. К счастью, неурожайные годы царствования Вильгельма III сменил цикл плодородных лет царствования королевы Анны. Затем в 1709 году, после того как уния благополучно была проведена, плохой урожай опять вызвал голод, обезлюдение ферм и деревушек и переполнение деревень нищими. До тех пор пока не были полностью изменены способы земледелия, один сезон дурной погоды всегда мог привести к таким последствиям.
При этих обстоятельствах главным источником земледельческого богатства в отличие от простого поддержания существования были овцы и рогатый скот. Овечья шерсть поддерживала местное суконное производство, а овцы и скот продавались в больших количествах в Англию. Скотоводство процветало главным образом в Галлоуэе, но даже Галлоуэй с трудом оправлялся от опустошении, произведенных среди поголовья скота горцами и другими эмиссарами «отечески заботливого» правительства. Подсчитано, что в 1705 году Шотландия продала в Англию 30 тысяч голов рогатого скота; обычная цена была от одного до двух фунтов стерлингов за голову. Среди немногочисленных источников богатства шотландского лэрда эта продажа шотландского скота была одним из наиболее важных. Овцы и рогатый скот были мелкими даже по сравнению с мелкими английскими животными этого периода. Пастбищем для них по большей части служило необработанное вересковое поле. Из-за отсутствия оград скот запирался на всю ночь. Большую часть скота, оставшегося непроданным на южные английские пастбища, с приближением зимы, к Мартынову дню, приходилось резать, так как корнеплодов не было и даже сена не хватало, чтобы прокормить скот зимой. В течение следующих 6 месяцев джентри питались солониной, а на обеденном столе крестьянина мясо в любое время года появлялось редко. С наступлением запоздалой шотландской весны бедных животных, ставших совершенными скелетами после длительного зимнего заточения в темноте на рационе из соломы или вареной мякины, выводили обратно из хлева на пастбище; это была жалкая процессия – фермерам приходилось при этом одних животных поддерживать с боков, а других – просто выносить на руках. Эта ежегодная церемония удачно называлась «поднятие».
В материальном отношении уровень жизни в Шотландии был очень низок, но тяжкие лишения не сокрушили дух народа. Простой народ решительнее, чем в более богатой Англии, стремился избежать получения милостыни. Система закона о бедных была в обеих странах совершенно различной. В Англии бедные были со времен царствования Елизаветы обузой для общины; их содержали на принудительные приходские налоги, которые составляли к концу царствования Анны миллион фунтов в год, что тогда считалось тяжелым национальным бременем. В Шотландии не было принудительного налога, и помощь бедным была обязанностью не государства, а церкви. Пожертвования на бедных, сделанные частными лицами, объявлялись в церкви, а иногда увековечивались на досках, висевших на ее стенах. В церкви также стоял ящик для бедных, который бережливые шотландцы постоянно наполняли, по большей части скверной местной медной монетой – наряду с небольшим количеством хорошей монеты. Во многих приходах, хотя и не во всех, существовали специальные лица из мирян, занимавшиеся делами церкви, – так называемые дьяконы. В обязанности дьякона входило и распределение пожертвований среди нуждающихся, которые по большей части искренне не хотели получать такое пособие. Люди, которые сами были отчаянно бедны, считали своим долгом избавить своих родственников от необходимости получения такого пособия и заботы о них великодушно принимали на себя.
Разрешение собирать милостыню, бродя от двери к двери в данном районе, давалось также церковной сессией привилегированным «бродячим н ищим»,или «разрешенным нищим». Многие из них были желанными разносчиками новостей на уединенные фермы, хранителями местных знаний и легенд, популярными, уважаемыми фигурами, имеющими свое собственное место в сельском обществе.
Но, к несчастью, было значительно большее число неразрешенных и менее желанных бродяг. «Попрошайки» Шотландии времен королевы Анны напоминали «закоренелых нищих» тюдоровской Англии. В годы царствования Вильгельма III эта армия разоренных и безработных людей возросла. Но «попрошайки» были достаточно многочисленны, чтобы терроризировать население уединенных ферм и деревушек, состоящих из двух-трех домов; компания «дурных людей» могла грабить среди бела дня, забирая последнюю корку из хижины, корову из хлева, а иногда и отнимая ребенка у несчастных родителей. Число и могущество «попрошаек» было для Шотландии наказанием за отсутствие у нее настоящего закона о бедных, подобного английскому. Не было сделано в стране и каких-нибудь попыток создать собственную полицию.
Флетчер из Сэлтуна, мрачный республиканский патриот, придавая свой собственный оттенок шотландским политическим воззрениям эпохи, предлагал, в качестве лекарства, обратить «попрошаек» в принудительное рабство; его идея была расширением существующей в Шотландии практики. На угольных и соляных копях работали преимущественно «крепостные», истинные рабы, которые могли быть пойманы и наказаны за побег. Даже на предприятиях Нового времени, основанных на свободном контракте, подобно суконной фабрике «Нью-миллс» в Хаддингтоншире, была «тюрьма при фабрике», и рабочих, которые убежали или разорвали контракт, можно было сажать в тюрьму без долгих разбирательств. Но положение рабочих на «Нью-миллс» не считалось скверным в те дни, когда наследственных крепостных в копях их хозяева рассматривали как скот, а остальное население называло их с чувством жалости и ужаса «коричневым» или «черным народом».
Если Шотландия во времена унии отставала от Англии в методах земледелия, то ее промышленность и торговля тоже были не в лучшем состоянии. Почти все статьи ее экспорта составляли продовольствие и сырые материалы – скот и лососина для Англии, уголь и лососина для Голландии, соль и свинец для Норвегии, сельди для Пиренейского полуострова. Сами шотландцы носили платье, сотканное деревенскими ткачами для местного потребления; лишь очень немного льняных или шерстяных тканей продавалось за границу. Хаддингтонская «Нью-миллс» была известна, но она не процветала. Были, впрочем, другие шерстяные фабрики, например в Массельбурге и Абердине, всегда требующие от шотландского парламента поддержки их деньгами и монопольных прав; эти требования удовлетворялись только частично. Лендлорды-овцеводы со своей стороны требовали законодательства о разрешении экспорта сырой шерсти в Швецию и Голландию, что подрывало сбыт шотландского сукна в эти страны и, конечно, совершенно противоречило государственной политике Англии. Торговля сельдью была главным источником национального богатства, но даже и тут голландские рыбаки ловили у берегов Шотландии гораздо больше сельдей, чем сами шотландцы. Основным занятием эдинбургского парламента было составление предписаний для поощрения и направления промышленных и торговых усилий страны.
Хотя шотландские офицеры и полки завоевали славу своей родной стране – шотландские солдаты столь же прославились в армиях Мальборо, как и в армиях Веллингтона, – война с Францией не имела большого значения для шотландцев. Это была не их война, а война Англии. За четыре года перед унией эдинбургский парламент провел «Винный закон», чтобы узаконить наиболее распространенную отрасль торговли с врагом. Англичане были глубоко задеты этим грубым игнорированием норм достойного поведения в военное время, когда сами были вынуждены довольствоваться лишь незаконной контрабандной торговлей во французских портах. Но они ничего не осмелились сделать, так как если бы какой-нибудь из их крейсеров захватил шотландский корабль якобитских агентов, груженный коньяком и кларетом, то англичане могли бы, проснувшись утром, узнать, что находятся в состоянии войны с Шотландией.
Со времен Реставрации Глазго считался вторым городом в королевстве и первым по торговле и промышленности. Возможно, что из-за голода и нужды в царствование Вильгельма III население его несколько уменьшилось; когда в 1707 году была провозглашена уния, он насчитывал только 500 жителей, тогда как общая численность населения всей Шотландии составляла миллион (если не более) человек. Купцы Глазго владели пятнадцатью торговыми кораблями с общим тоннажем в 1182 тонны, и даже эти мелкие суда должны были разгружаться на расстоянии более чем в дюжину миль ниже города, так как Клайд был тогда судоходен только для простых лодок. Так как ни одной шотландской фирме не было разрешено торговать с английскими колониями, их торговля ограничивалась Европой до тех пор, пока подписание унии не сделало доступной табачную торговлю с английскими колониями. В царствование Анны Глазго был еще довольно маленьким городком, с колоннадами на перекрестках в центре города, где встречались купцы, чтобы заключать свои скромные сделки. Он был, кроме того, одним из четырех университетских городов Шотландии: «только 40 студентов этого колледжа живут на его территории, – отмечал один английский путешественник, – но всего в нем 200 или 300 человек, и все они носят красные мантии, как делают им подобные в Абердине и Сент Эндруз».
Четвертым университетским городом был сам Эдинбург – штаб-квартира шотландского закона и суда, место, где собирался парламент, состоящий из представителей трех сословий, и другой парламент, оказавшийся более прочным, – Генеральная церковная ассамблея. Здесь также был Холируд-пэлис, пустое гнездо, из которого улетели шотландские короли. На другом конце протянувшейся на целую милю Кэнонгейт, на Хай-стрит, «величественнейшей улице в мире», как называл ее путешественник этого периода, поднимался на скале замок, в котором отсутствующая королева Анна была представлена красными мундирами ее маленькой шотландской армии. Праздные солдаты смотрели вниз на дым и крыши Эдинбурга, постоянно занятые вопросом, что может затеваться в беспокойном городе внизу и подавление какого мятежа – религиозного, политического или экономического – будет их ближайшей обязанностью.
Хотя древняя городская стража Эдинбурга с ее локаберскими топорами была посмешищем Шотландии, однако взломы и грабежи были почти неизвестны в главном городе королевства, где люди оставляли двери своих домов незапертыми всю ночь. Это говорит о честности шотландцев и свидетельствует об уважении к суровой религиозной системе, при которой они воспитывались. Эта система действовала в городе весьма эффективно, не допуская в самой столице – центре моды – Шотландии показа театральных зрелищ и танцев, а по воскресеньям – «праздного глазения из окон», а также бездельничанья и быстрой ходьбы на улицах.
Но в будний день даже церковь не пыталась запретить скачки на песках Лиса, гольф, петушиный бой или пьянство. Каждый день после работы люди всех классов заполняли таверны, сидя там за элем и кларетом, пока барабанный бой, раздающийся в 10 часов по приказу магистратов, не предупреждал каждого, что он должен уходить домой. Тогда Хай-стрит и Кэнонгейт заполнялисьразными компаниями, торопливо, но не очень твердо бредущими по улицам. Здесь были и судьи Верховного суда, старающиеся держаться прямо, как и подобало их достоинству, и грубые горцы-носильщики, ругавшиеся по-гэльски, когда они пробирались со своим портшезом, а в это же время над их головами распахивались окна пятого, шестого или десятого этажей и нечистоты Эдинбурга, собранные в парашах за последние 24 часа, выбрасывались из окон на улицу. При этом существовал хороший обычай: те, кто был наверху, прежде чем бросать, кричали: «Берегись воды», а возвращающийся гуляка отвечал снизу: «Придержи руки» и отбегал, втянув голову в плечи, счастливый, если его громадный и дорогой длинный парик не пострадал от водопада нечистот. Нечистоты, сбрасываемые таким образом вниз, лежали на широкой Хай-стрит и в глубоких, похожих на колодцы улицах и переулках вокруг нее, наполняя ночной воздух ужасным зловонием. Лишь рано утром нечистоты небрежно убирались городской стражей. Но в воскресное утро их нельзя было трогать, и они лежали здесь весь день, наполняя шотландскую столицу ароматом ложно понимаемого благочестия.
Эта знаменитая санитарная система Эдинбурга возбуждала много толков среди английских путешественников и подвергала шотландцев «порицанию и осуждению других наций», как существ, по словам Дефо, «не склонных жить приятно и чисто». Однако вполне справедливо процитировать его же слова в защиту шотландцев в этом вопросе:
«Если бы любой другой народ был вынужден жить в таких же тяжелых условиях (я имею в виду скалистое и гористое местоположение, скученные постройки от 7 до 10 или 12 этажей, нехватку воды – ибо небольшое количество воды, которое можно было получать в городе, было трудно доставить в самые верхние квартиры), то и Лондон, и Бристоль были бы такими же грязными, как Эдинбург; хотянаселение многих городов было более многочисленным, я уверен, что ни в одном городе в мире не жило так многонарода на таком маленьком пространстве». Эдинбург действительно был типичным примером города французского типа, который держался своих древних границ ради большей безопасности и удобства обороны и поэтому был вынужден расти по вертикали в противоположность горизонтальному расширению беспечных мирных городов Англии, разраставшихся вширь в предместья, чтобы дать каждой семье собственный дом и, если возможно, собственный сад. Французское влияние и тревожное положение Шотландии в прошлом замыкало столицу внутри ее стен и вынуждало ее расти ввысь. И действительно, еще не так давно для джентльмена было весьма опасно проводить ночь в каком-либо доме, расположенном вне городских стен. И так как шотландские вельможи не имели прекрасных особняков, подобных особнякам английской знати в Блумсбери и Стрэнде, то они во время сессий парламента были готовы жить в квартирах на Хай-стрит.
Легко представить себе, как трудно было письму дойти по назначению или чужестранцу найти дорогу в таком городе, где каждая квартира считалась отдельным «домом», а дома не были нумерованы. Действительно, без помощи полка остроглазых сообразительных надежных мальчишек, подчинявшихся собственной дисциплине, едва ли можно было бы ориентироваться на запутанных улицах старого Эдинбурга.
Шотландская литературная жизнь была сосредоточена в столице, но она пока еще не подавала признаков того великого пробуждения, которое наступило во второй половине нового столетия. Правда, почва для него уже была подготовлена в сердцах и умах шотландцев. Сознание народа развивалось пением баллад, рассказами всяких историй, обсуждением различных учений простыми людьми, собравшимися вокруг очага в крестьянском домике. Печатные книги, кроме Библии, состояли главным образом из теологических и политических памфлетов.
Местной журналистики не было. В Эдинбурге имелись лишь две газеты, выходившие три раза в неделю: давно учрежденная «Газетт» и ее соперник газета «Курант», появившаяся в 1705 году. Обе газеты существовали по специальному разрешению Тайного совета; они были покорными органами правительства, а по форме являлись простым подражанием лондонским газетам. Они были полны континентальных и английских новостей, но ничего не рассказывали шотландцам об их собственных делах. С исчезновением, вскоре после унии, шотландского Тайного совета эдинбургская пресса приобрела некоторую свободу, а в последние годы царствования Анны начала жить собственной жизнью, и число газет значительно возросло.
Шотландский крестьянин, связанный феодальными узами и средневековой бедностью, имел единственную возможность бежать от своей реальной участи: обратиться к религии. Другой духовной пищи ему не предлагалось. Сидя с Библией на коленях, горячо и самозабвенно споря со священником или с друзьями, он жил в царстве мысли и воображения, глубоком, ограниченном, напряженном и совершенно непохожем на ту карусель отрывочной, бессвязной информации и идей, в которых вращается народное сознание в наши дни. Так как его мнения в политике никогда не спрашивали и он не имел представительства в сословиях парламента, то тем больший интерес проявлял к делам церковных ассамблей, где его влияние так или иначе ощущалось, к делам всей иерархии церковных курий – сессии приходских церквей, собрания пресвитеров дюжины приходов, провинциального синода и национальной Генеральной ассамблеи, ежегодно собиравшейся в Эдинбурге. Во всех этих собраниях были представлены миряне, чего не было в чисто церковных собраниях Йорка и Кентербери. Часто говорили, что истинным шотландским парламентом была церковная ассамблея, а не представители трех сословий. При отсутствии какого-либо представительного местного правления церковная сессия, на которой светские старейшины держали в страхе священников, была наиболее близка к приходскому совету.
Приходская церковь представляла собой обычно маленькое и полуразрушенное здание с крышей из дерна или соломы; она не обладала великолепием или прелестью английских средневековых храмов и в Англии считалась бы более пригодной для амбара. В сельских церквах редко имелись скамьи; их ставили только для старейшин и нескольких привилегированных семей. Большинство мужчин и женщин стояли в течение службы или сидели на низких «треножниках». Однако по воскресеньям во время двух служб, длившихся по три часа каждая, эта мрачная и плохо обставленная комната была переполнена членами конгрегации, из которых многие шли пешком через болото много миль. Пространство внутри церкви было так мало, что не вмещавшиеся в ней благочестивые прихожане часто толпились на церковном дворе, где Библия читалась им юношей, стоявшим на надгробном камне.
Наиболее торжественным и выразительным из народных религиозных обрядов был обряд причащения, во время которого причастие выставлялось на открытом воздухе на длинных столах. Восемь или десять приходов соединялись, чтобы проводить причащение по очереди, от июня до августа, и многие посещали их одно за другим, хотя для этого надо было пройти не менее 40 миль по холмам.
В царствование королевы Анны более пожилые пресвитерианские священники обычно являлись теми людьми, образование которых было прервано, а дух был возбужден и ожесточен преследованиями. Некто, знавший их в более поздние годы, описывал их как «людей слабых, полуобразованных, ведших безупречную жизнь, но с суровыми и грубыми нравами. Их предрассудки совершенно совпадали с предрассудками их паствы, которая в том, что касалось их здравых основных нравственных правил, делала большие уступки своим недостаткам и слабостям».
«Пресвитерианское красноречие» было притчей во языцех для английских слушателей из-за странного отношения к религиозным таинствам, из-за фамильярного обращения к Богу, из-за проповедей по поводу такого безвредного поступка, как ношение модного платья в церкви или приобретение в Лондоне «Спектейтора». Однако именно один из англичан написал следующие строки:
«Если бы священнические обязанности в Англии исполнялись так же, как в Шотландии, с таким старанием и самоотречением и при столь же малом поощрении, то тысячи из духовенства, я полагаю, захотели бы скорее быть ремесленниками, нежели священниками. Здесь не существовало ни трутней, ни ленивых священников, ни избалованных пастырей и не было рангов или повышений по службе, чтобы возбудить честолюбие».
Действительно, честолюбие крестьянского сына – а в большинстве случаев ими и были по своему происхождению священники – вполне удовлетворялось руководством приходом и доверием его паствы. Тем временем здесь подросло новое поколение, получившее лучшее образование в менее беспокойные времена, обладавшее большим чувством пропорции в мыслях и утонченностью а языке, которое скоро должно было открыто вступить, в качестве «умеренных», в ссору с более пожилыми людьми.
Пресвитерианская церковная сессия светских старейшин, полных самомнения, действуя совместно со священниками, вмешивалась во все вопросы повседневной жизни прихожан. Неделя за неделей церковная сессия и высшая курия пресвитерианской церкви судили уличенных в ругани, клевете, ссорах, нарушениях воскресного отдыха, колдовстве и сексуальных преступлениях. Некоторые из этих расследований и приговоров проводились правильно и были так же полезны, как если бы велись обычными судьями в Англии. Другие были невыносимо несправедливыми; были, например, случаи, когда женщину обвиняли за ношение ведра в постный день, а краудера – за игру на крауде [54]в христианский праздник. Изменника или прелюбодея любого пола усаживали на позорный стул в церкви на потеху молодым прихожанам для сурового осуждения порока более почтенными и для беззастенчивых обвинений со стороны священника, повторявшихся иногда 6, 10 или 12 праздничных дней подряд. Часто в церкви выстраивался длинный ряд «согрешивших», а «позорные мантии», в которые их при этом одевали, приходилось вследствие их постоянного использования частенько обновлять. Чтобы избежать этого мучительного унижения, бедные девушки часто вынуждены были скрывать свою беременность, а иногда и умерщвлять ребенка. Тайный совет постоянно имел дело в таких случаях с вопросом о смягчении наказания или, напротив, о принятии более суровых мер.
Такая деятельность церковной сессии и пресвитерии поддерживалась общественным мнением, иначе она не могла бы на столь большой срок пережить исчезновение подобной церковной юрисдикции в Англии. Но эта деятельность вызывала у многих и глубокое негодование, особенно среди высших классов. Правда, в судебных делах, касавшихся джентри, часто допускалась замена наказания штрафом. Но даже при таком смягчении право осуществлять свою юрисдикцию в вопросах поведения, присвоенное низкорожденными старейшинами и духовенством, было оскорблением для гордых семей лэрдов и знати; это было основной причиной приверженности к епископальной религии и якобитской политике для многих, кто в других отношениях не имел никаких жалоб на богослужение и доктрины пресвитерианской церкви. Антиклерикализм усиливал якобитов в Шотландии так же, как он усиливал вигов в Англии. Однако нужно помнить, что позорный стул и юрисдикция церковной сессии сохранялись даже во времена епископальной церкви Карла II и не исчезали в тех многочисленных приходах, которые все еще управлялись епископальными священниками.
В общем епископальная, или якобитская, партия больше зависела от поддержки высшего класса, чем пресвитериане, или виги. У более суровых последователей Нокса, вероятно, должна была быть более демократическая доктрина и практика. Столкновение происходило при назначении священников, так как ревностные пресвитериане требовали, чтобы это делали прихожане, как на основании религиозной доктрины о назначении священников, так и потому, что пресвитерианизм частных патронов, претендовавших на право назначать священников, часто вызывал сомнения.
Даже английские нонконформисты, посетившие Шотландию, были удивлены и смущены смелостью церкви в ее обращении с «вельможами». Каковы бы ни были ее другие ошибки, церковь Джона Нокса побудила угнетенный народ Шотландии взглянуть в лицо его феодальным хозяевам.
Положение приверженцев епископальной церкви в начале XVIII века было наиболее ненормальным. Их богослужения, доктрины, организация и дисциплина мало отличались от порядков пресвитерианской церкви. Однако наибольшее озлобление вызывало различие между двумя видами причастия, потому что различие церквей соответствовало политическому расхождению между вигами и якобитами, за которым лежало два поколения вражды и обид, нанесенных и вспоминаемых обеими сторонами.
Положение епископалов Шотландии были одновременно и лучше и хуже, чем у нонконформистов Англии. С одной стороны, до 1712 года не было какого-нибудь закона о веротерпимости, чтобы узаконить их богослужение. С другой стороны, более 1/6 приходских церквей было еще занято их священниками. В Абердиншире, в горных областях, и вдоль их восточных границ пресвитерианские священники, когда они появлялись в обществе, могли подвергнуться нападению толпы, столь же дикой, как и та, которая «проследовала» епископальных викариев юго-запада. Когда в 1704 году пресвитерианский священник должен был вступить в должность в Дингуолле, он был остановлен, избит и прогнан прочь толпой мужчин и женщин, кричавших: «Король Вилли мертв, а наш король жив»!
Народные чувства, нашедшие такое выражение на северо-востоке, возникли не столько из-за религиозных разногласий, сколькоиз-за политической вражды и личной привязанности к старым и испытанным пасторам. В Шотландии в 1707 году существовало еще 165 (из 900) приходов, где священники оставались верными епископальной церкви. Но значительное большинство епископального духовенства было во время революции лишено сана. В царствование Анны они жили достаточно скверно; наиболее счастливые – в качестве капелланов в некоторых знатных домах, большинство других – на милостыню, собираемую с их единоверцев вШотландии или с английского духовенства, которое считало их мучениками за общее дело.
Вера в колдовство уже настолько ослабела среди высших слоев английского общества, что преследование колдунов на основе закона и вследствие народного суеверия уже не разрешалось в стране, которая тогда управлялась в соответствии с идеями ее образованного класса. В Шотландии то же явление повторилось лишь поколение или два спустя. В начале XVIII века часть высшего класса уже сомневалась в возможности частого дьявольского вмешательства, но народный и клерикальный фанатизм был еще очень силен. При королеве Анне в Шотландии было казнено много женщин, заподозренных в ведовстве, а еще больше было изгнано из королевства. В последний раз на нашем острове «ведьмы» были подвергнуты смертной казни в глухих местах далекого Сазерлендшира в царствование Георга I. В 1736 году закон о смертной казни за колдовство был отменен для Великобритании вестминстерским парламентом. Прошло еще одно поколение, и ведьмы, и «большой черный дьявол» стали для Бёрнса и его друзей-фермеров предметом скорее насмешек, чем страха, хотя пресвитериане более строгого нрава продолжали рассматривать неверие в колдовство как атеизм и как вызов, бросаемый Священному Писанию.
Пресвитерианская церковь не была источником и началом народных суеверий. Одни из них она поощряла, а другие отвергала. Корни всех суеверий уходили глубоко в папистские, в языческие, в первобытные инстинкты и обычаи, еще сильные в стране гор, болот и непокоренной природы, среди населения, которое даже в Южной Шотландии было главным образом кельтским по происхождению и жило в условиях, в общем мало изменившихся со времен отдаленного прошлого. Возвращаясь домой в полночь и пробираясь вброд, человек все еще слышал водяного, шумящего в речном потоке. Феи еще скрывались среди боярышника лесистых долин и были известны тем, кто приходил туда умилостивить их обрядами, чтобы они не убивали скот в хлеву или не похищали детей из колыбели. К северу от реки Тей люди по традиции все еще зажигали в ночь на 1 мая праздничные костры на холмах и танцевали вокруг них. Урожай и скот охранялись многочисленными и разнообразными местными способами умилостивления, из которых некоторые относились к самым ранним временам земледелия и скотоводства.
Посещались волшебные источники; из чувства страха и благодарности деревья и кусты украшались лоскутами клетчатой ткани и совершались жертвоприношения. В горных областях такие обряды были главной религией населения; в Южной Шотландии они были второстепенной, но еще непременной составной частью жизни и веры людей, посещавших христианскую церковь.
При отсутствии настоящих докторов для сельских местностей народная медицина основывалась на традициях, и иногда было трудно отличить ее от народных форм колдовства. Были мудрые мужчины и женщины, которые помогали человеческому счастью так же, как колдуны и ведьмы, которые ему мешали. Церковь поощряла народ уничтожать последних, но не могла помешать ему искать помощи первых.
Священник не был всемогущим. Как мог он им быть, когда он запретил невинные развлечения? Юноши и девушки «танцевали вперемежку» под скрипку или волынку на каждом праздничном сборище, несмотря на запрещение церкви; и ни старый, ни молодой не мог воздержаться от обрядов, более древних, чем пресвитер или папа. Имелись сотни различных чар и обычаев, чтобы отвратить несчастье, следующее за каждым событием в жизни – рождением, свадьбой, смертью, сбиванием масла, отправлением в путешествие, посевом зерна.
Чудеса рассматривались как повседневные события в значительно большей степени, чем в лишенной воображения скептической Англии.Духи, предзнаменования, привидения были обычным атрибутом шотландской жизни; истории об оживших трупах, участвовавших в обычных людских делах, рассказывали с подробностями, и им верили; шотландец, встречавший незнакомца на болоте, не был уверен, являлся ли последний тем, чем казался, или был «потусторонним существом». «Большого черного дьявола» часто видели подстерегающим в вечерних сумерках за дверьми хижины или ускользающим прочь через северную сторону стены церковного двора. Люди всегда слепо верили в чудеса, приписывая их проявлениям божественной или дьявольской силы. Священники поощряли такую веру в своей пастве. У пастухов в течение долгих часов одиночества на холмах появлялись странные и иногда прекрасные фантазии. Водроу рассказывает, как в 1704 году один пастух объявил, что, «когда он пас скот, в защищенном месте, к нему пришел красивый человек и приказал ему больше молиться и учиться читать; и он предполагал, что это был Христос». В следующем году он рассказывает нам о другом парне, который однажды тонул в колодце, но «красивый юноша вытащил его рукой. Поблизости в это время никого не было, и поэтому люди решили, что в образе того юноши, без сомнения, явился ангел». Такова была Шотландия – не Шотландия Дэвида Юма, Адама Смита или «Эдинбургских обозрений» или Шотландия Бёрнса и Вальтера Скотта, а более древняя, хотя именно она доставляла им материал для творчества.
Если даже в Южной Шотландии примитивные и близкие к природе условия существования порождали примитивную веру в наивную фантазию, то еще больше это имело место в Горной области, истинном обиталище фей и горных духов, бесформенных чудовищ, которые появлялись незаметно в глубине воды под лодкой, – обиталище ясновидения, предзнаменований и пророчеств, окружавших короткую жизнь человека. В этой области за Грампианскими горами, редко пересекаемыми южанином, лежали мрачные, не нанесенные на карты непроходимые горы, пристанище кельтских племен, говорящих на другом языке, носящих другую одежду, живущих в условиях закона и общества, на тысячу лет более древних, чем в Южной Шотландии, не подчиняющихся ни церкви, ни королеве, а только своим вождям, кланам, обычаям и суевериям. До тех пор пока поколение спустя не начал свою деятельность генерал Вейд, через Горную область не было проезжих дорог. Там царила мрачная и великолепная природа, пока еще не вызывавшая восхищения, а человек ютился по углам ее владений.
В Лондоне или даже в Эдинбурге имели значительно менее точное представление о положении в Горной области, чем теперь можно приобрести за прилавком книжной лавки относительно отдаленнейших частей Африки. Не было приличной книги о Горной области до тех пор, пока – уже в следующем поколении – не появились письма Барта. Немногие страницы в начале отчета Морера рассказали англичанам времен королевы Анны о Шотландии почти все, что они хотели знать о диком северном конце того удивительного острова, который они населяли.
«У горцев имеется значительное количество зерна, однако его недостаточно, чтобы полностью удовлетворить их потребности, и поэтому они ежегодно спускаются со своим скотом, имеющимся у них в избытке, и торгуют с южанами, чтобы купить столько овса и ячменя, сколько требовали их семья или нужда… Один или два раза в год они собирались в большие группы и совершали набег на южные области, где грабили жителей, а затем возвращались назад и вновь рассеивались. И это они способны делать в самое мирное время, так как для них естественно восхищение грабежом».
Дефо, писавший Харли из Эдинбурга в ноябре 1706 года, передает свои впечатления англичанина о горцах:
«Они грозные парни, и я лишь хочу, чтобы ее величество имело 25 тысяч из них в Испании, народ которой такой же гордый и варварский, как и они. Все они – джентльмены, которые не перенесут оскорбления ни от кого и дерзки до последней степени. Но, конечно, является смешным и нелепым вид человека в горной одежде, вооруженного широким мечом, маленьким щитом, пистолетом, с кинжалом на поясе и палкой в руках, разгуливающего по Хай-стрит так прямо и надменно, как если бы он был лордом, и притом погоняющего корову!…»
Какой образ жизни вел член клана, оставаясь дома, когда он не торговал с южанами и не погонял скот? Было бы наивным заблуждением предполагать что земля клана была землей народа и что люди жили на ней в безыскусственном счастье до тех пор, пока вожди во внезапном приступе злобы не отобрали эту землю у народа. В действительности мелкий арендатор в царствование королевы Анны был вынужден снимать клочок земли у более крупного арендатора или у «откупщика» земли вождя клана, который переуступал ее на чрезвычайно тяжелых условиях непомерной арендной платы. Почва на склонах гор была скудной и каменистой, размываемой потоками, неудобренной; земледельческие орудия и методы были более примитивными, чем даже в Южной Шотландии; маленькие фермы были простыми хибарками. Это и не могло быть иначе, так как даже небольшого по численности населения было слишком много для того, чтобы эти долины могли его прокормить. По мере увеличения членов клана маленькие фермы разделялись и подразделялись с гибельными результатами. Легко можно было предсказать, что если когда-либо Горная область была бы соединена с внешним миром посредством дорог или посредством военного и политического завоевания, то результатом этого явилась бы значительная эмиграция, как только горец понял бы, что возможна перемена в его образе жизни. В царствование Анны небольшая струйка эмиграции проникала в южные районы, где эмигранты использовались для более грубых работ, и на континент, где они присоединялись к «ирландским» полкам на французской службе, которые многим обязаны наличию в своих рядах шотландских горцев.
Вождь имел власть над жизнью и смертью и осуществлял ее полностью, держа свой клан в страхе, который усиливался традиционной верностью, а часто и любовью. Кем был вождь – тираном или отцом или тем и другим вместе, – это зависело от его личных качеств. Так же как Людовик XIV облагал своих крестьян налогами, чтобы содержать свою армию, так и вождь клана давал возможность постоянно сопровождавшей его свите вооруженных родственников и слуг жить праздно за счет остального клана; но всякий более экономный и мирный образ жизни не был бы оценен племенем, в котором личная и племенная гордость была господствующей страстью.
Многие из горных вождей наряду с великим Аргайлом были дворянами, занимали определенное место в политической жизни Эдинбурга и усвоили кое-что от культуры Франции или Англии .Но культурный вождь и его необразованные приверженцы всегда имели много общего – гордость клана, любовь к арфе и волынке, истории и песни, в которых старые распри и фантазии были вплетены поэтами племени в современную гэльскую литературу.
В тени долины и рядом с опоясанными холмами заливами было больше бедности и дикости, чем в других частях острова, но зато здесь было больше поэзии и пылкого воображения.
Такое положение вещей возбуждало рвение церковной ассамблеи и «Общества для распространения христианских знаний»; начиная с 1704 года было собрано много тысяч фунтов, чтобы положить начало библиотекам, школам и пресвитерианским миссиям в Горной области, где религия представляла собой сочетание пресвитерианских, римско-католических, епископальных и примитивных языческих убеждений, причем сочетание в таких пропорциях, которые было бы трудно определить. Сначала этими миссиями был достигнут кое-какой успех, но в некоторых местах они были насильственно уничтожены по приказу вождя, а в других исчезли с течением времени. Только когда племенная организация была действительно подавлена военным и политическим вторжением с юга, стало возможным пресвитерианское миссионерство и началась действительная евангелизация Горной области.
Такова примерно была Шотландия, когда преходящие, обстоятельства привели к окончательному решению постоянно возникавшей проблемы более тесного объединения всего острова. Решительный король Эдуард потерпел неудачу, пытаясь осуществить такой план, и рука Кромвеля выпустила свою добычу в момент смерти; но там, где сила потерпела неудачу, королева Анна должна была достичь успеха средствами, более соответствующими ее женственности. Добровольно заключенный договор между двумя странами, который объединил их парламентскую и торговую систему, вошел в силу в 1707 году и открыл путь тем движениям, которые создали современную Шотландию.
II Шотландия в конце XVIII века
Наши предки викторианских времен не знали так хорошо, как знаем мы, люди XX века, что «прогресс» не всегда является переменой от плохого к хорошему или от хорошего к лучшему. Общий итог «прогресса», связанного с промышленным переворотом, отнюдь не был однимлишь благом для человека. Однако «прогресс» Шотландии во второй половине XVIII века происходил не только очень быстро, но и в верном направлении. Без сомнения, он нес в себе самом зерно будущего зла, но жизненные условия в Шотландии в 1800 году были, несомненно, лучше, чем в 1700 году. Освобождение основной массы населения от гнета ужасной бедности, а более обеспеченных слоев от того или иногорода нехватки освободило шотландский дух для его величайших подвигов.
Уменьшение нищеты, описанной в первой части этой главы, произошло главным образом благодаря перевороту в методах земледелия. Этот переворот был аналогичен современному ему движению в сельской Англии, но в Шотландии перемены были более заметны, так как по своему развитию шотландское земледелие в начале столетия значительно отставало от английского. Улучшение началось с деятельности некоторых шотландских лендлордов, которые пригласили английских пахарей и фермеров, чтобы познакомить своих держателей с новыми достижениями Южной Британии; усовершенствование шотландского земледелия достигло своего триумфа во время наполеоновских войн, когда управляющих и пахарей из графства Лотиан стали привозить в Англию, чтобы научить англичан тем методам, которые в то время уже применялись в Шотландии. Между 1760 и 1820 годами английское земледелие прогрессировало значительно быстрее, чем когда-либо раньше или позже; однако именно в эти годы шотландское земледелие догнало и перегнало английское.
Как и в Англии, первыми инициаторами этих перемен в Шотландии были отдельные предприимчивые лендлорды, обладавшие небольшим капиталом и поверхностными знаниями. Их успех послужил примером, которому последовали многие. Первое, что надо было сделать, – это разрушить систему чередования участков, которая требовала общей обработки земли; эта система землепользования поддерживалась при помощи более примитивных методов, чем методы английских открытых полей, мешала индивидуальной инициативе, не давала гарантии безопасности владения и не поощряла усилий общины мелких фермеров. Шотландские держатели не имели законных прав на землю, а держали ее на условиях краткосрочной аренды или совсем ничего не имели. Но эта система, как бы она ни была плоха, имела одно преимущество – с ней легко было покончить. Здесь ничто не мешало лендлордам, склонным к улучшениям, уничтожить участки и переделить землю, создав компактные фермы, которые они затем сдавали отдельным фермерам в долгосрочную аренду на 19 лет или на больший срок. Благодаря этой крупной реформе шотландский держатель получал на первое время стимул проявить свою долго дремавшую энергию и предприимчивость.
Была, правда, очевидная опасность того, что некоторые из старых держателей будут вообще лишены земли, станут жертвами реформы. Например, там, где старая ферма с ее участками, прежде сдаваемая общине из 10-15 держателей, была огорожена и поделена заново между пятью или шестью из них, что стало с остальными? Некоторые шли в расцветающие города или колонии, в которые теперь благодаря унии получили доступ и шотландские эмигранты. Но численность населения, занятого в шотландском земледелии, скорее возросла, чем уменьшилась, благодаря постоянному увеличению площади возделываемой земли. Новые акры, отвоеванные у пустоши, часто были лучше старых земель, так как располагались в плодородных долинах, которые требовали только искусственного осушения, чтобы стать более ценными, чем прежние поля на склонах холмов, где в таком осушении не было необходимости.
И старые, и новые земли были теперь окружены каменными стенами или изгородями; высокие гребни участков были срыты; поля были осушены, удобрены известью, унавожены; одна или две хорошие лошади заняли место длинного обоза из заморенных быков, запряженных в плуг; люди могли теперь употреблять кожаную упряжь вместо упряжи из конского волоса или тростника, железные плуги вместо деревянных, двухколесные повозки вместо саней. Картофель, выращиваемый на полях, и овощи на огородах разнообразили пищу населения, в то время как корнеплодами и другими культурами кормили скот в течение всей зимы. Древесные насаждения задерживали ветер и удовлетворяли нужду поместья в лесоматериалах; на склонах холмов во многих частях Шотландии стало появляться все больше новых лесов.
Дороги были значительно улучшены, что способствовало расширению рыночной торговли фермеров и промышленников. Процветание земледелия создавало капитал, который снова вкладывался в землю. А банки, учрежденные в городах графств в начале царствования Георга III, помогали и лэрдам, и фермерам финансировать улучшения, проводимые ими совместно. Промышленный и торговый рост Клайдсайда создал рынок для продуктов земледелия. Имения покупались и расширялись «табачными лордами» из мира судовладельцев Глазго и отважными шотландцами, вернувшимися из Британской Индии, где они скопили состояния. Короче говоря, происходило одновременное развитие всех сторон экономической и социальной жизни, но не за счет друг друга, так как в эту счастливую эпоху промышленность и торговля были не врагами, а союзниками земледелия.
Таким образом, периодические голодовки, сокращавшие жизнь и губившие силы шотландского народа, уже не были столь ужасны, как прежде. В обычные годы реальная заработная плата, доход от фермы и ренты были много выше, чем в прежние времена. Картофель, овощи, сыр, а иногда и мясо добавлялись к овсянке и молоку, которые еще составляли основную пищу бедноты; в Шотландии, как и в Англии, контрабандисты способствовали проникновению чая и табака даже в наиболее бедные дома. Были достигнуты большие, хотя и не повсеместные, успехи даже там, где до сих пор было позорное отставание, – в деле модернизации и благоустройства вновь строящихся домов. В некоторых районах прочные каменные фермы и домики с одной или двумя комнатами, с печными трубами, стеклянными окнами, кроватями, мебелью и наружными уборными заменили прежние хибарки, которые крестьяне обычно делили со своим скотом. Крепкие шотландцы времени Бёрнса (1759-1796) казались племенем, отличным от своих дедов, которые из-за недостатка в пище, одежде и тепле часто выглядели изможденными, неряшливыми и вялыми.
Кроме того, шотландцы были теперь свободными людьми. Последнее зло умирающего феодализма, которое еще сохранялось в Шотландии несколько столетий, после того как оно было уничтожено в Англии, устранили в 1748 году специальным законом, положившим конец наследственной юрисдикции. И в Южной, и Северной Шотландии барон или вождь, имевший частную курию для суда над своими вассалами и держателями, мог по своему желанию или капризу заключить непокорного в зловонную темницу, и заключенный не имел права апеллировать к королевским трибуналам. Именно эта власть была уничтожена.
В Горной области исчезло и многое другое, кроме наследственной юрисдикции. Вся картина материально-бытовых условий и общественной жизни страны, сохранявшаяся (с небольшими изменениями) в горных районах Шотландии с доисторических времен, сразу коренным образом изменилась. Клановая система, воины в шотландских юбочках с широкими мечами и щитами, патриархальная власть вождя – все это исчезло навсегда. Горная область впервые в своей истории стала единым целым с остальной Шотландией, унифицировалась настолько, насколько закон, землевладение, воспитание и религия могли сделать одинаковыми горца и жителя Южной Шотландии. Сооружение первых дорог через Горную область, осуществленное генералом Вейдом незадолго до 1745 года, уже распространило влияние Южной Шотландии на гористый северо-запад и подготовило там почву для больших перемен. Эти изменения должны были и так вскоре произойти, но они происходили бы более постепенно, если бы якобитское вторжение не спровоцировало долготерпеливый юг покончить раз и навсегда с тем злом, которое уже тысячелетиями причиняли вторжения племен.
Население, которое всегда жило войной и для войны, было наконец действительно разоружено, а его воинственные инстинкты использованы в сформированных из шотландцев горных полках британской армии, сослуживших за границей хорошую службу той империи, которая была теперь общей для англичан и шотландцев, кельтов и саксов. Вожди были превращены в лендлордов, подобных лэрдам юга. Отныне правосудие и управление стали королевскими и национальными, перестав быть личными и клановыми. Осуществление этих огромных перемен в структуре общества указывало на то, что время для них уже настало. В течение нескольких лет длился период тирании и репрессий, описанный в «Похищенном» Стивенсона, когда трогательно проявлялась личная преданность членов клана к своим изгнанным вождям. Но не возникло никакого народного движения с целью восстановить прежнее положение общества, и когда экс-якобитским вождям разрешили вернуться из-за границы и возвратили им их имения на условиях новой системы владения, то вопрос о том, кому население должно быть преданно: вождю или правительству – был окончательно решен. Снова было разрешено запрещенное раньше ношение каждым кланом шотландской ткани своей особой расцветки, так как гордые чувства, связанные с ним, не были уже больше опасны для общества и закона.
Тем временем в Горной области действовали пресвитерианские миссионеры и школьные учителя, проявившие с самого начала больше такта и больше симпатии к кельтам, чем эмиссары гражданской власти. Воображение и интеллект горцев, до этого времени невежественных и поэтических, приобрели новые возможности для своего развития благодаря созданию здесьшкол. Чтение и письмо были принесены в Горную область главным образом шотландским «Обществом распространения христианских знаний», которое начало свою деятельность в этом диком районе в царствование Анны, но смогло добиться здесь больших успехов только тогда, когда страна стала доступной благодаря разрушению кланов. Единство шотландского общества было достигнуто в области религии и образования прежде, чем окончилось столетие, хотя Горная область все еще оставалась двуязычной. В долинах, где преобладала римско-католическая религия, ее власть держалась непоколебимо, но старое язычество исчезло.
С внедрением образования была тесно связана значительная перемена в экономической жизни Горной области. При клановой системе населения было значительно больше, чем могли прокормить бесплодные горы. Честолюбие каждого кланового вождя сводилось к стремлению увеличить не размеры ренты, а число вооруженных приверженцев; в то же время члены клана, привыкшие к ужасной бедности и периодическим голодовкам, не имели ни знаний, ни возможности для того, чтобы эмигрировать в страны, где кельтский язык был неизвестен. Но новые времена были более благоприятны для эмиграции. Вождь, превратившись в мирного лендлорда, стал больше интересоваться деньгами, чем людьми. А его жестоко притесняемые держатели знали теперь благодаря новым дорогам и школам о существовании более богатого мира за горами и морем. Наступил век эмиграции из Горной области, главным образом в Канаду; в то же время мелкие держания арендаторов часто заменялись овечьими пастбищами. Значительная эмиграция из Горной области и островов происходила в семидесятых годах XVIII века и снова в 1786-1788 годах в результате ужасного голода 1782-1783 годов. При старой системе такой голод также часто случался, но тогда он не приводил к эмиграции, потому что члены клана не знали, как или куда эмигрировать.
Теперь в некоторых районах лендлорды сами стимулировали эмиграцию, лишая держателей наделов. Но в других местах они старались удержать народ дома введением культуры картофеля, а иногда и оппозицией школам «Общества распространения христианских знаний». В то же время миссионеры – школьные учителя своей деятельностью действительно поощряли эмиграцию.
Горец мог надеяться достичь более высокого уровня жизни только тогда, когда уезжал за море или по крайней мере за пределы горного района. А готовясь к отъезду, он должен был изучить английский язык, и это мог теперь сделать в миссионерских школах.
Объединение политической и торговой систем Англии и Шотландии сделало возможной социальную революцию в Горной области, колонизацию Британской империи шотландцами, развитие заокеанской торговли Глазго и последующую индустриализацию Клайдсайда. Эти перемены, подобно сельскохозяйственному перевороту, были главным образом делом второй половины столетия, но в течение этого периода они произошли очень быстро.
Ко времени унии 1707 года Глазго был рыночным и университетским городом с населением 12500 человек, аванпостом южной цивилизации против горных племен, столицей ковенантерского запада; его обитатели были суровы и строги в своем пресвитерианском рвении, просты по манерам, бережливы в расходах и строго трезвы; его влиятельные граждане жили среди своих сограждан в скромныхквартирах в центре города. К 1800 году произошли большие перемены. Глазго насчитывал 80 тысяч жителей, резко различающихся по богатству и образу жизни, и ни один из классов уже не славился больше ни благочестием, ни трезвостью. Окружающий район запестрел состоятельными предместьями и новыми трущобами. Здесь были соответствующие всяким вкусам лавки с товарами из Англии, Европы и Америки; здесь появились портшезы, концерты, балы, карты и игральные кости, пунш, вино и английская литература для богатых и горное виски для бедноты. Университет благодаря Адаму Смиту завоевал европейскую славу.
Эти социальные перемены произошли потому, что американская и вест-индская торговля, главным образом табаком и хлопком-сырцом, к началу XIX века превратила не только Глазго, но и весь Клайдсайд в столь же современный торговый и промышленный район, как любой район Англии; он уже дал миру Джеймса Уатта, одного из представителей новой силы, изобретателя современной паровой машины. Западная Шотландия уже начала страдать от наплыва ирландских рабочих, которые сделали трущобы Глазго еще более скверными, чем когда-либо прежде.
В последние двадцать лет этого столетия хлопчатобумажные фабрики возникли в деревнях графств Ланарк, Ренфру и Эр.
Возникновение благодаря унии шотландско-американской торговли, естественно, оказало меньшее влияние на судьбы городов на восточном берегу. Действительно, давно установившаяся торговля Лейта и Дэнди с балтийскими и немецкими портами скорее потеряла, чем выиграла от британской меркантилистской политики Навигационных актов, которая стремилась к расширению колониальной торговли с Америкой за счет торговли с Европой.
С другой стороны, именно на востоке Шотландии были сооружены первые в стране чугуноплавильные заводы. В Карроне, между Стерлингом и Эдинбургом, железная руда, уголь и водяная энергия находились рядом; каменноугольный кокс употреблялся теперь для выплавки чугуна. Карронская компания, основанная в 1760 году, процветала; одним из первых предметов ее производства была короткая морская пушка, известная впоследствии под именем «карронады». Таково было начало шотландской металлургической промышленности, которая достигла столь крупных масштабов в следующем столетии.
Единственным городом шотландского восточного побережья, который добился удивительного успеха в XVIII столетии, был Эдинбург. Не будучи больше политической столицей, он еще оставался столицей страны в области законов, моды и культуры, а закон, мода и культура быстро развивались в более богатой и более активно мыслящей Шотландии новой эпохи. Более того, прославленное земледелие Лотиана развивалось теперь даже быстрее, чем земледелие запада. Юго-Восточная Шотландия времен юности Вальтера Скотта была страной сельского богатства и богатства духовной жизни, сосредоточенной в Эдинбурге. Шотландская столица была знаменита в Европе благодаря своим философам – Юму, Робертсону и Дугальду Стюарту; ее юристы и ученые были людьми замечательной индивидуальности и высокой культуры. Вместе с этими интеллигентными слоями знать и мелкопоместное дворянство района, занятые улучшением почвы и насаждением лесов, образовали блестящее общество, которое было достойно того, чтобы его обессмертил Рейберн – его собственный художник.
Правда, в течение этого золотого века Шотландии ее политическая жизнь была мертва. Говоря словами Кокбёрна, она «не имела каких-либо свободных политических институтов»; отсутствие «политических институтов» действительно было характерной чертой всего периода – от унии до билля о реформе, как под властью вигов, так и при тори; но до тех пор пока был активен якобитизм, здесь существовала нездоровая разновидность политической жизни – постоянное подстрекательство к мятежу. После 1746 года эта политическая жизнь прекратилась до тех пор, пока в 1790 году не началось радикальное движение, сразу же подавленное жестоким правительственным преследованием. При правлении друга Питта Дэндаса Шотландия была «сторожкой у ворот великого человека», как с горечью говорили сторонники реформы. Но вся жизнь не сводится к одной только политике. Социальная и культурная жизнь страны Бёрнса и Скотта была бурной и находилась в обратной пропорции к политической атрофии; она зарождалась в местных источниках и, хотя более тесная связь с Англией дала ей некоторый толчок, сама дала Англии больше, чем заимствовала от нее. Адам Смит разработал политический курс для государственных деятелей Великобритании. А в начале XIX столетия «Эдинбургское обозрение» заняло в Англии почти монопольное положение в области литературной и философской критики. Вскоре, главным образом усилиями шотландцев, был основан соперничающий с «Обозрением» «Ежеквартальник». В течение нескольких лет Эдинбург едва ли имел меньшее значение в британском литературном мире, чем Лондон.
Территориально Эдинбург также вырос из своей прочной старой скорлупы. Грязные трущобы темных, узких улиц и мансарды на Хай-стрит, где раньше соглашались жить в темноте и грязи наиболее обеспеченные люди Шотландии и их семьи, были теперь покинуты ради просторных и величественных домов, построенных после 1780 года в районе новых кварталов, позади Принс-стрит. Постройка моста Нор-Лох в 1767 году способствовала развитию этого нового Эдинбурга. Вместо уплаты 15 фунтов в год за плохо освещенную квартиру на седьмом этаже люди с положением были теперь в состоянии платить 100 фунтое а год закомфортабельный городской дом. Подобным же образом и в сельской местности высокие мрачные готические башни, возвышавшиеся над голыми полями, которые служили сельским жилищем для мелкого дворянства, были во многих случаях заменены георгианскими или классическими особняками, веселыми, хорошо освещенными и окруженными деревьями. Но архитектура никогда не получала в Шотландии того значения, какое имела в течение столетий в Англии. Несмотря на многие улучшения, особенно прекрасные каменные фермы графства Лотиан, жилища к северу от Твида были обычно хуже жилищ Южной Британии. Даже в Южной Шотландии было еще много однокомнатных хибарок, где люди жили в некоторых случаях вместе с коровой; мансарды в трущобах Глазго и Эдинбурга были еще хуже, чем когда-либо, потому что теперь были покинуты зажиточным населением. Тем не менее и здесь в течение столетия был заметен значительный прогресс в жилищах, хотя меньше, чем в пище, одежде и образовании.
Быстрые перемены в сознании и нравах шотландцев в течение XVIII столетия не пришли в сколько-нибудь серьезное столкновение с влиянием церкви, как это произошло в современной Франции. Поэтому духовенство и религиозные светские люди Шотландии с течением времени проявляли все большую терпимость и их взгляды становились все более разумными. Пресвитерианская фанатическая набожность, которая была очень суровой в годы, непосредственно следовавшие за революцией 1688 года, начала смягчаться, когда поколение более молодого духовенства и старейшин постепенно заняло место неистовых старых пророков торфяных болот. Установление веротерпимости, лучшее образование, английское влияние и неуловимый «дух века» расширяли их кругозор по мере того, как проходили годы. Преследование колдуний прекратилось. Движение латитудинариев, преобладавшее в современной церкви Англии, имело близкую аналогию во взглядах «умеренных», которые стали наиболее влиятельной сектой шотландского духовенства. Мудрое руководство историка Робертсона (1721-1793) побудило церковную ассамблею встать на путь мира.
Возможно, что некоторые из «умеренных» зашли слишком далеко и более ревностные из их всегда критически настроенных слушателей имели, может быть, некоторые основания для жалоб на то, что проповеди были «холодной болтовней о морали», которой не хватало ортодоксальности доктрины и апостолического рвения. В надлежащее время маятник качнулся в обратную сторону, и в начале XIX столетия евангелическое возрождение, связанное с людьми, подобными шотландскому богослову Томасу Челмерсу (1780-1847), вдохнуло свежие силы в шотландскую религию. Но религия Челмерса не была больше ограниченным и нетерпимым вероисповеданием: «умеренные» сделали свое дело. XVIII век увидел также большие изменения в судьбах и в духе епископального меньшинства. Ко времени унии 1707 года епископалы были грозной корпорацией, практически идентичной с якобитами и готовой бороться за реставрацию своей церкви и своего короля; но они не употребляли английский молитвенник, и их религия была только смягченной формой религии пресвитерианской государственной церкви. Однако в ХVIII веке они постепенно все больше сближались с нацией в области политики и все дальше отходили от нее в религии. После краха якобитизма они стали лояльными подданными Георга III; в тоже время принятие ими молитвенника, весьма похожего на английский, отделяло их от шотландских собратьев как религиозную общину со своим собственным направлением. Их число постепенно уменьшалось. В царствование Анны они еще были во многих частях Восточной Шотландии церковью народа, и в качестве таковой им было разрешено во время революции, несмотря на закон, по-прежнему занимать церковные приходы и пасторские дома. Но когда это поколение приходских священников исчезло, они были заменены пресвитерианскими священниками.
С другой стороны, положение епископалов улучшилось в одном важном отношении. Если английским диссидентам во время революции был дарован закон о веротерпимости, то шотландские епископалы такого закона не получили. Их положение было во всех отношениях ненормальным, так как зависело не от закона, а от местных настроений и силы. Лишь в 1712 году тори из вестминстерского парламента провели закон о веротерпимости для Шотландии – первый плод унии, в высшей степени справедливый и естественный, но воспринятый пресвитерианами с глубоким подозрением, как вестник нового наступления на установленный порядок.
И действительно, через несколько недель последовало другое, и более сомнительное вмешательство британского парламента в дела шотландской церкви. В 1712 году был восстановлен патронат, то есть право отдельных собственников назначать приходских священников. Для англичанина, привыкшего к системе англиканской церкви, это могло казаться маловажным, но шотландская религиозная и социальная история последних 150 лет оказала на шотландцев такое глубокое влияние, что они не могли отнестись равнодушно к восстановлению патроната.
Демократический элемент в назначении священников в приходы рассматривался ортодоксальными пресвитерианами как существенный пункт религии; и независимо от всех теорий имелась практическая опасность в праве назначения кандидатов на духовную должность их патронами, многие из которых были латитудинариями, епископалами или якобитами. По этим причинам патронат был уничтожен во время революции законом шотландского парламента. Актом 1690 года протестантские наследники и старейшины могли «называть и предлагать» священника всей конгрегации, которая в случае несогласия могла апеллировать к пресвитерии, чье решение являлось окончательным. Но теперь, в 1712 году, «прелатский» парламент Вестминстера изменил этот закон с явным пренебрежением к духу договора об унии. Право назначения кандидатов на духовные должности было возвращено старым патронам, если только они не были римскими католиками.
Хотя новый закон вызвал глубокое негодование, его последствия не были заметны для первого поколения, жившего после его принятия. Но окончательный результат был действительно важным. Патронат был основной причиной того, что ряд пресвитерианских корпораций откололся от государственной церкви, связанной этим государственным законом. Как бы то ни было, Шотландия, до сих пор враждебно относившаяся к сектам, процветавшим в Англии, увидела рост числа нонконформистских церковных общин, соперничающих с государственной церковью, хотя и резко отличающихся от нее доктриной и ритуалом.
В XIX веке отдаленные последствия закона 1712 года о патронате достигли своей кульминационной точки в отделении «свободной церкви» под руководством Челмерса. Это выступление в защиту евангелической свободы является одним из значительных фактов современной истории Шотландии (1843). Наконец; в 1875 году закон о патронате, с такой легкостью принятый в царствование Анны, был отменен, вследствие чего появилась возможность для того частичного воссоединения разрозненных течений шотландской церкви, которое имело место в наши дни после того, как государство актом 1921 года дополнительно провозгласило неограниченную свободу церкви во всех духовных делах.
В течение XVIII века население Шотландии возросло с одного миллиона до 1652 тысяч человек. Это произошло в результате естественного прироста, так как эмиграция горцев может быть противопоставлена иммиграции ирландцев. Рост населения, беспрецедентный для предшествующих столетий шотландской истории, так же как и современный ему рост населения Англии, был обязан быстрому падению смертности. Он явился следствием улучшения условий жизни и усовершенствования медицины – науки, которой шотландцы в царствование Георга III были уже в состоянии учить англичан.
Каким бы быстрым ни был рост населения Шотландии в XVIII веке, он отставал от роста ее богатства.
Акцизный доход в 1 707 году составлял 30 тысяч фунтов; в 1797 году он был равен 1300 тысячам фунтов. Время мелких дел прошло.
Но Шотландия еще должна была пережить плохие времена. Наполеоновские войны были свидетелями большого роста цен на продовольствие, сопровождаемого большой общей нуждой. 1799 и 1800 годы были новыми «дорогими годами», когда овсянка поднялась до 10 шиллингов за стоун [55]. Но люди не умирали больше от голода десятками и сотнями, как это было в «дорогие годы» короля Вильгельма III столетием раньше, когда мелкие деревушки совершенно опустели.
Глава XV Англия времен Коббета (1793-1832)
Англию классического мира XVIII столетия с его самоуверенностью и самодовольством отделяют от беспокойной Англии времен Питерлоо и сожжения скирд, времен Байрона и Коббета двадцать лет войны с революционной и наполеоновской Францией (1793-1815).
Эта долгая война, происходившая в критический момент нашего социального развития, была тяжелым несчастьем. Война, вызвавшая большие затруднения в экономической жизни и реакцию против всех предложений о реформе, создала наихудшую обстановку для промышленных и социальных перемен. Современные английские городские трущобы вырастали, чтобы удовлетворить кратковременные нужды предпринимателей нового типа и недобросовестных спекулянтов-подрядчиков, не подвергавшихся какому бы то ни было общественному контролю. Безудержный индивидуализм, вдохновляемый лишь идеей о быстром обороте денег, положил начало дешевой и отвратительной форме современной промышленной жизни и соответствующих ей социальных условий. Городское планирование, санитарное состояние и удобства были вещами, о которых и не грезили вульгарные создатели нового мира, в то время как аристократический правящий класс наслаждался своей праздной жизнью и думал, что городское строительство, улучшение санитарных условий и фабричные условия не касаются правительства. Крупные города были, во всяком случае, достаточно скверны, что показали уже трущобы Лондона XVIII столетия, а обстановка наполеоновского периода в Англии была особенно неблагоприятна как для улучшения положения в мрачных фабричных городах севера, так и для взаимоотношений нового типа предпринимателей и нового типа рабочих. Человек приобрел грозные орудия для переустройства своей жизни прежде, чем он ответил на вопрос, какую жизнь он хотел бы создать для себя.
Так как муниципалитеты впали в летаргию и разъедались коррупцией, давно утратив гражданские традиции и общественный дух средневековой корпоративной жизни, внезапный рост новых фабричных кварталов не нарушил дремоты городской олигархии, которая так привыкла пренебрегать своими старыми обязанностями, что была уже неспособна откликнуться на новый призыв.
В период битвы при Ватерлоо сельская Англия еще пребывала в своей нетронутой красе и большинство английских городов выглядело еще красиво и живописно. Фабричные районы были лишь маленькой частью целого, но, к несчастью, явились образцом для будущего. Никто не препятствовал созданию нового типа городской общины, которому, на нашу беду, стали все больше подражать, до тех пор пока в следующее столетие значительное большинство англичан не оказалось обитателями скверных улиц. Когда в XIX веке органы местного управления, формировавшиеся путем демократических выборов на местах и подчиненные верховному контролю Уайтхолла, постепенно оказались вынужденными выполнять свои обязанности, тогда действительно были проведены значительные мероприятия, способствующие сохранению здоровья населения, обеспечению необходимых бытовых удобств и распространению образования. Но даже после этих запоздалых реформ, проведенных в сфере основных жизненных потребностей, безобразность остается основным качеством современного города и становится обычным для его населения.
Наполеоновские войны с блокадой и контрблокадой сделали деловые операции рискованной игрой. Для промышленной предприимчивости было много побудительных причин, но не было гарантий. Английский контроль на море и новая сила машинного производства, еще не нашедшая подражания в других странах, давали Англии монополию на многих рынках Америки, Африки и Дальнего Востока. Но европейские рынки то открывались, то закрывались для британских товаров в зависимости от капризов дипломатии и войны. Один год союзное государство одевало и обувало свои армии при помощи британских рабочих, на следующий год оно могло оказаться под пятой Франции как часть наполеоновской «континентальной системы». Ненужная война с Соединенными Штатами (1812-1815) также вносила расстройство в торговлю. Страдания английского рабочего класса увеличивались из-за этих резких колебаний спроса на товары и числа занятых рабочих, а безработица была худшим бедствием во время послевоенного кризиса, последовавшего за Ватерлоо.
Война также имела своим следствием прекращение поставок европейского зерна, которые к этому времени стали необходимы, чтобы установить твердые цены на продовольствие на нашем густонаселенном острове. Пшеница поднялась с 43 шиллингов за квартер в 1792 году, за год до того как вспыхнула война, до 126 шиллингов в 1812 году – к тому году, когда Наполеон шел на Москву. Беднота в городе и в деревне ужасно страдала из-за высоких цен на хлеб. В течение двадцати лет войны размер и характер обработки земли приноравливались к этим высоким ценам, так что, когда после наступления мира хлеб упал в цене, многие фермеры были разорены и рента не могла быть уплачена. При таких обстоятельствах был проведен протекционистский хлебный закон1815 года с целью восстановления условий для процветания сельского хозяйства за счет потребителя. Закон встретил весьма яростную оппозицию городского населения всех классов независимо от партийных взглядов. Лендлорды – члены парламента жаловались, что когда они шли в палату, чтобы голосовать за этот билль, то были жестоко избиты толпой, подстрекаемой «мятежными речами банкира Беринга и ложными заявлениями лорд-мэра Лондона». В течение жизни следующего поколения, до отмены хлебных законов в 1864 году, вопрос о сельскохозяйственном протекционизме разделял Англию на два лагеря и был политическим фокусом того различия между условиями городской и сельской жизни, которое промышленный переворот делал с каждым годом все более заметным, так как горожане уже никак не соприкасались с земледелием, а жители деревни – с мануфактурой.
Наблюдательный взор Дефо с удовлетворением отмечал, во время поездки писателя верхом по Англии при королеве Анне, гармонию экономической и социальной структуры государства. Теперь эта гармония быланарушена, уступив место хаосу соперничающих интересов – города и деревни, богатого и бедного. Через сто лет после Дефо другой странствующий всадник, Уильям Коббет, во время своих «сельских прогулок» отметил новые симптомы. В действительности беднота, пожалуй, всегда была столь же бедна и подвергалась такому же скверному обращению; но ее тяжелое положение стало более очевидным и для нее самой и для других именно теперь, когда она была обособлена и собрана вместе. В прошлом бедность была индивидуальным несчастьем, теперь она стала бедствием целых групп населения. Она была вызовом тому гуманному духу, который был порожден XVIII столетием. Этот дух несколько померк в тот короткий промежуток времени, когда Англия была испугана и озлоблена французской революцией, но в новом столетии этот дух не позволял больше взирать на жертвы экономических обстоятельств сурово-равнодушным взглядом прежних веков. Поэтому бурные речи Коббета оказывали известное влияние.
Беднота страдала от войны. Но земельное дворянство никогда не жило так богато и счастливо, никогда так не наслаждалось жизнью в своих приятных сельских домах, как в военное время. Газеты были заполнены сообщениями о военных событиях, но война едва затронула жизнь обеспеченных классов. Военный флот был великолепной защитой безопасности и комфорта островной жизни. В то время, когда Наполеон возвышался над Европой, экстравагантность и эксцентричность наших денди достигла наивысшей точки, а английская поэзия и пейзажная живопись переживали великую эпоху. Вордсворт, чей ум во время мира был возбужден и встревожен французской революцией, настолько полно восстановил свое хладнокровие, утраченное за время долгой войны, что смог создать основные произведения философской поэзии, отражающей спокойствие души средь бурь и треволнений – настроение, которое весьма трудно понять и сохранить в условиях современной тоталитарной войны.
В первый период борьбы с Францией Англия не посылала экспедиционных сил в Европу, и даже семь кампаний в период войны на Пиренейском полуострове стоили меньше 40 тысяч убитых британцев: налог кровью был одинаково легким для всех классов. Подоходный налог Питта вызывал большее раздражение, но так как рента и десятина поднялись вместе с ценой зерна, то землевладельцы не были в убытке. «Джентльмены Англии» победили Наполеона, военачальника, профессионала; они обрели заслуженный престиж и были достойны похвалы за победу, которая, если бы ею не злоупотребляли, дала бы нам на сотню лет бесценное благодеяние безопасности от другой «великой войны». Но джентльмены сражались и победили выскочку на очень легких для себя условиях, и поэтому в годы, которые последовали за восстановлением мира, новое поколение реформаторов назвало их – хотя отчасти это, может быть, было неблагодарностью – военными спекулянтами.
Если война явилась источником возрастания богатств для лендлордов и продолжающихся бедствий для живущих на заработную плату, то для средних слоев общества она была рискованной игрой: она сделала одного купца спекулянтом, а другого банкротом. В целом «нация лавочников» страстно тосковала о мире, чтобы обеспечить безопасность, открыть раз и навсегда европейские рынки и снизить налоги. Но англичане и не помышляли о сдаче Бонапарту. Многие из наиболее богатых англичан – банкиры, потомственные купцы и финансисты – и их семьи разделяли торийскую политику «высших классов», в общество которых они допускались, с которыми они вступали в браки и у которых они покупали места в парламенте и офицерские патенты в армии. Но многие из предпринимателей нового типа, которые (сами или их отцы) происходили из среды йоменов или рабочего класса и чаще всего были диссидентами, те, чьи мысли были поглощены фабрикой, построенной около какой-нибудь речушки у подножия Пеннин, не питали любви к аристократии и молча возмущались войной, так как были отстранены от ее славы и выгод. Такие люди создавали новое богатство Англии, но не участвовали в ее управлении, ни в местном, ни в центральном, и завидовали надменному классу, который их отстранял. Они чувствовали так же мало симпатии к действительным жертвам войны – своим собственным рабочим, как мало лендлорды и богатые фермеры сочувствовали плохо питавшимся сельскохозяйственным рабочим, пользуясь трудом которых они туго набивали свои кошельки. Это был суровый мир резко разграниченных интересов со слабым чувством национального братства, проявлявшимся лишь в моменты столкновения с чужеземным врагом.
Несмотря на все это, мы не должны преувеличивать действительного размера недовольства, особенно в первый период войны. Демократическое движение, вдохновленное сначала французской революцией и сочинениями Тома Пейна (Пэна), было подавлено в девяностых годах не только в результате правительственных мер, но и под воздействием общественного мнения: толпы рабочих в Бирмингеме и Манчестере грабили часовни и дома диссидентских реформаторов, а шахтеры Дарема сожгли изображение Тома Пейна. В массе рабочего класса недовольство еще только медленно назревало, как результат весьма реальных страданий, и в течение долгого времени оно носило чисто местный, а не национальный характер. Даже в период антиякобинских репрессий, когда было «безопаснее быть преступником, чем реформатором», большинство англичан еще гордилось тем, что они свободный народ.
Хлеб и сыр, запиваемые пивом или чаем, стали во многих южных графствах основной пищей рабочих. Они редко видели мясо, но многие выращивали картофель на огороде возле своего домика. Угроза постоянного голода, с которой сельская беднота сталкивалась во многих районах в период войны из-за высоких цен и низкой заработной платы, была устранена при помощи средства, принесшего с собой много зла. В мае 1795 года мировые судьи Беркшира получили приглашение собраться в Спинхэмленде, северном предместье Ньюбери, с определенной целью фиксировать и ввести в графстве минимум заработной платы в соответствии с ценами на хлеб. Осуществить это было бы сложным делом в период неистового колебания цен и при сопротивлении упорствующих фермеров, но в принципе это было правильным средством. Если бы оно было принято для всей Англии, то могло бы направить нашу современную социальную историю в более счастливое русло. Это был верный курс, и он определялся древним обычаем и существующим законом. К несчастью, тех мировых судей, которые приехали в Спинхэмленд с этой благой целью, убедили добиваться не повышения заработной платы, а дополнения ее за счет доходов прихода. Судьи составили и опубликовали шкалу, по которой каждый «бедный и усердный человек» получал от прихода определенную сумму в неделю в добавление к своему заработку – столько-то для него самого и столько-то для других членов семьи, – когда буханка хлеба стоила шиллинг. Когда хлеб дорожал, пособие также повышалось. Эта удобная шкала, называемая в просторечье «Спинхэмлендским актом», принималась мировыми судьями одного графства за другим, пока эта пагубная система не установилась почти в половине сельской Англии, особенно в графствах недавнего огораживания. Северные графства не попали под действие этой системы, так как на севере близкое соседство фабрик и рудников своей конкуренцией помогало поддерживать заработную плату в сельской местности.
Уплата этого налога для дополнения заработной платы избавляла крупного фермера от необходимости обеспечивать прожиточный минимум своим рабочим и весьма несправедливо вынуждала мелкого независимого прихожанина помогать богатому человеку, одновременно заставляя рабочего становиться паупером даже тогда, когда он был обеспечен работой. Это оказало пагубное моральное влияние на всех, кто соприкасался с этой системой. Крупные фермеры продолжали эгоистически отказываться повышать оплату, состоятельные классы тяготились бременем налога на бедных, тогда как среди пауперизированных батраков увеличивались праздность и преступления.
Неверно, однако, как думали в то время, что налог для дополнения заработной платы был важной причиной быстрого роста населения. В XIX веке, как и в XVIII, рост населения был связан не с увеличением рождаемости, а с падением смертности. Не глупым мировым судьям Спинхэмленда, а хорошим врачам Великобритании страна обязана тем, что между 1801-1831 годами население Англии, Уэльса и Шотландии возросло с 11 миллионов до 16,5 миллиона человек.
Высокие цены на хлеб во время войны, обрекая сельскохозяйственного низкооплачиваемого рабочего на голод и нищету, не только приносили выгоды лендлорду и крупным арендаторам, но и приостановили на некоторое время разорение йомена-фригольдера и крестьянина-копигольдера. Однако после Ватерлоо с падением хлебных цен уменьшение числа мелких земледельцев возобновилось. Именно на них спинхэмлендская система давила в финансовом отношении особенно тяжело, так как во многих южных графствах, особенно в Уилтшире, многочисленные фермеры, не прибегавшие к наемному труду, были вынуждены платить тяжелый налог в пользу бедных, чтобы дополнить заработную плату, выплачиваемуютеми крупными фермерами, использующими чужой труд, которые были их соперниками и должны были занять их место. Мелкий земледелец страдал еще и от продолжающегося огораживания открытых полей и выгонов, и от ускоряющегося упадка домашней промышленности.
Однако мы не должны преувеличивать темпа и размера перемен. Перепись населения 1831 года показывает, что накануне билля о реформе сельскохозяйственный пролетариат был только в два с половиной раза многочисленнее, чем самостоятельные земледельцы .И оставалось еще «мелкоекрестьянство», почти столь же многочисленное, как и фермеры, которые оплачивали наемных рабочих. Но значительно большая часть обрабатываемой земли находилась теперь в руках крупных фермеров, а открытые поля и общинные выгоны большей частью исчезали.
Когда война и ее последствия были преодолены, из статистических подсчетов реальной заработной платы стало очевидно, что сельскохозяйственному рабочему в 1824 году было не хуже, чем тридцать лет назад, если взять среднюю цифру по всей стране в целом. В некоторых районах ему даже стало лучше. Но его уровень жизни снизился в тех областях сельского юга, которые находились дальше от фабрик и шахт с их конкурирующей заработной платой, особенно там, где налог в пользу бедных использовался для удержания заработной платы на низком уровне и где сельскохозяйственный рабочий зависел от фермера, нанимавшего его за глиняную хибарку, в которой батрак жил. Часто он был вынужден получать часть своего заработка плохим зерном или еще худшим пивом. В таких графствах сожжение скирд и бунты являлись следствием осознания беднотой своей безысходной нищеты. В более ранние и простые времена батрак чаще жил на ферме и ел за столом фермера. Это означало, конечно, что он так же зависел от своего нанимателя, как и в более поздние времена, когда был связан предоставлением ему хижины. Но это означало также более тесный, а часто, следовательно, более сердечный личный контакт и меньшую изоляцию классов. Коббет говорит о старомодном участии батрака в трапезе своего хозяина на равных условиях, с тем лишь исключением, что фермер мог приберечь для себя более крепкое пиво.
Зимой 1830 года голодающие батраки графств, расположенных к югу от Темзы, устроили мятежную демонстрацию, требуя установления заработной платы в полкроны в день. Месть судей была ужасной: трое из мятежников были несправедливо повешены, а четыреста двадцать оторваны от семей и переправлены в Австралию как каторжники. Такая паническая жестокость показала, насколько широка была пропасть социальных различий, отделяющих высший класс от бедноты даже тогда, когда антиякобинский дух был изгнан из политической сферы и «реформа» стала лозунгом королевских министров.
Было бы, однако, большой ошибкой рассматривать несчастное положение батраков в графствах, расположенных южнее Темзы, как характерное для всей сельской Англии. На севере, да и во всех районах, где развивалась фабричная жизнь и рудники, заработки даже сельскохозяйственных рабочих были выше, налог в пользу бедных ниже, а число людей, получающих эту милостыню, меньше. Средний уровень жизни был, конечно, выше, чем в предшествующее столетие, если учитывать все районы и все классы. Не только Коббет, но и многие другие жаловались, что фермеры, подражая более состоятельным лицам, расстаются со своими привычками к скромной жизни, употребляют веджвудовскую посуду вместо оловянной, дают образование дочерям, катаются в кабриолете или разъезжают верхом с охотничьими собаками. Хорошо ли это было или плохо – ответ зависит от точки зрения, но, во всяком случае, это явилось «повышением уровня жизни».
На перемены в жизни фермера жаловались еще в период Ватерлоо, но и 30 лет спустя эти перемены еще вызывали недовольство, как показывают эти стихи, написанные в 1843 году.
Прежде:
Мужу – пахать, боронить; Жене – корову доить; Дочери – прясть руно; Сыну – блюсти гумно. И вам доход обеспечен при этом.Теперь:
Мужу – охота с борзыми; Дочери – пианино; Жене – шелка и сатин; Сыну – греческий и латынь. И о вашем банкротстве объявят в газетах.Более скромное сельское население также не было лишено счастья и известного благосостояния, меняющегося в зависимости от места, времени и обстоятельств. Жизнь деревенских детей, свободно играющих в зарослях живых изгородей, в степях и чащах, была здоровой и приятной, как рассказывали Бьюик, Вордсворт и Коббет на основании своих детских впечатлений предшествующий период, а Хоуит – в новом столетии. Рассказы Уильяма Хоуита, Джорджа Барроу и других писателей, которые общались с простым народом на проселочных дорогах, полях и в хижинах в двадцатых и тридцатых годах, создают впечатление, что здоровую и счастливую жизнь там можно было наблюдать так же часто, как и тяжкие лишения. Деревенские спортивные состязания и каждодневное соприкосновение с природой, а также еженощное соприкосновение с ней во время тайной ловли зайцев и кроликов на огороженных полях – как все эти обстоятельства должны расцениваться при определении «положения сельской бедноты»? И каким образом должно быть обобщено большое разнообразие условий жизни вразличных графствах и районах, в различных поместьях и фермах?
Еще в 1771 году Артур Юнг сожалел о том, что с улучшением дорожных удобств возросло стремление деревенских юношей и девушек посетить Лондон. Но теперь и другие города также принимали тысячи пришельцев из всех частей сельской Англии. Это было особенно заметно на севере, в районе шахт, фабрик и бумагопрядилен. Действительно, перепись показывает, что за период 1801 – 1831 годов в некоторых отдаленных приходах севера население уменьшалось с каждым десятилетием. Однако это еще не стало обычным для средней английской деревни, и в первые тридцать лет XIX века еще не было заметно снижения числа постоянных обитателей сельских приходов; тем не менее приход уже посылал многих своих юношей в колонии, или в Соединенные Штаты, или в промышленные и торговые центры самой Англии.
Постоянный рост населения сделал действительно невозможным обеспечение работой каждого жителя английской деревни. Земледелие уже поглотило всех рабочих, которые ему требовались, а многие традиционные виды сельских занятий исчезали. Крупнейшие отрасли национальной промышленности, такие, как, например, суконная, вновь перемещались в города из сельских районов, в которых развивались во времена позднего средневековья и Тюдоров. В подавляющей массе деревень земледелие становилось единственным родом занятия населения; последнее переставало вырабатывать товары для общего рынка и, кроме того, производило меньше товаров для себя.
С улучшением дорог и средств сообщения сперва леди из поместья, затем жены фермеров и, наконец, жены коттеров научились покупать в городе многие предметы, которые раньше обычно производились в деревне или в поместье. И в «деревенской лавке» теперь часто продавались городские и даже заморские товары. Деревня, сама производившая дли себя одежду и пищу, все больше и больше уходила в прошлое. Один за другим исчезали ремесленник-шорник, мастер земледельческих орудий, портной, мельник, мебельщик, ткач, иногда даже плотник и строитель – пока, наконец, в конце царствования Виктории деревенский кузнец не остался в некоторых местах единственным ремесленником, да и ему пришлось, кроме выполнения все более редких заказов по ковке лошадей, заниматься починкой проколотых велосипедных шин туристов! Уменьшение количества мелких предприятий и ремесленных мастерских сделало сельскую жизнь более скучной и приносило все меньше духовного и творческого удовлетворения жителям деревень, сужало их интересы, превратило эту жизнь из главного потока всей национальной жизни в ее тихую, поросшую тиной заводь. Жизнеспособность деревни медленно падала, так как город сотнями путей высасывал ее кровь и мозг. Этот длительный процесс уже начался в период между Ватерлоо и биллем о реформе.
Но английская деревня в первую половину XIX века еще была в состоянии поставлять прекрасных колонистов в новые земли за океаном. Люди, привыкшие к лишениям и долгим часам работы на воздухе, были готовы взяться за рубку леса, заниматься земледелием или грубым ремеслом. Женщины были достаточно выносливы и трудолюбивы, чтобы рожать и воспитывать большие семьи.
Вся обстановка послевоенной Англии помогала великому движению колонизации. Перенаселение, экономические и социальные беспорядки, негодование, вызываемое в сердцах умных и свободолюбивых людей господством сквайра и фермера, – все это были факторы, способствовавшие созданию второй Британской империи, заселению Канады, Австралии и Новой Зеландии мужчинами и женщинами, говорящими на английском языке, воспитанными на английских традициях. «В Канаде, – писал один иммигрант, – мы можем жить свободной жизнью и не бояться говорить о своих правах». «Здесь нет лесничих, и у нас больше прав», – писал другой. Шотландцы, как горцы, так и жители долин, открыли пути в Канаду. Там вырубались леса, поднимались бревенчатые хижины и обширные дикие просторыстали превращаться в возделываемые поля и заселялись людьми. В Австралии в первые десятилетия XIX века капиталистические «скваттеры» развели в больших количествах рогатый скот, построили овечьи фермы и создали для отважных душ заманчивое поле деятельности. Поселения Новой Зеландии появились немного позднее, главным образом между 1837и 1850 годами. Британец ганноверской и ранневикторианской эпохи оставался сельским жителем или отошел от него только на один шаг: он еще не стал настоящим горожанином, неспособным возвратиться обратно на землю или избрать более чем одну профессию. Он еще мог привыкнуть к лишениям, которые были сопряжены с жизнью пионеров, и к разнообразию нужд и случайностей этой жизни. Поэтому-то Британское содружество наций и было основано именно в этот период.
В то время когда многие английские сельские жители пересекали океан, другие устремлялись в промышленные районы самой Англии. В течение Наполеоновских войн это перемещение на самом острове было особенно заметно. Век «угля и железа» действительно наступил. Началась новая жизнь, и обстоятельства, при которых она началась, вызвали и новые тревоги.
Иммигранты в горнорудные и промышленные районы, недавно покинувшие старый сельский мир, весьма консервативный по своей социальной структуре и моральной атмосфере, рассматривались как его отбросы, представляли собой презираемую массу, которая легко возбуждалась, становясь опасным горючим материалом. Очень часто их пища, одежда и заработок были здесь лучше, чем на покинутых ими фермах или в тех деревнях, откуда они пришли. У них было здесь больше независимости, чем у сельскохозяйственных рабочих, заработок которых дополнялся пособием по бедности. Однако поступавшие на фабрики теряли при этом не меньше, чем выигрывали. Красота полей, лесов и живых изгородей, древние, как мир, обычаи сельской жизни – деревенская лужайка с ее развлечениями, праздник урожая, праздник десятины, обряды Майского дня, спортивные развлечения – всего этого уже не было на руднике или фабрике или в стандартных кирпичных жилищах, которые воздвигались, чтобы приютить рабочих. Правда, в отношении бытовых условий старые сельские домишки, откуда они пришли, были часто худшим местом для жилья, хотя и живописным, но губительным и нездоровым. Однако нельзя было не чувствовать некоторой симпатии к шаткому окну, обрамленному цветущей жимолостью, или к протекающей крыше, на которой зеленым ковром разросся мох и гнездились голуби!
Наихудшими в новых городских районах были те трущобы, в которых жили ирландские иммигранты. Они приходили из сельских трущоб, значительно худших, чем самые худшие в английской деревне, и приносили с собой соответственные скверные привычки. Обращение Англии с ирландским крестьянином постоянно приносило свои горькие плоды. Однако худшим периодом в отношении санитарных условий промышленных районов была скорее середина XIX столетия, чем его начало, так как многие из новых домов превратились за это время в трущобы, потому что в течение многих лет их никто не ремонтировал.
Фабричные рабочие, как и шахтеры, теперь были территориально объединены как масса наемников, противостоящая нанимателю, который жил отдельно от них в своем собственном доме в совершенно иных социальных условиях, в то время как при прежней деревенской системе они были рассеяны по фермам по 1-2 или самое большее по 5-6 человек на каждую ферму и находились в тесных и, следовательно, часто в дружеских личных отношениях с их хозяином-фермером, за столом которого холостые рабочие получали свою пищу, приготовляемую женой фермера.
Масса людей, оставляемых на фабриках и шахтах без всякого внимания, еще не имела никакой социальной помощи или развлечений современного типа, которые могли бы заменить им прелести и обычаи деревенской жизни. Они были вне поля зрения церкви и государства; единственной роскошью, которую они могли себе позволить, было пьянство; никто не говорил друг с другом о чем-нибудь, кроме своих бед. Естественно, что они являлись трутом для пламени агитации. Они не имели в жизни другого интереса или надежды, кроме евангелической религии или радикальной политики. Их религиозные и политические интересы сливались воедино, так как многие нонконформистские проповедники сами усваивали иразделяли радикальные доктрины. Но политический консерватизм, с которого началось движение Уэсли, еще не был исчерпан и действовал как сдерживающий элемент. По мнению Эли Халеви, известного французского историка, написавшего для нас историю Англии XIX столетия, власть евангелической религии была тем главным влиянием, которое предохраняло нашу страну от вступления на путь революционного насилия в течение этого периода экономического хаоса и социального пренебрежения.
Но имеется и другая причина, помимо ограничений и утешений влиятельной народной религии, для объяснения умеренности характера и ограниченности успеха радикального движения у поколения, следующего за Ватерлоо. Верно, что это движение проникло в фабричные районы, но фабричные районы были еще относительно небольшой частью Англии. В 1819 году условия фабричной жизни, которые существовали в районе хлопчатобумажной промышленности Ланкашира, не были широко распространены за его пределами, и радикальное движение могло, следовательно, быть временно подавлено бойней на Питерлоо и «Шестью законами» [56]. Будущее заключалось в фабричной системе, но в настоящем значительное большинство английского рабочего класса еще трудилось при старых условиях жизни и в земледелии, и в промышленности, и в сфере домашнего услужения, и в мореходстве. Питерлоо было важным событием, так как это несчастное нападение кавалерии с саблями в руках на рабочих хлопчатобумажных фабрик Манчестера внушило подрастающему поколению англичан отвращение к антиякобинскому торизму. Но жертвы Питерлоо, хотя они были представителями класса, типичного для Южного Ланкашира, не являлись еще типичными представителями трудового населения Англии тех дней.
Мир мистера Пикквика, мир быстрых почтовых карет и первого билля о реформе был переходным миром, соединяющим старую и новую экономическую структуру общества, причем старая еще преобладала. Сельскохозяйственные рабочие и ремесленники из мелких мастерских в течение некоторого времени еще были более многочисленны, чем шахтеры и фабричные рабочие. Существовала также большая армия мужчин и женщин, находящихся в домашнем услужении. В третьем десятилетии века одной женской прислуги было «на пятьдесят процентов больше, чем всех мужчин и женщин, мальчиков и девочек, взятых вместе, занятых в хлопчатобумажной промышленности». Условия труда и оплаты для домашних слуг очень мало изучены экономистами или социальными историками; и действительно, было бы очень трудно их определить, так как они были весьма различны в разных домах, в соответствии с занятием и характером нанимателя.
Другим обширным слоем общества, равно далеким и от фабрик, и от домашней работы, была подвижная армия неквалифицированных рабочих, известных под именем «землекопов», нанимавшихся целыми группами, которые двигались с места на место, роя каналы, строя дороги, а в следующем поколении сооружая насыпи и туннели для железных дорог. На севере в их рядах было большое число ирландцев, но на юге «землекопы» состояли почти исключительно из излишней рабочей силы английской деревни, население которой в этом краю имело меньше возможностей для ухода на фабрики и шахты. Некоторые высокооплачиваемые механики являлись командирами в армии землекопов; они были особенно многочисленны и получали высокую заработную плату, когда шло строительство железной дороги и прокладывание туннелей. Но в целом «землекопы» являлись наименее квалифицированными, наиболее невежественными и наименее оплачиваемыми среди новых промышленных классов. Они были кочевниками нового мира, и их мускульная сила заложила его фундамент.
На противоположном фланге в строю трудового люда находились квалифицированные инженеры и механики. Люди, которые создавали и ремонтировали машины, шли в авангарде промышленного переворота и были его подлинными телохранителями. Они лучше оплачивались, чем их коллеги-рабочие, они в общем были более интеллигентны и взяли на себя руководство развитием технического образования. Они уважались своими хозяевами, которые должны были советоваться с ними и преклоняться перед их техническими познаниями. Они находились на передовых позициях прогресса и изобретательства и радовались тому, что руководят техническим развитием новой эпохи. Такими людьми труда были Стефенсоны из Тайнсайда; в происхождении человека, который изобрел локомотив после того, как самостоятельно научился читать в возрасте семнадцати лет, не было ничего буржуазного.
Просвещение взрослого населения получило свой первый толчок от промышленного переворота в результате стремления механиков к общему научному знанию и готовности более интеллигентной части среднего класса помочь им осуществить это стремление. Бескорыстная научная любознательность была сильна среди лучшей части рабочих севера. С 1823 года общества механиков, основанные в Шотландии доктором Биркбеком, были созданы по всей промышленной Англии. Новый мир не мог довольствоваться лишь классической ученостью, заботливо укрываемой от широких масс в тесной церковной корпорации Оксфорда и Кембриджа. И в жизни общества, которую в те времена нужно было прежде всего изменить таким образом, чтобы люди увидели необходимость образования, эти «полу-Соломоны, полувсезнайки», неукротимые в своем рвении и не боящиеся показаться глупцами перед ученым, если он мог помочь научить невежду, не были столь большим злом.
Успех этих обществ механиков, с их ежегодным взносом в одну гинею, доказывал, что, что бы ни происходило с другими категориями рабочих, промышленный переворот способствовал процветанию инженеров и механиков, которых он сам вызвал к жизни, Френсис Плейс, радикально настроенный портной, видел, как первые стремления трудящихся масс к самообразованию были подавлены антиякобинской паникой предшествующего поколения; но в 1824 году он уже говорит, что «от 800 до 900 механиков, имеющих совершенно респектабельный вид», уделяют большое внимание лекциям по химии. В этом году «Микеникс мэгэзин» был распродан в количестве 16 тысяч экземпляров, и 1500 рабочих вносили по гинее в Лондонское общество механиков. Энциклопедические знания теперь распространялись предприимчивыми издателями в дешевых книгах и периодических изданиях, которыми зачитывались пылкие студенты на чердаках и в мастерских.
Эти новые веяния, оказавшие влияние на образование и самообразование, привели также к основанию Лондонского университета (1827). Нонконформисты и сторонники светского образования из Оксфорда и Кембриджа объединились, чтобы основать в столице учебный центр, не имеющий сектантского уклона, исключающий из программы геологию и не требующий религиозной присяги для преподавателей и студентов. Этот новый университет имел склонность к современным учениям, включая и естественные науки. Строгая классическая программа отождествлялась в сознании людей с закрытыми учебными заведениями церковной и государственной партии. Прикладные науки привлекали главным образом непривилегированное городское население. Поэтому событием первостепенной важности в деле развития образования было именно основание Лондонского университета (хотя в то время его действительное значение не было понято в пылу сектантских партийных пререканий).
Первоначальное образование и выиграло, и проиграло от религиозных и сектантских споров, характерных для того века, когда диссиденты стали очень многочисленными, а духовенство еще не желало ни на йоту поступиться своими привилегиями. С одной стороны, нельзя было получить общественные деньги на народное просвещение, потому что церковь требовала, чтобы просвещение находилось под эгидой государственной религии, а диссиденты не соглашались расходовать общественные средства на таких условиях. С другой стороны, враждующие секты соперничали друг с другом в сборах добровольных пожертвований для учреждения дневных и воскресных школ.
«Британское и зарубежное школьное общество», находившееся под покровительством диссидентов и вигов, положило в основу своей деятельности несектантское изучение Библии, на что церковники ответили основанием «Национального общества для просвещения бедных согласно принципам англиканской церкви». «Национальные», или церковные, школы стали наиболее обычной формой народного образования в английской деревне.
Хотя организация образования этого века имела множество недостатков по сравнению с нашей эпохой, очень многие люди из всех классов во времена Ватерлоо знали Библию действительно хорошо, и это возвышало их воображение над уровнем той пошлой вульгарности ума, которая скорее увеличивается, чем уменьшается благодаря современному разнообразию печатных материалов.
С распространением новых отношений в промышленности, включая исчезновение ученичества и личных связей между поденщиком и его нанимателем, для защиты интересов рабочих стала необходима деятельность тред-юнионов, особенно тогда, когда государство отказалось проводить дальше старую тюдоровскую политику фиксирования заработной платы. Но в течение антиякобинского периода (1792-1822) все объединения рабочих, создавались ли они для политических или для чисто экономических целей, рассматривались как «мятежные». Можно только удивляться, как такая позиция государства, выступавшего в качестве сторонника предпринимателей, не привела к более значительным насилиям и кровопролитиям. Но она привела к волнениям «луддитов».
В разгар Наполеоновских войн среди промышленных рабочих Ноттингемшира, Йоркшира и Ланкашира периодически возникала безработица, снижалась заработная плата, рабочие голодали, что частично вызывалось введением новых машин. В 1811-1812 годах луддиты начали систематически и планомерно разрушать станки. Хотя стремление к насилию и существовало в рядах луддитов у некоторых ирландцев, но возникновение серьезного мятежа было маловероятно и боязнь его вызывалась просто отсутствием на острове действенной полиции. Именно по этой причине пришлось прибегнуть к помощи солдат, для того чтобы разогнать толпы и сохранить машины. Отсутствие гражданской полиции усилило политические и социальные беспорядки и было непосредственной причиной трагедии Питерлоо. С введением Пилем в 1829 году знаменитого синемундирного корпуса с его цилиндрами и дубинками положение вещей стало улучшаться. Созданная первоначально для территории Лондона «новая полиция» два года спустя, во время агитации за билль о реформе, спасла столицу от радикальных толп, от которых пострадали Бристоль и некоторые другие города, да и сам Лондон 50 лет назад. Когда полиция Пиля была постепенно учреждена повсюду, мятежи и боязнь мятежа перестали играть прежнюю роль в английской жизни.
Но движение 1812 года наряду с разрушением машин имело и другой аспект. Луддиты требовали путем законной подачи петиций в парламент, чтобы вступили в силу старые, но еще не отмененные законы (некоторые из них были введены еще во времена правления Елизаветы) о справедливом регулировании государством размера заработной платы и продолжительности рабочего дня, что было причиной конфликтов между нанимателями и рабочими.
Такое требование было совершенно справедливым, тем более что эти старинные законы частично применялись для предотвращения объединений рабочих, стремившихся защитить свои интересы: действительно, положения союзов рабочего класса было недавно ухудшено проведенным правительством Питта в 1800 году законом о запрещении союзов. Предполагалось, что законы будут применять против объединений как хозяев, так и рабочих, но на деле хозяева могли объединяться совершенно свободно, тогда как рабочих за забастовки преследовали. Наконец, в 1813 году парламент отменил елизаветинские статуты, которые давали мировым судьям власть устанавливать минимум заработной платы.
Лишить рабочего защиты государства в вопросе о заработной плате, рабочем дне и фабричных условиях и в то же время отрицать его право защищаться путем создания союзов было явной несправедливостью. Это была не политика laissez-faire, а политика свободы для хозяев и репрессий для рабочих. Высокие авторитеты доктрины laissez-faire, такие, как Рикардо, были в этом вопросе на стороне рабочих и требовали легализации тред-юнионов.
После 1822 года антиякобинская волна начала спадать. С тех пор как Пиль возглавил министерство внутренних дел, репрессии перестали быть единственным методом правительства, и в 1824-1825 годах искусные кулуарные переговоры Джозефа Юма и Френсиса Плейса побудили палату общин в соответствии с духом нового и лучшего века отменить закон Питта о запрещении союзов и сделать тред-юнионы легальными. С этого времени различные формы рабочих ассоциаций и корпоративной деятельности быстро развивались как нормальная и признанная часть социальной структуры, вместо того чтобы становиться революционными, что имело бы место в случае оставления в силе закона о запрещении союзов.
Не следует думать, что борьба классов была когда-либо в Англии совершенно неизбежным явлением или что все хозяева были жестоки к своим рабочим или равнодушны к их нуждам. Просвещенное меньшинство предпринимателей поддерживало легализацию тред-юнионов. И во время Наполеоновских войн предприимчивый промышленник Роберт Пиль-старший, отец знаменитого сына, начал агитировать за государственный контроль над условиями детского труда на фабриках, особенно в защиту несчастных учеников из приходских детей, ужасную торговлю которыми еще продолжали местные власти. Без сомнения, добрый сэр Роберт, который сам нанимал 15 тысяч человек, был отчасти заинтересован в том, чтобы ограничить несправедливую конкуренцию его менее разборчивых соперников. Но фабричные законы, изданные до билля о реформе, были не только очень ограничены количественно, но и оставались мертвой буквой из-за отсутствия такого механизма, который мог бы ввести их в силу.
К несчастью, в первые годы XIX века идея государственного контроля в интересах трудящихся классов не была близка правителям Британии. Они были глухи к словам Роберта Оуэна, указывавшего им, что его фабрики в Нью-Ленарке были тем готовым образцом, который мог научить мир, каким образом новая промышленная система может стать орудием стандартизированных улучшений в области санитарных условий, благосостояния, продолжительности рабочего дня, заработной платы и просвещения, доводя условия жизни рабочего класса до среднего уровня, который никогда не может быть достигнут при системе домашней промышленности. Пусть государство, говорил Оуэн, введет подобное устройство на всех фабриках. Но «мир», хотя и был достаточно заинтересован, чтобы посещать фабрики Нью-Ленарка и восхищаться ими, отказывался им подражать. Люди были еще не в состоянии понять то современное учение, которое Оуэн первый ясно постиг и проповедовал: что окружающая обстановка влияет на характер и что эта обстановка находится под контролем людей. Огромные возможности, которые он видел благодаря своей проницательности, были упущены, пока, наконец, в течение века государство не вернулось к той его доктрине о контроле над фабриками и условиями жизни всех людей, занятых на фабриках, которую он тщетно проповедовал. В конце XIX века отчасти благодаря ряду фабричных законов, отчасти благодаря деятельности тред-юнионов фабричная жизнь показала пути и средства повышения жизненного уровня, в то время как «потогонные» домашние ремесла, подобные портновскому ремеслу, которое не может быть подчинено фабричному контролю, оставались еще в течение некоторого времени областью самого тяжелого угнетения, особенно для женщин.
Чтобы воссоздать истинную картину процессов социальных перемен, происходивших в послевоенный период, мы должны избегать ошибочного предположения, что трудящиеся классы в целом находились в худшем финансовом положении, чем до промышленного переворота, хотя их беды, будучи теперь бедами иного рода, были более ощутимы, а их жалобы раздавались громче, чем в прошлом. Профессор Клэпхем, величайший авторитет в области экономической истории этого периода, резко осуждает «легенду, по которой положение трудящегося человека становилось все хуже вплоть до некоей неопределенной даты между составлением Народной хартии и Всемирной выставкой. После падения цен в 1820-1821 годах покупательная способность заработной платы (в целом, конечно, а не заработка каждого рабочего) была, несомненно, выше, чем непосредственно перед революционными и Наполеоновскими войнами.
Но покупательная способность заработной платы несоставляет еще полностью человеческого счастья, а для большинства людей удобства и ценности жизни были меньшими, нежели те, которыми пользовались их деревенские предки.
Глава XVI Англия времен Коббета (Продолжение)
Рост фабричной системы и капиталистического земледелия привел к большим переменам в использовании женского труда, а эти перемены изменили условия семейной жизни и, следовательно, в конце концов повлияли на взаимоотношения полов.
С давних времен женщины и дети занимались дома некоторыми ремеслами, разнообразие и сложность которых возросли в период правления в Англии Стюартов и первых представителей Ганноверской династии. Внезапный упадок домашнего ремесла, вызванный изобретением новых машин, имел глубокие последствия для бедноты. Первым таким результатом в последние годы XVIII века была большая безработица и нищета среди одиноких женщин и разорение многих мелких сельских семей, бюджет которых можно было сбалансировать лишь при помощи заработков жены и детей.
Переход на фабрики не мог быть осуществлен немедленно. В период войны с Наполеоном женщины, лишенные в связи с упадком домашней промышленности прежних средств к существованию, стали наряду с мужчинами принимать участие в полевых работах. Крупные капиталистические фермы начали широко использовать женщин для рыхления земли и прополки. Такая работа носила эпизодический характер. Только крупные фермеры в эпоху Спинхэмленда использовали женский труд круглый год, как потому, что вновь огороженные земли требовали большей затраты труда на расчистку и подготовку почвы, так и потому, что бремя налога в пользу бедных было меньшим, если жена зарабатывала так же, как и муж, и потому, что получение жалованья женщинами помогало снижать заработок мужчин. Это был порочный круг, так как именно то обстоятельство, что заработка мужчины в то время было недостаточно для содержания целой семьи, заставляло жену и дочерей конкурировать с мужчинами на сельскохозяйственных работах. И лишь когда во второй половине XIX столетия заработок сельскохозяйственных рабочих стал постепенно подниматься, а сельскохозяйственные машины дали фермерам возможность обходиться без многих видов ручного труда, – только тогда применение женского труда в земледелии опять стало столь же ограниченным, как и в более ранние времена.
При прежней системе ведения хозяйства многие деревенские женщины принимали активное участие в обработке семейного клочка земли, ухаживали за свиньями и коровой, торговали на рынке или помогали вести кое-какие мелкие местные дела; в Англии прошлого, как и в современной Франции, жена часто была партнером в делах своего мужа и товарищем вработе. Но рост интенсивного земледелия и крупных предприятий привел к отстранению женщин от подобной деятельности, превратив одних из них в «леди», не имеющих никаких занятий, других – в полевых или фабричных работниц, а некоторых – в жен рабочих, целиком посвятивших себя заботам о доме.
Как и в большинстве человеческих дел, были и положительные, и отрицательные стороны этих перемен. Жилища рабочих, перестав быть миниатюрной фабрикой, стали более комфортабельными, тихими и чистыми: так, например, перенесение процесса очистки хлопка из хижины ремесленника на фабрику сделало многих хозяек более счастливыми, а многие дома – более приятными.
Более того, женщины, которые шли работать на фабрики, хотя и теряли некоторые ценные преимущества своей прежней жизни», зато обретали независимость. Деньги, которые они зарабатывали, были их собственными. Фабричная работница занимала определенное экономическое положение, которое с течением времени стало возбуждать зависть других женщин. Эту зависть, основанную на стремлении к независимости, испытывали не только девушки из трудящихся классов. Она стала ощущаться и в высших кругах. В середине XJX века представительницы праздных слоев начали чувствовать, что независимая фабричная работница, сама зарабатывающая себе на хлеб, подает пример, который может быть полезным для «леди».
Очень часто единственной обязанностью «леди» начала правления Виктории, так же как и ее матери в период регентства, было нравиться мужу, тратить его деньги и воплощать тот тип женского совершенства, который глава семьи рассчитывал найти в своей жене и дочерях [57]. Несомненно, что увеличение числа женщин, имеющих досуг, способствовало расширению круга читающей публики и покровительству искусству и литературе. В самом деле, такие женщины, как Джейн Остин, Мария Эджуорт и Анна Мор, имели достаточно времени и образования, чтобы стать писательницами и художницами. Это было хорошо. Но многие молодые леди, которые бредили романами Скотта и Байрона и старались походить на их героинь, страдали от слишком большого досуга. Моды в искусстве и литературе по мере своего появления воздействовали на жизненные привычки и иногда даже на внешний вид более культурных слоев общества. Псевдо-средневековый идеал женщины, обожаемой влюбленным героем, – у Скотта и султанское представление о женщине как одалиске – у Байрона способствовали появлению у женщин, мнящих себя «светскими львицами», искусственно созданного чувства собственной бесполезности.
По мере того как высший и средний классы богатели, а сельские джентри все больше подпадали под влияние городской жизни, вопросом социальной гордости стало правило, согласно которому молодые девушки должны были заниматься с гувернантками в классной комнате, а оттуда переходить в гостиную, как можно меньше времени уделяя домашней работе. Леди в романах Джейн Остин, представительницы мелких джентри и высшей буржуазии, ничем не занимались, а лишь читали стихи, рассказывали местные сплетни и старались обратить на себя внимание джентльменов. Несомненно, что в семьях крупных политических деятелей дело обстояло иначе: жизнь женщин совсем не была такой ограниченной и скучной.
Кроме того, леди не рисковали заниматься какими-либо физическими упражнениями, кроме танцев. Очень немногие женщины в этот период увлекались охотой; охота стала более обычной в деятельный викторианский период, о чем свидетельствуют рисунки в «Панч» и романы Троллопа. В более ранний период леди полагали, что их следует хранить в вате. Когда Элизабет Беннет прошла три мили в скверную погоду и пришла в Незерфилд «с уставшими ногами, грязными чулками и лицом, раскрасневшимся от жары и ходьбы», госпожа Хёрст и мисс Бингли «выразили ей свое презрение». Даже на суровом севере Вордсворт написал в 1801 году поэму, чтобы, как говорит нам ее заглавие, утешить и ободрить «молодую девушку, которую бранили за длинные прогулки в деревню». Все это было совершенно абсурдно, так как женщины менее состоятельных слоев общества проходили большие расстояния до места работы и обратно; многие уэльские женщины ежегодно проделывали долгий путь в Лондон и обратно только ради сезонной работы в фруктовых садах и огородах около столицы.
Женщинам высшего класса были чужды радости трудовой жизни и ее интересы, что явилось результатом возрастающего богатства мужчин этого класса и более искусственных условий современной жизни. В прежнем самообеспечивающемся помещичьем имении с его бесчисленными работами по дому и вне его леди из знатных семей, подобных Пастонам и Верни, имели свои обязанности. Теперь же признаком леди стала праздность.
Было, конечно, даже среди женщин состоятельных слоев много таких, которые жили активной и полезной жизнью: одни – жизнью прежнего домашнего типа, другие – подобно Анне Мор – современной филантропической и духовной жизнью. Но в фальшивом идеале «уединившейся» леди была реальная опасность для нового столетия. А в снобистском обществе, подобном английскому, где низшие слои всегда стремятся подражать высшим, фальшивый идеал распространялся сверху вниз, проникал в среду более мелкой буржуазии, становившейся все более многочисленной в новых предместьях городов.
Даже в сельских местностях жены богатых фермеров порицались за то, что вообразили себя леди, слишком изнеженными, чтобы работать. В прежние времена жена фермера всегда была очень занятой женщиной (какой она является и сегодня); на ее плечах лежали все заботы по дому и некоторые по ферме. На молочных фермах она руководила работницами, поднимала их до восхода солнца и часто сама трудилась вместе с ними до поздней ночи над изготовлением масла или сыра. Молочное хозяйство, особенно в западных районах, которые снабжали лондонский рынок сыром и маслом, было наиболее трудным и наиболее выгодным занятием женщины. На других фермах жена больше занималась домашней работой. Она готовила пищу и заботилась не только о своей собственной семье, но и о батраках, которые питались за столом ее мужа и жили под его крышей. Ей приходилось усердно работать, и ее досуг был очень невелик.
В начале XIX века домашние условия в больших огороженных фермах нового типа значительно изменились. Число наемных рабочих на таких фермах стало значительно большим, и уже поэтому они не могли питаться вместе со своим хозяином. Фермерский дом, как жаловался Коббет, становился «слишком изысканным для того, чтобы в него можно было допустить возчика в грязной обуви». Крупные фермеры нанимали лучших домашних слуг, чтобы освободить жен от черной работы и придать гостиной вид, соответствующий достоинству джентльмена, даже если в обычных случаях семья предпочитала пользоваться кухней. Дочери фермеров, как уже было сказано, «вместо того чтобы выполнять свои обязанности и заниматься делами молочной, получали воспитание в пансионах, учились танцевать, говорить по-французски и играть на клавикордах».
Но это верно в полной мере только по отношению к наиболее богатым фермерам; некоторые из них действительно постепенно становились джентльменами. Фермерский слой отличался большим разнообразием социальных группировок. Фермеры севера не подражали джентльменам, как это делали некоторые фермеры из районов Спинхэмленда. Северный батрак был более независим, чем пауперизированный поденщик юга, и социальное различие между ним и его хозяином было менее заметным; это особенно верно в отношении пастухов. Повсюду в Англии еще встречались тысячи ферм, вкоторых женщины из семьи фермера принимали участие во всех видах работ, и много таких ферм, где батраки еще столовались вместе со своими хозяином.
Говоря о жизни женщин этого периода, нужно упомянуть о большой армии проституток. Они существовали во все времена, и их число возрастало с ростом богатства и населения страны. За исключением «спасительной деятельности», которой усердно занимались благочестивые святоши, это зло оставалось нетронутым. Оно наводняло города без малейшего общественного контроля; «призывы проституток на улицах» делали все общественные места в сумерках отвратительными. Растущая «респектабельность» зажиточных классов в новой эпохе уменьшила число и значение более удачливых «содержанок», которые играли немалую роль в XVIII веке. Но по этой же причине возрос спрос на обычных проституток, которых можно было посещать тайно. Суровость этического кодекса общества, одобряемая многими родителями, очень часто доводила обольщенную девушку до проституции. Да и бедственное экономическое положение одиноких женщин заставляло многих из них торговать собой, несмотря на естественное чувство отвращения к этому. Упадок домашней промышленности обрекал девушек, лишившихся родителей, на голод, вынуждавший их продавать себя на улицах. Низкие заработки в нерегулируемой домашней промышленности делали искушение более сильным. Однако в целом более регулярная оплата и общие условия жизни на фабриках способствовали более высокому уровню нравственности, хотя критики фабричной системы долго это отрицали. Постепенно фабричная оплата и жизненные условия заметно улучшились в ХIХ веке, и чувство собственного достоинства у трудящейся женщины получило более крепкую экономическую основу.
Новый век вызвал к жизни обширный праздно живущий слой общества, который не имел прямого отношения ни к земле, ни к ремеслам, ни к промышленности или к торговле. В годы, последовавшиеза Наполеоновскими воинами, было много разговоров о «держателях государственных бумаг», которые пользовались доходами, обеспеченными национальным кредитом.
Начиная со времени правления Вильгельма III всегда ожидали, что постоянный рост (с каждой новой войной) консолидированного государственного долга окажется роковым для страны, так как цифры взлетали с каждым десятилетием. Но на самом деле государственный долг никогда не превышал растущей финансовой мощи Британии, а проценты, выплачиваемые за него, почти целиком расходовались в самой Англии.
Это означало широкое распространение надежного и легко реализуемого богатства среди большого числа семей. Держатели бумаг были бережливым народом; в 1803 году высчитали, что 1/5 суммы, получаемой кредиторами при выплате им процентов по государственным займам, вновь вкладывалась в общественный фонд. Возможно, что большинство держателей бумаг получали тем или иным путем какие-либо дополнительные доходы, но некоторые вели пассивную респектабельную жизнь на свои маленькие, тщательно сохраняемые вклады.
Когда Коббет бранил держателей бумаг, как пиявок, питающихся за счет налогов с народа, и требовал прекращения выплаты национального долга, он едва ли представлял себе, что этим предлагает разорить не только биржевых спекулянтов, которые и были, возможно, «объектом нападок», но и огромное число невинных, скромных людей. Биржевых спекулянтов он ненавидел отчасти потому, что они способствовали разбуханию Лондона. Неумолимое «наступление кирпича и извести» навсегда уничтожило зеленые пространства Мидлсекса, создавая застроенные домами участки для деловых людей столицы и для биржевых спекулянтов и рантье. Преданный всем сердцем тому времени, когда в стране процветали йомены, Коббет не выносил вида этого нового бесформенного скопища домов и нового искусственного общества, не имеющего никаких корней в истории страны. Однако Англия будущего должна была состоять главным образом именно из таких городов и таких людей.
Брайтон, известный благодаря покровительству Георга IV и павильону, который он здесь построил, уже являлся дополнением Лондона. «Обращает на себя внимание, – жаловался Коббет, – развитие города Брайтона в Суссексе, находящегося в 50 милях от столицы на морском берегу и обладающего целебным воздухом. Он расположен так, что карета, которая покидает его не слишком рано утром, достигает Лондона в полдень… Многие биржевики жили в Брайтоне с женами и детьми. Они разъезжали в каретах взад и вперед и деятельно вели маклерскую игру на Биржевой аллее, хотя и жили в Брайтоне».
В течение первых 30 лет столетия многие перемены в обычаях и мыслях были вызваны неуклонным проникновением евангелической религии во все классы общества, не исключая даже и высшие; это движение распространялось снизу вверх. Активный индивидуалистический протестантизм, тесно связанный с филантропической деятельностью, строгость личного поведения и открытая набожность были, как мы видим, важным элементом в жизни Англии XVIII века, но оказывали тогда мало влияния на англиканскую церковь, отличавшуюся широкой веротерпимостью, или на свободные нравы высших классов. Но когда эти классы увидели, что их привилегиям и имуществу угрожают якобинские доктрины с противоположного берега Ла-Манша, тогда сильное отвращение к французскому «атеизму и деизму» подготовило благоприятную почву для большей «серьезности» джентри. Индифферентизм и веротерпимость в вопросах религии казались теперь мятежными и непатриотичными, соответствующие изменения произошли также и в нравах – распущенность или веселость сменились лицемерием или добродетелью. Семейные молитвы из купеческих домов проникли в столовые сельских домов. Был возрожден «воскресный обряд». «Низшие слои общества удивляло, – писал в 1798 году ежегодник «Эньюэл реджистер», – что во всех частях Англии аллеи, ведущие к церквам, заполнены каретами. Это новое явление побуждало простой деревенский народ спрашивать: в чем здесь дело?»
Если бы это стремление к большей серьезности в религиозных вопросах было только симптомом антиякобинской паники, то оно прошло бы вместе с исчезновением опасности. Но оно пережило восстановление мира в 1815 году достигло соглашения с установившими свое господство пос.; этого силами реакции. Викторианский джентльмен и с\семья были более религиозными в своих обычаях и более трезвыми в образе мыслей, чем их предшественники. Англичане всех классов образовали в XIX веке сильную протестантскую нацию; большинство отличалось той «серьезностью» в вопросах морали, которая является одновременно и достоинством, и опасным качеством пуританского характера. В своем стремлении одновременно повиноваться данному этическому кодексу и «преуспевать» в делах люди, являвшиеся типичными для нового века, не замечали возможности вести какой-либо другой образ жизни.
Индивидуалистический дух торгашества и столь же индивидуалистический вид религии объединились для создания породы самоуверенных и благонадежных людей, во многих отношениях хороших граждан, но «филистеров», по популярному выражению их наиболее известного критика в последующем поколении. Ни машинное производство, ни евангелическая религия не принесли никакой пользы искусству или красоте, которые презирались создателями больших фабричных городов севера как проявление изнеженности.
Ужас перед французским республиканским атеизмом способствовал более широкому, чем когда-либо со времени смерти его великого основателя в 1791 году, распространению движения последователей Уэсли в низших слоях общества. Новые методистские церкви не только увеличили число своих прихожан до сотен тысяч; методистский дух проник даже в более старые нонконформистские секты, подобные баптистской.
Мостом между англиканской церковью и диссидентами, так же как между антиякобинцами и либералами, явилась маленькая, но влиятельная евангелическая партия, которая обосновалась внутри самой церкви. Евангелисты часто были типом наиболее энергичного английского джентльмена новой эпохи. В армии они снискали уважение, в Индии – страх и признательность. Благодаря таким семьям, как Стефенсы, влияние евангелистов на Даунинг-стрит, на постоянной гражданской службе и в колониальной администрации постоянно возрастало в течение первых сорока лет XIX века.
Филантропическая деятельность была наиболее характерной формой выражения их религиозного благочестия. По вопросу о рабах они были готовы объединиться не только со своими единомышленниками-евангелистами, последователями Уэсли и другими диссидентами, но даже со свободомыслящими и утилитаристами, Уилберфорс с грустью признавался, что «отставшая от жизни» консервативная партия, преобладавшая тогда среди англиканского духовенства, препятствовала освобождению рабов или, в лучшем случае, была равнодушна к этому вопросу, тогда как нонконформисты и безбожные реформаторы оказывались его верными союзниками, А старый вольнодумец Бентам восклицал: «Если быть противником рабства означает быть «святым», то я за святость». Те же самые силы – евангелическая церковь, диссиденты и свободомыслящие радикалы – трудились ради просвещения бедноты в «Британском и зарубежном школьном обществе», а в следующем поколении выступали в защиту фабричного законодательства Шефтсбери.
Это пересечение путей англиканской партии, и сектантов указывало на то, что общественное сознание становилось более активным и независимым. Многие теперь думали и действовали самостоятельно, в самостоятельно выбранных сферах, и не довольствовались уже тем, чтобы просто быть толпой на выборных собраниях в пользу аристократии вигов или тори. Эта новая сила организованного общественного мнения провела в 1807 году закон об уничтожении работорговли вопреки могущественному влиянию заинтересованных лиц и в разгар антиякобинской реакции. Движение против работорговли не прекратилось после этого первого успеха; оно продолжалось и дальше во имя освобождения всех рабов в Британской империи: Фовелл Бакстон в двадцатых годах возглавил то дело, которое восторжествовало в 1833 году, в год смерти Уилберфорса.
Таким образом, Уилберфорс был вознагражден за честность, проявленную им в деле достижения своей цели. Он неотступно стремился к своей великой гуманной цели, даже когда после французской революции она стала на некоторое время крайне непопулярной среди светских людей и политиков; он всегда был готов сотрудничать с представителями любой партии, класса или религии, которая поддерживала бы его дело. Он был энтузиастом, однако всегда трезвомыслящим и мудрым. Он был агитатором, никогда не терявшим своего могущественного природного дара – той обаятельности, которой он обладал благодаря своему мягкому характеру. Он является классическим примером того, какую пользу может принести беспристрастный политик в нашей двухпартийной общественной жизни. Он не мог бы сделать того, что сделал, если бы стремился занять какую-либо должность. С его талантами и положением он, возможно, смог бы стать преемником Питта в качестве премьер-министра, если бы предпочел свою партию человечеству. Он пожертвовал славой и властью, но получил другое и более благородное право – не быть забытым.
Уилберфорс и его сторонники ввели в английскую жизнь и политику новые методы агитации и воспитания общественного мнения. Распространение фактов и аргументов, опровержение ложных утверждений противников о радостях «среднего рейса» [перевоза рабов через Атлантический океан из Африки в Вест-Индию] и о счастливой негритянской жизни на плантациях, брошюры, подписки, массовые митинги – все эти методы пропаганды, достаточно известные сегодня, были чем-то новым и странным в те времена. Спокойная сила квакеров была выведена из своего состояния спячки и ринулась в общественную жизнь, атакуя партийных политиков с фланга. Методам Уилберфорса впоследствии подражали мириады всяких лиг и обществ – политических, религиозных, филантропических и культурных, – которые с этого времени стали артериями английской жизни. Публичное обсуждение всякого рода вопросов и агитация среди масс стали привычкой английского народа, установившейся в значительной степени как подражание успешной кампании Уилберфорса. Добровольные ассоциации для всевозможных целей и дел стали составной частью английской социальной жизни в XIX веке, заполнив многочисленные пробелы в ограниченной сфере государственной деятельности.
Британский торговый флот, который совместно с военным флотом разрушил честолюбивые планы Бонапарта, был величайшим в мире. В царствование Георга IV (1820-1830) этот флот, тоннаж которого приближался к двум с половиной миллионам тонн, приводился в движение ветром и парусами, хотя в 1821 году между Дувром и Кале уже несли пассажирскую службу пароходы, сократившие переезд через пролив при благоприятной погоде до 3-4 часов. Уже отчетливо вырисовывалось близкое будущее наступление века пара как на море, так и на суше. Прогресс техники уже изменил порты и гавани острова. Между 1800 и 1830 годами английская лоцманская служба установила маяки и плавучие огни вокруг берегов Англии, а в каждом значительном портовом городе были выстроены доки. Быстро создавалась система доков Лондона, хотя Темза (начиная от Лондонского моста и на несколько миль ниже) все еще была сплошь заполнена судами с торчавшими над ними высокими мачтами. Пристани, предназначенные для развлечения, подобные пристаням Маргета и Брайтона, строились для привлечения в приморские уголки толпы посетителей.
Устье Темзы еще сохраняло бесспорное первенство в качестве центра британской и мировой торговли. Накануне билля о реформе одна четверть всего флота страны была приписана к Лондону, включая большие ост-индские коммерческие суда, построенные для более чем шестимесячных путешествий в Индию и Китай вокруг мыса Доброй Надежды; второе место после Лондона занимал Ньюкасл, имевший суда общим тоннажем 202 тысячи тонн, преимущественно корабли для перевозки угля, служившие в значительной мере для снабжения Лондона; третьим был Ливерпуль: он имел много судов, предназначенных главным образом для торговли с Америкой; Сандерленд и Уайтхейвен занимали четвертое и пятое места, торгуя свосточным и западным побережьем; тоннаж судов Гулля был равен 72 тысячам тонн.
Связь британского военного флота с моряками торгового флота и с остальными мореплавателями – включая рыбаков, китоловов и контрабандистов – играла очень важную роль во время войны. Связующим звеном между ними была хаотическая и зверская система вербовки. Некоторое принуждение было необходимо для пополнения матросами готовых к плаванию боевых кораблей, так как условия жизни матросов военного флота были слишком скверными, чтобы привлечь необходимое число добровольцев. Способ же, которым осуществлялось принуждение, был наихудшим. Еще во время войны против Людовика XIV чиновниками Адмиралтейства было предложено составлять списки моряков, из которых можно было бы набирать призывников справедливым и регулярным образом, но ничего не было сделано для осуществления этого предложения. Некомпетентность, характеризующая государственную деятельность и организацию в течение всего XVIII столетия, сохранилась в этом вопросе даже и в героический век военного флота. Еще в дни Нельсона вербовка вызывала ужас у людей, живущих вдоль побережий и в гаванях Англии. Вооруженные кортиками отряды, руководимые флотскими офицерами, обманным путем вербовали моряков и сухопутных жителей на кораблях в гаванях и в открытом море, в тавернах и на улицах, даже у церковных дверей, откуда иногда уводили жениха и всех присутствующих в церкви. Такая система порождала многочисленные возмутительные несправедливости, бедствия и несчастья; она разоряла и разрушала семьи и часто доставляла совсем неподходящих рекрутов. Завербованный силой человек, попав однажды на борт военного корабля, имел слишком много оснований оплакивать свою судьбу: пища, поставляемая мошенниками-подрядчиками, была часто отвратительной, а жалованье, скупо выдаваемое обедневшим правительством, было всегда недостаточным. Изменения к лучшему в этом отношении последовали только после опасных мятежей в Спитхэде и Норе в 1797 году. После этого положение моряка постепенно улучшилось до тех пределов, которые защищались в течение прошедших поколений лучшими моряками и офицерами в их борьбе с английскими властями. Отношение самого Нельсона к его людям было примером доброты. Но нужно отметить, что многие простые матросы, которые спасли Британию у Сент-Винсента, Кампердауна и на берегах Нила, в периоды перерывов в их замечательной службе в военном флоте были мятежниками. Контраст между их жалобами и недисциплинированностью и их отвагой и стойкостью в боях и во время блокады может показаться необъяснимым. Однако разгадка этого противоречия заключается в следующем: моряки знали, что, несмотря на то, что с ними дурно обращались, нация считала их своим оплотом и славой; что всякий раз при взгляде на какого-либо нельсоновского молодца с его просмоленной косичкой глаза сухопутного жителя загорались любовью и гордостью. Страна, которая обращалась с ними так плохо, доверчиво рассчитывала на их защиту, и они это знали.
Морские офицеры, из которых Нельсон составил свой «союз братьев», больше соответствовали своему назначению, чем прежние, хотя иногда были еще придирчивыми и своевольными. Во времена Стюартов флот страдал от постоянной борьбы между грубыми, «просмоленными» капитанами низкого происхождения, которые знали морское дело, и светскими сухопутными лицами, посылаемыми двором, чтобы разделять командование флотом. Эти дни давно миновали. Морские офицеры были теперь сыновьями джентльменов среднего достатка (Нельсон был сыном бедного приходского священника), посылались в море еще мальчиками и соединяли в себе все, что было лучшего в опыте «просмоленных» и обученных офицеров, с характером и мыслями образованного человека.
В последние несколько лет борьбы с Наполеоном армия на короткое время стала даже более популярна у нации, чем флот. Именно потому, что победа при Трафальгаре была решающей и полной, она отодвинула наш «потрепанный бурями флот» на задний план войны, которой он продолжал оказывать незаметную на первый взгляд поддержку. Теперь умы людей были заполнены победами Веллингтона. С 1812 по 1815 год, когда увитые лаврами кареты проезжали галопом через деревни и города, неся известия о победах при Саламанке, Виттории и Ватерлоо, армия приобрела такую популярность, какой никогда не имела ни прежде, не позже, вплоть до германских войн XX столетия, когда за оружие взялась вся нация.
Но армия Веллингтона не была вооруженной нацией, какой была состоящая из призывников французская армия, против которой она сражалась. Она состояла из аристократов, командующих рядовыми, набранными из низших слоев общества, «подонками нации», как называл их Веллингтон, хотя он же добавлял (что часто забывается): «Поистине удивительно, что мы сделали из них тех прекрасных молодцов, какими они являются». В солдаты тогда удавалось вербовать главным образом пьяниц, безработных и тех, у кого возникли личные осложнения с женщиной или с законами страны. Суровая дисциплина плети, считавшаяся необходимой, чтобы держать в повиновении таких грубых подчиненных, удерживала от вступления в армию в качестве рядовых тех членов общества, которые имели чувство собственного достоинства. В первые годы войны в Испании британские солдаты, несмотря на все усилия Веллингтона, занимались грабежом, хотя и не в такой степени, как французские, которых Наполеон поощрял жить за счет побежденной страны. Но к тому времени, когда наши войска вступили в 1814 году во Францию, их дисциплина стала превосходной и их чувство собственного достоинства и справедливая гордость как лучших войск в Европе и любимцев народа на родине делали честь необычной общественной системе, на которой была основана британская армия.
Военные офицеры происходили из более аристократических кругов, чем морские. Многие из них, как и сам Веллингтон, были младшими сыновьями в тех знатных семьях, которые оказывали определяющее влияние на образ жизни и политику в своей стране; другие, подобно Джорджу Осборну в «Ярмарке тщеславия», принадлежали к богатой буржуазии, которая могла купить патент на офицерский чин и смешаться с отпрысками знати. Социальная бездна между такими офицерами и людьми, которыми они руководили, была огромна, и это часто проявлялось в грубом пренебрежении к рядовым солдатам со стороны офицеров – слишком светских, а иногда и слишком пьяных, чтобы исполнять свой долг. Небоеспособность и разложение армии обнаружились в 1793 году уже во время первых сражений в Нидерландах. Несколькими годами раньше Коббет, который был завербован в армию рядовым солдатом, а затем произведен в сержант-майоры, обнаружил, что главный интендант его полка, ведавший снабжением людей провизией, удерживал около четвертой части этой провизии для себя; когда же Коббет сделал отважную попытку предать гласности этот позорный факт, то увидел, что на подобные дела повсюду в армии смотрели сквозь пальцы, и был вынужден бежать в Америку, чтобы избегнуть мести властей, не переносивших подобного вмешательства в их порядки и доходы.
Пока шла война, Ральф Эберкромби, Джон Мур и Веллингтон постепенно изменили такое положение; в британском офицере вновь пробудилось чувство долга, в армии установилась дисциплина. Но в полках как с плохим, так и с хорошим командованием непосредственная забота о рядовых и контроль над ними было делом сержантов, «непатентованных офицеров», которые были поистине «спинным хребтом армии». Полк, подобно обществу, был разделен на высшие и низшие ступени, соответствующие социальному делению английской деревни, из которой приходили и рядовые, и офицеры. Надо заметить, что, когда прапорщик, только что выпущенный из Итона, поручался почтительной заботе и попечению сержант-майора, их отношения очень напоминали те отношения, к которым молодой человек привык дома, когда старый лесничий брал его в поле, чтобы научить обращению с охотничьим ружьем и искусству подкрадываться к дичи.
Среди армейских офицеров нашей отнюдь не воинственной нации не очень сильны былипрофессионально военные чувства. Начиная с герцога (Веллингтона), все, находясь вне службы, спешили переодеться в штатское, хотя даже герцог рассердился, когда некоторые армейские денди вынули зонтики, чтобы укрыться от дождя на поле битвы, как если бы они находились около клуба на Сент-Джеймс-стрит! Только немногие из офицеров смотрели на армию как на действительное средство к существованию; но в таком качестве она не могла быть очень прибыльным делом, учитывая цену, которую приходилось уплачивать за патент, выдаваемый офицеру при каждом повышении по службе. Армия давала возможность увидеть жизнь: насладиться в Испании спортом, еще более возбуждающим и трудным, чем охота на крупного зверя; войти в высшее общество; послужить стране наиболее подходящим для юности образом. Война на Пиренейском полуострове воспитала немало хороших английских офицеров и выработала некоторые замечательные полковые традиции, но она не создала английской военной касты или постоянной армейской организации. Когда вновь воцарился мир, большинство офицеров было склонно вернуться домой, к своим обязанностям и удовольствиям сельского жителя, в сельский дом священника или в мир светской и политической жизни в городе. Армия Англии не была, подобно армии Франции, Испании и Пруссии, военной силой, соперничающей с гражданской властью; она была временным занятием некоторых представителей правящей аристократии.
Во время долгой войны произошли две перемены, указывающие, что нация поняла наконец необходимость содержать постоянную армию. Были построены казармы, чтобы разместить войска, и случайному расквартированию солдат в трактирах пришел конец, к большому облегчению и гражданского населения, и самих солдат. В то же самое время милицию графств перестали рассматривать как средство защиты и стали использовать как источник, из которого пополнялась обученными рекрутами регулярная армия. Прежний взгляд, что защита острова может быть вверена «конституционной» милиции графства и что «постоянная армия» была опасным и лишь временно допустимым средством, устарел уже более чем сто лет назад, а теперь и совсем исчез.
После Ватерлоо была сохранена небольшая постоянная армия, но ее популярность исчезла вместе с войной. Правда, никто больше не считал ее угрозой конституции, но экономические интересы обусловливали антимилитаристские настроения в новом веке, и многие считали расходы на постоянную армию ненужными. Кроме того, реформаторы, приобретающие теперь влияние, не любили армию, как аристократический заповедник, каковым она действительно была; но реформаторы вместо предложения реформировать и демократизировать армию предпочитали морить ее голодом и сокращать ее размеры. Тем временем респектабельные представители трудящихся классов продолжали считать уход в армию свидетельством жизненной неудачи, если не полного позора. Англия XIX века, благодаря счастливой судьбе избавленная на несколько поколений от нападения, решила, что до тех пор, пока ее военный флот будет действенным, она без какого-либо ущерба для себя может безопасно пренебрегать своей армией. И так как армия продолжала быть аристократическим учреждением, она по мере роста демократических настроений среди средних слоев и трудящихся становилась все более непопулярной. Утверждали, что, в отличие от других жителей Европы, ни от одного англичанина нельзя было потребовать, чтобы он учился защищать свою страну с оружием в руках, и это считалось доказательством британской свободы. Это новое и странное определение свободы было «болезненным порождением большого богатства и мира». Оно так укоренилось в течение ста лет безопасной жизни, что оказалось очень трудно отбросить его, когда в XIX веке опасность вернулась в более страшном виде, чем когда-либо.
Известия о кампаниях Веллингтона в Испании ожидались в стране не с большим нетерпением, чем сообщения о предстоящих знаменитых скачках и состязаниях боксеров. С улучшением дорог и средств сообщения спортивные состязания перестали представлять чисто местный интерес и стали делом большой важности для всех классов во всех областях страны. Скачки, правда, процветали под королевским покровительством еще со времен Стюартов, но спортивная техника бокса развилась из тех грубых и вульгарных зачатков, которые появились в царствование Георга II, и в период регентства бокс стал главным национальным увлечением. Так же как добродушная демократия современной Англии бывает хорошо представлена обширной толпой из людей всех классов, сидящих вперемежку на условиях полного равенства, наблюдая финальный крикетный матч на первенство или на кубок, так и более пестрая социальная структура и более грубые нравы тех прежних времен лучше всего были видны на сборищах покровителей ринга.
Когда объявлялось место и время состязания по боксу, со всего острова в этот пункт отправлялись целые толпы людей – в каретах, верхом и пешком. Иногда собиралось до 20 тысяч зрителей. Эти обширные собрания на открытом воздухе были праздником простого народа. Но жрецами национального культа были популярные представители аристократии, которая председательствовала на церемониях и держала в повиновении грубую и часто неистовую толпу. Именно эти представители высшего общества нанимали и поддерживали гладиаторов. Среди этих стойких профессиональных боксеров, чьим занятием было наносить и получать «повреждения», можно было найти немало хулиганов, но действительные чемпионы, люди, подобные Броутону, «отцу британского бокса» в царствование Георга II, а в позднейшие времена – Белчеру, Тому Криббу и Тому Спрингу, были прекрасными парнями и почтенными людьми. Их знатные патроны с гордостью везли их на ринг в своей карете или кабриолете. Лошади на скачках также принадлежали светским людям. Без аристократического покровительства спортивные состязания потеряли бы половину своего интереса и живописности и очень скоро выродились бы в оргии грубости и обмана, так как среди любителей спорта более низкого типа, окружавших ринг, было слишком много людей, подобных убийце Тортеллю.
Действительно, при том количестве денег, которое тратилось публикой на пари, для знатных патронов было трудно сделать скачки или состязания на ринге даже сравнительно честными. Без моральной юрисдикции фешенебельного Жокей-клуба скачки стали бы пользоваться слишком дурной репутацией, чтобы продолжать свое существование. Такая судьба действительно постигла бокс в начале царствования Виктории, потому что смешение состязания с продажей побед стало слишком обычным делом. Упадок бокса в дальнейшем был ускорен ростом гуманности и религиозности века, которые запрещали выставлять одно животное для сражения с другим и едва ли могли быть менее строгими, если дело касалось человека. Недавно возрожденный бокс, в несколько более мягкой форме, с применением смягченных перчаток, является более демократическим и в значительной мере американским и космополитичным. Он уже потерял характерные черты английского бокса тех времен, когда щедрый Георг был регентом и законодателем моды.
Если таков был наиболее популярный английский спорт, то легко можно себе представить, что обычно англичане часто прибегали во время ссор к кулачной расправе, как известно читателю «Лавенгро» и «Записок Пикквикского клуба». Действительно, молодой Диккенс в 1836 году едва ли смог бы нарисовать столь популярный характер, каким он хотел сделать Сэма Уэллера, не наделив его особым талантом сбивания с ног противника.
В XIX веке, когда растущие гуманность, евангелизм и респектабельность помогли постепенно уменьшить роль бокса в общественной жизни, они оказали еще большую услугу обществу уничтожением дуэли. В XVIII веке дуэль происходила на рапирах; в начале XIX века – на пистолетах, подобных тому, о котором Роудон Кроули говорил: «Именно таким я убил капитана Маркера». По мере того как дух века становился менее аристократичным и более буржуазным, менее воинственным, более гражданским и более «серьезно» религиозным, одним словом, более разумным, дуэли постепенно исчезали. Но ко времени билля о реформе перемены только еще начались. Государственные деятели еще ссорились и сражались с политическими оппонентами или соперниками. В 1829 году Веллингтон, тогда премьер-министр, будучи человеком старомодного воспитания, счел необходимым вызвать лорда Уинчилси на дуэль и выстрелить в него. Питт также обменялся выстрелами с Тирни, а Каннинг – о Каслреем; но в царствование Виктории изменившийся кодекс общественной морали удерживал премьер-министров и других джентльменов от отмщения за свою поруганную честь столь абсурдным способом.
Первые годы XIX века были кульминационным пунктом восхитительного популярного искусства «цветных гравюр». Они господствовали над умами и воображением века так же, как фотография и фильмы господствуют над нашими. Окна лавок были заполнены цветными карикатурами, остро политическими и клеветнически личными, сверкающими гением Гилрея [58]или не менее сильной по своему общественному воздействию комедией Роулендсона. Другой излюбленной темой, иллюстрируемой в более условном героическом стиле, были битвы на Пиренейском полуострове и инциденты из войн остальной Европы – снежные поля России, усеянные телами замерзших французов, или изображение наших кораблей, сражавшихся с врагом. Не столь захватывающие по сюжету и выполненные в более спокойных тонах прекрасные гравюры Эккермана изображали простое благородство Оксфордских и Кембриджских колледжей.
Но прежде всего цветные гравюры изображали всевозможные виды спорта на лоне природы – от охоты накрупного зверя в Индии и Африке до различных спортивных развлечений на открытом воздухе в Англии и путешествий по дорогам страны. Благодаря этим гравюрам из спортивной жизни, еще сохранившимся и часто воспроизводимым вновь, наше поколение хорошо знает быт прошедшей эпохи. Благодаря им нашему взору предстают различные сцены из жизни прошлого; вот суета во дворе гостиницы во время разъезда карет: молодой щеголь сидит на дорогостоящем месте позади кучера на козлах, за ним сидят неуклюжие деловые люди среднего возраста, хорошо укутанные, а позади всех – солдаты; следующая сцена происходит на открытой дороге – почтовые кареты, кабриолеты, двухколесные экипажи обгоняют друг друга на гладкой макадамовской мостовой; или же такая картина: путешественников задерживает наводнение или снег. Затем стрелки в цилиндрах, приближающиеся к куропаткам, которых их собаки обнаружили в жнивье; спаниели, выгоняющие фазанов из кустарника; отважные спортсмены, пробирающиеся через лед и снег за гусем, дикой уткой и лебедем. И, наконец, последняя – по счету, но не по своей привлекательности – картина: быстро мчащаяся свора гончих и охотники в красных куртках, которым сельская местность, недавно огороженная и осушенная, открывает своими новыми изгородями и водными каналами веселую перспективу бесчисленных «прыжков».
Спортивные развлечения на открытом воздухе в те дни не были роскошно обставлены. Тяжелые упражнения и спартанские привычки были условием всякой охоты. Увлечение спортом заставляло руководящих деятелей английского общества чаще бывать на свежем воздухе, прививало этим законодателям мод во всем – начиная от поэзии и кончая боксом – любовь к лесам, кустарникам и болотам и побуждало их отдавать предпочтение деревенской жизни перед городской, что редко можно было когда-либо встретить у законодателей мод любой страны.
Таким образом, страсть к охоте косвенно весьма способствовала улучшению нашей цивилизации. Но, к несчастью, она была связана с браконьерством и всевозможными неприятностями между соседями. Законодательство, касающееся дичи, было кастовым и эгоистичным не только в отношении бедных, но и в отношении каждого, кто не принадлежал к аристократическому меньшинству. Покупать или продавать кому-нибудь дичь не разрешалось, в результате чего цены, устанавливаемые профессиональными браконьерами, резко возрастали; также не разрешалось никому, кто не был сквайром или старшим сыном сквайра, убивать дичь даже в том случае, если он был приглашен на охоту владельцем этих мест. Этот обременительный закон мог быть, правда, обойден при помощи процесса, известного под названием «замещения» [59]. Он был уничтожен вигским законодательством в 1831 году, несмотря на оппозицию герцога Веллингтона, который был убежден, что эти чрезвычайные ограничения были единственным средством сохранить дичь в сельских местностях, так же как он полагал, что «гнилые местечки» были единственным средством для сохранения прежнего значения джентльменов в политике. В обоих случаях последующие события показали, что герцог был слишком пессимистичен.
По новому закону 1816 года коттер, который ловил зайца или кролика во владениях джентльмена, чтобы спасти от голода себя и свою семью, мог быть сослан на семь лет за океан, если его захватили ночью с силками. Конечно, подобной симпатии не могут вызвать у нас банды (иногда группами около 20 человек) вооруженных ружьями хулиганов из городов, проникавшие в заповедники и вступавшие в настоящую битву с джентльменами и лесничими, которые выходили им навстречу. Война с браконьерством стала весьма отвратительным занятием.
Одной из худших ее сторон была охрана фазаньих заповедников при помощи ловушек и западней, спрятанных в чаще, которые калечили и убивали невинных путников так же часто, как и браконьеров, для которых предназначались эти машины смерти. Английские судьи считали этот позорный обычай законным до тех пор, пока парламент не запретил его в 1827 году. Дух гуманности стал оказывать весьма сильное влияние даже на ревностных приверженцев сохранения дичи, в борьбе с которыми он одержал целый ряд побед, нашедших свое выражение в законах об охоте. По мере того как эти законы становились мягче и исполнялись более справедливо, сохранение дичи стало менее трудным, так же как и менее позорным.
Действительно, с каждым годом XIX века ослабевал антиякобинский дух, гуманность овладевала одной областью жизни за другой, смягчая грубый, а часто буквально зверский характер прошлого и воспитывая вместо этого радостное милосердие сердца, иногда впадающее в сентиментальность. Пророком этой новой фазы в настроениях масс, сильных и слабых ее сторон, неизбежно должен был стать Чарльз Диккенс, чувствительность и мужество которого были воспитаны суровой школой лондонских улиц двадцатых годов.
В течение этого десятилетия «кровавое законодательство» о смертных казнях за бесчисленные преступления было отменено под давлением присяжных, которые часто отказывались признавать человека виновным в воровстве, если он должен был быть за это повешен. Движение за уничтожение рабства негров возбудило пылкий народный энтузиазм, иногда чрезмерный в его чувствах к «темным братьям».
Эти перемены в чувствах были удивительным улучшением всех прошлых веков. По мере того как шли годы XVIII века, гуманность все больше и больше проникала во все сферы жизни, особенно в обращение с детьми. Прогресс в гуманности в значительно большей степени, чем восхваляемый прогресс механизации, был тем явлением, которым XIX век имел основание гордиться, так как в дурных руках машины могут уничтожить человечество.
Глава XVII Между двумя биллями о реформе ( 1832 – 1867 )
Промежуток времени между великим биллем о реформе 1832 года и концом XIX века может быть условно назван викторианской эпохой, но характеризуется он такими постоянными и быстрыми переменами в сфере экономической и культурной жизни, что мы не должны представлять себе эти семьдесят лет как что-то однородное только потому, что шестьдесят из них приходятся на правление королевы Виктории (1837-1901), Если и можно найти что-либо действительно общее для всей Викторианской эпохи в Англии, то его следует приписать двум главным обстоятельствам: первое из них заключалось в том, что в этот период не было ни значительной войны, ни боязни катастрофы извне; и второе – что в течение всего периода существовал интерес к религиозным вопросам и происходило быстрое развитие научной мысли и самодисциплинирования человеческой личности, явившегося результатом влияния пуританизма. Это развитие научной мысли оказало свое влияние даже на «агностиков», которые в конце периода по мере возрастания успеха дарвинизма и научных открытий оспаривали не этику, а догмы христианства. Кроме того, движение «высокоцерковников», порожденное евангелистами, увидело новый свет, унаследовало эту черту пуританизма. У. Гладстон, англо-католик такого типа, обращался к сердцам своих нонконформистских собратьев, потому что и он сам, и его слушатели рассматривали всю жизнь (включая внутреннюю и внешнюю политику) как сферу влияния своих личных религиозных убеждений.
В течение последних семидесяти лет XIX века государство быстро приобретало новые социальные функции, требуемые новыми промышленными условиями на перенаселенном острове; но действительная сила и счастье викторианской эпохи заключается не столько в этом обстоятельстве, хотя само по себе оно и было важно, сколько в самодисциплине и уверенности в себе рядового англичанина, вызванных, конечно, многими причинами, но в основном пуританскими традициями, которым продлили жизнь уэслианское и евангелическое движение. «Самопомощь» была любимым девизом влиятельных и типичных представителей всех классов. В XX же столетии самодисциплина и уверенность в себе являются менее заметными, и квазирелигиозное требование социального спасения через действия государства заняло место более старых и более личных систем религиозного мировоззрения. Наука подорвала старые формы религиозной веры, но даже теперь силу и слабость Англии невозможно понять без некоторого знания ее религиозной истории. В течение двадцати лет, прошедших между двумя мировыми войнами (1919-1939), эмансипированные потомки истово верующих викторианцев еще ожидали, что нравственные идеи, хотя уже меньше влиявшие наличное поведение, должны направлять нашу внешнюю политику и нашу политику разоружения, и не обращали должного внимания на действительное положение вещей у других европейских наций, которые никогда не были пуританскими и никогда не считали, что нравственность имеет что-нибудь общее с политикой.
В период войн с Наполеоном и в первое десятилетие последовавшего за ними мира евангелическое духовенство стало составной частью англиканской церкви, в которую оно внесло свое упорство, энергию и энтузиазм. Делом всей жизни Чарльза Симеона (1759-1836), члена Кингс-колледжа и священника церкви св. Троицы в Кембридже, было примирение прозелитского пыла евангелизма с дисциплиной церкви. Если бы не Симеон, евангелическое духовенство продолжало бы склоняться к диссидентству как более легкому способу осуществления своей миссии странствующих проповедников по образцу Уэсли, вторгаясь в пределы действия приходской системы и не обращая внимания на установленный там церковный порядок. Если бы это движение продолжалось и в новом столетии, англиканская церковь могла бы, может быть, погибнуть во время бури реформ, разразившейся в тридцатых годах. Но симеонитское духовенство, хотя и дружественное к диссидентам, эффективно защищало церковь, для возрождения влияния которой на души англичан оно так много сделало.
За исключением евангелизма, церковь осталась во время регентства [60]в основном такой же, какой была в первые годы царствования Георга III. Духовенство англиканской церкви, как и в XVIII столетии, еще резко делилось на богатых и бедных. Епископ, соборное духовенство и более богатые приходские священники были частью «наслаждающегося» класса; они достигли повышения не в качестве награды за церковную деятельность, а благодаря аристократическим связям или семейному покровительству. Приходы часто обслуживались небрежно или оставлялись на попечение малооплачиваемых младших приходских священников и жалких держателей бедных бенефициев, которые не входили в круг лиц, посещаемых обитателями господских домов и допускавшихся в общество леди. Все это было весьма свойственно XVIII столетию, когда «место» в церкви или на государственной службе рассматривалось не как высокое общественное доверие, а как желанная добыча. Но в новый век реформ общественное мнение начало требовать, чтобы человек выполнял ту работу, за которую он получает деньги. Ко всякому институту – от «гнилых местечек» до церковного бенефиция – подходили с грубым вопросом: «Какая от него польза?»
Кроме того, духовенство англиканской церкви было непопулярно, потому что оно придерживалось более стойко, чем какая-либо другая общественная группа или люди другой профессии, позиций партии крайних тори, находящейся в состоянии все большого упадка. Громадные отряды нонконформистов и свободомыслящих радикалов, хотя и мало любивших друг друга, объединились для нападения на церковные привилегии. Справедливое изображение священника,имевшего хорошие связи, как деревенского самодержца (автократа) этого периода можно позаимствовать у Дина Чёрча):
«В то время, когда из-за неразвитости средств сообщения поездки представителей власти в сельский приход были столь трудным делом и столь редким явлением, приходский священник занимал такое местов сельской жизни Англии, какое никто не мог занять. Часто он был патриархом своего прихода, его правителем, перед которым порок трепетал, а бунт не осмеливался проявляться. Представление о нем как о священнослужителе не совсем исчезло, но было много такого – даже хорошего и полезного, – что затемняло это представление».
Дин Чёрч также вспоминает «сельского джентльмена духовного сана, который ездил на охоту, стрелял, танцевал, обрабатывал землю и часто делал и худшие вещи», и плюралистов, которые сколачивали значительные состояния и обеспечивали семьи за счет церкви.
При таких общих условиях не удивительно, что радикальная пресса в памфлетах, статьях и грубых карикатурах на толстых, краснолицых пожирателей десятины атаковала англиканское духовенство более яростно, чем оно было атаковано когда-либо со времен Долгого парламента. Непопулярность духовенства достигла вершины в 1831 году, когда его представители, входящие в палату лордов, подали 21 голос против билля о реформе и только 2 голоса – за него. Той же зимой толпы сторонников реформы с особым восторгом забрасывали камнями карсты епископов и поджигали их дворцы.
Трепещущее духовенство и его ликующие враги предполагали, что первым делом реформированного парламента 1833 года будет заглаживание обид, причиненных диссидентам, и что очень скоро церковь будет отделена от государства и лишена его материальной помощи. «Никакими человеческими средствами нельзя, вероятно, отвратить угрожающее ниспровержение государственной англиканской церкви», – писал тори Соузи. «Церковь в ее теперешнем положении не может спасти никакая человеческая сила», – писал Арнольд Рэгби, либерал-консерватор. Но с тех пор прошло столетие, а государственная церковь, хотя и лишенная своего ирландского и уэльского отростков, по-прежнему получает поддержку государства и сохраняет свою связь с государством, едва ли еще оспариваемую кем-нибудь. Даже удовлетворение явно справедливых требований диссидентов произошло не в порядке штурма в первое же десятилетие после билля о реформе, а растянулось на пятьдесят лет.
Угрожавшая церковная революция была предотвращена, и главные причины непопулярности англиканской церкви были устранены. Парламент реформировал неравное распределение клерикального богатства, и началось быстрое оживление религиозной активности среди самого духовенства, которое вызвало объединение мирян для защиты церкви и участия в ее приходской деятельности.
Парламентские мероприятия, необходимые для церковной реформы, были проведены сообща лидером консерваторов Пилем и государственными деятелями – вигами. Сторонники нового оксфордского движения протестовали против вмешательства государства в церковные доходы, но не существовало никакого другого механизма для осуществления этих необходимых перемен, и более мудрые из сидевших на епископской скамье в палате лордов, такие, как Бломфилд, сотрудничали с представителями вигов и тори в церковной комиссии в составлении проектов парламентских законов, которые были приняты по совету комиссии между 1836 и 1840 годами.
Эти законы устранили худшие злоупотребления в распределении государственных пособий и отчасти заполнили наконец брешь между богатым и бедным духовенством – хотя и не вполне. Одновременное занимание нескольких должностей ограничивалось законом; членам капитулов запрещалось держать больше одного бенефиция или принадлежать больше чем к одному капитулу. Численность соборного духовенства и его богатство были уменьшены. Такими мерами было сэкономлено 130 тысяч фунтов в год, которые использовались для увеличения жалованья более бедным и младшим священникам. Границы епархий изменились, и были созданы епископства Манчестера и Рипона для нового промышленного населения севера. Огромное неравенство в епископских доходах было уничтожено и скандально крупные доходы сокращены.
Следствием этих реформ явилось то, что церковь больше не подвергалась нападкам как часть «прежней системы коррупции». Радикальные карикатуры перестали изображать епископов, деканов и пребендариев как жирных светских жадных людей, живущих за счет бедноты.
В то же самое время церковь под влиянием духа эпохи начала своей собственной деятельностью развивать средневековую приходскую систему. Создавались новые приходы и строились церкви в тех промышленных округах, где раньше свобода религиозной деятельности была предоставлена нонконформистам или где вообще не была развернута деятельность церкви. Епископ Бломфилд создал обширный денежный фонд для строительства церквей вне Лондона, поэтому больше не возникал вопрос о сооружении новых церквей из общественных фондов. Торийские парламенты в царствование Анны и вновь после Ватерлоо голосовали за введение новых налогов для строительства церквей. Но после 1832 года ни одно правительство не осмеливалось предложить введение нового налога на население для подобной цели.
Было трудно собирать средства для поддержания зданий даже существующих церквей путем принуждения прихожан уплачивать церковный налог, который уже второе поколение продолжал быть темой ожесточенных местных споров всюду, где были сильны диссиденты, особенно в промышленных районах севера. В Рочдейле в 1840 году, когда производилось голосование по вопросу о том, следует ли взимать церковный налог, страсти так разгорелись, что в город были посланы войска, чтобы поддержать порядок при помощи штыков.
Для дальнейшего развития и расширения своей деятельности церковь, следовательно, должна была рассчитывать на деньги, собранные по добровольной подписке, как всегда делала сектантская церковь. Содержание англиканских школ, являвшихся в то время основным элементом в системе первоначального образования в стране, также почти целиком зависело от добровольных сборов.
Вигское правительство также избавило церковь от величайшей непопулярности, связанной с системой десятины, которая с незапамятных времен вызывала вражду со стороны не только диссидентов, но и всего сельского общества. Десятина очень часто взималась с арендатора натурой: десятый молочный поросенок шел на стол священника; десятый сноп свозился в его амбар. Задолго до Реформации это было причиной трений и озлобления. Еще Чосер расхваливал доброго священника, который не «проклинал из-за своей десятины», то есть не отлучал от церкви упорных неплательщиков десятины.
Закон 1836 года прекратил уплату натурой. Десятина заменялась периодическими платежами за землю. С 1891 года их должен был уплачивать землевладелец, а не арендатор. Сквайры, которые социально и политически были близки к священникам, не так энергично сопротивлялись уплате десятины, как их арендаторы. Только в наши дни, когда после 1918 года многие фермеры купили обрабатываемые ими земли и, став землевладельцами, столкнулись с необходимостью уплачивать десятину непосредственно, поднялось новое волнение, приведшее к новым уступкам за счет церкви.
Другое бедствие было исправлено законом 1836 года о браке. По закону 1753 года, предложенному лордом Хардвиком, брак без участия англиканского священника не признавался законным, что было невыносимым оскорблением для религиозных чувств протестантских диссидентов и, особенно, для католиков. Закон 1836 года разрешал совершать в местах католического и протестантского богослужения религиозные церемонии, которые становились законными в присутствии гражданского чиновника-регистратора. Поэтому закон учредил институт гражданских чиновников ,называемых регистраторами рождений, смертей и браков. Сама по себе это была замечательная реформа, созвучная новой эпохе статистики и точной информации. Религиозный брак в англиканской церкви сохранялся в прежнем виде при условии, что священник посылает гражданскому чиновнику копию документа о вступлении в брак, составленного в ризнице. Этот типичный английский компромисс между современным светским государством и старым религиозным миром и до сих пор еще является законом страны.
Эти разнообразные реформы спасли церковь от серьезных атак на нее, которые предсказывались как ее друзьями, так и врагами. Тем не менее политические и социальные различия по-прежнему носили в большой мере религиозный характер. Влиятельные консерваторы в каждом городе и деревне обычно были пылкими англиканами, тогда как их наиболее активные противники, виги и либералы, были диссидентами или антиклерикалами. Мелкая буржуазия и трудящиеся классы посещали одни и те же церкви и занимались одной и гой же религиозной деятельностью. В XIX веке политические убеждения были в такой же степени вопросом религиозным, как и классовым. Религиозный раскол в обществе сохранился в значительной мере потому, что вигам после 1832 года не удалось удовлетворить требования диссидентов о церковных налогах, похоронах и допущении в Оксфорд и Кембридж.
В более старомодных частях Англии духовенство еще находилось под покровительством и влиянием высшего класса. Но в других ее районах многие священники обслуживали приходы, где было очень мало или совсем не было представителей высших слоев общества, что связано с географическим разделением классов, произведенным промышленным переворотом. Появился «священник трущоб», человек с идеями и функциями, отличными от тех, которыми обладал церковный властитель старой английской деревни.
Внутренняя сила церковной жизни в середине XIX столетия черпалась из различных источников. Обычный пастор, не принадлежащий к какой-либо особой школе мышления, знал, что в этот век критики он должен действовать энергично. Специфически евангелическое влияние было значительно шире распространено и более модно в церковных кругах, чем в первые годы столетия; «низкоцерковники», как теперь называли евангелистов, были достаточно сильны, чтобы принудить при помощи закона и обычая к более строгому соблюдению воскресенья, чем в предшествующий легкомысленный период. В то же время сторонники англо-католических идей, созревавших в Оксфорде в тридцатых и сороковых годах, постепенно распространили свои воззрения и практику по всей стране. В менее отдаленных графствах существовала также «либерально-церковная» школа Фредерика Денисона Мориса и Чарльза Кингсли, называемых «христианскими социалистами» вследствие их интереса к жизни и образованию трудящихся классов. Направление «либеральной церкви» никогда не имело большого числа сторонников, но их образ мыслей оказал влияние на многих более ортодоксальных священников, хотя сначала и их «ереси», и их «социализм» вызывали суровое порицание. Таким образом, церковь в Англии, после многих горячих споров и напрасных попыток изгнать обрядность или ересь, стала той многообразной корпорацией, к которой мы привыкли теперь, – корпорацией, либерально относящейся ко многим различиям вобразе жизни и мышления.
Тем временем нонконформистская сила продолжала возрастать в той же мере, в какой продолжали расти по своей численности, богатству, политической силе и социальному значению средний и трудящийся классы нового промышленного строя. В шестидесятых годах, когда Мэтью Арнольд подносил нельстивое зеркало к надменному лицу английского общества, его оксфордская душа чувствовала особое отвращение именно к нонконформистским «филистерам»; он видел в них типичных людей своего поколения, гордившихся древними английскими свободами и своим недавно приобретенным богатством, но имеющих очень слабое представление о социальных и духовных нуждах общества, которому не доставало «привлекательности и блеска». Многие из этих богатых промышленников, явившихся продуктом нового строя, присоединялись к более фешенебельной англиканской церкви и переходили в ряды высшего класса при помощи браков или благодаря своей напористости. Общество становилось смешанным.
Чудовищно возросшие богатства и производственная мощь Англии в первой половине правления Виктории и порожденные ими близнецы – новый средний класс, без всяких традиций, и необученный промышленный пролетариат – нуждались в соответствующем развитии образования, чтобы стать полезными и просвещенными. К несчастью, ни одно правительство до правительства Гладстона в 1870 году не осмелилось вызвать той битвы соперничающих сект, которая должна была возникнуть по любому предложению о государственном образовании, когда церковь и диссиденты, несомненно, напали бы друг на друга по вопросу о религиозном обучении. Все, что робкое государство рискнуло сделать, – это пожертвовать 20 тысяч фунтов в год на школьное строительство, проводимое различными добровольными обществами. Это строительство было начато в 1833 году, а затем скудные пожертвования ежегодно возобновляли. Для распределения этих пожертвований был учрежден комитет по образованию при Тайном совете с постоянным секретарем и системой инспекции школ, субсидируемых государством. Таково было скромное начало современного министерства просвещения. Требование государственной инспекции как непременного условия государственного субсидирования было принципом, предназначенным вскоре господствовать во многих областях жизни. Вслед за фабричными инспекторами, введенными фабричным законом 1833 года, появились школьные инспекторы, а вскоре и горные инспекторы. Государственная инспекция развивалась; наступало время, когда она должна была затронуть половину всех отраслей деятельности в стране.
Между тем истратить 20 тысяч фунтов в год на просвещение для самого богатого государства в мире было не так трудно. Прусское государство просвещало весь прусский народ. «Отечески заботливые» правители Германии в начале XIX века давали образование своим подданным, но отнюдь не стремились дать им политическую свободу и совершенно не допускали их участия в управлении страной. Английские государство давало простому народу большую политическую свободу и допускало некоторое участие народа в управлении, но просвещение его предоставляло частной религиозной благотворительности. Только после того как трудящиеся классы городов получили право представительства в парламенте по закону 1867 года о реформе, политики наконец сказали: «Мы должны дать образование нашим хозяевам [61]».
В то время как меры, предпринимаемые для начального образования масс, были недостаточными, среднее образование состоятельных классов переживало большой подъем благодаря развитию «системы общественных школ.
В начале столетия существовало три типа школ среднего образования: во-первых, фешенебельные «общественные школы» (в действительности частные), подобные школам в Итоне, Винчестере и Харроу, немногочисленные, с чисто классической программой обучения и скандально скверной дисциплиной; во-вторых, частные академии, в которых получали более серьезные и современные познания при лучшей дисциплине представители непривилегированной диссидентской средней буржуазии, и, наконец, поддерживаемые государством старые классические средние школы, многие из которых пришли в упадок из-за небрежности и продажности, характерных для общественных учреждений в XVIII веке.
С ростом силы и богатства Англии в новом столетии и возрастанием потребности во всякого рода руководителях как внутри страны, так и в ее далеких заморских владениях значительно расширение среднего образования было очень важным. Эта потребность была до некоторой степени удовлетворена, но неожиданным путем, который имел важные социальные последствия. Можно было предположить, что век реформы и приближения демократии приведет к улучшению и умножению субсидируемых государством средних школ благодаря деятельности государства; в этом случае обычное образование получали бы все способные дети из самых различных классов и с такими прекрасными результатами, как в классических школах времен Тюдоров и Стюартов. Но в Викторианскую эпоху классические школы имели меньшее значение, несмотря на некоторые поразительные исключения, как, например, в Манчестере. В то же самое время диссидентские академии, столь полезные в предыдущем столетии, пришли в упадок. Новой мерой были «общественные школы», построенные по типу старых школ в Итоне, Винчестере и Харроу; образцом их была школа в Рэгби.
Это развитие было отчасти обязано случаю – деятельности одного человека. Великим реформатором образования в тридцатых годах был Томас Арнольд, директор школы в Рэгби. Его забота о религии и отправлении церковных служб, его система, при которой старшие ученики наблюдали за поведением младших, его весьма успешные попытки уничтожить драки, пьянство, распутство и предельную недисциплинированность прежнего «зверинца», «общественной школы» подали пример, который оказался заразительным .Прежние учреждения были реформированы, другие впервые основаны. «Организованные игры и развлечения», значение которых сам Арнольд отнюдь не переоценивал, выросли самопроизвольно, господствуя сначала в жизни «общественной школы», а затем распространившись в свое время на Оксфорд и Кембридж.
«Среднее сословие общества» считало, что реформированная «общественная школа» дает возможность его сыновьям вступить в ряды правящего класса. Старое земельное дворянство, интеллигенция и новые промышленники воспитывались здесь вместе, образуя обширный слой аристократии, достаточно многочисленной, чтобы удовлетворить разнообразные потребности управления и руководства в викторианской Англии и викторианской империи.
Во многих отношениях «общественные школы» имели успех и отвечали требованиям времени. Но предметы, которые преподавались в этих школах, были слишком ограничены классикой, чтобы удовлетворить все требования новой эпохи, хотя они создали основу для высокого развития литературы в Оксфорде и Кембридже и вообще в Англии. В микрокосме жизни «общественной школы», в которой мальчикам предоставлялось формировать свое собственное общество и управлять им, характер значил больше, чем происхождение, и интеллект поощрялся меньше, чем стойкая верность школьника товарищам.
Дети из высших слоев общества, дети верхушки средних слоев и интеллигенции объединялись вместе в «общественных школах» и благодаря этому в дальнейшем отделялись от остальной нации, воспитанной при другой системе образования. Тенденция к социальной изоляции, увеличиваемая территориальным разграничением жилых кварталов жителей различных классов в больших современных городах, еще более подчеркивалась этой системой образования. Кроме того, расходы на «общественную школу», значительно более высокие, чем на обычную среднюю школу или школу для приходящих учеников, стали тяжелым бременем для мелкой буржуазии и интеллигенции. Действительно, в конце столетия это бремя стало главной причиной прискорбного сокращения количества детей в некоторых из лучших слоев общества.
Многие успехи и неудачи современной Англии связаны с «общественными школами». Они были одним из великих учреждений, бессознательно развиваемых английским инстинктом и характером, и успешное подражание им за границей было даже менее возможно, чем подражание парламенту.
В середине столетия среднее образование девочек было поставлено очень плохо. Они были вынуждены расплачиваться за дорогостоящее образование своих братьев. В этом и в других вопросах, касающихся женщин, великая эмансипация и улучшение положения были отложены до последнего тридцатилетия правления Виктории – действительного периода «эмансипации женщин» в Англии.
Все же, несмотря на дерзкие и спорные высказывания Мэтью Арнольда о «варварском» высшем классе и «филистерской» мелкой буржуазии, сам он был пророком и поэтом того века, который бранил, и, несмотря на его прозрение к нашей системе среднего образования как «наихудшей в мире», остается фактом, что более высокая культура Англии XIX века была разнообразной, глубокой и распространялась на значительную часть общества. Вероятно, мир не увидит вновь такой превосходной и широкой культуры в течение многих последующих столетий.
Уже в середине XIX века промышленные перемены создали ту массовую вульгарность, которой вскоре предстояло потопить эту высокую литературную культуру в болоте новой журналистики, упадка деревни и механизации жизни. Естественно-научное образование, когда оно наконец получило широкое развитие, неизбежно вытеснило гуманизм. Но в середине XIX столетия образование было еще гуманитарным, а не естественно-научным, и, хотя это причиняло серьезный практический ущерб, такое образование создало на время великую литературную цивилизацию, основанную на широкой образованности, с более широким кругом интеллигентных читателей, чем в XVIII веке, и значительно более разнообразную и всеобъемлющую в области стиля и содержания, чем в дни, когда образцами вкуса были Буало и Поуп. В области литературы и мышления, так же как к обществе и политике, это был век перехода от аристократии к демократии, от авторитета к массовому суждению; для литературы и мышления такие условия, пока они продолжались, были благоприятными.
Серьезные исторические труды предназначались для очень широкой публики и достигали своей цели. Это относится не только к одному Маколею.Атмосфера свободных религиозных споров, размышлений о морали, взволнованность и почтительные сомнения в ортодоксальных верованиях и поиски их замены возбудили интерес, дали материал писателям с большим творческим воображением, таким, как Карлейль, Раскин и Теннисон, и придали Вордсворту в старости большую популярность, чем та, которой Байрон стал пользоваться после смерти. В то же время критический анализ настоящего общества, которое считали имеющим недостатки, но исправимым, помогал воодушевлять и популяризировать произведения Диккенса, Теккерея, Э. Гаскелл и Троллопа. Джон Стюарт Милль в своих сочинениях «О свободе» (1859) и «Подчиненное положение женщин» (1869) нападает на зависимость от установившихся обычаев и провозглашает права каждого мужчины и каждой женщины на свободу жизни и мышления, что до известной степени может считаться поворотным пунктом между ранним и поздним викторианским периодом.
Та сторона науки, которая ближе всего к гуманизму, – близость и любовь к природе – была другим источником вдохновения современной литературы и другой причиной ее большой притягательной силы. В конце XVIII века путь к этому был подготовлен Уайтом Селборном, Бьюиком и другими натуралистами, профессионалами и любителями, которые научили своих земляков наблюдать и почитать мир природы, в котором человек имел счастливую возможность жить. На рубеже века эта распространившаяся привычка нашла свое дальнейшее выражение в пейзажах Гёртина, Тэрнера и Констебля и в поэзии Вордсворта и Китса. В следующем поколении, в тридцатых, сороковых и пятидесятых годах, к списку талантливых пейзажистов прибавились имена де Уинта, Дэвида Кокса, Эдуарда Лира и многих других. В поэзии царствование Теннисона продолжалось почти всю Викторианскую эпоху. Его особая привлекательность заключалась в силе, красоте и точности описания им природы.
Правда, Теннисон в лучших своих произведениях был способен точные описания явлений природы окутать «светом, которого никогда не было на море или на земле». Это вызывало одобрение викторианцев, которые были чувствительны и к волшебным чарам слов, и к привлекательности природы. Более точные картины, создаваемые поэзией Теннисона, сменили неясные описания природы во «Временах года» Томсона, которые до появления Теннисона пользовались любовью мелкобуржуазной читающей публики.
Весьма сходным был и источник влияния Раскина на ту же самую читающую публику. В своем сочинении «Современные художники» он анализировал в прозе яркую и великолепную красоту облаков, гор и растений – творений Бога, созданных для того, чтобы повсеместно вызвать восторг человека. Он, возможно, ошибался, оценивая достоинства картин в зависимости от степени их приближения к истине в этомотношении, но он заставил своих земляков по-новому смотреть на Альпы и Италию во время их путешествий и на знакомые леса и поля во время прогулок.
Европа, жившая тогда еще относительно мирной жизнью и полная пестрой красоты, еще не механизированная и не закрытая для нас из-за войны или национальной ненависти, была местом для развлекательных путешествий англичан, которые тысячами отправлялись за границу, чтобы истратить свои вновь приобретенные богатства, исследуя горы и усеянные цветами луга Швейцарии, архитектуру, галереи и пейзажи Нидерландов, Италии и Франции. Английский путешественник этого периода приезжал за границу, имея некоторые знания по истории, литературе и естественным наукам, для того чтобы наблюдать и оценить великолепие мира природы и человека.
В то же самое время новая железнодорожная система Британии открыла Горную область Шотландии для тех пешеходов и туристов, которые стремились к горному воздуху и красивым пейзажам. Более богатые и привилегированные англичане имели свои оленьи заповедники и участки для охоты на куропаток, где они каждую осень принимали гостей. Охотничьи экспедиции королевы и принца Альберта из Бэлморела и олень, которого принц убил, а Лендсир нарисовал, популяризировали пейзаж Горной области среди англичан всех классов, которые теперь смогли сами увидеть ландшафты шотландских романов.
Таким образом, в середине столетия подданные Виктории стали замечать всевозможные красоты природы и проявили интерес к истории. Они наслаждались прекрасной литературой, читая классиков прошлого и воспитывая современных классиков. Но наши деды и прадеды, хотя и объездили кругом море и сушу, чтобы восхититься римскими акведуками и готическими соборами, сами создавали жалкие строения и наполняли их соответствующей мебелью и безделушками. Упадок вкуса в этом отношении за время между периодом регентства и периодом соправления принца-консорта Альберта – супруга королевы Виктории [1837-1861] – был удивительным. Наиболее утонченные и образованные люди были в этом отношении не лучше других; уродливость архитектурных произведений, воздвигнутых по приказу профессоров оксфордских и кембриджских колледжей, ежедневно причиняет страдания потомкам.
Мрачным обычаем этого времени было разрушение прекрасных помещичьих домов разумно умеренного размера для того, чтобы освободить место для безобразных сельских дворцов, в которых богачи этого периода наибольшего преуспеяния Британии принимали толпы гостей из Лондона. Их потомки, имеющие лучший архитектурный вкус и меньше денег в банке, могут с полным основанием сожалеть об этом бремени, завещанном им.
Нелегко объяснить это архитектурное ослепление викторианцев. Но подлинная тайна архитектуры – пропорция – была утеряна. Упрекать в этом следует промышленный переворот: механизация строительной и других профессий и упадок ремесла, несомненно, явились глубокими причинами этого. Местные архитектурные обычаи, основанные на употреблении местных материалов, были разрушены железными дорогами, которые доставляли стандартизированные дешевые кирпичи и шиферные плитки, чтобы заменить ими местный камень, кафель, солому и тонкий кирпич, которые предшествующие поколения сельских жителей умели употреблять благодаря унаследованному искусству и местным традициям. Но теперь строительство повсюду стало процессом дешевого массового производства домов современными методами. Новая мебель машинного производства была также плоха. Роскошные обитые кресла, может быть, более комфортабельны, новые дома, может быть, более удобны, но красота расправила крылья и улетела прочь.
В сороковых, пятидесятых и шестидесятых годах живописи» еще была великим ремеслом, удовлетворяющим большой спрос. Фотограф еще недостаточно развил свою технику, чтобы заменить искусство художника в создании семейных портретов, копий знаменитых картин и воспроизведений старинных зданий и излюбленных пейзажей. В Риме и в каждой художественной столице Европы существовала армия художников, хороших и плохих, рисующихпейзажи и копирующих «старых мастеров», чтобы продавать эти картины путешествующим англичанам, которые увозили с собой эти сувениры. Выражаясь коммерческим языком,дела Королевской академии процветали, так как она снабжала преуспевающих промышленников портретами, пейзажами и историческими картинами, чтобы украсить обширные стены их комфортабельных, претенциозных домов.
Те же самые опасности от сочетания религиозных и социальных сил, которые в годы, непосредственно предшествующие биллю о реформе, угрожали духовенству англиканской церкви, угрожали также старым муниципальным корпорациям, с которыми соединялись интересы церкви. Но в отличие от церкви старые корпораций были так же неспособны к оздоровлению или самореформированию, как и парламентские «гнилые местечки», с которыми их судьба была тесно связана. Три года спустя после гибели «гнилых местечек» законом 1835 года о муниципальной реформе было уничтожено и гнилое городское управление.
Эта важная мера имела большое значение для социальной жизни городов благодаря непосредственному переходу власти к новому классу, а это значило много больше, чем можно было тогда предвидеть, так как было основой, на которой в течение следующего столетия должно было подняться великое здание муниципального социального служения на пользу всех классов общества, особенно бедноты. Никто в 1835 году не предвидел дня, когда «новые муниципалитеты» будут не только освещать и мостить улицы, но и контролировать строительство домов, санитарное состояние города и здравоохранение населения; перевозить рабочих на работу и с работы; создавать общественные библиотеки; руководить обширной муниципальной торговлей и промышленностью и, наконец, заниматься просвещением народа.
Непосредственной переменой, взволновавшей современников, был переход муниципальной власти к представителям диссидентов и лавочников, пришедшим на смену олигархии торийских юристов, священников и агентов знати, которые пользовались монополией в старых корпорациях. В городских правителях нового стиля было мало «привлекательности и блеска», но они имели некоторую силу и были склонны вводить «улучшения», а то, что они периодически избирались на основе действительной демократии, поддерживало их на должной высоте в тех вопросах, к которым сами избиратели чувствовали какой-нибудь интерес. Ограничение парламентского представительства «десятифунтовыми съемщиками домов» [62]в билле о реформе 1832 года не нашло подражания в более радикальном билле о муниципальной реформе, который предоставил право голоса при избрании местных властей всем налогоплательщикам. Трудящийся класс получил наконец право голоса на местных выборах в новых городках. Административное управление городами перешло, таким образом, в руки совершенно новых людей.
Билль о реформе 1832 года и его продолжение – билль о муниципальной реформе 1835 года, взятые вместе, подчеркнули и увеличили ту дифференциацию между социальной жизнью города и деревни, которую экономические силы делали с каждым днем все более полной. В Англии времен Виктории существовали две резко противоположные социальные системы – аристократическая Англия сельских районов и демократическая Англия больших городов. В небольших городках и торговых центрах графств власть – административная и судебная – по-прежнему оставалась в руках сельских джентльменов, которым подчинялись там все классы. Но большие города управлялись людьми совершенно иного типа в соответствии с совершенно иным мерилом общественной ценности, которое было по преимуществу демократическим.
Благодаря экономическим причинам и развитию транспорта новое общество города постепенно вторгалось в старое общество сельской местности, пока в XX веке городские мысли, идеи и управление не подчинили сельскую местность. Это был долгий процесс, и XIX век явился переходной эпохой. Сельское хозяйство не было сразу разрушено отменой хлебных законов в 1846 году, и аристократическое правление деревень и маленьких городков не было уничтожено этой мерой. До тех пор пока в следующих поколениях американские прерии не получили возможности выбрасывать на английские рынки свое зерно и скот, до тех пор английское земледелие процветало, поддерживая ту социальную систему, с которой было связано.
Земледелие, однако, не могло безгранично расширяться; к середине столетия оно достигло наивысшего развития, и пространство пахотной земли уже не могло быть увеличено. Но промышленный и торговый переворот тогда только еще набирал полную силу, и рост городского богатства и населения увеличивался с каждым десятилетием. Перепись 1851 года показала, что уже половина населения острова была городской, что создалась ситуация, которая, вероятно, не существовала прежде ни в одной крупной стране, ни в один из периодов мировой истории.
Новые городские условия, в которых уже в 1851 году жила столь значительная часть английского народа, начали наконец привлекать внимание и требовать исправления. Прежняя жизнь открытой сельской местности, продуваемой свежим ветром, меньше нуждалась в контроле за жилищным строительством и санитарным состоянием: как ни были плохи деревенские домишки, смертность в деревне была ниже, чем в городе. Но благодаря увеличению доли городских жителей быстрое падение смертности, которое так счастливо отличало период 1780-1810 годов, несомненно, прекратилось между 1810 и 1850 годами. Если взять остров вцелом, то смертность не достигала уже вновь той высоты, на которой она была в начале XVIII столетия, но она перестала уменьшаться, несмотря на постоянное улучшение медицинского обслуживания и науки. Главной причиной был рост пространства, покрытого фабрично-заводскими трущобами, и их прогрессирующее с каждым годом ухудшение.
В вопросе охраны общественного здоровья в сороковых годах еще ничего не было сделано для контролянад хозяевами трущоб и недобросовестными подрядчиками, которые, согласно преобладающей философии laissez-faire, якобы содействовали из эгоистических побуждений наступлению всеобщего счастья. Эти пионеры «прогресса» экономили пространство, набивая семьи в одну квартиру или вталкивая их под землю, в погреба, и экономили деньги, употребляя дешевый и скверный строительный материал, не обеспечивая дома сточными трубами или, еще хуже, устанавливая такие трубы, из которых жидкость просачивалась в водоемы. В Лондоне Энтони Шефтсбери обнаружил комнату, в каждом из четырех углов которой жила семья, и другую комнату, в которой непосредственно под ее дощатым полом была выгребная яма. Мы можем даже считать счастливым то обстоятельство, что впервые в год билля о реформе, а затем и в 1848 году в Англии появилась холера, потому что сенсационный характер этого нового бедствия напугал общество и показал, что оно запоздало с мерами санитарной самозащиты.
Первый закон об охране общественного здоровья датируется 1848 годом. Причиной его появления была холера и усилия Эдвина Чэдвика, который, как один из членов комиссии по контролю за соблюдением закона о бедных, ясно представлял себе фактическое положение дел.
«Тюрьмы, – писал он, – прежде отличались омерзительной грязью и плохой вентиляцией; даже в принадлежащем перу Говарда описании худших тюрем, которые он посещал в Англии (и которые, как он утверждает, принадлежали к числу худших из всех виденных в Европе), дана более приятная картина, чем та, которую можно увидеть в каждом переулке Эдинбурга и Глазго, которые обследовали мы с доктором Арноттом. Среди живущего в подвалах рабочего люда Ливерпуля, Манчестера или Лидса и значительной части Лондона можно встретить еще более жуткую грязь, еще худшие физические страдания и еще большую нравственную распущенность, чем те, которые описывает Говард».
Но закон 1848 года об охране общественного здоровья, главным принципом которого было скорее позволение, чем принуждение действовать, не был как следует доведен до конца муниципалитетами в течение следующих двадцати лет. Только в семидесятых годах учреждение департамента местного самоуправления, который должен был принудить к соблюдению закона, и избрание на пост мэра Бирмингема Джорджа Чемберлена, занимавшегося социальными реформами, возвестили наступление новой эры. Только тогда тот факт, что муниципалитеты были выборными корпорациями, принес наконец реальные крупные выгоды для общества. До семидесятых годов не проводилось строительных и санитарных реформ, результатом которых явилось бы решительное падение смертности, и до конца столетия санитарное состояние английских городов вообще не было таким, каким ему следовало бы быть.
Но даже в середине столетия делались некоторые улучшения. Шефтсбери при помощи добровольных сборов учредил несколько образцовых домов с квартирами, сдающимися внаем, и то, что среди их жильцов не было заболеваний холерой, убедило парламент провести в 1851 году закон обинспекции обычных домов; в то же самое время был наконец отменен налог на окна этот старый враг здоровья и света. В том году, когда Всемирная выставка распростерла свою гостеприимную стеклянную крышу над вязами Гайд-парка и весь мир приходил восхищаться богатством, прогрессом и просвещением Англии, полезно было бы сделать «выставку» тех жилищ, в которых ютилась наша беднота, чтобы показать восхищенным иностранным посетителям некоторые из опасностей, которые преграждали путь столь громко восхваляемой новой эпохе. Чужеземные трущобы, правда, были вомногом столь же плохими или даже еще худшими, но зато значительно меньшая часть населения континентальных государств была лишена целебного влияния сельской местности.
Если в деле охраны общественного здоровья было еще явное отставание, то общественный порядок был уже обеспечен. Введенный Робертом Пилем знаменитый институт гражданской полиции с дубинками, синими мундирами и цилиндрами, позднее замененными касками, стал применяться в столице в 1829 году. Народ, любивший свободу, собственность и личную безопасность, полюбил добродушных и деятельных «бобби» Лондона и требовал повсеместного внедрения института полиции. К 1856 году каждое графство и каждый город могли использовать полицейскую силу которая в финансовом и административном отношениях была наполовину местной, наполовину общегосударственной. Для бездействующих стражей ушли навсегда; личность и собственность охранялись наконец без какого-либо ущемления свободы населения, и на стихийных уличных сборищах и митингах обеспечивался полный порядок и спокойствие причем без вызова вооруженной силы, как это случилось в Питерлоо.
Период между двумя первыми биллями о реформе (1832-1867) был «веком угля и железа», полностью вступившим теперь в свои права, или, другими словами, это был «железнодорожный век».
Железные дороги были даром Англии миру. Первым толчком для их строительства послужили опыты по улучшению перевозки из шахт угля, в огромных количествах требуемого для выплавки железа, для промышленных предприятий и домашнего потребления. В двадцатых годах XIX века еще существовало много споров о том, каким образом лучше перевозить уголь по деревянным или железным рельсам: при помощи лошадей, при помощи стационарного двигателя или при помощи «локомотива» Джорджа Стефенсона. Триумф последнего открыл неожиданные перспективы использования его не только для перевозки различных товаров, но и для широкого внедрения нового способа пассажирского сообщения. Не только каналы, но и почтовые кареты были обречены на гибель. Короткие местные железнодорожные линии, проложенные в отдельных угольных районах, множились и росли, и в тридцатых и сороковых годах в результате роста железнодорожных капиталовложений и спекуляций, имевшего место в течение двух раздельных периодов – в 1836-1837 и в 1844-1848 годах, – весь остров был покрыт сетью железных дорог.
В тридцатых годах среди организаторов строительства железных дорог и вкладчиков капитала было много диссидентов и, особенно, квакеров центральных графств и севера “ Пизы, Кропперы, Стэрджи. Первое «Расписание железной дороги Брэдшоу» было издано в 1839 году квакерами; до XX столетия наружная обложка «Брэдшоу» еще носила квакерские названия месяца – «первый месяц» вместо января и т. д.
В сороковых годах при менее добросовестном руководстве Джорджа Хадсона, «железнодорожного короля», широкая публика также бросилась очертя голову в омут спекуляции, зараженная «железнодорожной манией», и потеряла много денег в фиктивных и неудачных компаниях. В сочинении Теккерея «Дневник Джимса де ля Плюш» юмористически описывается бурный успех одного такого спекулянта и затем его крах. Но в целом, в результате этой спекулятивной лихорадки, хотя менее искушенные вкладчики и были одурачены, появилось значительное количество новых линий. Хадсон не был просто мошенником: он оставил след на лице всей Англии. В 1843 году в Великобритании было около 3 тысяч километров железных дорог, а в 1848 году протяженность их составляла 8 тысяч километров.
С этих пор нормальным способом транспортировки тяжелых товаров и обычным способом дальних путешествий стала железная дорога. Каналы после полувекового процветания и общественного служения по большей части разрушились, а многие из них были скуплены местными железнодорожными компаниями, которые и возникли именно с намерением вытеснить каналы. В это же время проезжие дороги перестали быть главными жизненными артериями нации. Почтовые гостиницы и форейторы исчезли, а с ними исчезли и почтовые, а также тяжелые семейные кареты, а которых разъезжали аристократические семейства. На улицах столицы господствовали удобное ландо, легкая «виктория», изящный двухколесный кеб (названный Дизраэли «гондолой Лондона»), простой четырехколесный кеб и демократический омнибус. В сельской местности это был век кабриолета, четырехколесного шарабана, двухколесного экипажа, запряженного пони, и двухколесного экипажа с поперечными сиденьями. Конный транспорт как для пассажирских, так и для товарных перевозок стал играть подчиненную роль по отношению к железнодорожному и процветал в зависимости от него. Железные дороги существовали не везде, и в некоторых случаях было необходимо «добираться до станции». Число проселочных дорог и объем перевозок на них продолжали возрастать, качество дорог повышалось. Но длинные путешествия по дорогам уже не совершались, и большие шоссейные дороги были относительно пустынны до тех пор, пока не появился автомобиль.
Развитие электрического телеграфа происходило почти одновременно с переменами в средствах передвижения и возникло как дополнение новой железнодорожной системы. К 1848 году около 3 тысяч километров железных дорог, что составляло треть всей их протяженности, было уже снабжено телеграфными проводами. Электрическая телеграфная компания, образованная в 1846 году, к 1854 году имела в Лондоне семнадцать контор, из которых восемь находились на южных железнодорожных станциях. Уже в 1847 году переговоры о выдвижении кандидатуры принца Альберта на пост канцлера университета даже такими старомодными людьми, как профессора Кембриджа, частично велись по телеграфу.
Те же самые десятилетия, которые видели быстрый рост железнодорожной сети и электрического телеграфа, увидели и триумф однопенсовой системы оплаты почтовых отправлений, учрежденной благодаря бескорыстным и неутомимым усилиям Роуланда Хилла, поддержанным требованием народа вопреки равнодушию государственных деятелей и обструкции раздраженных чиновников нереформированной гражданской службы. До этой крупной перемены бедняк, который передвигался в поисках работы в пределах острова или эмигрировал за море, редко мог обмениваться известиями с родственниками и друзьями, оставленными на родине, из-за высокой стоимости почтовой связи. План Роуланда Хилла о предварительной оплате почтовых отправлений при помощи дешевого наклеенного ярлыка позволил беднякам впервые в истории человечества общаться со своими родными и близкими, живущими в далеких местах. И так как деловой мир нашел, что почтовая марка является благодеянием, и она доказала свою большую финансовую выгодность, после того как была навязана косному почтовому департаменту, то новому способу скоро стали подражать во всех цивилизованных странах мира.
За быстрым ростом железных дорог на острове в сороковых годах последовала замена парусов паровыми машинами и дерева железом в британском торговом флоте. Еще в 1847 году паши пароходы были немногочисленны и малы, с общим тоннажем 116 тысяч из 3 миллионов тонн всего торгового флота. Но в пятидесятых и шестидесятых годах все большее количество крупных океанских кораблей приводилось в движение паром и были построены первые корабли из железа, а затем и из стали. Эта перемена совпала с колоссальным развитием производства английского железа и стали и с возросшим использованием пара и металла во всех отраслях промышленности. В 1848 году Британия уже производила около половины всех чугунных болванок, выплавляемых в мире; в следующие тридцать лет ее производительность утроилась. Западная Шотландия, до этого отсталая, вскоре производила четверть всего британского чугуна. Стаффордшир, Уэльс и Северо-Восточная Англия (Тайн-сайд и Мидлебро) также были районами деятельности известных железоделательных промышленников, которые, используя научные открытия, сохранили свою ведущую роль и в век стали.
Богатство, накопленное в середине Викторианской эпохи благодаря всем этим процессам, значительно ослабило гнет социальных проблем, повысив реальный заработок большей части трудящегося класса, в то время как деятельность тред-юнионов и кооперативное движение помогали распределять огромный национальный доход несколько более равномерно.
Национальный доход действительно был огромен. Открытие калифорнийского и австралийского золота положило началоважному периоду распространения торговли, из которого Англия благодаря своему ведущему положению и в торговле и в промышленности могла извлечь в середине столетия главную выгоду. В 1870 году объем внешней торговли Соединенного королевства превысил торговлю Франции, Германии и Италии, вместе взятых, и был в три-четыре раза выше объема торговли Соединенных Штатов Америки.
В то время как промышленное и торговое развитие шло вперед революционным ходом, британское земледелие также продолжало свое неторопливое движение по пути прогресса, чему способствовало изобилие капиталов и увеличение применения машин в земледельческих работах. Отмена хлебных законов в 1846 году упрочила цены, но не помешала сельскохозяйственному процветанию следующего поколения, потому что Америка еще не была готова снабжать Англию сельскохозяйственными продуктами. В 1851 году подсчитали, что только одна четверть хлеба привозилась для англичан из-за моря.
Отмена хлебного закона была политическим триумфом; она, конечно, способствовала развитию промышленности, но не произвела непосредственной экономической или социальной революции. Сельские местности еще находились в руках лендлордов и их представителей и союзников фермеров-арендаторов, чьи дела шли в шестидесятых годах значительно лучше, чем в предшествующий период. Жизнь сельского дома с его охотой, политическими и литературными «домашними собраниями» была более процветающей, легкой и приятной, чем когда-либо, хотя его нравственные нормы были более «респектабельны», чем во времена аристократической распущенности XVIII века. В сельских областях еще не было выборного местного управления.
Административная и судебная власть все еще оставалась у мировых судей, выбираемых из среды лендлордов. Все еще преобладала установившаяся с незапамятных времен административная власть сквайра, хотя благодаря газетам и духу века она теперь подчинялась более здоровой действенной критике, чем в начале Ганноверского периода.
С развитием транспорта, постоянно сокращающим расстояние между городом и деревней, с распространением науки и машин даже на земледельческие процессы теперь на маленьком острове с плотным городским населением, которое уже потеряло все традиции сельской жизни, проникновение городского образа мысли и действий в деревню и поглощение им старого деревенского мира, исчезновение отличительных черт и местных различий последнего было только вопросом времени. Но тогда время для такого поглощения еще не наступило. В шестидесятых годах еще не хватало двух обстоятельств для того, чтобы завершить эту перемену, – экономического разрушения британского земледелия и городской системы всеобщего образования.
К моменту вступления Виктории на трон система «крупных поместий» уже прочно утвердилась. Со времени последних Стюартов все больше и больше земли переходило от мелких сквайров и земледельцев в собственность крупных лендлордов, в круг которых постоянно вторгались при помощи брачных союзов, путем покупки обширных имений и постройки новых «сельских особняков» люди, только что сколотившие себе богатство в городе. Мелкие сквайры исчезали, их особняки превращались в фермы; обычным явлением стали крупные и средние поместья.
Из того, что поместья были крупными, вовсе не следует, что пропорционально увеличился и размер ферм. Правда, в среднем они были больше, чем прежде. Но еще весьма обычной была ферма такого размера, которую могла обрабатывать одна семья без наемного труда. И действительно, такие фермы являются весьма многочисленными даже сегодня, особенно в пастушеских районах севера, тем более что машины сокращали количество требуемых рабочих рук.
Страна была еще далека от упадка земледелия в течение двух десятилетий, последовавших за отменой хлебных законов в 1846 году, и общая площадь огораживаемой и возделываемой земли неуклонно возрастала. Население острова, которое еще вынуждено было питаться главным образом местными продуктами, постоянно увеличивалось. Открытие новых месторождений золота в пятидесятых годах привело к резкому повышению цен. В шестидесятых годах, в то время как в Европе и Америке свирепствовала война, в Англии был мир. Еще продолжался прогресс скотоводства. Улучшение системы осушки и удобрения почвы; постепенное введение в одном графстве за другим, в одной деревне за другой машин для пахоты, жатвы, молотьбы; деятельность Королевского земледельческого общества; вложение капиталов в землю и энтузиазм крупных лендлордов, гордившихся улучшениями, сделанными ими в своих поместьях, – все эти обстоятельства привели к увеличению площади пахотных земель в Англии времен лорда Пальмерстона.
К началу царствования Виктории огораживание «открытых полей» и в связи с этим конец «лоскутной» системы земледелия были уже свершившимся фактом, за исключением немногих разбросанных полос – последних остатков прежней системы. Но огораживание общинных земель еще не было завершено и продолжало быстро развиваться, ускоряемое законом 1845 года об общем огораживании.
Движение за огораживание общинной земли, в течение многих прошедших столетий являвшееся источником споров и жалоб, так же как и средством значительного увеличения продуктивности острова, приостановилось наконец в десятилетие между 1865 и 1875 годами. Характерной чертой изменившегося равновесия общества было то, что огораживание общинных земель окончательно прекратилось из-за протестов не крестьянства, а городского населения, которое выступало против изъятия его праздничных площадок для игр и сельских мест отдыха. Общество сохранения общинных земель эффективно противилось уничтожению оставшихся общинных земель – номинально и юридически в интересах исчезающих «общинников» деревни, а в действительности в интересах широкой публики, искавшей «воздуха и упражнений». Огораживания сделали в Англии свое дело, и больше им нечего было делать.
Процветающее земледелие шестидесятых годов XVIII века было еще очень разнообразно по своим методам – от полностью механизированной и по-научному поставленной обработки земли на фермах шотландского графства Лотиан до полей Суссекса, где в плуг еще запрягали быков. Было особенно легко подчинить современной научной и механической обработке те земельные владения, которые были образованы в течение двух последних столетий путем огораживания открытых полей, овечьих пастбищ и болот и превращены в обширные прямоугольные поля, как, например, это было в Кембриджшире. Земли запада и юго-востока, где огораживание существовало с незапамятных времен, еще были разрезаны изгородями на мелкие поля неправильной формы, которые препятствовали эффективности земледелия. Но почти в каждом графстве существовало большое разнообразие методов, что вызывалось различием почв или отличием в экономических и социальных условиях прошлого.
Положение сельскохозяйственного рабочего, особенно на юге, было часто очень скверным в тридцатых и «голодных» сороковых годах, когда даже фермер, который его нанимал, переживал тяжелые времена. На «трудящихся бедняков», в поле или на фабрике, лег тяжелый гнет нового закона 1834 года о бедных, когда была отменена выдача пособия беднякам, не живущим в работных домах, и «испытание работного дома» стало обязательным для просителей общественной милостыни. Такова была безжалостная утилитаристская логика членов Комитета по контролю за соблюдением закона о бедных, которым закон дал власть. Это было жестокое лекарство от ужасной болезни; спинхэмлендская политика сбора с трудящихся налога в пользу бедных, используемого для выдачи пособий низкооплачиваемым, ставила даже имеющего работу рабочего в положение нищего и держала оплату на низком уровне; более того, теперь эта система разоряла и налогоплательщиков. Операция была необходима, чтобы спасти общество, но хирургический нож применяли без анестезии. Необходимость сделать жизнь в работных домах менее привлекательной, чем работа в поле или на фабрике, была главным принципом, на основе которого действовали члены комитета, а так как в этот период они не могли увеличить привлекательность работы по найму при помощи установления минимума заработной платы, то чувствовали себя обязанными сделать и без того не очень счастливую жизнь в работных домах еще более скверной. Кроме того, занявшись проблемой взрослых рабочих, комитет смотрел сквозь пальцы на то, насколько справедливо обращаются здесь со стариками, детьми и инвалидами и проявляется ли та забота о них, которую они во всяком случае заслужили.
«Оливер Твист» Диккенса был нападением на порядок, существующий в работном доме, и эта критика нашла отклик в широких массах, ставших более отзывчивыми в Викторианскую эпоху. Трудящийся класс города и деревни рассматривал новый закон о бедных как ненавистную тиранию. Национальный и централизованный характер, который придали первые члены комитета закону о бедных, помог осуществить много улучшений, подсказанных позднее филантропией, которая постепенно стала более гуманной, так как стала более опытной и научной. Несовершенный и жестокий, каким он был в 1834 году, закон о бедных как таковой был внутренне честен и содержал в себе семена своей собственной реформы.
Система, воздвигнутая для нового закона о бедных, основывалась не на принципах laissez-faire, а на противоположной теории. Это было сочетание избирательного и бюрократического принципов, отстаиваемых в «Конституционном кодексе» Бентама. Три правительственных комиссара (чиновники, представляющие центральное правительство) должны были сформулировать правила применения закона о бедных и следить за их выполнением. Но подлинными исполнителями этих правил должны были быть местные выборные корпорации – опекунские советы. Каждый «союз» приходов должен управляться «советом попечителей о бедных», избираемым всеми налогоплательщиками. И централизованная бюрократия наверху, и демократические избранные опекунские советы на местах – все это было заменой прежних методов управления, которое осуществлялось сельскими джентльменами, действовавшими в качестве неоплачиваемых мировых судей.
Однако новый закон о бедных 1834 года был весьма неудачным началом для реформирования методов управления в сельских местностях. Его жестокость, особенно относительно разделения семей, внушала сельской бедноте отвращение к улучшениям и примиряла ее с прежним «отеческим» правлением мировых судей. Новый закон о бедных мог бы служить образцом для других изменений в местном управлении, но он был слишком непопулярен.
Почему сквайры – как виги, так и тори – покорно соглашались на это нарушение их права управлять сельской местностью только в вопросе о применении закона о бедных? Только в отношении этого закона они допустили вторжение государственной бюрократии и выборной демократии в сельские области. Причина этого ясна. Сельские джентльмены были непосредственно заинтересованы в перемене. При прежней системе выплаты пособий низкооплачиваемым (в дополнение к заработной плате) налог в пользу бедных, который выплачивали и сельские джентльмены, становился с каждым годом все тяжелее, и пессимисты предсказывали, что в конце концов он поглотит все доходы королевства. Вигские министры представили билль как «мероприятие для помощи сельскому хозяйству», а Пиль и Веллингтон приняли его как таковой. По приказу Веллингтона палата лордов устояла от искушения отвергнуть эту весьма непопулярную меру.
В результате процветания промышленности и земледелия в пятидесятых и шестидесятых годах жребий наемных рабочих города и деревни стал значительно легче. Вскоре после 1870 года заработная плата сельскохозяйственных рабочих достигла такой высоты, какой впоследствии не достигала вновь в течение многих лет. Всегда, в дурные и хорошие времена, заработная плата полевых рабочих на севере была выше, чем на юге, благодаря соседству угольных шахт и более высоким заработкам промышленных рабочих. Заработок батрака в Уэст-Райдинге Йоркшира составлял четырнадцать шиллингов в неделю, тогда как в Уилтсе и Суффолке только семь шиллингов.
Батраку, согнанному с огороженного общинного выгона и «открытого поля», иногда предоставляли в виде компенсации маленький участок земли, выделяемый филантропически настроенными сквайрами, священниками и фермерами, на котором он выращивал картофель. Картофель в XIX веке оказывал значительную помощь батраку. Но выделение этих маленьких участков шло очень медленно. В пятидесятых и шестидесятых годах, когда земледелие еще процветало, лендлорды, особенно в крупных поместьях, подобных поместьям герцога Бедфорда, строили хорошие кирпичные коттеджи с шиферными крышами и двумя или даже тремя отдельными спальнями, так называемые «помещичьи коттеджи». Прежние хижины были скверными, и большинство их было построено из глины, дранки и штукатурки и покрыто соломой; весь «коттедж» состоял из двух комнат. Фермерские дома были не только большими, но в среднем и более пригодными для жилья, чем старые хижины. Лучшими из них обычно были те, которые недавно были построены лендлордом. Если хороший фермерский дом насчитывал уже два столетия, то это почти всегда был прежний помещичий дом, некогда принадлежавший какой-либо семье мелких сквайров.
Английский лендлорд, если и не был филантропом, то и не был просто «дельцом», извлекавшим из земли прибыль. Рента с новых «помещичьих коттеджей» редко покрывала расходы по их постройке и поддержанию. Существовали, конечно, и плохие лендлорды, и обычно сквайр мало симпатизировал желанию батраков повысить уровень своей жизни. Однако английский сельский землевладелец много сделал для сельской местности и ее обитателей.
Таким образом, когда британское сельское хозяйство достигло около 1870 года вершины своего процветания, предшествующего внезапной катастрофе следующего десятилетия, оно было основано на аристократической социальной системе, системе «двойного владения» лендлорда и фермера, которая сделала чудеса в способе производства, но слишком незначительно увеличила доходы батрака. Верно, что он получал более высокую плату, чем сельскохозяйственные рабочие континента, но по английским меркам эта плата не была высока. Верно, что в материальном отношении он был лучше обеспечен, чем большинство самостоятельного крестьянства Европы. Верно также, что в Англии было много мелких ферм, на которых трудилась только семья фермера. Но зато здесь больше не было столь многочисленного по отношению к другим обитателям страны независимого крестьянства, какое некогда существовало в Англии и еще сохранилось в континентальных странах. Следствием такого положения явилось то, что, когда после 1875 года фритредерство завершило свою деятельность уничтожением процветания британского сельского хозяйства, воспитанные в городе избиратели были равнодушны к упадку сельской жизни, потому что она ассоциировалась с аристократической системой. Слишком многие англичане смотрели почти с удовлетворением на развитие национального несчастья как на свободную и естественную экономическую перемену.
За проведением билля о реформе 1832 года на промышленном севере сразу же последовала ожесточенная агитация фабричных рабочих против тяжелых условий их жизни, особенно по вопросу о рабочем дне. В Вестминстере в ней приняли участие члены всех партий, а в 1833 году виге кое правительство придало ей законную форму. Главные лидеры страны – Остлер, Сэдлер и Шефтсбери – были тори и евангелистами. Евангелическая гуманность являлась важным условием для создания образованных вождей, тогда как народная сила этого движения коренилась в фабричном населении, в большинстве своем принадлежавшем к радикалам. Но и торийские сельские джентльмены не были врагами этого движения, так как они завидовали выскочкам из класса промышленников. Сквайры были раздражены предпринятыми этими выскочками атаками на английских джентльменов, притеснявших бедноту своими хлебными законами; сквайры отвечали на эти атаки разоблачением зол фабричной эксплуатации. Раскол в рядах состоятельных классов дал наемному рабочему возможность заявить о своих, нуждах. За всеми этими взаимными обвинениями разных классов скрывался подлинный гуманизм века, наиболее полно проявившийся в деятельности евангелистов, но не ограничивавшийся какой-либо одной религиозной сектой или политической партией.
Чувство гуманности было теперь большой силой в политике. В 1833 году оно ценой двадцати миллионов фунтов, с радостью уплаченных британскими налогоплательщиками, уничтожило рабство в империи. В том же году чувство гуманности прекратило злоупотребление детским трудом на английских фабриках.
Покровители фабричного законодательства находили, что обращение к гуманности было легче всего осуществить именно в отношении детей.
«Верно, – пишет Галеви, – что рабочие стремились ограничить рабочие часы для самих себя – не для детей, которые очень часто являлись жертвами скорее их жестокости, чем тирании нанимателя. Но число детей, используемых на фабриках, было так велико по отношению к взрослым рабочим, что было невозможно ограничить рабочие часы детей без ограничения в то же время рабочих часов взрослых. Остлер стремился возбудить жалость английского среднего класса к детям, но его истинной целью было добиться законодательной защиты взрослых рабочих».
Фабричный закон лорда Олторпа, изданный в 1833 году, установил границы продолжительности труда детей и подростков, и его положения были проведены в жизнь благодаря назначению фабричных инспекторов, которые имели право входа на фабрики. Учреждение института инспекторов было подсказано некоторыми из лучших людей среди самих нанимателей, ибо надо было держать под наблюдением не только скверных нанимателей, но и скверных родителей, живущих трудом своих детей. Более того, лучшие предприниматели хотели, чтобы правительство помешало худшим предпринимателям конкурировать с ними путем невыполнения этого закона, как это имело место в отношении прежних законов.
Из этой изданной в 1833 году хартии о детях вырос билль о десятичасовом рабочем дне. Этот второй кризис фабричного законодательства достиг высшей точки в 1844-1847 годах, одновременно с отменой хлебных законов, и был накален огнем этого великого спора. Билль о десятичасовом рабочем дне ограничил ежедневную работу женщин и подростков на текстильных фабриках и этим привел к прекращению всей работы после десяти часов труда, так как взрослые мужчины не могли продолжать работу одни. Этого закона рабочие ждали уже много лет, и он стал центром ожесточенных споров. В парламенте он вызвал любопытные расхождения при голосовании. Среди либералов Мельбурн, Кобден и Брайт были против этой меры; Рассел, Пальмерстон и Маколей были за нее. Консерваторы также разделились: Пиль был решительно против билля, тогда как большинство протекционистски настроенных сквайров голосовали за него. Человеком, который окончательно провел билль через палату общин, был Филден, «крупнейший владелец хлопкопрядилен в Англии».
Такое же влияние, какое билль о реформе 1832 года оказал на все позднейшие расширения парламентского представительства, фабричные законы 1833 и 1847 годов оказали на далеко распространившийся кодекс установленных законом правил, который теперь определяет условия и продолжительность работы почти всех отраслей промышленности. Фабричная система, при своем появлении грозившая разрушить здоровье и счастье народа, постепенно превратилась в инструмент, уравнивающий средние материальные условия труда. Инспектировать фабрики было легче, чем инспектировать прежнюю систему домашнего ремесла. Представление Роберта Оуэна о приличных условиях жизни для фабричных рабочих, которое он первый воплотил на своей собственной фабрике в Нью-Ленарке, должно было стать образцом для большей части промышленного мира.
В годы, последовавшие за десятичасовым биллем 1847 года, основы фабричного законодательства были распространены рядом специальных законов и на другие отрасли промышленности, помимо текстильной. Обнаружение ужасных условий труда женщин и детей в угольных шахтах – зла, насчитывающего уже несколько столетий, – привело в 1842 году к закону лорда Шефтсбери о шахтах, по которому была запрещена подземная работа женщин, а также детей до десяти лет. По закону 1850 года взрослые мужчины также были поставлены под защиту шахтных инспекторов, и шаг за шагом обеспечение безопасности в шахтах стало заботой государства.
Жестокий обычай использовать маленьких мальчиков в качестве трубочистов – так как хозяева находили, что дешевле прогнать их через наполненную сажей трубу, чем употребить длинную щетку, – вызывал тщетное негодование широких масс населения. В 1875 году Шефтсбери писал в своем дневнике: «Сто два года прошло с тех пор, как добрый Иона Хенуэй публично осудил это жестокое зло, однако во многих частях Англии и Ирландии оно еще сохраняется с ведома и согласия тысяч людей из разных классов». В этом году Шефтсбери добился проведения закона, который положил конец этой жестокости. Предшествующие законы 1840 и 1864 годов остались мертвой буквой из-за молчаливого потворства хозяевам со стороны частных домовладельцев, местных властей и магистратов.
Проведение бесплодного закона 1864 года о трубочистах было в значительной мере вызвано опубликованием в предыдущем году сказки Чарльза Кингсли «Водяные мальчики», описывающей отношения между маленьким Томом и его хозяином Гримсом. Диккенс уже сделал многое, чтобы заинтересовать публику страданиями и чувствами детей; Кингсли своей сказкой сделал не только это: он создал прекрасный мир фантазии и шутки, полюбившийся и взрослым, и детям. Сочувственное внимание к играм, фантазиям и мыслям детей было одной из лучших черт этого века, в котором много думали о семейной жизни и воспитывали многочисленное потомство. В середине столетия с континента пришли сказки Гримм и Андерсена, которые завоевали Англию. Количество детских сказок быстро возросло. Детские книги, которые с удовольствием читали взрослые, были характерным новшеством века. В предшествующее столетие «Гулливер» и «Робинзон Крузо» были написаны для взрослых, хотя дети и подростки восторгались ими так же, как и сказками «Тысячи и одной ночи». В 1855 году Теккерей опубликовал свою книгу «Роза и кольцо, домашнее представление длябольших и маленьких детей», а десятьлет спустя Чарльзом Доджсоном (под псевдонимом Льюис Кэрролл) была опубликована сказка «Алиса в стране чудес», написанная им для маленькой дочери настоятеля церкви Христа. Этим шедеврам особого типа литературы подражало впоследствии множество писателей, включая Стивенсона, Барри и Эндрю Лэнга.
Более чуткое и заботливое отношение к детям было одним из главных вкладов, сделанных англичанами Викторианской эпохи в дело подлинной цивилизации. Но такие чувства не были всеобщими, как об этом свидетельствовало долгое сохранение позорного использования детей в качестве трубочистов. Пренебрежение к детям и дурное обращение с ними исчезало с трудом. Улицы трущоб еще оставались единственным местом для игр большинства городских детей, немногие из которых могли до 1870 года посещать школы; до конца столетия нигде не отводились детям в городах особые места для игр. Общество для предотвращения жестокого обращения с детьми было основано только в 1844 году, так как в этом году имело место более пяти миллионов случаев такого обращения. В течение XIX века жестокая порка мальчиков, которую реформаторы в области воспитания тщетно осуждали в прошлые времена, постепенно прекратилась. Во многих отношениях жизнь становилась более человечной, что было некоторым противопоставлением возрастающей отвратительности и грязи больших городов с их покровом сажи и тумана.
В знаменитом изречении Дизраэли «Англия разделена на две нации – богатых и бедных» заключалась, как это ни неприятно, значительная доля истины. Но, подобно всем эпиграммам, оно было верно только наполовину. Конечно, промышленный переворот привел в Викторианскую эпоху к возросшему несоответствию в распределении богатства между очень богатыми и очень бедными и отделил классы и географически, собрав население прежних деревень и городов, имевших черты и интересы, общие для всех их жителей, в большие города, разделенные на различные социальные кварталы. Но промышленное развитие увеличило также и число средних классов, различных по уровню своего богатства и жизненных удобств; оно же повысило уровень жизни более состоятельных представителей трудящихся классов, таких, как инженеры, по сравнению с уровнем жизни неквалифицированных рабочих и обитателей трущоб. «Наций» было не две, а гораздо больше: если считать, что их было только две, то потребовался бы ум самого Дизраэли, чтобы сказать, где можно провести между ними границу.
Улучшение положения наемных рабочих в пятидесятых и шестидесятых годах было отчасти вызвано расцветом торговли в эти счастливые годы, когда Англия была мастерской мира, отчасти связано с социальным законодательством парламента и отчасти с деятельностью тред-юнионов, стремившихся поднять заработную плату, прекратить оплату труда товарами и уничтожить другие злоупотребления. Тред-юнионизм был особенно силен среди аристократии трудящихся классов – инженеров и людей квалифицированных профессий.
К этому периоду относится также рост кооперативного движения, которое много сделало для того, чтобы прекратить эксплуатацию потребителя розничным торговцем и приучить трудящиеся классы к самоуправлению и деловым операциям. Это движение возникло из предприятия, основанного двумя десятками рабочих (чартистов и оуэнистов) Рочдейла, которые в 1844 году открыли на Тоад-Лейн склад Рочдейлских пионеров. Это было скромное дело, а многие более значительные попытки кооперации потерпели неудачу. Но этим людям удалось найти верный план для реализации мечты Оуэна. Их правилом было – продажа товаров по рыночной цене, за которой следовало распределение излишка прибыли среди членов в соответствии с их покупками. Это обеспечивало демократически всеобщую заинтересованность в ведении дел, исключая в то же время возможность получения прибыли за счет потребителей. Именно в этом направлении кооперативное движение достигло к концу столетия такого огромного развития.
Практическому успеху движения в пятидесятых годах способствовало то рвение, с каким его идеалистический аспект проповедовался и сокуляристами, руководимыми Холиоуком, учеником Оуэна, и христианскими социалистами, которых вдохновлял Фредерик Денисон Морис, особенно Томом Хьюзом, автором книги «Школьные дни Тома Брауна». Попытки лавочников организовать бойкот движения лишь увеличили его силу. В семидесятых годах кооперативные общества значительно расширили свою первоначальную сферу деятельности, прибавив к ней сферу производства.
Кооперативное движение имело не только финансовое значение. Оно дало трудящимся сознание того, что они тоже имеют «свою долю в богатствах страны». Оно научило их методам коммерческой деятельности и самопомощи и втянуло их в общества, которые поощряли стремление к самообразованию и самоусовершенствованию.
Способы, которыми новая Британия старалась исцелить бедствия, сопровождающие промышленный переворот, – кооперация, фабричные законы, тред-юнионизм, фритредерство, – все были, подобно самому промышленному перевороту, британскими по своим идеям и происхождению.
Вторая четверть XIX века была тем периодом в заселении Канады, Австралии и Новой Зеландии, когда было решено, что эти земли должны быть населены главным образом британцами и стать частью свободного Британского содружества наций.
Перенаселение Великобритании и печальное положение английского крестьянства на родине вызвало в эти годы массовую сельскую эмиграцию в колонии, приведшую к возникновению современной империи. Прилив эмиграции в Соединенные Штаты был также весьма силен и мог бы совсем миновать британские территории, если бы не организованные усилия эмигрантских обществ и не случайная помощь правительства, вдохновляемого пропагандой Гиббона Уэйкфилда. Он убеждал своих соотечественников, что эмиграция является истинным облегчением их экономических бедствий и что колонии вовсе не должны быть просто гаванями для кораблей или местом торговли, что они могут стать местом создания новой британской нации. Именно он в первую очередь способствовал той систематической и поощряемой правительством эмиграции, которая создала современную Канаду, Австралию и Новую Зеландию.
То, что мы не вели какой-либо крупной войны в течение ста лет после Ватерлоо, является причиной счастливого положения Англии в XIX веке и той особенной веры в «прогресс» как закон истории, которая ободряла сознание викторианца. Крымская война (1854-1856 годов) не была исключением. Она являлась просто глупой экспедицией в Черное море, предпринятой без достаточных оснований, потому что английскому народу наскучил мир, несмотря на прилив пацифистских разговоров, которым он предавался тремя годами ранее, во время Всемирной выставки в Гайд-парке. Буржуазная демократия, возбужденная своими излюбленными газетами, подстрекалась к крестовому походу ради турецкого господства над балканскими христианами, а в следующем поколении те же самые силы, руководимые Гладстоном, действовали в диаметрально противоположном направлении. Мы вели Крымскую войну по принципу ограниченной ответственности и прекратили ее, когда стремление к иностранным авантюрам было удовлетворено. Ведь это несомненный факт нашей социальной истории, что наша внешняя политика становилась все в меньшей степени тайной государственных деятелей и все в большей степени – выражением интересов народа в целом. Кто был глупее – государственные деятели или народ, – сказать трудно.
Однако Крымская война имела одно серьезное и благодетельное последствие – появился институт сиделок как профессия специально обученных женщин. Удивительный личный успех Флоренс Найтингейл заключается в навязывании ею современных методов госпитального дела командованию крымской армии, которое все еще было очень отсталым: оно даже не провело нескольких миль железной дороги от порта Балаклавы до линии осады перед Севастополем, пока его не принудило к этому общественное мнение на родине, возбужденное прессой и ее первыми «военными корреспондентами».
Сестра милосердия
Представление о сестрах милосердия как серьезной профессии, разрекламированное благодаря сенсационным сообщениям с театра Крымской войны, скоро укоренилось и в гражданской жизни и создало новую эру в деле общественного здравоохранения и медицинской практики. Кроме того, идея обучения женщин различным профессиям, обязанная своим появлением инициативе Флоренс Найтингейл, распространилась и на другие области жизни, помимо ухода за больными. Идеалы века Скотта и Байрона требовали, чтобы леди доказывали свое благородство красотой праздности и трогательной зависимостью от своих защитников мужчин. Но в последнюю половину царствования Викторин начала делать успехи совершенно иная идея, а именно: что женщины высшего и среднего класса, особенно незамужние, должны учиться, чтобы содержать самих себя и приносить некоторую пользу миру.
Крымская война оказала влияние и в менее важных вопросах. В подражание нашим героям из севастопольских траншей курение после своего восьмидесятилетнего изгнания из благовоспитанных кругов общества вновь стало модным. По тем же причинам вернулись после своего двухвекового отсутствия среди членов хорошо воспитанного общества и бороды. Типичным англичанином любого класса в середине периода правления Виктории был человек с бородой и с трубкой.
Это была эра «мускулистого христианства», напряженной деятельности и холодных ванн. Организованные игры, особенно крикет и футбол, быстро распространялись в школах, университетах и в обычной жизни. Пешеходные прогулки и новое развлечение – горные восхождения – были характерны для энергичного и атлетического поколения; даже дамам теперь разрешалось гулять пешком. Дни лаун-тенниса еще не наступили и едва ли могли наступить, пока был в моде обременительный кринолин. Но дамы и джентльмены состязались в более спокойных турнирах на крокетной площадке, где иногда представительницы прекрасного пола, подготовляя свой удар, осторожно передвигали мяч в более благоприятную позицию под просторным покровом кринолина.
Крымская война, однако, не повлекла за собой реформы в армии. Правда, было признано, что, хотя солдаты-ветераны сражались хорошо, поддерживая полковые традиции, унаследованные от испанской войны, основная масса солдат состояла из плохо подготовленных рекрутов, ими плохо руководили, их плохо кормили и плохо организовали как армию. Но армия вернула свой престиж в следующем году, во время индийского мятежа, когда викторианские достоинства – самопомощь и личная инициатива – обнаружились в полном блеске. Но в любом случае реформаторы этого века не интересовались армией. Они рассматривали ее как безнадежно аристократическое учреждение, на самом деле не нужное в цивилизованном государстве. Они интересовались не тем, чтобы обеспечить безопасность, улучшив армию, но тем, чтобы сберечь деньги, сократив ее.
Только в 1859 году возникла паника по поводу предполагаемых дурных намерений Наполеона III, хотя его действительным желанием было жить в дружеских отношениях с Англией. Жители острова пережили один из периодических испугов, который подчеркнул их постоянную неподготовленность, а результатом в этом случае было возникновение волонтерского движения, военное обучение деловых людей и их служащих в свободные от работы часы в соответствии со штатским и индивидуалистическим духом времени. Но попыток реформы регулярной армии так и не было сделано до тех пор, пока франко-прусская война 1870 года не показала, хотя и не очень ясно, английской публике, что среди этих странных иностранцев что-то происходило. В этом случае паника удачно вызвала реформы Кардуэлла, которые включали в себя уничтожение покупки офицерских патентов и краткосрочную систему военной службы, создавшую наконец армейские резервы.
Глава XVIII Вторая половина Викторианской эпохи (1865-1901)
Одной из трудностей, с которыми встречаешься при попытке написать социальную историю нации как нечто отличное от ее политической истории, является отсутствие определяющих фактов и точных дат, по которым можно нарисовать ход событий. Социальные привычки людей и экономические обстоятельства их жизни, особенно в настоящее время, всегда находятся в движении, но они никогда не меняются полностью или все сразу. Старое частично проникает в новое, и притом в такой мере, что часто возникает вопрос, следует ли приписывать какую-нибудь тенденцию в мыслях или практике именно данному поколению или следующему.
Но в целом наиболее заметные изменения тенденций викторианской Англии можно отнести к шестидесятым и семидесятым годам. Старые вехи еще существуют, но они больше уже не являются столь заметными. Территориальная аристократия еще господствует в сельских областях и еще руководит обществом в Лондоне и на собраниях в своих сельских поместьях; еще процветает индивидуальный делец с его несомненными, хотя и ограниченными добродетелями буржуазной самопомощи. Но эти классы уже не заполняют сцену в такой степени, как в дни Пальмерстона и Пиля, а идеи – или недостаток идей, – которые они отстаивали, оспариваются теперь другими наряду с «радикалами из низших слоев». Во всех категориях общества свободные дебаты о социальных обычаях и религиозных верованиях занимают место установившихся верований ранней Викторианской эпохи. Джон Стюарт Милль в своем сочинении «О свободе» (1859) проповедовал доктрину восстания против покорного принятия установленных мнений, а дюжину лет спустя такое отношение стало весьма обычным. Это либеральный, откровенный век, наиболее характерными людьми которого являются не аристократы и не лавочники, а люди с университетским образованием или люди интеллигентных профессий, читатели Милля, Дарвина, Хаксли и Мэтью Арнольда, Джорджа Элиста и Браунинга, – образованные бородатые интеллигенты.
Демократия, бюрократия, коллективизм – все двигалось вперед, подобно приливу, молчаливо надвигающемуся в сотнях бухт и заливов. Следует дать по крайней мере краткий список некоторых из тех изменений, которые отличают семидесятые годы от предшествующего поколения. Удар, нанесенный дарвинизмом библейской религии англичанина, сказался во многом, хотя еще не всюду; в 1871 году Оксфорд и Кембридж стали доступны для всех независимо от вероисповедания; естественные науки и история быстро заняли свое место в научном мире рядом с классическими науками и математикой; в 1870 году конкурсные испытания стали обычным способом вступленияна гражданскую службу, позволяющим вовлечь наиболее способных молодых людей из университетов в ряды новой бюрократии; трудящиеся мужчины городов получили – по биллю 1867 года о реформе – парламентское представительство, а три года спустя закон Форстера обеспечил для всех начальное образование; по законам 1871-1875 годов тред-юнионы получили новую хартию прав, соответствующих их растущей силе; в деловой сфере компании с ограниченной ответственностью заняли место старых семейных фирм; профессиональная и социальная эмансипация женщин шла вперед к тем ее пределам, которые защищались в книге Милля «Подчиненное положение женщин» (1869); в Оксфорде и Кембридже были основаны женские колледжи, а женские средние школы были намного улучшены; акт о собственности замужних женщин избавил жену, если она имела свои собственные деньги, от экономической зависимости от своего мужа; «равенство полов» начали защищать в теории и во все большей степени осуществлять на практике среди всех классов. Требование политических прав для женщин было результатом уже совершившегося в значительной степени социального освобождения их.
Но величайшим событием семидесятых годов, имевшим неизмеримые последствия в будущем, был внезапный упадок английского земледелия.
С 1875 года началась катастрофа. Ряд неурожайных годов увеличил ее первоначальные размеры, но причиной было развитие американских прерий как зерновых районов. Новые земледельческие машины давали фермам Среднего Запада возможность снимать сливки с нетронутой почвы на неограниченном пространстве; новая железнодорожная система доставляла продукцию в гавани; новые пароходы перевозили ее через Атлантический океан. Английское земледелие было более научным и более высококапитализированным, чем американское, но и при этих условиях их неравенство было слишком велико. Массовое производство зерна более простыми и дешевыми способами конкурировало с тщательными и дорогостоящими методами обработки, которые разрабатывались в хорошо налаженных английских поместьях в течение предшествующих двухсот лет. Разорение британской земельной аристократии заокеанской демократией американских фермеров явилось результатом этого изменения в экономической обстановке. Еще более важным следствием было общее прекращение соприкосновения англичан с природой, которое во все предшествующие века помогало формировать ум и воображение островитян.
Другие государства Европы, где еще сохранилось крестьянство и где с ним считались как со стабилизирующим элементом в социальном здании, преграждали путь потоку американского продовольствия при помощи тарифов. Но в Англии такая политика не была принята и даже не обсуждалась серьезным образом. Уверенность, что фритредерство является секретом нашего небывалого процветания, нежелание нарушать мировую торговлю, в которой наше господство и обогащение казались прочно, обеспеченными, количественное преобладание городов над деревнями, а еще больше их интеллектуальное и политическое руководство, воспоминания о «голодных сороковых годах», когда хлебные законы сделали хлеб слишком дорогим для бедноты, – все эти обстоятельства препятствовали проведению любой меры, направленной на сохранение сельского образа жизни. Англичане второй половины Викторианской эпохи не видели какой-либо необходимости выращивать хлеб на острове, чтобы обеспечить нужды будущих войн. После того как два поколения пользовались безопасностью, завоеванной в битве при Ватерлоо, казалось, что реальная национальная опасность навсегда миновала.
В 1846 году Дизраэли предсказал разрушение землевладения как неизбежный результат свободной торговли зерном. В течение тридцати лет это утверждение было ошибочным. Теперь он внезапно оказался прав, и как раз в это время он был премьер-министром. Однако он ничего не сделал в этом вопросе.
Государственные деятели рассматривали судьбу земледелия со все большим равнодушием, потому что она не затрагивала острой проблемы безработицы. Батраки не оставались в деревне, когда кончалась их работа, а безработные шахтеры оставались около закрытой шахты. Когда «ходж» [63]терял работу или когда его заработок падал, он шел в город и искал работу там. В других случаях он уезжал за море, так как колонии и Соединенные Штаты еще принимали излишек нашего все возрастающего населения. Как класс, английский батрак привык к тому, что ему приходится оставлять землю.
В то же время лендлорды и фермеры, которые не имели ни желания, ни сил расстаться с землей, страдали и жаловались напрасно, так как их время как политических руководителей Англии уже прошло. Интеллигенция семидесятых и восьмидесятых годов была проникнута доктриной фритредерства: она верила, что если одна отрасль хозяйства, например земледелие, погибнет в результате свободной конкуренции, то соответственно выиграет другая и займет ее место – и таким образом все будет хорошо. Но на деле отнюдь не все было хорошо. Теоретики не могли понять, что земледелие является не просто одной из отраслей хозяйства среди многих других, а образом жизни, единственным и незаменимым по своей человеческой и духовной ценности.
В первое десятилетие упадка, который начался в 1875 году, посевная площадь под пшеницей снизилась в Англии почти на миллион акров. Целые зерновые районы на западе, в центральных графствах и на севере обращались в пастбища, причем это не сопровождалось соответствующим увеличением количества домашнего скота, хотя и происходила значительная замена рогатого скота овцами. Ввоз замороженного мяса из Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки был новой чертой восьмидесятых и девяностых годов. В 1891-1899 годах последовала вторая волна сельскохозяйственной депрессии, столь же суровой, как и депрессия 1875-1884 годов. К концу столетия посевная площадь зерновых в Англии и Уэльсе сократилась с восьми с лишним миллионов акров в 1871 году до шести миллионов. Постоянные пастбища значительно возросли, но падение цен на скот и овец не отставало от падения цен на зерно.
Историк английского земледелия таким образом изображает последние десятилетия царствования Виктории:
«Продовольствие являлось, так сказать, валютой, которой другие нации расплачивались за английские промышленные товары, и его дешевизна была несомненным благодеянием для общества наемных рабочих. Предоставленные самим себе, земледельцы с мужеством и упорством вели неравную борьбу. Но с течением времени занятое в промышленности население, казалось, искало продовольственные рынки повсюду, кроме своей родины. Предприимчивость постепенно ослабла. Затянувшаяся депрессия приостановила дорогостоящие усовершенствования. Осушка почвы практически прекратилась, и владельцы, и арендаторы земли были озабочены тем, чтобы свести концы с концами при сокращающихся доходах. Качество земли ухудшилось; к ней прикладывали меньше труда; сократились суммы, расходуемые на брикеты и удобрения. Наиболее пострадавшими были зерновые районы графств, в которых превосходная обработка земли одержала наиболее замечательную победу». Ущерб в действительности был еще большим потому, что английское земледелие было основано на высококапитализированной системе производства основного продукта – зерна, особенно пшеницы, выращивание которой так ценилось в большинстве районов Англии, и овец и рогатого скота – лучших в мире. Другими способами использования земли незаслуженно пренебрегали. Правда, имелись, главным образом в Кенте, поля хмеля. Но картофель занимал лишь два процента всей возделываемой земли. Мало было овощей и фруктов. Огородничество никогда не было систематически организовано.
Только после войны 1914-1918 годов государство занялось в широком масштабе лесоводством, которое ему было особенно удобно вести. Лендлорды, которые в XVIII и начале XIX веков старательно занимались древонасаждениями, потеряли интерес к лесоводству как отрасли хозяйства, когда правительство перестало покупать внутри страны огромные дубы для строительства наших боевых кораблей и когда строевой лес в больших количествах стал поступать из Скандинавии и Северной Америки по ценам, отбивавшим охоту к разведению лесов в Англии. Обширный спрос на крепежный и строительный лес удовлетворялся из-за границы.
В 1880 году, если судить с эстетической, а не скоммерческой стороны, Англия могла похвастаться более красивыми деревьями, чем какая-либо другая страна. Леса исчезали, за исключением одного-двух клочков, подобных Нью-Форест и Форест-оф-Дин.
Однако если посмотреть с воздуха, то ландшафт не казался безлесным; древесные насаждения образовывали живые изгороди, разбросанные по всей стране; много деревьев было в парках, где их сохраняли за красоту, в чащах, посаженных для дичи. Управляющие имениями не интересовались лесом как строительным материалом и не заботились о том, чтобы своевременно удалять плющ, прореживать лес, вырубать и продавать его. Для новых насаждений брали хвойные породы и рододендроны, одобренные вкусом этого века. Обе породы были экзотическими для большинства областей острова, но обе были вполне пригодны для того, чтобы приютитьфазана, владыкумногих графств, которого юный Киплинг не любил, как символ тучнеющей Англии, погруженной в ту беспечную мечту о богатстве и мире, которая в какой-то день могла быть грубо нарушена.
Судьба земледелия является лишь одним из примеров близорукости, характерной для английской государственной политики. Англичане не составляли планов на далекое будущее. Они довольствовались тем, чтобы удовлетворять те запросы и разрешать те проблемы, давление которых уже чувствовалось. Но в этих пределах они были более активными реформаторами, чем их самодовольные отцы: они приблизили к современным требованиям гражданскую службу, местное управление, образование, университеты и даже до известной степени армию.
Англичане уже утратили часть самодовольства и уверенности пятидесятых и шестидесятых годов. В эти уже миновавшие счастливые дни Англия выделывала фабричные товары для всего мира, который отстал от нее в области промышленной механизации на целое поколение; тогда самой грозной и самой враждебной военной силой была Франция Наполеона III; в 1848 году, в год континентальной революции и реакции, соотечественники Маколея с чувством удовлетворения думали, что по богатству, свободе и порядку наша страна стоит впереди всех других и вызывает «зависть менее счастливых стран». Франко-прусская война 1870 года была первым ударом. А в течение трех следующих десятилетий Америка и Германия возвысились как промышленные державы, соперничающие с нашей. С каждым годом все больше сказывалось влияние огромного количества природных ресурсов Америки и развитие естественнонаучного и технического образования в Германии, предусмотренного ее дальновидным правительством. Для того чтобы приспособиться к этой новой ситуации, недостаточно было только нашей островной свободы, фритредерства и индивидуалистической самопомощи. Известное осознание этого привело к улучшению технического образования и у нас. Оно же привело и к увеличению интереса к нашим собственным «заморским землям», к империалистическому движению девяностых годов и вызвало более дружелюбное и уважительное отношение к Америке, чем то, которое обнаружили наши политики во время гражданской войны в Америке. Демократическая Англия новой эры лучше понимала и Соединенные Штаты, и «колонии», как еще называли Канаду и Австралию.
Новая ситуация вызвала также повышенный интерес к современной Германии, которой до 1870 года наши соотечественники пренебрегали. В этот роковой год две книги – Мэтью Арнольда «Венок дружбы» и Джорджа Мередита «Гарри Ричмонд» – предостерегали Англию, что в тевтонском сердце Европы национальное образование и национальная дисциплина создавали новую силу, которая завистливо смотрела на наше легко завоеванное, беспечно охраняемое и плохо распределяемое богатство.
Социалистического движения среди трудящегося класса не существовало до последних лет столетия, но недовольство доктриной laissez-faire появилось задолго до этого. Джон Стюарт Милль умер в 1873 году, оставив в наследство неолиберальную философию, оказавшую сильное влияние на сознание и практическую деятельность следующего века. Доктрина Милля была полусоциалистической. Он настаивал на лучшем распределении богатства путем прямого обложения, особенно путем налогов на наследство; на улучшении условий жизни путем социального законодательства, проводимого в жизнь деятельной бюрократией, местной и национальной; на предоставлении всем взрослым мужчинам и женщинам избирательного права не только на выборах в парламент, но и на выборах в те корпорации, которым было поручено местное управление. По мысли Милля, демократия и бюрократия должны были действовать сообща, и именно на этом принципе в действительности строилось социальное здание современной Англии, даже после того, как сам Милль и его философия вышли из моды.
Но, несмотря на упадок английского земледелия, несмотря на ослабление промышленного господства Англии над другими нациями, последние тридцать лет царствования Виктории все же были в целом годами значительного процветания и увеличения богатства, долю которого получала большая часть общества. Юбилеи королевы в 1887 и 1897 годах праздновались всеми классами с подлинной гордостью и признательностью, которые отчасти были вызваны осознанием массами своего освобождения от тех условий жизни, которые приходилось терпеть в начале ее царствования, так как «голодные сороковые годы» были еще памятны. Нравы стали мягче, улицы – более безопасны, жизнь – более гуманной, санитарные условия быстро улучшались, жилища трудящихся, хотя и оставались еще скверными, стали уже менее скверными, чем когда-либо раньше. Условия труда также улучшились, реальный заработок увеличился, продолжительность рабочего дня сократилась. Но безработица, болезнь и старость, для обеспечения которых государство не предприняло регулярных мер, все еще оставались грозящим кошмаром для рабочего.
Фритредерская финансовая политика Пиля и Гладстона сняла тяжесть налогового обложения с бедноты, сократив до минимума косвенные налоги. Однако подоходный налог в восьмидесятых годах все еще варьировался от двух пенсов с фунта до шести с половиной пенсов.
Фритредерство, помимо облегчения бремени бедняков, заслуживает уважения и за вызванный им огромный рост нашего торгового флота и заморской торговли. Даже наша каботажная торговля стала доступна кораблям всех наций, но иностранцы в открытой конкуренции обеспечивали только полпроцента ее. А в восьмидесятых годах эта каботажная торговля, которая включала также перевозки значительной доли угля, потребляемого в самой стране, по количеству перевозимого груза превосходила всю нашу обширную заморскую торговлю. Океаны мира еще оставались проезжими дорогами Англии. В 1885 году треть морских кораблей мира принадлежала Британии, включая четыре пятых всех паровых судов мира. Мачты и паруса уже уходили в прошлое, но быстроходные океанские «клипперы» были британскими, и в 1885 году тоннаж нашего парусного флота был еще столь же велик, как и в 1850 году, тогда как тоннаж нашего парового флота увеличился на четыре миллиона.
Тоннаж судов в лондонском порту был еще на шестьдесят процентов больше, чем в ливерпульском, хотя Ливерпуль, торговавший ланкаширскими бумажными тканями, экспортировал больше британских товаров, чем столица. Знаменитые доки Темзы и Мерсея были закончены в восьмидесятых годах. Развитие железный дорог значительно увеличило объем заморской торговли, но в дальнейшем уменьшило число портов – процесс, начавшийся в XVIII столетии. Но в последней половине XIX столетия благодаря железным дорогам Барроу внезапно возвысился «из ничего», а Гримсби – «почти из ничего». Возродился после долгого пребывания в состоянии упадка Саутгемптон: он теперь был штаб-квартирой пароходной компании «Пенинсьюлер энд ориентал стим навигейшен». Кардифф увеличил свое население в тринадцать раз и обогнал Ньюкасл как величайший экспортер угля в мире, хотя Тайнсайд в дни Армстронга Элсвик также значительно вырос.
Такова была реконструкция промышленности и торговли, произведенная железными дорогами. Но «не железные дороги создали Тайнсайд, а Тайнсайд создал их».
В условиях такого процветания «свободной торговли» многие предметы, являвшиеся роскошью в 1837 году, в 1897 году стали обычными удобствами. Пища, одежда, постельные принадлежности, мебель были теперь в гораздо большем изобилии, чем в какой-либо из предшествующих веков. Газовое и керосиновое освещение уступало место электричеству. Проведение праздничных дней на морском побережье стало обычным для мелкой буржуазии и даже для значительной части трудящегося класса, особенно на севере. Уже в 1876 году вырос и превратился в город Блэкнул – место ежегодного отдыха ланкаширских мастеровых, явившись дополнением к игравшим такую же роль Лендюдно и острову Мэн. Отдаленный Корнуолл уже стал местом отдыха для состоятельных людей в пасхальные дни, а для народных масс – в августе. Летом меблированные комнаты Кезика и Уиндермира и фермы Озерной области занимали семейные компании.
Даже до появления железных дорог лондонцы толпились на молу Брайтона и покрывали своими телами пески Маргета. Теперь все побережье Англии и Уэльса стало доступно для «однодневных экскурсантов» и «жильцов» благодаря паровому транспорту, возросшим заработкам и всевозможным сбережениям. В отдаленных бухтах и рыбачьих деревушках, куда приезжали отдыхать семьи городских жителей, дети и их родители купались, разыскивали и выкапывали сокровища, оставляемые приливом на отмелях; это хоть до некоторой степени компенсировало отрыв городского жителя от сельской жизни.
Но если сезонный отдых вне дома был теперь распространенным явлением, то обычай проводить конец недели вне города только возникал. Он уже укоренился среди владельцев больших загородных домов и их гостей, но «коттедж для отдыха в конце недели» едва ли был известен мелкобуржуазным семьям. Семейные посещения церкви и деловые традиции еще держали людей в городе в течение семи дней недели.
Женщины становились более сильными и лучшими пешеходами, так как их юбки стали несколько короче и меньше стесняли движения; после исчезновения кринолина и длинных платьев в восьмидесятых годах игрой, в которой состязались леди и джентльмены, стал вместо крокета требующий быстрых и энергичных движений лаун-теннис. В девяностых годах стал модным велосипед, как только два низких колеса сменили опасный «высокий велосипед»; это еще больше способствовало дальнейшему развитию эмансипации женщин, так как позволяло им бродить по окрестностям в одиночестве или в компании с лицами другого пола. К моменту смерти Виктории автомобиль и мотоцикл еще не получили широкого распространения.
В то время когда одни городские жители учились исследовать уединенные дороги своей собственной страны, пешком или на велосипеде, множество других – больше, чем когда-либо прежде, – отправлялось во Францию, Швейцарию и Италию; они были основными постоянными посетителями лучших отелей Западной Европы, Средиземноморья и Египта. Контора Томаса Кука по организации заграничных путешествий давала возможность многим бережливым и скромным людям испытать восторг от континентального путешествия. В шестидесятых и семидесятых годах англичане с помощью блестящих швейцарских проводников, которых они нанимали, развили искусство восхождения на снеговые горы и покоряли знаменитые вершины Альп. В последнее десятилетие века восхождение на скалы Уэльса и Озерной области стало приятным времяпрепровождением и в самой Англии.
Джон Бакен [64]в своих мемуарах так описывал лондонское общество времен его юности накануне южноафриканской войны 1899 года: «Лондон в конце столетия еще не потерял своего георгианского вида. Его правящее общество оставалось аристократическим до самой смерти королевы Виктории и сохранило моды и обряды аристократии. Большие дома не исчезли и не стали комплексом квартир. Летом город был истинным местом удовольствия: каждое окно весело пестрело цветами, улицы были полны блестящими экипажами, Гайд-парк составлял чудный фон для прекрасных лошадей и красивых мужчин и женщин. Прежние обычаи уходили в прошлое, сюртуки и цилиндры стали общепринятой одеждой не только в Уэст-Энде, но и около здания суда и в Сити. В воскресенье после полудня мы охотно совершали ряд визитов. Беседы и обсуждения не были случайным явлением, какими они становятся теперь, а чем-то вроде искусства, в котором компетенция придавала известный престиж. Клубы еще находились в стадии расцвета, списки их членов были длинными, и членские права были ступенью карьеры. Когда я оглядываюсь назад, это время кажется мне порой невероятного спокойствия и самоудовлетворенности. Общество, как я его помню, было вежливым и благовоспитанным, без вульгарности и без поклонения богатству, которые появились с новым столетием».
Однако «общество становилось смешанным», и богачи уже были заметны в лондонских гостиных за двадцать лет до смерти королевы – может быть, даже более заметны, чем впоследствии, так как тогда они были чем-то исключительным. «Общество» в его более старом и строгом смысле слова еще в дни Пальмерстона было ограниченным миром, доступ в который охранялся супругами некоторых вигских и торийских пэров. Но в восьмидесятых годах «общество» имело неопределенное значение, может быть, охватывающее высший и интеллигентный классы, может быть, включающее всех хорошо одетых мужчин и женщин, которые встречались друг с другом во время прогулок в Гайд-парке или беседовали во время подачи бесчисленных блюд на лондонских званых обедах. Однако Джон Бакен верно отмечает, что эти люди сохранили до конца столетия, по крайней мере в столице, аристократические манеры и привычки. Они отличались от состоятельной провинциальной буржуазии Йоркшира или Ланкашира, которая еще предпочитала «плотный ужин с чаем» пышному обеду.
В семидесятых и восьмидесятых годах в интеллигентном и деловом мире еще были обычными такие же большие семьи, как и у трудящихся, и население быстро увеличивалось, ибо значительная часть рождавшихся детей теперь оставались в живых. В результате улучшения санитарного состояния города и постоянного прогресса медицинской науки и практики снизилась смертность. В 1886 году превышение рождаемости над смертностью составляло в Англии 13,3%, тогда как в Германии оно равнялось 10,8%, а во Франции – 1,4%.
После 1870 года родители в трудовых семьях получили некоторое облегчение благодаря введению системы всеобщего начального образования, но даже и тогда образование давалось с трудом, и, за исключением времени занятий в школе, дети бедноты все еще скитались без присмотра по улицам. В мелкобуржуазных домах это была эпоха игрушечных коней-качалок; детская и классная комнаты были наполнены веселым, шумным обществом; там формировались детские впечатления и характеры, до тех пор пока – старший, средний и самый младший – не отправлялись в пансион, после чего они могли радовать или огорчать своих сестер только в праздничные дни.
Детские игрушки второй половины XIX века
Существовало еще множество гувернанток, нянь,дворецких, горничных и поваров, требования которых относительно жалованья и свободных вечеров были еще умеренными. Многие из них были преданными и ценными членами семьи; другие приходили и уходили, не оставляя о себе отчетливых воспоминаний. Их обязанности были тяжелыми и важными, так как высокие и узкие городские дома мелкой буржуазии не были оборудованы приспособлениями для облегчения труда; армии горничных с трудом поднимались по лестницам с горячей водой для детских ванн и с углем для каждой комнаты. Висящее над городом облако угольной копоти способствовало сгущению лондонского тумана.
Только в девяностых годах стало очевидно, что началось сокращение размеров семей, прежде всего среди интеллигенции и мелкой буржуазии, обремененных тяжелой платой в «общественных школах», и среди зажиточных ремесленников, стремившихся сохранить высокий уровень жизни. В 1887 году во время судебного преследования Брэдлоу и миссис Безант за опубликование неомальтузианского памфлета впервые стали широко известны противозачаточные средства. Но население трущоб, о котором главным образом и думали реформаторы, принимало эти советы медленнее, чем все другие слои общества. Те же семьи, которые были наиболее способны воспитывать детей так, как они должны воспитываться, оказались в наступающем столетии, к несчастью, наиболее склонными к «вырождению».
Семидесятые и восьмидесятые годы были периодом не только больших семей, но и пуританизма в области этических и сексуальных идей, смягчаемых на практике слишком часто проявляющейся слабостью человеческой натуры. Королева Виктория подавала пример своему двору в отношении строгости моральных правил. Подлинная честность большинства британских купцов как деловых людей,была одной из причин нашего замечательного коммерческого процветания. Популярными героями этого периода – и они были истинными героями – были прежде всего религиозные люди: исследователь Африки и миссионер Ливингстон; солдат-филантроп генерал Гордон; лорд Шефтсбери и Гладстон; жизнь этих четырех лиц, столь отличных друг от друга и от всех прочих, была подлинным служением Богу.
Пуританское отношение к жизни и поведению укоренилось благодаря не только библейской религии массы викторианцев, но и англо-католической религии, которая выросла из оксфордского движения тридцатых годов и теперь широко распространялась, имея среди своих светских представителей таких людей, как Гладстон и Солсбери. Но англо-католицизм был особенно силен среди приходского духовенства, у многих представителей которого он вызвал новую профессиональную гордость и создал стремление приобрести то общественное влияние, которое некогда принадлежало «духовенству англиканской церкви» как таковой, а теперь быстро исчезало. Англо-католическое влияние сделало более легкими некоторые уступки обычной человеческой природе, включая и менее строгое, чем это могли одобрить евангелисты, соблюдение «дня субботнего». Постепенное изменение «английского воскресенья» имело и хорошие, и плохие последствия. В этот период перехода от чрезмерной строгости прошлого к совершенной распущенности настоящего было много хорошего в том, что во многих семьях сохранялся обычай «воскресного чтения» серьезных, хотя и не обязательно религиозных книг. На один день в неделю романы и журналы откладывались в сторону и, кроме более светской поэзии и истории, читалась великая классическая литература, подобная Библии, «Путешествию пилигрима» и «Потерянному раю», которую в обычное время больше уже не читали.
Не только измененные воскресные обряды, но и чтение Библии и семейные молитвы были обычным явлением почти до конца столетия. Каноник Смит писал в своем исследовании о результатах влияния Чарльза Симеона на английскую жизнь:
«Евангелизм» был религией родины; в возрождении семейного богослужения был его наиболее замечательный и наиболее приятный триумф. Возможно, что это возрождение фактически ограничивалось высшим и средним классами общества, особенно последним; но в этих пределах оно было распространено настолько широко, что в 1889 году ректор Кингс-колледжа (Кембридж) в циркулярном письме, адресованном студентам этого колледжа по поводу добровольного посещения церкви по утрам, мог писать: «Вы, большинство из вас, пришли из домов, в которых семейные молитвы являются обычаем…» Сегодня этот благочестивый обычай фактически угас: не только потому, что фактически угасла викторианская набожность, но также и потому, что, по существу, нет теперь и викторианских семей».
В середине XIX столетия английская религия была внушительным сооружением, но в ее основании была слабая сторона, под которую уверенно подкапывалось движение научных открытий: вера в пророческую силу каждого слова Библии была обычной для нонконформистов, для евангелической церкви и, едва ли в меньшей степени, для «высокоцерковников», подобных епископу Сэмюэлю Уилберфорсу и Гладстону. Чарльз Дарвин был настолько непохож на Вольтера, насколько может быть непохоже одно человеческое существо на другое; он вовсе не хотел быть иконоборцем; он вовсе не считал церковь «гнусной», и в конце концов она почтительно похоронила его в Вестминстерском аббатстве. Но его научные изыскания привели его к заключениям, несовместимым с повествованием первых глав Книги Бытия, которая была в такой же степени частью английской Библии, как и сам Новый Завет. В общем, вся идея эволюции и «происхождения человека от обезьяны» была совершенно несовместима с существующими религиозными идеями о создании человека и о центральном месте человека во вселенной.
Естественно, что религиозный мир взялся за оружие, чтобы защитить положения незапамятной древности и свой престиж. Естественно, что более молодое поколение людей науки бросилось защищать своего почитаемого вождя и отстаивать свое право приходить к таким заключениям, к каким приводят их научные исследования, не считаясь с космогонией и хронологией Книги Бытия и с древними традициями церкви. Борьба бушевала в течение 60-х, 70-х и 80-х годов. Она затронула всю веру в сверхъестественное, охватывая и все содержание Нового Завета. Интеллигенция под давлением этого конфликта становилась все больше антиклерикальной, антирелигиозной и материалистической.
В течение этого периода перемен и борьбы, причинивших много личных и семейных несчастий и нанесших много моральных ран, общество образованных людей было раздираемо той открытой и резкой полемикой, отрицать существование которой не может даже английская любовь к компромиссу. В XX столетии эта буря отгремела; битва кончилась, и жертвы были похоронены. Вера и Отрицание находятся в различном положении. Чувствовалось, что материализм ученого семидесятых годов является настолько же неудовлетворительным, насколько несостоятельным является буквальный смысл всех частей Библии. Обе стороны с грустью признавали, что полная истина о вселенной не может быть обнаружена в лаборатории или угадана церковью.
Догматические колебания англиканской и протестантской церквей в последние годы XIX столетия способствовали пропаганде римской церкви, чье неуклонное притязание на полное и точное знание истины взывало к тем, кто не был рожден для сомнений. Ирландская иммиграция в низших слоях общества, поток новообращенных из светских и интеллигентных классов – в его высших слоях, а также высокая рождаемость среди приверженцев римско-католической религии – все это помогло римскому вероисповеданию занять значительно более важное место в английской жизни в конце царствования Виктории, чем то, которое оно занимало в начале Викторианской эпохи.
В последнюю половину XIX столетия археология и история быстро прогрессировали, и их открытия усиливали позиции науки в ее борьбе против ортодоксальных верований. Мудрая «История рационализма» Лекки (1865) и чрезмерно самоуверенный материализм «Истории цивилизации» Бокля (1857) были частью сильного течения, которое отвратило людей от древних верований. Академическая «либеральная» партия, партия большой интеллектуальной силы и серьезности, вела битву за то, чтобы освободить Оксфорд и Кембридж от зависимости от церковной монополии, и выиграла эту битву, добившись принятия в 1871 году закона об отмене проверки вероисповедания. Более молодые университеты Лондона и Манчестера давно пользовались такой свободой, как своим правом первородства [65].
Два более старых университета настолько уподобились новым, что перед концом царствования королевы Виктории состав профессоров Оксфорда и Кембриджа был скорее светским, чем духовным, и, кроме того, профессорам теперь разрешалось жениться, сохраняя при этом свое звание членов колледжа. Академические занятия теперь охватывали естественные науки и средневековую и современную историю в такой же мере, как и более древние гуманитарные и математические науки. В последние десятилетия века Кембридж дал миру великих людей науки, подобных Клерку Максвеллу, Рейли и молодому Дж. Дж. Томсону, в то время как архидиакон Каннингхэм закладывал основы экономической истории, а блестящий гений Мэтланда исследовал мышление средневековых людей на основе изучения их законов. Еще более быстрой была перемена, происшедшая в Оксфорде, в котором в первые годы царствования господствовали Ньюмен и его антагонисты, спорившие о чудесах «святых» и об авторитете «отцов церкви». Тридцать лет спустя атмосфера в университете стала совсем иной.
Вторая половина правления Виктории была действительно тем периодом, когда Оксфордский и Кембриджский университеты особенно привлекали внимание публики. Реформа, произведенная в них, особенно уничтожение проверки вероисповедания при занятии академических постов (в 1871году), была одним из главных политических вопросов дня. Либерально настроенный и высокообразованный правящий класс семидесятых годов был ближе к университетам, чем к слабеющей аристократии и возвышающейся плутократии. Гладстон уничтожил патронат во всех государственных учреждениях и сделал конкурсные испытания нормальным условием вступления на государственную гражданскую службу. Это было признанием принятой в Оксфорде и Кембридже системы экзаменов на соискание степени и имело следствием установление более тесной, чем когда-либо, связи университетов с общественной жизнью. Впредь для молодого человека лучшим паспортом становился образованный ум, а не социальное покровительство или протекция привилегированных друзей. Зло экзаменационной системы, особенно ее влияние на школьное образование, еще не проявлялось и не было так велико, как стало с тех пор.
Но, может быть, наиболее характерным достижением последних лет царствования явился «Словарь биографий национальных деятелей». Это не было предприятием университета или государства. Словарь был задуман и щедро финансировался частным лицом, издателем Джорджем Смитом, личная дружба которого со многими авторами побудила его предпринять это замечательное издание. Знаменитый словарь является памятником деловых способностей, просвещенного общественного духа и широко распространенной литературной и исторической начитанности викторианского века в его заключительный кульминационный период. Он является лучшим отчетом о прошлом нации, представленным каким-либо цивилизованным обществом.
В 90-х годах, «в конце века», как тогда говорили, стало заметно большее легкомыслие (если не распущенность), одной из причин которого было, несомненно, постепенное ослабление установленных религиозных верований, с которыми ассоциировался строгий и слегка аскетический моральный кодекс. Когда религия превратилась из «общественной и документированной системы верований, практики и стремлений», какой она была в то время, когда королева вступила на трон, в «обеспечение личных нужд», она не смогла больше влиять на поведение тех, кто не чувствовал для себя такой необходимости. Отказ от обычая еженедельно совершать семейные молитвы и посещать церковь, тяготение к «проведению конца недели вне города», к ипподрому и другим удовольствиям, иногда вполне невинным, а иногда и менее невинным, возглавлялись самим принцем Уэльским (впоследствии Эдуардом VII), выступившим против не разделявшей его взглядов матери и неразумного воспитания. Но наиболее знаменитые писатели этого периода – Мередит, Харди, Уильям Моррис, Стивенсон и Хаузмэн, – хотя и являлись противниками ортодоксальной религии, были, каждый по-своему, столь же глубоко «серьезными», как и ранние викторианцы.
Конфликт между наукой и религией среди образованных классов нашел грубое, но действенное выражение в воинствующем атеизме Чарльза Брэдлоу, проповедуемом с трибун на массовых митингах трудящихся; в то же время последнее великое евангелическое оживление – Армия спасения, основанная «генералом» Бутом, распространила энтузиазм «обращения», совершаемого по обряду, установленному Уэсли, на армию бездомных и голодных, на пьяниц, преступников и проституток. То, что Армия спасения производила большее впечатление своими методами, чем более старые нонконформистские корпорации, являлось знаменем наступающей эры. Было нечто новое в использовании на службе протестантской религии уличных оркестров и пестрых мундиров. Не менее знаменательно было то, что Армия спасения рассматривала социальную деятельность и заботу о материальных условиях бедноты и бездомных как существенную часть христианской заботы о душах людей. В значительной мере по этой причине ее влияние стало постоянной чертой современной английской жизни. Это влияние зависело не только от одной тенденции к возрождению.
Другим движением, аналогичным Армии спасения по своему сочетанию религиозных и социальных мотивов, было движение «Всеобщей воздержанности», или «Трезвости». Пьянство и огромные расходы на напитки составляли одно из величайших зол городской жизни, одну из главных причин преступлений и разрушения семей, особенно с тех пор, как спирт в значительной степени занял место пива. Наши знаменитые карикатуристы выставляли напоказ эту неприятную сторону английской натуры, начиная от серии «Переулок джина» Хоггарта до картин Джорджа Круикшенка «Бутылка» и «Дети пьяницы» (1847-1848), распространявшихся десятками тысяч. В последующие годы организованная и довольно успешная атака на привычку к пьянству всех классов была предпринята «Армией синих лент»: сторонники полного воздержания от алкоголя носили на груди синюю ленту, обязуясь этим перед лицом всего мира сдержать свое обещание. В семидесятых годах движение за воздержание от алкоголя, особенно сильное среди нонконформистов, стало значительной силой среди либеральных политиков, но в их законодательных предложениях об уничтожении торговли спиртными напитками были элементы фанатизма, что надолго задержало более практические меры. Это движение лишь способствовало лучшей организации деятельности тех, кто получал выгоду от распространения пьянства; пивоваренные компании были поддержаны большой армией пайщиков, и в последние десятилетия века они овладели консервативной партией, которая с 1886 года играла господствующую роль в управлении страной.
Возрастание приятности и уменьшение однообразности жизни, появление соперничающих развлечений и занятий, таких, как чтение, музыка, театр, тщательно организованные игры, велосипедные прогулки и осмотры достопримечательностей, проведение праздничных дней в деревне или на морском берегу и, особенно, активизация духовной деятельности, рост образованности и большая комфортабельность жилищ – все способствовало тому, что стали поощряться не только «полная трезвенность», но и умеренное потребление вина и пива. Все эти обстоятельства помогли нейтрализовать непреодолимое желание тупиц прибегнуть к бутылке, стоящей в буфете, и уменьшили притягательную силу огней «джиновых дворцов», манивших к себе на дождливой негостеприимной улице обещанием тепла и радушного приема. Кроме того, пивоваренные компании, испуганные или пристыженные, постепенно перешли к более просвещенным методам в управлении теми трактирами, которые находились под их контролем, делая их более приличными, охотнее продавая в них и другие предметы, помимо напитков, и меньше стремясь выпроводить своих потребителей совершенно пьяными. Закон Бальфура 1904 года о лицензиях нашел наконец практический способ сокращения огромного количества кабаков.
В XX столетии пьянство встретило новых врагов в лице кино, расположенного на углу улицы, и радио, находящегося дома; а рост числа профессий, требующих квалификации и технических знаний, особенно вождение автомобиля, еще больше способствовал трезвости. Азартные игры, возможно, стали теперь причинять больше вреда, чем пьянство. Однако к моменту смерти Виктории пьянство еще оставалось большим злом во всех слоях общества, более широко распространенным, чем в наши дни, хотя уже значительно меньшим, чем в тот момент, когда она вступила на трон.
В Викторианскую эру значительное влияние на жизнь общества оказала фотография. Уже в 1871 году она провозглашалась неким наблюдателем как «величайшее благодеяние, которое было даровано за последние годы более бедным классам».
«Всякий, кто знает, какое значение имеет семейная привязанность среди низших классов, и кто видел собранные под одной рамкой, висящей над очагом рабочего, маленькие фотографии тех, кого жизнь уже разбросала, – мальчика, который, «уехал в Канаду», и девочки, которая «пошла в услужение», золотоволосого крошку, спящего среди маргариток, дедушки, живущего в деревне, – каждый, кто видел это, может быть, согласится со мной, что, противодействуя тенденциям, социальным и промышленным, которые ежегодно подрывают наиболее сильные семейные привязанности, шестипенсовая фотография сделала для бедноты больше, чем все филантропы мира».
Как наиболее дешевая и наиболее точная форма изготовления портретов, фотография действительно дала всем классам продолжение волнующих и приятных воспоминаний об умерших, об отсутствующих, о прошедших годах, происшествиях и дружеских компаниях.
Польза ее влияния на искусство была более сомнительной. Многие тысячи художников прежде существовали благодаря спросу на портреты, на точные изображения событий, пейзажей и зданий и на копии знаменитых картин. Теперь все это доставляла фотография. Уменьшив значение живописи как ремесла и превзойдя ее в реалистическом воспроизведении деталей, фотография вынудила художника все больше и больше искать прибежища в теории, в серии измышляемых экспериментов, в искусстве для искусства.
Если сравнить английский язык конца царствования Виктории с языком последних лет правления Елизаветы, то мы увидим, что это тот же самый язык: современный англичанин может легко понять Библию 1611 года и наиболее идиоматические диалоги Шекспира, во всяком случае, значительно легче, чем Чосера. Три столетия, разделяющие Елизавету и Викторию, были периодом бурного развития различного рода литературной деятельности, направляемой образованным высшим классом, который защищал язык от значительных изменений в грамматике или в структуре существующих слов. Но в другом отношении язык изменился – из средства выражения для поэзии и эмоций он стал средством выражения для науки и журналистики. Елизаветинец, читающий статью из викторианской газеты или слушающий беседу современных образованных людей, был бы поставлен в тупик длинными неизвестными ему словами, которые обычно образовывались от латинских слов не для целей поэзии, но для прозаических целей науки и журналистики и для обсуждения социальных и политических проблем: оппортунист, доводить до минимума, интернациональный, центробежный, коммерциализм, децентрализовать, организация и еще более специализированные термины естествознания – все эти слова являются полезным, но непривлекательным жаргоном.
Во второй половине XIX столетия «капитал» и «труд» расширяли и совершенствовали на современный лад свои соперничающие организации. Многие из старых фамильных фирм были заменены «компаниями с ограниченной ответственностью», с их бюрократической системой оплачиваемых управляющих. Эта перемена удовлетворяла технологические потребности нового века привлечением большого количества профессионалов и предотвратила тот упадок работоспособности, который обычно разрушал состояние фамильных фирм во втором и третьем поколении после их энергичного основателя. Кроме того, это был шаг от индивидуальной инициативы к коллективизму и к муниципальным и государственным предприятиям. Железнодорожные компании, хотя они еще оставались частными предприятиями, деятельность которых должна была обеспечить выгоды пайщиков, были уже совсем непохожи на старые фамильные предприятия. Они существовали в силу законов парламента, который даровал им власть и привилегии в обмен на государственный контроль. В то же самое время крупные муниципалитеты стали заниматься обеспечением налогоплательщиков освещением, трамвайным сообщением и другими видами услуг.
Рост «компаний с ограниченной ответственностью» и муниципальных предприятий имел важные последствия. Такие обширные безличные манипуляции капитала и промышленности значительно увеличивали число и значение пайщиков как класса, как элемента в национальной жизни, представляющего безответственное богатство, отделенное от земли и обязанностей землевладения и почти в равной степени отделенное от ответственного управления делами. В течение всего XIX века Америка, Африка, Индия, Австралия и некоторые европейские страны развивались главным образом благодаря британским капиталам, и британские акционеры, таким образом, обогащались благодаря охватывающему весь мир стремлению к индустриализации. Возникали города, подобные Борнемуту и Истборну, где поселялись те обширные «приличные» слои общества, которые уединялись и там проживали свои доходы, вступая в общение с остальным обществом только для получения дивидендов и во время случайных посещений собраний пайщиков, куда они являлись, чтобы держать в страхе правление. С другой стороны, «быть пайщиком» значило иметь досуг и свободу, которые многими людьми поздневикторианской эпохи были использованы для высочайших целей цивилизации.
«Пайщик» как таковой ничего не знал о жизни, мыслях и нуждах рабочих, нанимаемых той компанией, в которой он имел пай, и его влияние на отношение капитала и труда не было положительным. Оплачиваемый управляющий, действующий в интересах компании, находился в более непосредственных отношениях с людьми и их нуждами, но даже он редко имел ту близкую личную осведомленность о положении рабочих, которую часто имел хозяин при более патриархальной системе теперь исчезающих старых фамильных предприятий. Правда, сам объем операций и количество рабочих, занятых в них, делали невозможными такие личные отношения. К счастью, однако, возрастающее влияние и организационное укрепление тред-юнионов, по крайней мере среди всех квалифицированных профессий, давали рабочим возможность встречаться с управляющими компаний, которые нанимали их на более равных условиях. Суровая дисциплина стачки и локаута научила обе стороны уважать силу друг друга и понимать ценность справедливых переговоров.
При этих условиях возрастающий национальный дивиденд скоро стал распределяться между классами более справедливо. Но различие между капиталом и трудом и личное отделение предпринимателя от рабочего в их обычной жизни продолжали увеличиваться. Сам факт, что в рабочих районах организовывались филантропические «сеттльменты», чтобы показать буржуазии, имеющей добрые намерения, как живет беднота, – сам этот факт был весьма знаменателен. Поэтому марксистские доктрины о неизбежности «классовой борьбы» стали в конце столетия распространенными, а более оппортунистический коллективизм, проповедуемый Фабианским обществом, стал еще более влиятельным.
Однако эти доктрины были слишком теоретическими для того, чтобы сильно затронуть английского рабочего. Но уже не теория, а практическая необходимость защищать права тред-юнионов против законов, выработанных на основе судебных постановлений, заставила трудящихся организовать свою собственную политическую партию. Практическая деятельность английских судов, к несчастью, обычно показывала, что свободы, которые парламент намеревался даровать тред-юнионам своими законами, на самом деле вовсе не были дарованы ими. Согласно закону 1825 года, тред-юнионы и объединения для борьбы за повышение заработка были легализованы – по крайней мере парламент, и все люди в течение сорока лет предполагали, что это так. Но в 1867 году при рассмотрении дела котельщиков судьи, возглавляемые лордом – главным судьей, решили, что профсоюзы, будучи «препятствием для производства», являются незаконными ассоциациями. К счастью, по биллю о реформе того же года трудящиеся классы получили право парламентского представительства и, следовательно, возможность добиваться удовлетворения своих требований путем конституционного давления на политических деятелей. Впоследствии проведенный Гладстоном в 1871 году закон вернул тред-юнионам право существования на очень благоприятных условиях, а закон Дизраэли (1875 года) узаконил «мирное пикетирование».
Согласно этим законам, судьи оставили тред-юнионы в покое в течение жизни следующего поколения, когда движение распространилось из квалифицированных отраслей труда и на неквалифицированные, особенно в 1889 году, во время крупной стачки лондонских докеров. В конце столетия тред-юнионизм был в большинстве отраслей промышленности и в большинстве районов Англии очень сильным оружием защиты заработной платы рабочих – оружием, употребляемым в целом весьма разумно. Затем в 1901 году судьи вновь нанесли удар своим решением по делу Таффской долины, когда работа предыдущих парламентов была вновь уничтожена и стачечные действия союзов были вновь объявлены незаконными. Это решение ускорило образование лейбористской партии как самостоятельной фракции в парламенте в начале нового столетия и привело к закону 1906 года, который обеспечил тред-юнионам весьма важный иммунитет от судебных исков. Но эти события относятся к другой главе социальной истории и находятся вне пределов и атмосферы викторианской Англии.
В конце царствования и в конце столетия еще существовало так называемое «феодальное» общество сельской местности, но оно существовало при изменившихся условиях, указывающих на прогресс демократии даже в сельской Англии и на проникновение в деревенскую жизнь сил и идей города. В следующем поколении с появлением автомобильного транспорта вторжение городской жизни в сельские области, обратившее всю Англию в пригород, было бурным, как наводнение. Но к моменту смерти Виктории (1901) процесс еще не зашел так далеко, сельские дороги и тропинки еще оставались сельскими дорогами и тропинками со всем их сонным очарованием, сохранявшимся в течение многих столетий, которое не нарушали даже многочисленные велосипедисты, пользовавшиеся этими тропинками. Еще процветали «сельские особняки», большие и маленькие, с их охотничьими компаниями и городскими гостями, приглашенными на конец недели, а система поместий еще оставалась тем методом, по которому было организовано английское земледелие.
Но «сельские особняки» и имения уже в меньшей степени поддерживались за счет снизившейся из-за американского импорта сельскохозяйственной ренты, которая к тому же не уплачивалась в срок. Развлечения, устраиваемые в «сельских особняках», и деловые мероприятия в имении финансировались теперь за счет денег, извлеченных владельцем из промышленности или из других источников или из его доходов в качестве крупного землевладельца в городских районах. Он еще оставался сельским джентльменом, но главную часть доходов получал из других источников. Британское земледелие как экономическое предприятие рушилось. При таких обстоятельствах поместная система, «феодальная» в той мере, в какой она могла еще быть феодальной, оставалась весьма популярной в сельской местности, потому что привлекала деньги из промышленного мира для поддержания приходящего в упадок земледелия и потому что сквайр и его семья вносили в деревенскую жизнь интерес к образованию и дружественное руководство.
Еще до появления автомобиля вместе с наступлением нового столетия прежняя деревенская жизнь превратилась в нечто пол у пригородное благодаря проникновению из города газет, идей, посетителей и новых обитателей. Контраст между демократическим городом и «феодальной» сельской местностью, характерный для Англии в середине царствования Виктории, стал менее заметным в последние десятилетия века. В результате закона 1870 года об образовании все сельскохозяйственные рабочие следующего поколения и женщины из их семей умели читать и писать. К несчастью, образование не было направлено на то, чтобы поощрять в батраках разумный интерес и привязанность к сельской жизни. Новое образование было задумано и находилось под контролем городских людей, склонных создавать клерков, а не крестьян. Незадолго до смерти Виктории «Дейли мейл» уже читали и на скамье деревенского трактира, и под соломенной кровлей крестьянского хижины. Своеобразный сельский склад ума подвергался урбанизации, а местные традиции стала заменять общенациональная банальность быта.
В области политики город и деревня также становились сходными. В 1884 году сельскохозяйственный рабочий получил право выбирать в парламент, которое отрицалось за ним в 1867 году, когда его собрат из города получил право парламентского представительства. Благодаря баллотировочному шару батрак мог голосовать так, как он хотел, не считаясь с фермером или лендлордом. Доказательство этого было получено во время общих выборов 1885 года – первых выборов, происходивших по новому закону о парламентском представительстве. В этом случае города голосовали за консерваторов, а графства неожиданно – за либералов вопреки сквайрам и фермерам. В отношении парламентских выборов тот контроль над английской сельской жизнью, который сквайр осуществлял в течение многих столетий, фактически пришел к концу. За этим неизбежно последовало то, что местное правительство графств также должно было формироваться на выборной основе.
Поэтому в 1888 году закон о местном управлении учредил выборные советы графств как административные органы сельской жизни вместо патриархальной власти мировых судей. Мировые судьи сохранили, как магистраты, свои судебные функции. Но их административные функции были переданы выборным советам графств, усиленным спустя несколько лет созданием выборных городских и сельских окружных советов. Таким образом, более чем через пятьдесят лет после закона 1835 года о муниципальной реформе, установившего демократическое местное управление в городах, тот же самый принцип был применен к сельским районам. По иронии судьбы сельскохозяйственный рабочий получил право голоса на парламентских и местных выборах только после того, как в связи с американской конкуренцией и падением цен на продукты наступило разрушение английскойсельскохозяйственной жизни. Батраки, если они оставались в сельской местности, могли теперь участвовать в ее управлении, но фактически толпами уходили в города.
Закон 1835 года о муниципальной реформе коснулся лишь ограниченного числа городов, но благодаря закону 1888 года о местном управлении схема городского самоуправления была распространена на всю Англию.
Составители закона 1835 года уклонились от проблемы управления столицей: большой Лондон, то есть весь Лондон, вне границ старого Сити, не имел единства администрации. Пятьдесят лет спустя запутанный хаос властей, функции которых частично совпадали, еще руководил делами пяти миллионов жителей столицы до известной степени случайно. Закон 1888 года о местном управлении покончил (хотя и с большим запозданием) с этим ненормальным положением. Он учредил совет лондонского графства, который с тех пор и управлял Лондоном, за исключением территории древнего Сити, оставленного, как исторический памятник, под властью лорд-мэра и олдерменов. Иностранцы приезжают посмотреть лорд-мэра, но главой лондонского правительства является председатель совета лондонского графства.
Новорожденный совет лондонского графства сразу начал жить энергичной жизнью и за первые двадцать лет своего существования провел в жизнь много новых планов в области социального благосостояния. Лондонский школьный совет также осуществил в этот же период много важных экспериментов в области образования, пока его деятельность не была, согласно закону 1902 года об образовании, поглощена деятельностью совета лондонского графства. Это быстрое развитие местного управления Лондона, до сих пор столь отсталого, осуществлялось прогрессивной партией, которая на одних выборах за другими получала большинство в совете. Она называлась прогрессивной партией, так как не была совершенно идентичной ни либеральной, ни лейбористской партии, хотя имела много общего с обеими. Эта партия существовала только для муниципальных целей, и поэтому люди, которые голосовали за консерваторов на парламентских выборах, могли голосовать за нее на выборах совета графства. Обычный лондонский избиратель девяностых годов был консерватором и империалистом в национальной политике, но он хотел демократических социальных улучшений для себя идля своего города. В этой атмосфере муниципально-прогрессирующего Лондона процветало Фабианское общество; идейное руководство фабианских публицистов, Сиднея и Беатрисы Уэбб и Грэхема Уоллеса, было тесно связано с прогрессивным городским управлением Лондона. Но наиболее популярным в массах лондонского населения вождем был Джон Бернс, который стал олицетворением грядущего союза лейбористов и либералов. Джон Бернс из Бэттерси был первым великим апостолом лондонского патриотизма, столь отличного от тщеславия Сити, зажатого теперь в своих прежних границах, как благородный памятник прошлого.
Города, следовательно, в последние десятилетия царствования Виктории испытали быстрое улучшение санитарного состояния, освещения, средств передвижения, общественных библиотек и бань и до некоторой степени и жилищ. Примеру, поданному в этом вопросе в семидесятых годах муниципалитетом Бирмингема, руководимым Джозефом Чемберленом, а двадцать лет спустя – советом лондонского графства, последовали и в других местах. Такое стремление местных властей улучшить жизнь горожан центральное правительство поддерживало при помощи ассигнований из налоговых средств в дополнение к местным налогам при условии благоприятных отчетов правительственных инспекторов.
Это движение за муниципальную реформу, поддержанное государством, предотвратило социальную катастрофу. Смертность, столь высокая в городах ранневикторианского периода, быстро падала, городская жизнь с чисто материальной стороны делалась более сносной, а начальное образование стало всеобщим. Тем не менее во многих отношениях городская жизнь была для XX столетия печальным наследством. Современный город, разрастающийся без всякого плана, лишен определенной формы и очертаний; он представляет угнетающую клетку для человеческого духа. Городская и пригородная жизнь современной Англии не действует на воображение, как действовала старая деревенская жизнь на нашем острове или городская жизнь античной и средневековой Европы. Гражданская гордость и гражданское соперничество между промышленными городами севера были чисто деловыми, а вовсе не эстетическими. Одной завесы дыма и сажи было достаточно, чтобы отбить охоту к каким бы то ни было стремлениям к красоте или радости во внешней стороне жизни.
Новые города были слишком большими, чтобы иметь какое-то индивидуальное единство или характер или даже выглядеть так, как выглядели Афины, Рим, Перуджа, Нюрнберг, тюдоровский Лондон и тысячи других старинных городов. И в довершение несчастья городского планирования в Викторианскую эпоху практически не существовало. Государство разрешило землевладельцам и спекулянтам-подрядчикам застраивать современную Англию в соответствии с их частной выгодой, очень часто совершенно не думая об общественных удобствах или благополучии. На обширных территориях Лондона и других городов не существовало открытых пространств, специально отведенных для детей, единственным местом для игр которых вне школьного двора оставалась суровая и безобразная улица. Для миллионов людей отрыв от природы был полным и столь же полным был отрыв от всякого благородства, красоты и выразительности в пустынях больших улиц, на которых эти миллионы воспитывались как в преуспевающем пригороде, так и в трущобе. Новое образование и новая журналистика являлись результатом этой обстановки и разделяли ее природу. Нация, воспитанная при таких условиях, могла сохранить многие сильные черты характера, могла даже, при лучшей пище и одежде, улучшаться в физическом отношении, могла развить острый ум и смелое, бодрое, юмористическое отношение к жизни, но сила ее воображения неизбежно должна была уменьшиться; начался период постепенной стандартизации человеческой личности.
1870 год был поворотным моментом в истории образования и, следовательно, в социальной истории. Образование было не только национальной потребностью, с необходимостью которой соглашались политические деятели; оно было также главной ареной столкновений между религиозными сектами. Главной причиной отставания английского образования в середине царствования Виктории являлось то, что ни одно правительство – ни вигов, ни тори – не могло придумать способа установления такой национальной системы образования за общественный счет, которая не была бы горчайшим оскорблением или для диссидентов, или для англиканской церкви. До отважного начинания Гладстона в 1870 году все правительства отступали перед опасностью погрузиться в это море беспокойств. Сеть добровольных школ, оплачиваемых при помощи частных пожертвований, распространилась благодаря религиозному и сектантскому рвению по всей стране, но в то же время это рвение отпугивало обе политические партии от энергичного разрешения вопроса об образовании как национального дела.
Подавляющее большинство школ, содержащихся на добровольные взносы, благодаря которым осуществлялось первоначальное образование народа, было организовано на церковных принципах: эти школы были известны как «национальные школы», потому что основывались Национальным (англиканским) обществом. Эти школы с 1833 года получали очень маленькую дотацию от государства. Гладстоновский билль 1870 года был делом У. Э. Форстера, пылкого священника, хотя и квакера по происхождению. Билль Форстера удвоил государственное пособие существующим церковным и римско-католическим школам, что дало им возможность стать постоянной частью новой системы; в то же время билль учредил школы, находящиеся под прямым контролем местной общественности, чтобы заполнить большие «белые пятна», существующие на карте размещения школ страны. Эти новые школы, называемые «правленческими школами», должны были содержаться за счет местных налогов, и управлять ими должны были избранные всем местным обществом школьные правления (советы). В большинстве старых школ, содержавшихся за счет добровольных пожертвований, то есть во всех «национальных школах», обязательно сохранялось религиозное обучение. Но в новых «правленческих школах» употребление катехизиса или церковных книг какой-либо секты для религиозного обучения запрещалось законом.
Диссиденты были недовольны тем, что государство таким образом увековечило в деревнях англиканские церковные школы, ибо в каждой деревне существовала только одна школа, в которую могли ходить все дети. В городах «правленческие» и «добровольные» школы существовали бок о бок. Очень Неудачным было то, что англиканские церковные школы были основаны главным образом в деревнях, где не было других школ. В значительной мере так обстоит дело и сегодня (1941), но теперь это вызывает меньше негодования, чем в 1870 году, отчасти потому, что враждебность между англиканцами и диссидентами значительно ослабла, а отчасти потому, что законом Бальфура 1902 года англиканские церковные школы были в значительной мере подчинены контролю советов графств, являвшихся общественной властью и в вопросах образования.
Благодаря религиозному компромиссу 1870 года Англия смогла достичь (лучше поздно, чем никогда!) системы всеобщего начального обучения, без которой должна была бы скоро оказаться позади современных наций. Между 1870 и 1890 годами средняя посещаемость школ возросла с одного с четвертью до четырех с половиной миллионов, в то время как денег на каждого ребенка тратилось вдвое больше.
Но государство все еще мало делало в области среднего образования; ничего не сделало оно и для того, чтобы обеспечить детям, проявившим в начальных школах наибольшие способности, возможность поступить в университет. Новые школьные советы занимались только начальным образованием. В 1900 году суд в своем пресловутом решении Кокертона заявил, что, согласно закону 1870 года, деньги налогоплательщиков не могут расходоваться на какую-либо форму среднего или высшего образования.
Другим дефектом этого мероприятия была незначительность сферы деятельности школьного совета. Школьный совет, ограниченный в своей деятельности масштабами одного города или одной деревни, не мог иметь широкой перспективы в вопросах образования. Узость этих рамок его деятельности придавала вражде англиканцев и диссидентов более личный и резкий характер.
Эти дефекты закона 1870 года были исправлены бальфуровским законом 1902 года об образовании, разработанным по инициативе крупного общественного деятеля Роберта Моранта. Этот закон уничтожил школьные советы и передал заботу об образовании, и начальном и среднем, выборным советам графств и некоторым крупным городским советам.
Такова наша система и сегодня. Советы осуществляют свою просветительную деятельность через комитеты по вопросам образования. Улучшения, вызванные расширением сферы деятельности и кругозора этих комитетов, принесли большую пользу для начального образования, но еще большую – для среднего; билль Бальфура создал ту лестницу, по которой можно было достичь университета.
Без законов 1870 и 1902 годов об образовании Англия не смогла бы состязаться с другими странами в начавшуюся в XX веке эпоху механизации и организации, и ее народ погрузился бы в варварство необразованного городского населения, являвшегося значительно худшей формой общества, чем необразованное сельское население прежних времен, когда сознание и характер пахаря и ремесленника формировались под влиянием природы, сельскохозяйственной жизни и старой системы ученичества.
Наша современная система народного образования была действительно необходима и принесла большие выгоды стране, но в некоторых важных отношениях она вызвала разочарование. Система, выработанная в городе, не могла удовлетворить сельские нужды, отличный характер которых министерство просвещения не признавало. Эта система скорее ускорила, чем приостановила массовый уход из сельских местностей. В целом благодаря ей многочисленное население страны уже умело читать, но не умело разбираться, что стоит читать, а чего не стоит, то есть являлось легкой добычей для сенсации и бесчисленных обманных призывов. Соответственным образом с 1870 года значительно понизилось качество литературы и журналистики, так как теперь они служили для удовлетворения запросов миллионов полуобразованных людей, предки которых, будучи не в состоянии читать вообще, не были покровителями газет и книг. Небольшой высокообразованный слой общества уже не устанавливает норм в той степени, в которой он это обычно делал, а стремится усвоить нормы большинства. Будут ли в XX или XXI столетии более высокие формы литературы и журналистики совершенно поглощены более низкими – будет видно. Если этого не произойдет, то только благодаря улучшенному среднему и высшему образованию, создавшему достаточно широкий класс, чтобы увековечить спрос на те произведения, которые действительно достойны чтения.
Тема этой книги ограничена социальной историей Англии и не включает обширного и разнообразного пространства земель за океаном, объединенных в Британское содружество наций и колоний. Но социальная жизнь маленькой Англии была бы совсем иной, если бы Англия не была центром великой морской торговли и, кроме того, центром империи. Мы долго гордились тем, что являемся мореходным народом; это было частью островного обычая. Но осознание нашей роли в империи, центром которой мы стали, далеко отстало от действительности. В середине XIX столетия народные патриотические песни еще прославляли «приятный, маленький, прочный остров». И об этом острове совсем не думали как о сердце «империи, в которой никогда не заходит солнце». Эта сторона нашего положения в мире была впервые вполне оценена во время двух юбилеев королевы Виктории (1887 и 1897), когда пышное зрелище отдаленных и разнообразных земель, представители которых прибыли, чтобы выразить преданность маленькой даме в сером, впервые развернулось с удивительным эффектом на лондонских улицах.
Однако и при жизни прошлых поколений образ мыслей и жизненные привычки в английских городах и деревнях подверглись сильному влиянию заокеанских связей. В XVIII столетии чай и табак стали в такой же мере национальным продуктом, как мясо и пиво. И уже в XVII столетии отважные и недовольные соотечественники отправлялись через океан, сначала в американские колонии, затем в Соединенные Штаты, в Канаду, в Австралию, в Южную Африку. Правда, до XIX столетия эмигранты обычно уезжали навсегда и после этого о них уже мало было слышно. Но в царствование Виктории, когда поток эмиграции был сильнее, чем когда-либо, почтовая марка обеспечивала поддержание связи между родителями, живущими в своей хижине в Англии, и сыном, который «уехал в колонию», а затем часто приезжал на время «побывать на родине» – с деньгами в кармане и с рассказами о новых землях равенства и самопомощи и, может быть, со снисходительным презрением к отсталым старым обычаям родины. Благодаря этому средние и низшие слои общества знали об империи столько же, сколько и высшие слои, а о Соединенных Штатах, пожалуй, даже больше, чем высшие (как это выяснилось во время гражданской войны 1861 – 1865 годов). Но интеллигенция и представители высших слоев также разъезжались по всем уголкам мира «делать карьеру» – управлять, торговать и охотиться на крупного зверя в Африке и в Индии. И все рядовые в армии знали Индию настолько, насколько ее можно было видеть, находясь в строю.
Таким образом, обширный и разнообразный заморский опыт навсегда вливался в каждый город и каждую деревушку викторианской Англии. Со времени Тюдоров влияние моря было сильно даже в нагорных деревнях, ни одна из которых не отстояла далее чем на семьдесят миль от устьев рек, впадающих в море. А к старому морскому влиянию было в равной мере добавлено колониальное. Наш островной народ был в некоторых отношениях наименее островным из всего человечества. Европейцам мы казались островитянами, потому что мы не жили на континенте. Но наш опыт и возможности были большими, чем у народов других стран.
Викторианское процветание и викторианская цивилизация, схожие и в более грубых, и в более высоких проявлениях, были обязаны своим существованием тому, что целое столетие Англия не вела крупных войн и не подвергалась какой-либо серьезной национальной опасности. Пользуясь безопасностью под защитой флота, англичане думали обо всех проблемах жизни в условиях мира и безопасности, которые были на деле результатом временных и местных обстоятельств, а не являлись частью всеобщего порядка природы. Ни одна из великих стран, за исключением говорящей по-английски Америки, никогда не была столь крайне штатской по своим мыслям и практике, как викторианская Англия.
Служба в армии в невоенное время рассматривалась средними классами и трудящимися как позорное занятие.
Это были вульгарные взгляды, особенно когда они сопровождались случайными порывами джингоизма, подобными тем, которые предшествовали Крымской и Бурской войнам и чуть не вызвали несколько других. Но в течение ста лет после Трафальгара и Ватерлоо это не привело к роковым результатам. Мы владели морями и океанами, которые были тогда полем человеческой деятельности. В целом наше господство на океанах и вдоль берегов всего света использовалось в XIX веке для защиты мира, доброй воли и свободы. Если бы оно было уничтожено, человечество стало бы дышать более затхлым воздухом.
Беспечные викторианцы мало знали о духе и внутренних делах милитаризированного континента, около которого находится этот зеленый и счастливый остров. Они больше знали о делах и людях Австралии, Америки и Африки. Европа с ее Альпами, картинными галереями и древними городами была для англичанина местом развлечения. Мы были островитянами с заморской империей, а не жителями континента. Мы были матросами, а не солдатами. Мы думали о европейской политике не с точки зрения власти или нашей национальной безопасности, но соответственно тому, нравились или не нравились нам правительства Турции или России, Наполеон III или итальянское Рисорджименто. Иногда мы были правы в этих симпатиях, иногда ошибались. Но, во всяком случае, здесь не могло быть последовательной национальной политики и вооружения, приспособленного к этой политике. Для англичанина иностранные дела были отраслью либеральной и консервативной политики, слегка окрашенной эмоциями, делом вкуса, а не вопросом существования.
В Викторианскую эпоху такое отношение было допустимо без гибельных последствий. Но когда царствование и столетие подошли к концу, стала неизбежной грозная революция во всех человеческих делах. Был изобретен двигатель внутреннего сгорания, и должно было стать очевидным, что это ведет к уничтожению расстояний. Легковой автомобиль и грузовик, подводная лодка, танк, самолет должны были положить начало новой эпохе, весьма отличной от прошлого, как в период мира, так и в период войны. Англия же была той страной, которую это затронуло в наибольшей степени, так как она наполовину утратила выгоды своего островного положения. Господство на море нельзя больше удерживать только при помощи кораблей, и, сохранялось оно или нет, самолет мог осквернить тысячелетние святыни мирного острова. При таких условиях, если бы наше легкомысленное отношение к силе континента и наш совершенно штатский образ мыслей, наш отказ вооружаться в соответствии с новыми потребностями продолжались слишком долго, это могло бы стать очень опасным.
И даже в мирное время нового века автомобильный транспорт произвел более быструю экономическую и социальную революцию за первые сорок лет XX столетия, чем смогли произвести железные дороги и паровые машины. В век железных дорог, дополняемых конным транспортом и велосипедами, темп изменений – исчезновение местных и провинциальных различий – был хотя и быстрым, но все же ограниченным. Теперь же, при этих новых условиях, Англия обещала стать одним огромным, беспорядочным пригородом. Автомобильный транспорт создал настоятельную необходимость для государства контролировать развитие всего острова, но, к несчастью, это дело было предоставлено случаю и строителям-предпринимателям. Политическое общество не могло сразу приспособить свой образ мыслей к новым условиям, появляющимся с беспримерной быстротой.
Но в этом позднейшем периоде имеются и хорошие моменты. За первые сорок лет нового столетия прогресс, особенно в области образования и социального обслуживания населения, в действительности оказался столь огромным, что большего и нельзя было ожидать от ограниченной человеческой мудрости. Материальное положение трудящихся в 1939 году было намного лучше, чем в год смерти королевы Виктории.
Что теперь произойдет с Англией в мирное время и во время войны, историк не более способен предсказать, чем всякий другой. А грозные перемены, которые уже совершились за первые сорок лет нового столетия, несомненно, в скором времени будут выглядеть не так, как представляются нам теперь, и предстанут в новой исторической перспективе, Поэтому лучшим моментом для окончания социальной истории Англии является момент смерти королевы Виктории и конец века железных дорог.
[1]Поэма Ленгленда «Видение о Петре Пахаре» отражала настроения английского крестьянства XIV века. Петр Пахарь – символ крестьянина-труженика. – Прим. ред.
(обратно)[2] Беньян Джон (1628-1688) – проповедник, автор аллегорических произведений «Путешествие пилигрима», «Духовная война». – Прим. ред.
(обратно)[3]Гоуэр Джон (ок. 1330-1408) – современник Чосера, автор ряда литературных произведений. – Прим. ред.
(обратно)[4] Уиклиф Джон (ок. 1330-1384) – английский священник, один из предшественников Реформации. Выступал против папской власти, требовал секуляризации земель церкви, отрицал некоторые таинства и обряды. – Прим. ред.
(обратно)[5]Болл Джон (?-1381) – английский народный проповедник, последователь Уиклифа. Один из вождей восстания 1381 года под руководством Уота Тайлера. Казнен. – Прим. ред.
(обратно)[6]Джингоизм – крайний шовинизм. Этот термин стал употребляться в Великобритании в последней трети XIX века. – Прим. ред.
(обратно)[7] Термин «йомен» обозначал любой тип деревенского жителя среднего класса, обычно землевладельца, по иногда слугу или вооруженного рыцаря из свиты крупного магната. Представление, что йомен должен быть свободным держателем, владельцем своей собственной земли, действительно весьма позднего происхождения. – Прим. авт.
(обратно)[8]Т. е. вилланами. – Прим. ред.
(обратно)[9] Бейлиф – управляющий имением феодала. – Прим. ред.
(обратно)[10]Джон Гонт (1340-1399) – герцог Ланкастерский, четвертый сын Эдуарда III. – Прим. перев.
(обратно)[11]Мартынов день – церковный праздник, отмечавшийся осенью. – Прим. ред.
(обратно)[12]В XV веке члены корпорации Кингс-колледжа в Кембридже съедали или продавали ежегодно от двух до трех тысяч голубей из большого голубятника в своем поместье Гранчестер. – Прим. авт.
(обратно)[13]Кембридж был защищен не городской стеной, а водой: с запада рекой, а с востока королевским рвом. – Прим. авт.
(обратно)[14]К углю как топливу для обогревания домов относились с предубеждением до тех пор, пока недостаток дров не стал делать его употребление все более и более обычным. По всей Англии до зпохи Тюдоров он употреблялся главным образом кузнецами и при обжиге известняка. – Прим.авт.
(обратно)[15]До появления в XVIII веке сложного машинного оборудования капитализм еще не означал фабричного производства. Кроме рабочих для сукноваляльных мастерских, работавших на водяных двигателях, капиталист нанимал рабочих различных специальностей, работавших у себя на дому и пользовавшихся собственными инструментами и своим оборудованием. Это была так называемая «домашняя» система промышленности. Капиталисту фактически оставалось только предоставлять склады для хранения товаров. – Прим. авт.
(обратно)[16]Уэсли Джон (1703-1791) – англиканский священник, основавший методистскую церковь, выделившуюся из англиканской. – Прим. ред.
(обратно)[17]Конвокации – провинциальные собрания английского духовенства; решали вопросы церковной жизни. – Прим. ред.
(обратно)[18]Слово «clerk» в английском языке имеет два значения: 1) клирик, духовное лицо: 2) клерк, чиновник, служащий. – Прим. ред.
(обратно)[19]Фактически многие священники, включая приходских, были женаты. Такие браки были незаконны и недействительны, но их не расторгали до возбуждения дела. Другие жили в незаконном сожительстве более или менее длительного характера. Большая частьанглийского духовенства всегда протестовала против правила о безбрачии духовенства, постепенно введенного на Британских островах после нормандского завоевания. Борьба против этого правила продолжалась вплоть до Реформации, принесшей победу противникам безбрачия. – Прим. авт.
(обратно)[20]Манориальная курия – собрание крестьян, держащих землю владельца данного манора. – Прим. ред.
(обратно)[21]В Англии после периода использования тонкого кирпича и черепицы во времена римского господства кирпич вообще не употребляли до тех пор, пока в XIV столетии его не начали ввозить из Фландрии. В XV веке кирпич широко применяли в тех частях восточных графств, где было мало или совсем не было камня, за Исключением затвердевшей глины, и где теперь уже не хватало строевого леса. В Англии уже делали кирпичи из местной глины. – Прим. авт.
(обратно)[22]Это были сражения все той же пехоты, что дралась и пр Креси и Азенкуре, стрелков, стрелявших из лука, рыцарей и сол дат, сражавшихся рядом со стрелками. Но теперь уже иногда на полях сражения с успехом применялись пушки. – Прим. авт.
(обратно)[23]Гаррисон Уильям (1534-1593) – приходский свяшенник историк, автор труда «Описание Англии». – Прим. ред.
(обратно)[24]Между 1390 и 1415 годами папские и епископские регистры часто упоминают «грамотных мирян» – явление, получившее тогда значительное распространение. Но на протяжении XV века это выражение исчезает, потому что тот слой общества, к которому оно применялось, делается слишком обычным, чтобы о нем стоило упоминать; в классических школах обучалось все большее количество мирян. – Прим. авт.
(обратно)[25]В царствование Генриха VII один итальянский путешественник писал: «На одной только улице [Лондона], именуемой Strada [Стрэнд] и ведущей к собору Св. Павла, имеется 52 ювелирные лавки, такие богатые и с таким изобилием серебряной посуды – крупной и мелкой, – что я думаю, во всех лавках в Милане, в Риме, в Венеции и во Флоренции, взятых вместе, вряд ли можно найти так много великолепных вещей, какие можно видеть в Лондоне». – Прим. авт.
(обратно)[26] Колет Джон (1466-1519) – английский гуманист, друг Эpaзма Роттердамского и Томаса Мора. – Прим. ред.
(обратно)[27]При этом выдвигают также и другое соображение, якобы оправдывающее такую периодизацию: «образование национальных монархий». Но Англия в отличие от Франции и Испании была «национальной монархией» уже в дни Креси и Азенкура. Несомненно, присвоение Генрихом VIII верховной власти над церковью подняло национальное сознание еще выше. – Прим. авт.
(обратно)[28]Обскурантизм – враждебное отношение к образованию, науке; мракобесие. – Прим. ред.
(обратно)[29]«Книга Общих молитв» – англиканский молитвенник, составленный в 1549 году и регламентирующий богослужение в реформированной английской церкви. – Прим. ред.
(обратно)[30]Расширение рыболовства в открытом море было отличительной чертой эпохи первых Тюдоров и способствовало росту числа моряков и могущества страны, что было вскоре использовано в интересах Англии. Незадолго перед этим сельдь перешла из Балтийского моря в Северное; в результате наша ловля сельдей получила большее значение. – Прим. авт.
(обратно)[31]«Узкие моря» – Ла-Манш и Ирландское море. – Прим.перев.
(обратно)[32]Гаррисон пишет: «Старинные маноры и жилища наших джентльменов большей частью построены из крепкого дерева, и при их отделке наши плотники заслуживают предпочтения перед плотниками всех других стран. Однако же обычно дома, построенные позже, были или из кирпича, или из более твердого камня, или из того и другого, с просторными и удобными комнатами, а служебные помещения находились в отдалении от жилых помещений». – Прим.авт.
(обратно)[33]Специальные термины фехтования. – Прим. перев.
(обратно)[34]Во времена Ганноверов, прежде чем органы и флежолеты сделались обычными в приходских церквах, размерные переложения псалмов все еще пелись под аккомпанемент различных музыкальных инструментов, на которых играли на хорах. Томас Гарди в своей работе вспоминает о такой примитивной музыке: «Я хорошо помню, что однажды в воскресенье Йобрайт принес свою собственную виолончель. Это был сто тридцать третий [псалом], исполнявшийся на мотив «Лидия»; и, когда они дошли до места: «Опустил свою бороду, и по его одежде потекла драгоценная влага», сосед Йобрайт, который в этот момент вдохновился работой, так хватил смычком по струнам, что чуть не распилил свою виолончель пополам. Все стекла в церкви дребезжали, словно во время грозы». – Прим. авт.
(обратно)[35]Во времена Елизаветы в университет поступали обычно я шестнадцатилетнем возрасте, многие были на 2 или на 3 года моложе; но все больше и больше убеждались, что такие мальчики были слишком молоды, чтобы учиться в колледже. – Прим. авт.
(обратно)[36]Действительно, в 1759 году Французская Канада была завоевана и присоединена, но к этому времени либеральный характер государственного устройства Великобритании как внутри страны, так и в колониях был уже твердо установлен. Во времена же Елизаветы и Стюартов наше государственное устройство, как политическое, так и социальное, все еще было неустойчивым и развитие его могло направиться как в сторону упрочения, так и в сторону уничтожения свобод. – Прим. авт.
(обратно)[37]Елизавета 1 умерла в марте 1603 года, а Долгий парламент открылся в ноябре 1640 года. – Прим. ред.
(обратно)[38]Позже благодаря браку Карла II с португальской принцессой к английским владениям был присоединен и Бомбей как часть ее приданого. – Прим. авт.
(обратно)[39]Пим Джон (1584-1643) – известный политик XVI века, член палаты общин. – Прим. ред.
(обратно)[40]Источником, или одним из источников, происхождения чеков явились записки к ювелирам или к другим лицам с просьбой выплатить указанную в ней сумму денег тому или иному лицу из сумм, которые писавший записку внес ее адресату. Первые печатные чеки были выпущены Английским банком в начале XVIII века. – Прим. авт.
(обратно)[41]Между 1640 и 1660 годами страна была наводнена печатными памфлетами, но печатных газет было мало. Новости передавались при помощи писем-листовок, которые писались в Лондоне от руки и рассылались провинциальным подписчикам, передававшим их после прочтения своим соседям. Таков был главный способ распространения новостей не только до конца столетия, но и впоследствии. – Прим. авт.
(обратно)[42]Драйден Джон (1631 – 1700) – драматург, поэт и критик, один из основоположников английского классицизма. Пёрселл Генри (1659-1695) – композитор, создатель первой национальной оперы «Дидона и Эней», ряда гимнов и песен. – Прим. ред.
(обратно)[43]Согласно закону о цензуре 1663 года, политические трактаты издавались с разрешения государственного секретаря, юридические книги – лорда-канцлера, книги о геральдике – графа-маршала или одного из высших чиновников геральдической палаты, а все другие издания разрешались архиепископом Кентерберийским или Лондонским епископом. Эти высшие власти назначали цензоров для чтения книг. – Прим. авт.
(обратно)[44]Чарльз Тауншенд (1674-1738) – норфолкский дворянин, увлекавшийся сельским хозяйством, в частности разведением турнепса. Под прозвищем Турнепс Тауншенд упоминается поэтом Поупом. – Прим. перев.
(обратно)[45] Закон о поселении был издан в 1662 году. Этот закон фактически лишал сельскохозяйственных рабочих права передвижения. – Прим, перев.
(обратно)[46]Черный край – район в графствах Стаффордшир и Уоркшир, где была хорошо развита промышленность. – Прим. ред.
(обратно)[47]Было вычислено по спискам регистрации крещений, что и 1700 году в Англии и Уэльсе было больше пяти с половиной миллионов жителей; численность населения в столице составляла 674 350 человек. Из них в лондонском Сити жили 200 000 человек. – Прим. авт.
(обратно)[48]Во время гражданской войны (1642-1646) чума свирепствовала в других частях острова, особенно в южных и в западных; в некоторых городах, таких, как Честер, вымерла четвертая часть населения. «Лондонская чума» (1665) не ограничилась только столицей. Очень серьезно пострадала Восточная Англия, но чума не распространилась далеко на запад или север. В Ленгдейле (Уэстморленд), ссылаясь на предания, до сих пор еще показывают развалины одиноко стоявшего домика, все жившие в котором умерли от чумы, занесенной солдатом, тогда как остальная часть долины и весь район не были заражены. Вероятно, в одежде солдата находились блохи-носители чумных бактерий. – Прим. авт.
(обратно)[49]Хэнви (1712-1786) известен также введением в Англии зонтика. В течение многих лет он носил его один, вопреки насмешкам простонародья и раздражению корыстно заинтересованных носильщиков портшезов и извозчиков, пока наконец в последние годы его жизни его примеру не стали подражать все. – Прим. авт.
(обратно)[50]Плюралист – священник, обслуживающий одновременно несколько приходов. – Прим. перев.
(обратно)[51]Regius professor – профессор, кафедра которого учреждена английским королем. – Прим. перев.
(обратно)[52]Равным образом замечательным было и улучшение породы лошадей, происходившее в Англии в XVIII веке. В эпоху Стюартов англичане ездили в Аравию и к берберам за производителями для своих скаковых лошадей и гунтеров. В царствование Георга III весь мир приезжал в Англию за лошадьми – от скаковой до едва ли менее благородной ломовой. Лошадь была тогда необходима для спорта, путешествия и сельского хозяйства, а английские джентльмены этого века уделяли всему этому большое внимание. – Прим. авт.
(обратно)[53]Еще в 1700 году Англия потребляла только 10 тысяч тонн сахара, хотя она к этому времени имела свои собственные «сахарные колонии», но к 1800 году она потребляла 150 тысяч тонн. Другими словами, допуская, что население удвоилось, среднее потребление сахара каждым англичанином возросло в XVIII веке в 7,5 раза. – Прим. aвm.
(обратно)[54]Крауд – старинный кельтский музыкальный инструмент с полым корпусом и несколькими (чаще всего шестью) струнами. – Прим. перев.
(обратно)[55]Стоун – английская мера веса, равная 6,33 кг. – Прим. перев.
(обратно)[56]«Битва при Питерлоо» – массовое избиение рабочих, собравшихся 16 августа 1819 года на митинг на поле св. Петра недалеко от Манчестера. Погибло 11 человек, 400 было ранено. Это событие имело большой общественный резонанс.
«Шесть законов» («Акты для затыкания рта»), принятые парламентом в ноябре 1819 года, запрещали собрания с участием более 50 человек, процессии с оркестром и знаменами, разрешали обыск в домах частных лиц, аресты и высылку в колонии опасных лиц, повышали налоги на газеты. – Прим. ред.
(обратно)[57]До издания законов о собственности замужних женщин в последний период правления Виктории собственность женщины с момента бракосочетания становилась собственностью ее мужа. Закон находился в любопытном противоречии со словами свадебного обряда, во время которого мужчина должен был сказать; «Все мое земное имущество тебе дарю». На деле было как раз наоборот. – Прим. авт.
(обратно)[58]Гилрей Джеймс (1757-1875) – гравер и карикатурист. – Прим. ред.
(обратно)[59]«Замещение» – фиктивное назначение кого-либо лесничим с целью предоставления ему охотничьих привилегий. – Прим. перев.
(обратно)[60]В период регентства (1811-1820) по причине умственного расстройства короля Георга III регентом являлся его сын, принц Уэльский, будущий Георг IV. – Прим. ред.
(обратно)[61]В английском языке употребленное здесь слово «master» имеет несколько значений, в том числе «хозяин» и «мастер». - Прим. перев.
(обратно)[62]Минимальная сумма арендной платы, позволявшая участвовать в выборах в парламент, составляла 10 фунтов в год. - Прим. ред.
(обратно)[63]«Ходж» – прозвище английского батрака. – Прим. перев.
(обратно)[64]Бакен Джон (1875-1940) – английский государственный деятель и историк. В 1935 году назначен генерал-губернатором Канады. – Прим. ред.
(обратно)[65]Большинство провинциальных университетов было основано еще позднее, в первые годы XX столетия. Отсутствие соответствующей системы среднего образования народа до билля Бальфура 1902 года было основной причиной того, почему новые университеты развивались так медленно. – Прим. авт.
(обратно)
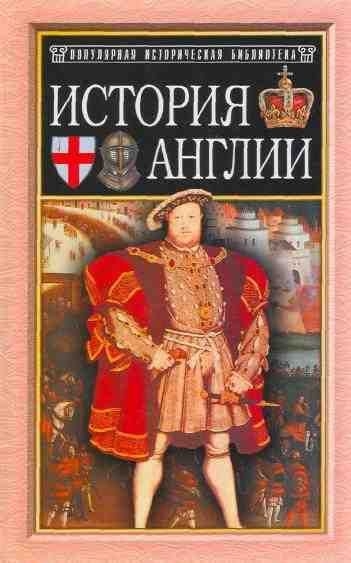

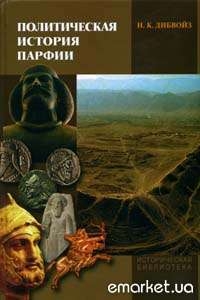

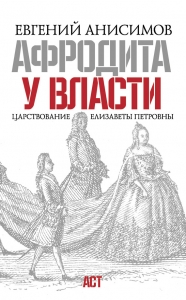
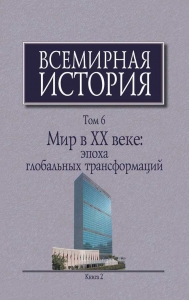

Комментарии к книге «История Англии от Чосера до королевы Виктории», Джордж Маколей Тревельян
Всего 1 комментариев
Галина
18 июл
Прекрасный , по сути, учебник истории Англии. Очень полно и исторически достоверно дана история страны.