Хаген Шульце КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ
Обращение к читателям в России (Ханс-Фридрих фон Плётц, Посол Германии в Российской Федерации
Уважаемые читатели!
Лишь тот, кто знаком с прошлым, может созидать будущее. Эта классическая фраза и сегодня ничуть не утратила своей актуальности. Наш мир стремительно развивается. Чтобы творчески участвовать в этом развитии, мы должны знать, откуда мы и каким образом сформировались сегодняшние институты, государства и их взаимоотношения.
Особенно верно это, когда речь идет о таких двух столь тесно связанных друг с другом народах, как немцы и русские. Их отношения изобилуют точками пересечения; им присущи не только темные этапы, такие, как непередаваемые ужасы Второй мировой войны, но и многочисленные взаимные позитивные импульсы. И они уходят корнями в далекое прошлое. Так, например, одним из первых западных послов в России был барон Зигмунд фон Герберштейн, которого в начале XVI в. император Максимилиан дважды посылал с миссиями ко двору великого князя московского Василия III. Его «Записки о московитских делах» представляют собой классический ранний образец записок путешественника. И наоборот, «Великое посольство» плотника Петра Михайлова, он же Петр Великий, отправилось в конце XVII в. вначале в Пруссию, прежде чем царь начал впитывать идеи для своих масштабных проектов реформ и в других европейских государствах.
Никогда еще германо-российские отношения не были столь тесными и добрососедскими, как сегодня. Они настолько тесны, что политики и дипломаты обеих стран любят говорить о «стратегическом партнерстве». И по праву: экономический обмен весьма интенсивен, Германия — самый крупный торговый и инвестиционный партнер России. Политические отношения, включая высший уровень, доверительны и направлены на достижение все более тесного сотрудничества. При этом обе стороны рассматривают свои отношения как элемент и движущую силу имеющих столь же стратегический характер отношений России с Европейским союзом, крупнейшим членом которого Германия является сегодня и останется таковым по завершении следующего этапа его расширения. В области культуры Германия и Россия могут многое предложить друг другу, а германо-российские культурные встречи 2002 и 2003 гг. служат подтверждением нашей взаимной решимости интенсивно использовать этот потенциал.
Основу хорошего партнерства составляет доверие. Оно предполагает, что люди знают друг друга, знают, как живет и думает другой, на каком языке он говорит и какие факторы формируют его характер. Определяющим условием этого является знание истории и географии. «Краткая история Германии» Хагена Шульце открыла немецким читателям дверь в собственное прошлое. Я уверен, что и ее русское издание, появляющееся на свет как раз вовремя — в Год германской культуры в России — 2004-й, расскажет нашим российским друзьям много важного.
Желаю вам, дорогие российские читатели, приятного чтения!
Апрель 2004 г. Ханс-Фридрих фон Плётц,
Посол Германии в Российской Федерации
К российскому читателю (Хаген Шульце)
Россия и Германия — не только европейские государства с самой большой численностью населения. Это государства, связанные драматической и поучительной историей, основные черты которой следует здесь вкратце напомнить. Когда в начале XVIII в. Петр Великий распахнул перед Россией окно в Европу, оказалось, что совсем рядом с Санкт-Петербургом, в Прибалтике, живет немало граждан немецкого происхождения, на протяжении последующих столетий давших российской короне бесчисленное количество способных чиновников и офицеров, а наряду с этим и представителей дворянства, кровно связанных даже с царскими особами. После Полтавской битвы 1709 г. Петр I продвинул русские границы далеко на Запад, как впоследствии это сделала и Екатерина Великая, заселившая завоеванные области на юге России многочисленными немецкими переселенцами. Россия стала в XVIII в. сильным игроком в большой европейской политике, и вместе с тем из-за ее геополитического положения на Востоке Европы и на Балтийском море возникла уже издавна бродившая под спудом вражда по отношению к Польше, которая блокировала России дальнейший путь на Запад. В такой ситуации для России были естественными поиски союзника и этим союзником представлялась Пруссия. Подобно России, Пруссия с опозданием вышла на сцену theatrum europa, и союз между двумя державами, набиравшими силу, мог оказаться стратегическим противовесом старым великим державам, прежде всего Франции и империи Габсбургов. Поэтому Россия заключила союз с Пруссией, вступая время от времени в союз и с Австрией, чтобы при этом шаг за шагом лишать сил Польшу и осуществлять ее раздел между собой — до тех пор, пока после третьего раздела ослабленная страна не исчезла с карты.
Теперь Россия и Пруссия оказались соседями и это породило новую ситуацию, которой было суждено измениться только в 1890 г. Россия превратилась в защитницу Пруссии, а Пруссия — в меч России, с помощью которого российское могущество могло простираться далеко в Центральную Европу. После позорного поражения Пруссии под Йеной и Ауэрштедтом в 1806 г. победитель Наполеон, не особенно церемонясь, разделил бы и ликвидировал ее, как ранее произошло с Польшей, если бы императору Александру I не нужна была Пруссия в качестве стратегического предполья против Бонапарта. Так Пруссия и выжила, оказавшись спасенной русскими войсками под командованием ставшего немецким народным героем генерала Кутузова во время Отечественной войны в 1812–1813 гг. Освободительная война начиналась с соглашения о союзе между прусским генералом фон Йорком и русским генералом Дибичем, которое было заключено на мельнице близ селения Тауроген. «Тауроген» был и остался символом дружбы и братства по оружию между Пруссией и Россией, и название это, появляясь в литературных разделах западных газет, вызывает неприятные воспоминания, если заходит речь о хороших отношениях между Германией и Россией.
Отношения между Россией и Пруссией на протяжении большей части XIX в. оставались стабильными. Пруссия поначалу как слабейшая среди европейских великих держав зависела от стратегической поддержки со стороны России. В обмен на эту поддержку она прикрывала тыл России и оказывала содействие великому соседу при подавлении возникавших время от времени польских волнений. В свою очередь и Пруссия, ведя войны, предшествовавшие объединению Германии, могла рассчитывать на благожелательный нейтралитет со стороны России. Но Германская империя, вступившая на европейскую сцену вместо великой державы Пруссии в 1871 г., столкнулась с несравнимо более сложной ситуацией. Для рейхсканцлера Бисмарка, стремившегося сохранить мир в Европе, русская карта имела решающее значение. С помощью германо-российского договора перестраховки, заключенного в 1887 г., предполагалось удержать Россию на стороне Германии. Наследники Бисмарка не могли, да и не хотели, играть в эту трудную игру, считая, что смогут и без договоров получить в случае войны союзническую помощь со стороны России. Это была роковая ошибка, вероятно, самое пагубное внешнеполитическое решение, принятое в вильгельмовской Германии. Сбылось именно то, что Бисмарк представлял себе в самых мрачных фантазиях — произошло взаимное сближение России и Франции и начало складываться то соотношение сил, которому было суждено завершиться Первой мировой войной.
Германо-советские отношения в 20-е гг. XX в. развивались в соответствии с давно известным стереотипом — оба изгоя мировой семьи вступили в тесные отношения друг с другом как экономические, так и военные. Рапалльский договор, заключенный в 1922 г., не содержал ни политических, ни военных статей, но интерпретировался державами-победительницами как союз, направленный против Запада. Еще и сегодня слово «Рапалло», появляющееся в западных политических кругах, означает намек на возможность германо-российского союза, направленного против Западной Европы и атлантических держав. И снова, как казалось, равновесию в Европе угрожала Польша, созданная после мировой войны из части территорий, проигравших в ней Германии, Советской России и Австрии. Антипольский расчет объединил даже Гитлера и Сталина — во всяком случае, до тех пор, пока Польша не была снова побеждена и разделена. Но планы Гитлера простирались гораздо дальше. «Все, что я предпринимаю, направлено против России», — заявил германский диктатор в 1939 г. Подчинив Польшу, он создал пространство, которое было необходимо для стратегического развертывания германских войск против Советского Союза. Ни на одном фронте они не вели войну столь безжалостно, с такими нарушениями международного права, как на Восточном, и когда положение изменилось, месть со стороны советских войск была ужасна. Эта война оказалась самой кровопролитной и разрушительной из всех, которые когда-либо знала история. По ее завершении Германия оказалась разделенной, превратившись в игрушку держав — победительниц в мировой войне и в плацдарм стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза и США. Более сорока лет не вызывало сомнений, что в необозримой перспективе ответом на вопрос: «Что такое отечество немцев?» будут два германских государства, и что германская история завершилась.
Прекращением этого странного состояния, возможностью воссоединения Берлина, Германии и Европы в ходе бескровных революций 1989 и 1990 гг. мы в значительной степени обязаны Советскому Союзу и России, Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. Оба политических деятеля проявили достаточную мудрость и дальновидность, чтобы дать свободу народам, находившимся в предполье их страны, и снова воспринять Германию как единое целое. С тех пор между воссоединенной Германией и возрождающейся Россией существуют добрососедские отношения. Вразрез со всем своим прежним историческим опытом Германия служит сегодня мостом между Россией и Западом, подобно тому, как Польша — мостом между Россией и Германией. Это ситуация, обещающая в перспективе существование прочного и стабильного «общеевропейского дома» (Михаил Горбачев). Чем более мы будем сближаться, тем важнее будет взаимное изучение и знакомство, взаимное уважение, преодоление националистических стереотипов и понимание истории России и Германии как составной части истории Европы и человечества. Возможно, книга, предлагаемая вниманию российских читателей, послужит этой цели.
18 июля 2003 г.
Хаген Шульце
Предисловие
Наши предки не задавали себе вопроса о том, что такое немецкая история. Она начиналась для них с германцев и их борьбы против Рима. Никакого сомнения не существовало в том, что Херман Херуск Арминий, победивший легионы Квинтилия Вара в битве в Тевтобургском лесу (9 г.), был германским героем. И сегодня меч на памятнике Арминию под Детмольдом украшает надпись золотыми буквами: «В единстве Германии сила моя, и мощь моя в силе Германии». По ходу дальнейшего развития история описала широкую, четко очерченную дугу. Сначала — король готов Теодерих, жизнь которого под именем Дитриха Бернского[1] продолжилась в легендах и сказках, затем Карл Великий, унаследовавший корону римских императоров и превративший Римскую империю в Германскую. За ними последовали императоры из династии Гогенштауфенов Фридрих Барбаросса (1125–1190) и его внук Фридрих II, которые, загадочным образом воссоединившись, пребывают в Кифхойзере[2] в ожидании, когда им придется вернуться в час величайших бедствий Германии. Потом — Мартин Лютер, «немецкий соловей», и Карл V, в империи которого никогда не заходило солнце, Фридрих Великий и Мария Терезия, в чью эпоху разлад между германскими племенами достиг своего трагического апогея, барон фон Штейн и Блюхер по прозвищу Маршал Вперед и, наконец, «железный канцлер» Бисмарк, кузнец новой империи немцев[3], прямой преемницы «Священной Римской империи германской нации». Такова впечатляющая галерея предков, которыми гордились немцы.
Но затем наступила, говоря словами историка Фридриха Майнекке (1862–1954), «немецкая катастрофа». За созданием гитлеровского рейха последовала Вторая мировая война, завершившаяся в 1945 г. крахом германского национального государства. Когда-то швейцарский историк Якоб Буркхардт (1818–1897), обращаясь к германской истории, иронизировал по поводу «победоносно-немецкой окраски», которую придавала прошлому немецкая историография. Теперь же эта окраска исчезла, а с ней и какой бы то ни было осмысленный контекст самой немецкой истории. За золотой легендой о прямолинейном процессе подъема древнегермано-немецкой империи последовала черная легенда о губительном, абсолютно ошибочном особом немецком пути, единственная истинность которого заключалась в преступлениях Третьего рейха, если при этом не считать национальную историю вообще бессмысленной, как это делали некоторые, или вместе с историком Альфредом Хойссом не оплакивать «утрату истории».
Какое-то время жителям Западной Германии было комфортнее не знать истории, наслаждаясь при этом действительностью с ее высокими показателями индустриального развития и не без некоторого удивления взирая на остальной мир, в котором властвовал принцип национальной идентичности и который должен был постоянно доказывать свою политическую эффективность. Хотя немцы и находились в самом центре мировой политики, они, казалось, во всех своих политических решениях выражали одно-единственное желание — чтобы их не принуждали принимать какие бы то ни было решения и оставили в покое. Напротив, на сознание людей в ГДР воздействовало представление об истории, которое навязывалось Политбюро ЦК СЕПГ, формировалось партийными идеологами, приспосабливалось к каждой политической перемене и обсуждению не подлежало.
Но с падением Берлинской стены в 1990 г. внезапно изменилось состояние внутреннего успешного развития страны и блаженной безответственности во внешнеполитических делах. Появилось новое немецкое национальное государство, лишь один факт существования которого изменил Европу и которое поэтому должно было объяснить своим гражданам и остальным европейцам, как оно себя осознает. Чтобы обрести будущее в центре Европы, мы должны знать, на каком прошлом покоится немецкое настоящее. Никто не может начать все сначала. Напротив, любой человек должен опираться на что-то уже существующее. Тем, кто полагает, что они совершают нечто совсем новое, не дано понять, что они делают.
Чтобы ответить самим себе и нашим европейским соседям на «германский вопрос», мы должны объяснить, что такое Германия, чем она может и должна стать. Для этого нам следует заново рассказать немецкую историю. А так как не каждый обладает временем или терпением, для того чтобы прорабатывать многотомные компендиумы, мы на сей раз расскажем немецкую историю насколько возможно короче, обращая внимание на самое существенное.
Без помощников невозможно написать и краткую немецкую историю. Ина Ульрика Пауль, Уве Пушнер и моя жена тщательно выправили рукопись, Иоахим Элерс критическим взглядом оценил первую главу, а Детлеф Фелькен тщательно отредактировал книгу, отдавая работе все свои знания. Удачно оформила книгу Каролина Зивекинг. Директору Немецкого исторического музея в Берлине Христофу Штёльцелю я признателен не только за предоставление иллюстративного материала, но и за то, что он вдохновил меня написать эту книгу. Сердечно благодарю их всех.
I. Римская империя и германские земли (до 1400 г.)
Немецкая история берет начало не в дремучих германских лесах, а в Риме. Именно в этом удивительном итальянском городе-государстве, сфера влияния которого постепенно распространилась на весь средиземноморский бассейн и который властвовал над Европой до Рейна, до укрепленного пограничного вала, называвшегося по-латыни limes, и до Дуная. В городе-государстве, чья единая и тем не менее многообразная цивилизация была для людей античной эпохи миром с четко очерченными границами, ойкуменой. Не существовало чести выше, чем называться римским гражданином, и апостол Павел гордился этим так же, как и Арминий, — несмотря на свои разногласия с Римом. Поэт Вергилий, создавший со своим героем Энеем миф о возникновении римского государства, объявил, что задача Рима — править миром, принося в него благонравие и закон, щадить покоренных и подчинять непокорных. Эта Imperium Romanum, Римская империя, является для нас сегодня, по словам Барбары Тухман, тем «далеким зеркалом», в котором все народы Европы, и, уж конечно, немцы, могут узнать себя. Государственное устройство и правовые нормы, городской образ жизни, языки и формы мышления, архитектура, письменность и книга — словом, основы нынешнего образа жизни немыслимы без цивилизации Рима и переплетенных с ней культур классической Греции и эллинистического Востока.
* * *
БИТВА В ТЕВТОБУРГСКОМ ЛЕСУ
В 9 г. н.э. римское войско потерпело сокрушительное поражение от объединенных германских племен во главе с вождем племени херусков Арминием. Битва в Тевтобургском лесу на самом деле произошла около Оснабрюкка и считается с тех пор рубежом в историческом развитии Германии. После нее попытки расширения римского господства на земли по правому берегу Рейна потерпели неудачу. Националистически настроенная буржуазия XIX в. видела, однако, в этой битве прежде всего освобождение от римского владычества и начало германо-немецкой истории. Херман, как стали позже называть Арминия, стал первым героем в борьбе немцев за свободу. Многие исследователи, и не только западноевропейские, усматривают в этом событии неудачу распространения римской цивилизации на Центральную Европу и начало особого культурного и политического немецкого пути, во многом определившего будущее страны.
Каким бы прочным ни казался Вечный город, однако и он был подвержен изменениям. На протяжении IV в. здесь произошли два важнейших события. При императоре Константине Великом (306–337) пришедшая с Востока вера в спасение — христианство — стала государственной религией. В ту же эпоху империя, которой в силу огромных размеров больше невозможно было управлять из одного центра, раскололась на латинско-римскую Западную империю и греко-византийскую Восточную. Разделение империи сказалось и на христианской церкви. Византийское православие отвернулось от латинского христианства Запада, углубляя политический раскол Европы расколом церковным.
Это стало началом длительного политического, церковного и идеологического раскола в западном мире. На европейской земле возникли две очень разные цивилизации, которые постоянно соприкасались, но не взаимопроникали друг в друга на сколько-нибудь продолжительное время. Это Рим и Византия, латинское и православное христианство, либеральный Запад и славянофильский Восток и, наконец, культура демократии и прав человека, противостоявшая большевистскому Советскому Союзу. Только теперь, на наших глазах, начинает, кажется, затягиваться тысячелетняя трещина, разделявшая Европу. Может быть, этого мы еще по-настоящему не осознали.
В отличие от Византии на Востоке, которая продолжала существовать во всем блеске еще целое тысячелетие, лишь постепенно уходя в вечность и прекратив свое существование в 1453 г. с завоеванием Константинополя, Западная Римская империя продержалась недолго. Она погружалась в волны все учащавшихся вторжений варваров с ужасного туманного Севера, которые спасались бегством от немилости природы, последствий перенаселения и от теснивших их других народов, стремясь поселиться в пределах Римской империи, и которые участвовали в ее защите. В Риме этих северных варваров называли германцами, именем, которое Цезарь перенял от галлов. Те, в свою очередь, именовали так дикие народы, пытавшиеся вторгнуться в Галлию из-за Рейна, а Цезарь от их названия произвел обозначение области по ту сторону Рейна и Дуная, назвав ее Германией (Germania). Слово «германец» было не более чем указанием на происхождение из малоизвестных мест к востоку от Рейна. Ученые спорят и поныне об этнической и языковой однородности германцев. Во всяком случае, орды, наседавшие с Севера, как нельзя лучше подходили для их использования в военных целях, если принимать во внимание воинское искусство пришельцев. Уже вскоре преторианская гвардия римских императоров состояла преимущественно из германцев, а германские народы получили разрешение селиться на территории империи поблизости от границы и получать римское гражданство. Такая защита легко превращалась в угрозу, по мере того как охраняемые, т. е. император, государственные институты и сама империя, ослабевали и попадали в зависимость от военных «экспертов» из варварских племен. Германские военачальники и воинские части все чаще решали судьбу императора — вплоть до 476 г. В этом году предводитель наемников Одоакр сверг последнего императора Западной Римской империи Ромула Августула и поручил войску провозгласить императором себя.
Это означало гибель Римской империи, но не конец, а только начало ее нового становления. Германские народы эпохи Великого переселения: готы и лангобарды в Италии, вестготы в Испании и Южной Франции, англосаксы в Британии, бургунды и франки в Галлии — сами стремились стать римлянами, обустраиваясь в пустующем пространстве приходившей в упадок империи. Здесь они приспосабливали свои простые культурные формы бытия к бесконечно более сложной, утонченной традиции позднеантичной цивилизации Рима и Передней Азии. Перенимались, пусть и в упрощенном виде, существовавшие в Римской империи управленческие структуры, германские королевства реформировались, воспринимая облик, свойственный римской монархии, а римская правовая система стала истоком превращения германского обычного права в письменно зафиксированное право; Римская империя на Западе исчезла, но никто из германских королей не сомневался в том, что она продолжала жить.
Схема расселения германских племен
Римская империя, изменившись, продолжала жить и еще в одном своем проявлении. В то время как город на Тибре разрушался, численность его населения быстро снижалась, на Форуме пасли скот, а жизнь в городе угасала, римский епископ в качестве преемника апостола Петра превратился в папу и тем самым в главу церкви. Рим становился не только духовным центром католического христианства, находившего все больше приверженцев среди германских народов. В известной мере и церковь вросла в структуру государства. Административная система Римской империи устояла в виде церковной иерархии: ризы католического духовенства наших дней — это те же официальные облачения римской бюрократии. К тому же латынь как язык церкви, политики и литературы гарантировала сохранение культурного единства Западной Европы. Как и прежде, монахи низко склонялись в монастырях над трудами Цицерона и Вергилия. Римская империя продолжала существовать — в идеологии и в институтах, представлявших собой лишь бледную копию прежних, но главное — в лице торжествовавшей церкви.
Таким образом, и идея империи, и церковь оказались столь прочными, что более чем через три столетия после свержения Ромула Августула в Риме появился новый император. То был Карл, король франков, которому позже суждено было именоваться Великим и победы которого над саксами и лангобардами сделали его самым могущественным государем Западной Европы. При этом он стремился укрепить свою власть с помощью прочного союза с Римским папой. Карл подтвердил дарения, сделанные папе его отцом Пипином III и составившие основу будущей Папской области, а папа Лев III, в свою очередь, сделал ответный подарок на Рождество 800 г., короновав Карла императором в римской базилике Св. Петра. Порфировую плиту, на которой Карл преклонил колени, можно и сегодня увидеть в соборе Св. Петра. Хронист Карла Айнхард сообщает, что его короля, углубившегося в молитву, короновали императором не без некоторого коварства. Действительно, Карл знал, что этот акт должен был вызвать конфликт с единственным законным императором христианского мира — византийским. Тем не менее Карл вступил во владение наследством Цезаря и Константина, назвал себя augustus imperator (лат. император миротворящий), и с тех пор его печать украшала надпись Renovatio Imperii Romani (лат. Возрождение Римской империи). Это послужило основанием для почти непрерывного существования титула римского императора на протяжении тысячи лет. Последний из императоров, Франц II Габсбург, только в 1806 г. отказался от титула и короны, что осталось практически незамеченным для окружающего мира.
Живопись по стеклу.
Страсбургский собор, около 1180 г.
На золотом троне, украшенном драгоценными камнями, восседает император Карл Великий со скипетром и державой — атрибутами власти христианского государя. Голова императора, увенчанная короной, окружена нимбом, В 1165 г. император Фридрих Барбаросса, считавший Карла Великого своим предком, приказал канонизировать его, чтобы обеспечить трон своей семье и подчеркнуть главенствующее положение императорской власти по отношению к папе. То было время поклонения национальным святым по всей Европе. Святыми провозглашали многих европейских королей. Однако, если короли Венгрии, Чехии, Норвегии и других стран являлись символами национальной интеграции, то культ Карла Великого ограничивался пределами Рейнской области. К тому же Французское королевство оспаривало традиции Карла Великого и тем самым притязание на первенство в христианском мире.
Естественно, напрашивалось сравнение между античной Римской империей и империей Карла Великого, постольку поскольку Карл объединил под своей властью почти все германские королевства и герцогства Европы, за исключением скандинавских и британских. Империя протянулась от Эйдера до Тибра, от Эльбы до Эбро и от пролива Ла-Манш до озера Платтензее (Балатон). Остатки римской цивилизации служили опорой Карлу Великому, начавшему реформировать политическое и церковное управление, транспорт и летоисчисление, искусство и литературу и, в качестве основы всего этого, письменность и язык. Он пригласил ко двору англосакса по имени Алкуин из Йорка в качестве главного советника по делам культуры, а также ученых из Италии и Испании. Каролингское возрождение получало импульсы отовсюду. Все усилия были направлены на то, чтобы создать aumea Roma iterum renovata — обновленный золотой Рим. Мы можем читать сегодня классических латинских авторов большей частью только благодаря воодушевлению и усердию писцов каролингской эпохи. Их зачастую превосходные собственные стихи, написанные античными размерами, составили четыре солидных тома под названием Monumenta Germanie Historica — внушительное собрание средневековых источников.
На западе Франкского королевства, в Галлии и Италии, кое-что еще сохранялось от старой римской системы управления. Территория к востоку от Рейна, на которой помимо германских поселений, объединенных в племенные округа — гау, располагались также церковные епархии, монастыри и епископства, светские и церковные земельные владения, представляла собой в административном отношении некое подобие сети с первичными формами образования. Карл Великий учредил административные округа, так называемые ducati, во главе которых стояли назначенные им должностные лица, каждое из которых называлось dux[4]. Это были не герцоги какого-либо племени, т. е. племенные вожди[5], а высшие чиновники, происходившие из франкской имперской знати, титул которых восходил еще к административной реформе, проведенной Константином Великим. Посланцы Карла, missi dominici[6], надзирали за управлением, а франкская государственная церковь, епископы которой назначались самим императором, дополнительно скрепляла государство.
Тем не менее, несмотря на все усилия, эта империя оказалась недолговечной. Ей было суждено распасться — без споров за наследство между сыновьями Карла. Для того чтобы указания, которые император посылал из Ахена в Рим, достигли места назначения, требовалось не меньше двух месяцев. Местные и региональные власти долгое время могли, более того — обязывались действовать по собственному усмотрению. Возможно ли было в таких условиях сохранить империю? Трое внуков Карла разделили ее между собой. Людвиг получил восточную часть, Карл — западную, а Лотарь — землю, лежавшую посередине, Лотарингию, Она простиралась от устья Рейна до Италии. Когда род Лотаря прекратился, Людвиг в 870 г. присоединил ее к своему восточнофранкскому государству. В итоге возникла ситуация, определившая дальнейшее развитие европейской истории. Ядро континента оказалось отныне надолго разделенным, родственные государства — Западнофранкское и Восточнофранкское королевства — все больше отдалялись друг от друга. Со временем им было суждено превратиться во Францию и Германию, Общим для них осталось наследие Рима и Карла Великого, а также спор за земли Лотарингии. Спор этот на последующие двенадцать столетий превратил Францию и Германию во враждующих братьев.
Раздел империи Карла Великого по Верденскому договору 843 г.
Присяга на верность императору Оттону III
Евангелие Райхенау, конец X в.
Translatio imperii», т. е. переход имперского господства от императоров античного Рима к Карлу Великому и его восточно-франкским наследникам, проиллюстрирован здесь весьма впечатляюще. Отгон III, исполненный величия, восседает с атрибутами государственной власти на императорском троне, Двое епископов и два герцога — по обе стороны от трона — символизируют имперскую знать и имперскую церковь. К трону смиренно приближаются четыре женщины, чтобы присягнуть на верность императору. В соответствии с позднеантичной традицией — это страны, подчиненные императору, — Рим, Галлия, Германия, страна славян (Склавия).
Как мы учили в школе, именно отсюда и начинается германская история. Жил-был герцог Саксонии Генрих, который, если верить простодушному тексту баллады XIX в., ловил птиц, когда ему помешал в этом занятии некий посланник (о нем не сообщается никаких подробностей). Посланник возгласил: «Да здравствует император Генрих! Да здравствует звезда Саксонии!» Генрих I (919–936), избранный саксами и франками, вошел в историю как основатель Саксонской, или Оттоновской, династии, но не как император. Его королевская власть была в результате компромиссов и после угроз применения военной силы признана Швабией и Баварией, распространена на лотарингов, чехов и полабских славян и подтверждена западнофранкскими Каролингами. Единодушное избрание королем сына Генриха — Отгона (936–973) сделало восточнофранкское государство более прочным, так что ему в будущем не грозили споры и разделы, как ранее наследству Карла Великого, В 955 г. Оттон I победил венгров в битве на Леховом поле и с тех пор звался Великим. Семь лет спустя он заставил в Риме папу Иоанна XII короновать себя римским императором и возобновил императорский протекторат над Римом. Оттон I добился признания своего императорского титула Византией и женил сына и наследника, будущего Отгона II (961–983), на византийской принцессе. С того времени королевский титул и императорская корона почти всегда были связаны друг с другом. Внук Отгона Великого Оттон III (980–1002), следуя традиции Карла Великого, подхватил идею обновления Римской империи. Однако он умер в двадцать один год неподалеку от Рима и был погребен в Ахене.
Век салических императоров (1024–1125; Франконская династия) знаменует собой прежде всего начало драматического конфликта между императорской властью и папством. Вплоть до XI в. император и короли Европы претендовали на право назначать на церковные должности по собственному усмотрению. Но в ходе движения за реформы, начавшегося в X в. с бенедиктинского аббатства Клюни в Бургундии, в церковной среде взяло верх представление о том, что задача церкви — осуществлять посредничество между совершенством Бога и несовершенством мирской власти, что проистекало из божественного права церкви, более высокого по отношению к светской власти. Поэтому предполагалось устранить всякое светское влияние на замещение церковных должностей. Со времен же Отгона Великого церковь превратилась в опору империи, а потому оттоновские и салические императоры оказывали сильное влияние на избрание пап и управление Папской областью. Так с 1075 г. начался конфликт между папой и императором. Папа Григорий VII (1073–1085) отдал распоряжение королю Генриху IV о формальном запрете инвеституры[7] епископов и аббатов, на что Генрих ответил демонстративным отказом и смещением папы.
Спор разрастался. Он продолжался длительное время после смерти папы и короля, ибо в конечном счете речь шла об устройстве мира и об отношениях между духовной и мирской властью, между sacerdotium и гедпит. После долгого, протекавшего с переменным успехом конфликта, из которого, в конце концов, суждено было выйти проигравшими как императору, так и папе, церковь и государство разошлись. Таким образом возникла решающая предпосылка, ставшая основой хода истории современного европейского государства и формирования двух принципов свободы, имевших огромное значение для дальнейшего развития политической культуры Европы. С одной стороны, появилась свобода веры вне государственного принуждения, а с другой — свобода политики вне опеки со стороны церкви.
В соответствии с нашим привычным взглядом на историю и взлет германской императорской власти, и ее упадок связаны с династией Гогенштауфенов (1138–1254). Фридрих I (1152–1190), которого итальянские современники за его рыжеватую бороду прозвали Барбароссой (ит. рыжая борода), остался как в своей эпохе, так и в памяти позднейшего времени самым популярным в народе средневековым императором. Блеск приемов при его дворе, женитьба на Беатрисе Бургундской, походы в Италию с их переменчивыми результатами, триумфальная победа над мятежным соперником Генрихом Львом, наконец, смерть в Малой Азии во время Третьего Крестового похода, считающаяся таинственной, стали благодатной почвой для появления многочисленных мифов. Ни один другой император не будоражил фантазию будущих поколений так, как этот, — вплоть до сказания о спящем в Кифхойзере Барбароссе.
Увы, минула слава Империи твоей, Но час придет — и, право, Она вернется к ней[8].Фридрих Барбаросса был символом неясных национальных устремлений начала XIX в., — символом, с которым связывалось обновленное, больше романтически мечтательное, нежели соответствовавшее действительности представление об империи Гогенштауфенов как о воплощенном немецком будущем. При этом империя была скорее воображаемой, а не реальной. Изначально, однако, в сказании об императоре, спящем в пещере, речь шла о внуке Барбароссы, блестящем и очень непохожем на других Гогенштауфенов Фридрихе II (1212–1250). От своей матери Констанцы он унаследовал норманнское государство на Сицилии и создал там систему власти, покоившуюся на римских, византийских, норманнских и арабских основах. Эта система представляла собой ни больше ни меньше как грандиозную, абсолютно не отвечавшую времени попытку спроектировать по воле единственного человека, словно на чертежной доске, государство, в каждой своей детали организованное на рациональных началах. Это государство походило на произведение искусства, правда не пережившее своего создателя. Фридрих, эта мощная фигура ренессансного государя, который обогнал свое время, хотел быть новым Константином, создателем золотого государства мира. Он восхищал и в то же время возмущал современников, а его неизбежная враждебность к папству вылилась в борьбу за власть и в пропагандистскую войну, которой до тех пор не ведал христианский мир. Императорская пропаганда изображала Фридриха как последнего императора мировой истории, наделенного мессианскими чертами. Сторонники папы рисовали его апокалипсическим зверем, антихристом. После смерти императора его в соответствии с церковным преданием изгнали в дьявольскую, изрыгающую огонь Этну. Пробудившиеся в позднем Средневековье мечты о явлении миролюбивого императора, стоящего у конца времени, перенесли Фридриха II, «чудо и преобразователя мира», в Кифхойзер, где с течением столетий его образ слился с образом «Барбароссы».
Смерть Фридриха II означала конец великолепию государства Гогенштауфенов. Папа пожаловал Сицилию в лен брату французского короля Карлу Анжуйскому. Сын Фридриха Конрад IV (1237–1254) умер четыре года спустя в Италии. Не добившись коронования императором, его сын Конрадин (1252–1268), который явился в Италию, чтобы заявить претензии на свое итальянское наследство, был побежден в битве при Тальякоццо Карлом Анжуйским, взят в плен и казнен в Неаполе, несмотря на свои шестнадцать лет. С этого события началось междуцарствие (1254–1273), «ужасное время без императора», когда быстро нарастала слабость центральной имперской власти — до тех пор, пока с избранием Рудольфа Габсбургский (1273–1291) не была мало-мальски консолидирована королевская власть. Последовала эпоха, на протяжении которой внутренняя структура государства расшатывалась, но его целостность не претерпела сколько-нибудь существенного ущерба. Для этого времени было характерным относительно открытое избрание короля. В результате на германский трон вступали пестрой чередой властители из домов Габсбургов, Нассау, Виттельсбахов и Люксембургов, а со времени правления Генриха VII Люксембургского (1308–1313) они снова добились императорской короны. Здесь мы хотим остановиться и бросить взгляд на пройденный до сих пор период — тот, который в школьных учебниках обычно предстает как эпоха средневековой германской империи.
Насколько германскими были в действительности германские короли и императоры, начиная с Генриха I и Отгона Великого? Слова «Германия» (Deutschland) не существовало на протяжении долгого времени — оно появилось только в XV в., и потребовалось еще около ста лет, чтобы оно утвердилось. Те, кто жил к востоку от Рейна, веками ничего не знали о том, что они немцы. Данное обстоятельство объяснялось тем, что, в отличие от франков или, например, англосаксов, «немецкого» народа не было. Напротив, к востоку от Рейна со времени распада Каролингской империи на протяжении IX в. существовал ряд герцогств: Тюрингское, Баварское, Алеманнское, Саксонское, — которые нельзя было отнести к народам времен Великого переселения. Они возникли из административных округов империи Карла Великого. Политическую сплоченность области к востоку от Рейна, которую с римских времен называли Germania, создали не «германские племена», а аристократия, испытывавшая на себе влияние франков. Этот слой аристократов в восточнофранкском государстве принял с 833 г. власть Людвига, сына императора. Людвиг стал Rex Germaniae, т. е. королем земель к востоку от Рейна, а вовсе не Людвигом Немецким, как называли его начиная с XIX в. националистически настроенные историки.
Вплоть до XI в. государство, возникшее к востоку от Рейна, должно было считать себя франкским, а значит, прослеживать свои традиции во франкских преданиях, через Каролингов и Меровингов, обращая взор к прошлому — к Риму и Трое. Но то же самое касалось и западнофранкской части империи. Короли восточнофранкского государства избегали всякого более точного этнического определения своего королевского титула, называя себя просто rex («король»), а не, скажем, rex Francorum («король франков») или тем более rex Teutonicorum («король немцев»). После того как в 919 г. королевскую корону с Генрихом I обрела Саксонская династия, на первый план, заняв место франков, более чем на сто лет выдвинулись саксы. Для монаха Видукинда Корвейского (ок. 925–973), написавшего историю саксов, относящуюся прежде всего к временам Отгона I, государство обозначалось как omnis Francia Saxoniaque, т. е. состояло из Франконии и Саксонии; о Германии он ничего не знал.
Тем более речь не могла идти о Германии, когда в 962 г. папа Иоанн XII короновал Оттона I императором и оттоновско-саксонский королевский дом возвысился до уровня традиций Карла Великого, а следовательно, и Римской империи. Он получил тем самым высшую степень признания, которую только могло знать Средневековье в светских вопросах. Как было известно со времен Августина Блаженного, Римская империя занимала прочное место во всемирной истории, которая в то же время представляла собой историю искупительного подвига Христа. Эта империя являлась последней всемирной монархией. Она по самой идее была универсальной державой, которой предписывалось господство над миром, данное непосредственно Богом. Поэтому в императорских грамотах начиная с 1157 г. речь постоянно шла о «Священной Римской империи». Таковы горизонты, своей широтой превосходившие пределы, которые описывались с использованием титула восточнофранкского, а позже германского короля. Поэтому империя и интегрировалась как римская, а не германская.
Немецкое слово deutsch происходит от thiutisk (которое, в свою очередь, имеет латинский вариант theodiscus) — понятия, означавшего просто «характерный для народного языка». При этом вовсе не имелся в виду определенный единый народный язык, отличавшийся от ученой латыни священнослужителей, а также от романских и славянских языков Европы, например алеманнского, старосаксонского, баварского или восточнофранкского. Впервые со словом theodiscus мы сталкиваемся в сообщении каролингского епископа папе о синоде, состоявшемся в 786 г. в британской Мерсии. Прежние синодальные решения зачитывались там «как на латыни, так и на народном языке (theodisce), который могли понять все», т. е. в этом случае на староанглийском. Некоторые народные языки достигали литературных высот. Язык, называемый сегодня древневерхненемецким, произошел в значительной степени от рейнско-франкского диалекта, на котором говорили при дворе Каролингов, но диалект этот исчез на протяжении X в., когда господство над территорией, именовавшейся Germania, перешло к саксонским Отгонам. Напротив, поэзия Высокого Средневековья, примерно с 1150 г. использовавшая средневерхненемецкий язык, покоилась на различных диалектных основах, среди которых наиболее успешно использовались лимбургско-рейнский и алеманнскии диалекты. Но немецкого, понимаемого как язык надрегионального общения к востоку от Рейна, не было. Если сакс хотел поговорить с алеманном и не владел латынью, ему еще долгое время приходилось пользоваться западнофранкским языком (lingua franca) Западной и Центральной Европы, из которого позже возник французский язык.
Но до поры до времени слово thiutisk или его латинский вариант theodiscus еще редко встречались в источниках. Средневерхненемецкий вариант этого слова, diutsch, появляется около 1080 г. в Зигбурге в «Песне об Анноне», в которой идет речь о diutsche lant, т. е. о немецких землях. В ней говорится не о единой земле, а о землях алеманнов (швабов), баваров, саксов и франков, общность которых заключалась в том, что в них господствовали похожие народные языки. Слово deutsch еще очень долгое время оставалось чисто языковым понятием.
Употреблявшийся с середины IX в. латинский вариант — teutonicus — также ведет по ложному пути. На деле это понятие вовсе не означало тех германских племен тевтонов, которым римляне под командованием Мария в 102 г. до н.э. нанесли сокрушительное поражение при Аквах Секстиевых, отчего тевтоны и исчезли из истории. Правда, сохранилась память об ужасе, вызванном этим первым германским вторжением в Северную Италию, и для итальянцев было естественно называть тевтонами людей, приходивших из страны под названием Germania и утверждавших, что достоинство римских императоров перешло теперь к одному из них. В слове teutonicus звучала и надменность по отношению к пришельцам, и издевка над их грубым варварским обликом. Так thiutisk и teutonicus слились и начали превращаться в единое политическое понятие, когда в 1076 г., на пике борьбы за инвеституру, папа Григорий VII говорил о будущем императоре Генрихе IV как о rex Teutonicorum. Императора, по словам папы, следовало бы лишить его сана, восходящего к искупительному подвигу Иисуса Христа, и низвести до уровня обычного христианского короля, например венгров или датчан. Следовательно, первоначально в слове teutonicus присутствовал недружелюбный оттенок. Итальянцы, французы и англичане использовали это слово, если хотели выразить насмешку и проявить неприятие к людям из Germania и их властителям. Так поступил, например, в 1160 г. епископ шартрский Иоанн из Солсбери, которого рассердила попытка Барбароссы заставить избрать папу, не имевшего английской и французской поддержки. «Кто поставил немцев судьями над народами? Кто дал этим грубым и жестоким людям полномочия ставить по своему усмотрению владыку над правителями смертных?»
Империя продолжала называться Римской, а с 1157 г. Священной Римской, но слово thiutisk/teutonicus постепенно вошло в употребление. Восточнофранкское королевство, во главе которого стоял римский император, являвшийся и восточнофранкским королем, возглавляло конгломерат племен и нуждалось поэтому в названии. Обозначение «франки» уже закрепилось за западными соседями, и возникало желание отличаться от них, как и от «чужеземцев»-итальянцев и римской курии. Так на протяжении XI–XII вв. понятия regnum («королевство») и teutonicum постепенно срослись. Немецкая же нация оставалась чем-то неясным, ибо после прекращения династии Гогенштауфенов ни одной другой династии на протяжении веков не удалось обеспечить себе корону германских королей на длительный срок. В отличие от Англии, Франции или Дании, где династии в XIII столетии олицетворяли те центры, которые концентрировали развивающиеся силы и способствовали формированию нации, власть германской короны оставалась слабой. Немецкая нация пребывала в тени мощной империи, могущество которой было мифологизировано, а политические символы: священное копье, императорская корона и императорский трон Карла Великого в соборе в Ахене — связывались также с империей, а не с королевством. В вышедшей в 1927 г. биографии императора из династии Гогенштауфенов Фридриха II историк Эрнст Канторович констатировал применительно к XIII в.: «В моменты такоо накала чрезвычайной гордости (например, при выступлении в поход на Рим) все: саксонцы и франконцы, швабы и баварцы — чувствовали определенную общность не как немцы — нет, они были ближе к Риму как наследники Цезаря, воображали себя даже отпрысками троянцев и называли себя, ни много ни мало, римлянами». Немцы очень медленно привыкали к тому, что их называют немцами и в конце концов сами стали называть себя так, правда не придавая этому особого значения.
Мы, следовательно, имеем дело не с историей немецкого Средневековья, германской императорской власти и не с началом истории немцев, так как они еще ничего не знали о том, что они немцы. Напротив, речь идет о немецкой предыстории, о прологе, в котором еще господствует неясность насчет того, кто же главные актеры, но который все-таки надо знать, ибо без него нельзя понять дальнейший ход пьесы. «Священной Римской империи» было суждено, претерпев многократные превращения, сохраниться до Нового времени и отозваться странным, искаженным эхом в Германской империи, созданной Бисмарком в 1871 г. и погибшей в 1945 г. Территория расселения немцев, географическое положение Германии, важнейшие черты национального характера, языковые предпосылки формирования немецкой культуры — все это складывалось в эпоху, которая нам известна как Средневековье и в которую очень мало можно было узнать непосредственно о самой Германии и о немцах.
Восточнофранкский король, которому в течение XI–XII столетий суждено было все чаще называться германским королем, господствовал над территориями расселения майнских франков, саксов, фризов, тюрингов, баваров, швабов и, кроме того, к западу от Рейна — над лотарингами и бургундами, которые большей частью говорили не на германских, а на романских языках. Начиная с X в. эта сфера господства расширялась на восток от Эльбы. Экспансия, обычно называемая колонизацией Востока, имела далеко идущие последствия. Конкурируя с Данией, Польшей и Богемией, в X в. империя подчинила себе на протяжении четверти столетия небольшие западнославянские княжества и племенные образования между Балтийским морем и Восточными Альпами сначала в политическом и церковном, а потом, благодаря притоку поселенцев из Рейнланда, Фландрии и Тюрингии, также в языковом и культурном отношении. Территории к западу от Рейна — за исключением узкого пояса вдоль реки, где господствовали германские языки, — сохранили связь с миром романских языков. Однако постепенное смешение славянского и немецкого элементов к востоку от Эльбы привело к тому, что группы славянского населения ассимилировались. Они становились составными частями новых германских племен и языковых зон, не считая маленьких островков славянских языков в Лужице и Каринтии. Поэтому современные немцы и австрийцы имеют наряду с германскими и кельтскими еще и славянских предков: территория, населяемая немцами, образует перекресток Северной и Южной, Западной и Восточной Европы. Сами же немцы представляют собой смешение большинства европейских этнических групп древности и Средневековья в соответствии с местом их расселения в центре Европы.
Характер сообщества, развивавшегося в центре континента, поначалу с трудом поддавался определению. «Священная Римская империя», располагавшаяся на территориях Германского, Бургундского, Лангобардо-итальянского и Богемского королевств, на протяжении всего Средневековья была еще весьма далека от того, что мы сегодня называем государством. Средневековый государь имел прямые политические отношения с относительно небольшим числом людей. Его власть зиждилась на земельной собственности, принадлежавшей ему и его родственникам, и на готовности других землевладельцев признать его сильнейшим и подчиниться ему. Развивались личные отношения, закреплявшиеся договором: принимая присягу на верность, сюзерен клятвенно обещал своему леннику защиту, а ленник, вассал — повиновение. Со временем стало обычным, что сюзерен с этой клятвой передавал леннику господские права, т. е. землю или должности. Вассал в свою очередь также мог быть сюзереном, передавая в лен часть своих прав. Это была сложная, тщательно разработанная система чисто личных правовых связей. На большей части европейского континента все господство основывалось в значительной мере на ленной системе — средневековая Европа знала не государства, возникшие на территориальной основе, а отдельные сообщества, возникшие в результате личной присяги на верность. Государства, какими мы их знаем, рассчитаны на длительную перспективу; они безличностны. Средневековое же объединение вокруг отдельной личности, напротив, было ограничено во времени, его существование прекращалось со смертью сюзерена или вассала и поэтому всякий раз должно было обосновываться заново.
Как могли выглядеть такие ленные отношения, видно, в частности, на примере Генриха Льва (1129–1195). Вельфский[9] герцог, хотя и был ленником короля и императора Фридриха I Барбароссы, на подвластных ему территориях Саксонии и Баварии осуществлял почти королевскую власть ив 1176 г. даже отказался участвовать в походе императора против ломбардских городов. Вслед за этим на хофтаге[10] в Вюрцбурге в 1180 г. князьями под председательством императора Генрих Лев был лишен своих саксонских и баварских ленов, тогда как его семейное наследство в Брауншвейге и Люнебурге оставалось неприкосновенным. В результате появилось герцогство, позже королевство Ганновер, просуществовавшее до 1866 г., а земля Брауншвейг даже до 1946 г.
Характерно, однако, что Барбаросса избегал присоединения ленов, которыми прежде владел Генрих, к имперскому имуществу, что резко усилило бы власть дома Гогенштауфенов. В подобных случаях короли Англии и Франции по всем правилам присваивали ленное владение; начало современной государственности в Западной Европе было непосредственно связано с расширением и консолидацией королевской собственности. Барбаросса не сделал этого, а пожаловал освободившиеся лены другим имперским князьям, ибо, даже будучи на вершине своего могущества, не мог властвовать без их поддержки. Отказавшись от территориальной династической власти, Барбаросса, как полагают многие историки, вероятно, придал ходу истории решающее направление и лишил немецкую историю важной перспективы, обособив ее от западноевропейского развития. Правда, у него и не могло быть выбора. Император был слишком слаб, чтобы править вопреки могущественным владыкам в империи.
Попытка Гогенштауфенов консолидировать свои позиции по отношению к князьям и знати закончилась провалом. Уже простое расширение границ империи противоречило единоличному господству. К тому же гибель Барбароссы во время Крестового похода, ранняя смерть императора Генриха VI в 1198 г., характерное для его сына Фридриха II сосредоточение сил и внимания на Италии ослабляли императорскую власть. Длительный спор с папством, истощение ресурсов в ходе итальянских походов, многочисленность противоборствующих сил, а также замедленное по сравнению с Западной Европой культурное развитие привели к тому, что империя сохранила унаследованный от прошлого своеобразный характер. В то время как западные соседи располагали четко определяемой территорией, а также городами, которые становились столицами и резиденциями государей, экономическими и культурными центрами, границы империи оставались размытыми и в империи никогда, вплоть до прекращения ее существования в 1806 г., не было «долговременной» столицы, сравнимой с Лондоном или Парижем. Вместо центральной имперской власти на передний план выдвигались территориальные княжества — земельные владения знатных семей, имперские города, в Италии — автономные города-государства, все сильнее дистанцировавшиеся от империи.
Так в центре Европы одновременно возникли два политических уровня: с одной стороны, сама империя, глава которой, император, был наделен скорее символической, нежели реальной властью. Имперские же сословия заняли по отношению к нему позицию, довольно быстро укрепившую их: духовные и светские имперские князья, в числе которых с XIII в. особое положение занимали курфюрсты[11] выступали в качестве единственных избирателей короля. Города непосредственно подчинялись императору, и ему же непосредственно подчинялись графы и рыцари. Имперские сословия собирались на рейхсхофтаги — с XII в. возобладал принцип, в соответствии с которым императору во всех важных делах, касавшихся империи, необходимо было их согласие. Из хофтагов возник рейхстаг, который к XV столетии превратился в прочный регламентированный институт, игравший важную роль в имперской политике. Можно было бы задаться вопросом о том, почему империя, это слабое образование, глава которой всегда зависел от избрания и поддержки со стороны курфюрстов и сословий, смогла неделимой дожить в центре Европы до начала XIX в. Ответить непросто. Причин этому явлению много, начиная с того, что сообщество европейских государств нуждалось именно в таком внутренне раздробленном центре Европы как в пространстве для обеспечения баланса интересов и в качестве театра военных действий и кончая тем, что была необходима правотворческая и умиротворяющая сила, которой обладал слабый глава империи. Еще одна причина удивительной живучести империи заключалась в принципе выборности короля. Высшая аристократия была в долгосрочной перспективе ориентирована на свободное сотрудничество и на сосуществование королевской и императорской власти. Каждые выборы короля были новым вотумом доверия в пользу империи, и поэтому именно избиратели короля оказывались гарантом ее прочности и долговечности.
С другой стороны, территориальные государства, из которых состояла империя и к которым переходило все больше власти и самостоятельности, представляли собой почти зоологическое обилие курфюршеств, герцогств, епископств, графств, имперских городов, аббатств и владений рыцарских орденов. В них также господствовал принцип двоевластия: тому или иному князю противостояли ландтаги, в которые входили представители разных сословий и которые составляли единство территории в условиях длительных изменений на карте Центральной Европы, деления и соединения земель в результате последствий войн или случайностей, связанных с династическими взаимоотношениями. В особых случаях, например при несовершеннолетии князя, ландтаги также представляли собой стабилизирующую силу. Не только князья, но и сословные власти, парламенты, сословия и ландтаги способствовали укреплению и стабилизации империи.
О Германии XIX в. говорили как о «запоздавшей нации». Собственно, это понятие имеет силу для всей немецкой истории. Империя сильно запоздала уже на пути в Новое время. Что касается формирования конституционного строя и правопорядка, административного аппарата, техники управления и прямого осуществления королевской власти, то, к примеру, Франция, Англия, Неаполь, Сицилия, Арагон, Кастилия и Португалия, уже обогнали империю. В то же время страны северной и восточной периферии Европы: Шотландия, Дания, Норвегия, Швеция, Венгрия — еще далеко отставали от нее. Европа состояла из двух регионов, четко разграниченных в политическом и культурном отношении: из более современной (хотя и старшей по возрасту части), территориально более или менее совпадавшей со сферой господства античной Римской империи, и из отсталой, более молодой области, которая простиралась к северу от Адрианова вала в Англии, к северу om limes, Рейна и Дуная. Здесь на протяжении еще многих столетий королевская власть осуществлялась не в придворной канцелярии, с помощью пера, а в седле и с мечом.
Посреди этого «двойного» континента лежала империя, частично относившаяся к более старой Европе, но в основном все же к более молодой и тем самым представлявшая собой уменьшенное отображение континента в целом. В некотором отношении империя могла идти в ногу с западными европейскими регионами. Это касалось прежде всего торговли, развития транспорта, ремесел и городов, постепенно выходивших из тени землевладельцев и владетельных князей и формировавших собственную культуру с особыми правами, новой общественной иерархией, новыми стилем и ритмом жизни. Большинство немецких городов возникли между началом XI и началом XIV столетия. Цепь этих городов протянулась от Фрейбурга в Брейсгау через Мюнхен и Нюрнберг до Любека. То же касается и городов востока, например Берлина, Кенигсберга и Эльбинга[12]. Но обращало на себя внимание то обстоятельство, что крупные торговые города империи нигде не были тождественны центрам императорской власти. Они располагались большей частью на северной и южной периферии, по берегам Северного и Балтийского морей, как, например, Любек, Бремен, Гамбург и Росток, или вблизи больших перевалов через Альпы (Аугсбург, Регенсбург). В то же время короли и императоры по мере расширения империи на восток переносили свои резиденции и фамильные захоронения в восточном направлении — в Гослар, Магдебург, Нюрнберг и Прагу. Отсутствие столицы, того неподвижного и прочного административного центра, который был бы одновременно центром культуры, образования и торговли, самое позднее с XIII в. говорило о явной по сравнению с Западной Европой слабости императорской власти. Недостаточная концентрация центральной власти, архаические структуры управления империи объяснялись прежде всего тем, что германский король и римский император в значительной степени зависел от согласия имперской знати. Избираемая королевская власть по природе своей слаба и поэтому оказывается отсталой, если обратиться к вопросу о формировании современной государственности.
Центральная часть континента не могла угнаться за его западной частью и в культурном развитии. Около 1300 г. во Франции насчитывалось пять университетов, готовивших юристов и администраторов, в которых нуждался тогдашний властитель, в Северной Италии — три, в Англии и Кастилии — по два, в Португалии — один. Во всей же империи, как и в «молодой» Европе в целом, в ту пору не было ни одного университета. Только в 1348 г. император Карл IV на правах богемского короля основал университет в Праге — примерно через двести лет после создания Парижского университета, ставшего прообразом Пражского. Еще в XIII столетии письменность, культура и наука были в основном делом романских стран, а также Англии. Это не значит, что в Германии в процветавших городах, при княжеских дворах, в школах при соборах и монастырях не расцветали науки. В университетах Парижа, Болоньи и Саламанки «немецкие нации»[13], к которым могли принадлежать студенты из Англии, Германии и Польши, были наиболее многочисленными, и поэтому немецкие духовные элиты приобщались к опыту Италии, Франции и испытывали его серьезное влияние.
И еще в одном отношении немецкая культура развивалась — прежде всего посредством заимствования и переосмысления западных образцов. Это касается придворной любовной лирики Высокого Средневековья, песен Вольфрама фон Эшенбаха и Найдхарта фон Ройенталя, да и рыцарского романа в стихах, который был заимствован в основном из той среды, в которой возникли западноевропейские сказания о короле Артуре (например, «Парсифаль» Вольфрама фон Эшенбаха или «Эрек» Хартмана фон Ауэ). В политическом, духовном и культурном отношении Германия была и оставалась «страной середины», где взаимодействовали европейские культуры юга и запада континента, чтобы подвергнуться переосмыслению и в преобразованном виде широко распространиться среди соседей Германии. В следующие столетия латинским, итальянским, французским, испанским и английским образцам было суждено сменять друг друга.
* * *
ГАНЗЕЙСКИЕ ГОРОДА
Ганза, первоначально купеческое объединение, превратилась с XIII в. в могущественный союз примерно ста торговых городов, преимущественно северогерманских, во главе которого стояли Любек, Гамбург и Кёльн. Она контролировала торговлю на Балтийском море и располагала крупными перевалочными пунктами — от Новгорода до Лондона, от Венеции до Бергена. Ганза занималась, прежде всего, морской торговлей. Ганзейские купцы перевозили зерно, соленую рыбу, лес и строительный камень. Выпуклые корпуса ганзейских кораблей — когов — вмещали много товаров, а их широкие паруса и глубоко сидевшие кили обеспечивали большую скорость. Кульминация могущества Ганзы датируется 1370 г. после подписания Штральзундского мира, в соответствии с которым датский король принял условия торговли в западной части Балтийского моря. По мере роста влияния континентальных государств и с перемещением торговых путей Ганза постепенно утратила значение и, в конце концов, самораспустилась во время Тридцатилетней войны.
II. Подъем и упадок (1400–1648)
На пороге Нового времени, около 1400 г., «Священная Римская империя» занимала центр европейского континента. Ее граница пролегала от Голштинии вдоль берега Балтийского моря примерно до Штольпа в Задней Померании — здесь начинались владения суверенного и независимого от империи Немецкого ордена, — затем тянулась почти точно по линии, которой после Первой мировой войны было суждено разделить Германию и Польшу, шла к югу, охватывая Богемию и Моравию, а также герцогство Австрия, и у Истрии достигала Адриатического моря. Граница империи огибала Венецию и область, примыкавшую к ней, тянулась, охватывая Тоскану, к северо-западу от Папской области через Северную Италию и к северу от Чивитавеккьи достигала Тирренского моря, а оттуда у Ниццы снова поворачивала на север. Затем она шла к западу от Савойи, свободного герцогства Бургундия, Лотарингии, Люксембурга и графства Геннегау и между Гентом и Антверпеном, около Шельды, достигала Северного моря. Некоторые территории, например Северная Италия, Савойя, свободное герцогство Бургундия, а также мятежная Швейцарская конфедерация лишь номинально входили в империю; другие же не относились к тем коренным областям, которые назывались тогда teutsche lande. В Брабанте и части герцогств Лотарингия и Люксембург говорили по-французски, а в землях короны Венцеслава, т. е. в Богемии, Моравии и Силезии, немецкий был в основном языком городов — сельский люд и часть городского населения говорили по-чешски, а также по-польски.
Империя, как и прежде, была далека до превращения в национальное государство — не существовало ни сформировавшейся нации, ни государства. Конечно, император и империя проявляли готовность отказаться от своего всеобщего и универсального характера. С изданием в 1356 г. Золотой буллы[14] императора Карла IV (на ней стояла золотая печать, отсюда и произошло название), империя получила свою первую конституцию, в которой была зафиксирована зависимость от высшей имперской знати не только германского короля, но и императорского титула, сохранившегося благодаря обладанию германской короной. Король был imperator electus, избираемым императором, а папа больше не упоминался. Круг выборщиков, так называемых курфюрстов, теперь четко очерчивался. В него входили архиепископы Майнца, Кёльна и Трира, король Богемии, герцог Саксонский, маркграф Бранденбургский и пфальцграф Рейнский. Император обладал властью только в своем наследственном владении; для императоров из династии Люксембургов: Генриха VII (1308–1313), Карла IV (1346–1378} и Сигизмунда (1410–1437) — это была Богемия. Императорам из династии Габсбургов, начиная с Фридриха III (1440–1493), было суждено носить корону римских императоров почти непрерывно до 1,806 г. Их наследственным владением была Австрия, к которой без единого взмаха меча добавились Богемия, Венгрия и бургундское наследие — все благодаря династическим бракам и наследованию. «Пусть другие ведут войны, а ты, счастливая Австрия, брачуйся».
Развитие городов в Центральной Европе с 1150 по 1950 г.
Города, а с ними и бюргерство появляются с X в. к северу от Альп, почти без прямой связи с античной городской культурой, Города олицетворяли власть, но прежде всего были центрами торговли; они притягивали купцов и ремесленников. Численность городов резко возросла в XIII в., чему благоприятствовали рост населения, увеличение пахотных земель и заселение территорий на востоке. Владетельные князья вступали в острую борьбу друг с другом за основание городов. Ни до, ни после в Центральной Европе не возникало так много городов, как в этот период.
Однако династические владения, в которых императоры были непосредственными сюзеренами и где они могли взимать налоги и набирать солдат, находились на окраине империи, а если говорить о Венгрии — то даже за ее пределами. Это привело к тому, что император подолгу не показывался во внутренних областях империи (например, Фридрих III — 27 лет). Сама же империя представляла собой хаотическую сеть из примерно 1600 непосредственно подчиненных императору территорий и городов, которые каждый по-своему давно уже обогнали империю на пути к государственности. Наряду с маленькими и мельчайшими владениями, которые нередко можно было окинуть взором со стены замка, наряду с богатыми и могущественными имперскими городами вроде Нюрнберга или Любека, а также гротескно крошечными имперскими деревнями существовали обширные территории имперских князей с развитым центральным управлением и собственными ландтагами, например герцогства Бавария, Вюртемберг, Лотарингия, Люксембург и Савойя, курфюршества Саксония, Бранденбург и Пфальц, ландграфство Гессен, духовные курфюршества Майнц, Кёльн и Трир. И это только некоторые из наиболее крупных территорий. Такое «старомодное» разнообразие территорий не имело ничего общего с более современным государственным устройством Западной Европы. В Центральной Европе не существовало государственных институтов, на которые могла бы опереться немецкая нация.
Население западной части Германии с 600 по 1600 г.
Достоверных данных о населении в период до 1800 г. нет, поскольку переписей почти не проводилось. Мы полагаемся на оценки, часто сильно расходящиеся. Численность населения Германии к западу от Эльбы (об остэльбских областях мы знаем слишком мало, а данные о поселениях на востоке в эпоху Высокого Средневековья искажают общую картину) около 600 г. была крайне незначительна. Затем, под воздействием благоприятных климатических условий, с середины XI в. количество населения стало быстро увеличиваться и в середине XIV в. достигло пика, затем резко снизилось из-за эпидемий и голода. Наметившийся рост численности населения был заторможен Тридцатилетней войной, но вновь существенно ускорился с середины XVIII в.
Население этих земель существовало, как и прежде, почти исключительно в аграрном мире. Четверо из пяти проживавших на данных территориях населяли хутора или деревни, численность которых в Центральной Европе постоянно увеличивалась на протяжении XIII–XIV вв. В областях к западу от Эльбы были выкорчеваны последние девственные леса, и даже самые неблагоприятные земли теперь распахивались, а землевладельцам пришлось охранять оставшиеся леса, запрещая корчевание. Число крестьянских поселений, плотность которых ощутимо приближалась к западному показателю, увеличивалось и к востоку от Эльбы. В то же время росла численность крестьянства, а крепостничество, распространенное прежде на обширных территориях, отступало на задний план. Верховным собственником в деревне по-прежнему являлся землевладелец, большей частью знатного происхождения, но за крестьянами оставалось право пользования землей. Крестьянин-арендатор, платежи которого обеспечивали ренту землевладельца, стал типичной фигурой по крайней мере в областях к западу от Эльбы. Напротив, к востоку от Эльбы утратили силу правовые преимущества, которые многие крестьяне приобрели во время колонизации в эпоху Высокого Средневековья. Здесь дворянство использовало слабость владетельных князей, для того чтобы получить широкие господские права по отношению к крестьянам, что позволяло превратить их в наследственных подданных. В остэльбских имениях крестьяне оказались в полной зависимости от землевладельцев, они должны были нести тяжелые повинности и становились почти полностью беззащитными перед правами юнкеров, основанными на принуждении. Эта ситуация изменилась только с освобождением крестьян в XIX в.
Около 20% населения жило примерно в 4 тыс. городов империи, плотность которых уменьшалась с запада на восток. Две трети из них представляли собой карликовые города с несколькими сотнями обитателей и маленькие города с максимальным числом 2 тыс. жителей. При небольшом количестве крупных городов с более чем 10-тысячным населением. Кёльн, в котором проживало примерно 40 тыс. человек, стоял во главе немецких городских общин; за ним шли пражские города[15] и Любек. Другими крупными городами были Аугсбург, Нюрнберг, Бремен, Гамбург, Франкфурт, Магдебург, Страсбург и Ульм. Все они далеко отставали по численности населения от таких крупных европейских городов, как Париж, Флоренция, Венеция, Генуя и Милан, к 1340 г. насчитывавших каждый приблизительно 100 тыс. жителей. Большинство городов империи принадлежали к княжеским территориям и подчинялись владетельным князьям. Наряду с ними существовали имперские города. В имперском матрикуле 1521 г. были приведены 85 таких городов. Они подчинялись непосредственно императорской верховной власти. В число имперских городов входили и вольные города, т. е. города, принадлежавшие епископам (например, Кёльн и Регенсбург), но сумевшие освободиться от их власти.
Только часть городского населения обладала гражданскими правами на основе статуса горожан. Наряду с патрициями и знатными семьями это были торговцы и ремесленники, объединенные в цехи. Этим почтенным бюргерам противостояла в высшей степени разнородная масса тех, кто не имел бюргерских прав: слуги и служанки, прислуга в лавках, подмастерья и ученики, калеки и нищие, живодеры и палачи, а также дворяне, духовенство, чиновники и евреи.
Трудно установить, сколько всего людей жило в «Священной Римской империи», так как переписи населения не проводились. Оценки ученых исходят из различных предположений, что привело к появлению данных, слишком сильно отличавшихся друг от друга, поэтому к нижеследующим цифрам мы относимся с должным скепсисом. Около 1000 г. на территории империи могли обитать примерно 5 млн. человек, около 1340 г. — может быть, 15 млн. и около 1450 г. — приблизительно 10 млн. человек.
С первого же взгляда становится ясно, что на протяжении примерно столетия, в течение которого Новое время сменило Средневековье, произошли тяжелейшие катастрофы, причем не только в пределах империи, но и по всей Европе, ибо оценки, касающиеся Западной и Центральной Европы, свидетельствуют о сходных резких колебаниях. Общее количество населения Западной и Центральной Европы около 1000 г. составляло примерно 12 млн. человек, около 1340 г. — 36 млн., а в 1450 г., напротив, только 23 млн. человек. Что же случилось?
В середине XIV столетия Европа была перенаселена. С помощью традиционных методов обработки земли было невозможно прокормить людей, которые страдали от недоедания и потому оказывались восприимчивыми к эпидемиям, черными волнами прокатывавшимся по Европе. На протяжении XIV в. примерно треть населения выкосила чума, страшная «черная смерть», что не увеличило количества продуктов питания, так как большие плодородные области запустели очень быстро. Страх, охвативший людей, нашел отражение в словах старинной литании: A peste, fame et bello, libera nos, Domine («Господь, спаси нас от чумы, голода и войны»). Эти три бича были частью единого целого — военные опустошения вели к недостатку продовольствия, а голод, как следствие этого, ослаблял людей, делая их подверженными эпидемиям. Таков казавшийся безвыходным круговорот страха.
Всеобщее бедствие привело к глубочайшим общественным потрясениям, которых до сих пор не знала история Европы. Обычным явлением стали городские восстания. Едва ли существовал хотя бы один город, не затронутый во второй половине XIV и в XV столетии мятежами и борьбой за власть. К примеру, Брауншвейг пережил внутренние гражданские войны в 1293, 1294, 1374, 1380, 1445 и 1487 гг. Крестьянские восстания потрясали сельское мироустройство — начиная от восстания аппенцельских[16] крестьян, взявшихся за оружие в 1405 г. и с успехом боровшихся против своего господина, до восстания никласхаузенского дударя в 1476 г. и восстаний тайного крестьянского союза «Башмак» (Bundschuk) в 1493, 1502, 1513 и 1517 гг. на Верхнем Рейне. Банды разорившихся дворян, живших разбойничьими набегами, лишали покоя сельских жителей, а грабежи демобилизованных солдат беспокоили даже города. «Народ, — писал нидерландский историк Йохан Хёйзинга, — не мог воспринимать и собственную судьбу, и творившееся вокруг иначе как нескончаемое бедствие дурного правления, вымогательств, дороговизны, лишений, чумы, войн и разбоя. Затяжные формы, которые обычно принимала война, ощущение постоянной тревоги в городах и деревнях, то и дело подвергавшихся нашествию всякого опасного сброда, вечная угроза стать жертвой жестокого и неправедного правосудия — а помимо всего этого еще и гнетущая боязнь адских мук, страх перед дьяволом и ведьмами — не давали уснуть чувству всеобщей беззащитности…»
Не особенно надежную защиту предлагали и институты, на протяжении долгого времени формировавшие условия земного существования. Церковь и империя, хотя и оказывавшиеся часто в крайне опасном противостоянии, но с незапамятных времен зависевшие друг от друга, взаимно поддерживавшие друг друга и друг другу помогавшие, теряли авторитет. С 1309 г. папа больше не находился в своем Вечном городе, а пребывал — в результате давления Франции — в Авиньоне, попав тем самым в сильнейшую зависимость от французской короны. «Вавилонское пленение церкви» вылилось в «великую западную схизму» — с 1378 по 1415 г. было два папы: один в Риме, другой в Авиньоне, и тем самым по западному христианству прошла глубокая трещина, нанесшая серьезный и долговременный ущерб папству. Хотя Вселенские соборы в Констанце (1414–1418) и Базеле (1431–1449), посвященные церковным реформам, положили конец расколу, но это было достигнуто ценой дальнейшего ослабления папства. Этот процесс шел рука об руку с широкомасштабной секуляризацией, характерной для периода правления пап эпохи Возрождения. Огромные расходы на содержание папского двора и церковное представительство сопровождались тягостными поборами, которые взимались церковью с верующих без какого бы то ни было снисхождения. Расточительность пап, жадность церкви, противостояние пап и антипап, а также соборов — все это содействовало утрате доверия к папству, церкви и духовенству в целом. Римская церковь не давала убедительных ответов на коллективные душевные потрясения «осени Средневековья» (Йохан Хёйзинга), вызванные голодом и чумой. Ереси множились. Стремление к реформам, апокалипсический ужас, переворот в церковном и политическом устройстве, но в первую очередь поиск нового единства и уверенности усиливали движения, критически настроенные по отношению к церкви: лоллардов в Англии, гуситов в Богемии, анабаптистов в Нидерландах и Северной Германии. Все громче звучал призыв к проведению реформы высшей церковной власти и ее звеньев. Это же касалось и самой империи.
С середины XV в. старение империи и безвластие императора по сравнению с современными по тому времени государственными образованиями — Францией, Англией или Испанией — осознавались очень болезненно, и призыв к реформе империи стал всеобщим. Реформу современники тесно связывали с реформой церкви, ибо империя и церковь в соответствии с Господним планом спасения находились в зависимости друг от друга. Тот факт, что с момента принятия Кёльнского имперского акта 1512 г. говорили о «Священной Римской империи германской нации», свидетельствовал лишь о том, что империя теряла свою власть и универсальность, особенно быстро с наступлением Ренессанса и развитием гуманизма. Чем больше императорская корона утрачивала свою средневековую святость, а происхождение императоров от римских цезарей превращалось в отжившую традицию, тем естественнее становилось использование понятия «германская нация» в качестве своего рода опоры. В годы кризиса обычным был поиск четко очерченных границ и обозначений, определяющих, что свое и что чужое. Таким образом, не немцы ли стали преемниками империи? «Меморандум о преимущественном праве Римской империи» кёльнского каноника Александра фон Роэса, написанный уже в конце XIII в., теперь был открыт вновь и всеми обсуждался. В нем говорилось: «Итак, следует знать, что Карл Великий, священный император, с согласия и по поручению Римского папы… был предназначен к тому и получил повеление, чтобы Римская империя навсегда оставалась при избирании по праву власти немецких князей…»
Но под «германской нацией» подразумевалась не совокупность говоривших по-немецки людей, населявших «Священную Римскую империю», а политически действующее сообщество германских князей, которые в целом как «империя» противостояли императору. «Нация» в понимании того времени представляла собой аристократию в качестве политически действующего сословия. Поиск пути имперской реформы был нацелен теперь на создание институтов, которые помогли бы обрести современную государственность. В случае удачи «германская нация» получила бы шанс утвердиться в качестве государствообразующей, что произошло во Франции и в Англии. Правда, стремление императора Максимилиана I (1486–1519) к имперской реформе показало, что империя еще отнюдь не деградировала до уровня чисто метафизического образования. Учреждение Общеимперского палатного суда в 1495 г., связанное с провозглашением «вечного земского мира» во всей империи, и разделение ее территории на десять округов были задуманы только как начало. Введение центрального «имперского управления» в качестве дееспособного представительства имперских сословий, взимание имперских налогов должны были стать следующими шагами по формированию суверенной властной позиции императора, которая позволяла бы ему воплощать свои намерения. Но император умер, и почти все задуманное Максимилианом так и осталось неосуществленным. Его внук и наследник Карл V (1519–1556) снова начал реформу, пытаясь стабилизировать и модернизировать monorchia universalis, но на сей раз в качестве универсальной империи, которая наряду с Германией, Богемией, Бургундией и Миланом включала бы Испанию и вновь открытые испанские владения. При такой перспективе «немецкие земли» снова отходили на задний план.
Благо «германской нации» было, однако, очень сильным аргументом в дискуссии об имперской реформе. Когда, например, на так называемом турецком рейхстаге в Регенсбурге в 1454 г. руководитель императорской делегации Энеа Сильвио Пикколомини призвал к Крестовому походу и отвоеванию Константинополя, то получил от германских курфюрстов отрицательный ответ. Император должен сначала позаботиться о самой империи, ибо «столь важная, достойная и благородная страна, каковой является страна немецкого языка… и священная империя, столь похвально приверженная немецкому языку», пребывают «в большом беспорядке». Без имперской реформы не бывать войне против турок, или, иными словами, немецкая рубашка к телу курфюрстов ближе имперской мантии, причем под «немецким языком» (Teutsch gesunge), т. е. «немецкой нацией», подразумевались немецкоязычные сословия империи.
О том, сколь тесно имперская реформа была связана с реформой церковной, свидетельствуют «жалобы германской нации», все чаще подававшиеся имперскими сословиями против папской курии. В жалобах говорилось, что римский престол измышляет тысячи мер, чтобы опустошать карманы, отчего «некогда славная нация», «своими храбростью и кровью завоевавшая империю» и бывшая «госпожой и королевой мира», ввергнута в бедность и унижена до положения рабыни. Таким образом, «германская нация» в политическом смысле была в начале Нового времени оппозиционным понятием, направленным против универсальной власти императора и папы, но недостаточным, для того чтобы в долгосрочной перспективе способствовать обоснованию государственной власти.
Идея «германской нации» озвучивала, однако, не только политические, но и культурные устремления, и в этом смысле содержание понятия «германская нация» существенно обогатилось, с тех пор как итальянский гуманист Поджо Браччолини обнаружил и в 1455 г. опубликовал считавшийся утраченным труд Тацита «Германия». В эпоху Ренессанса и гуманизма старое представление о происхождении племен от легендарных августейших предков было связано с поисками классических греческих или латинских источников. Исторические исследования ученых-гуманистов XVI–XVII столетий были направлены на подтверждение и укрепление идентичности соответствующих наций, но на античных основах. Характер мышления и опыт той эпохи считались образцовыми и создавали космополитическую, общеевропейскую, культурную почву для всеобщего стремления к национальной неповторимости. Поэтому открытие «Германии», написанной около 100 г. до н.э. для императора Траяна, произвело фурор. Благодаря великому историку древности, авторитет которого не подлежал сомнению, теперь можно было удостовериться в том, что немцы издавна представляли собой народ, причем особый. До тех пор немецкие ученые существенно отставали в международной конкуренции за национальную славу, ибо не существовало германского племени, из которого могла развиться германская нация, подобно тому как из племени франков возникла Франция. Слово «немецкий» было собирательным обозначением германских народных диалектов, искусственным образованием. Отныне с этим словом все стало гораздо проще, исходя из того что, по Тациту, германцы были предками современных немцев. Germania в понимании римлян соответствовала, таким образом, нынешней Германии. Только теперь, около 1500 г., это слово появилось в единственном числе (прежде довольствовались понятием «немецкие земли»).
Благодаря авторитету Тацита немецкие гуманисты сумели наконец ответить на многочисленные нелицеприятные высказывания о немцах, распространенные за пределами немецких земель. Представлению о грубом, нецивилизованном, непьянеющем немце теперь противопоставлялся созданный Тацитом идеальный образ не испорченного воспитанием, верного, смелого и живущего естественной жизнью германца. Однако никому не приходило в голову, что светлые образы германцев могли быть выдумкой Тацита, дабы показать истинное лицо современного историку римского общества с характерным для той поры упадком нравов. Фактически такой же линии придерживались и гуманисты XVI в. — немцы фигурировали теперь как носители исконной, неиспорченной нации, которой следовало сменить изнеженную старую цивилизацию итальянцев и французов. Неиспорченная нравственность немцев охотно противопоставлялась испорченности нравов, характерной для римской курии.
Немецкие ученые демонстрировали новое национальное самосознание и по отношению к французским соседям. Важнейшее для легитимации французской короны утверждение о том, что Карл Великий был предшественником французской династии Капетингов, Якоб Вимпфелинг объявил в 1505 г. в своей «Epitome Germanorum»[17] смехотворным. В действительности же, по его словам, Карл был «немцем» (Teutscher), господствовавшим над французами, в то время как француз или галл никогда не являлся римским императором, что представлялось достаточным доказательством превосходства немцев над французами. Для Вимпфелинга, который, как и многие немецкие гуманисты, был эльзасцем, не подлежало сомнению, что со времен Августа жители Эльзаса были немцами, а поэтому Страсбург, как и весь Эльзас, никогда не мог оказаться под властью Франции.
Таким образом, около 1500 г. на протяжении одного поколения возникла основа для формирования немецкого национального самосознания, которое представляло собой нечто большее, нежели неясное «чувство Мы», и которое должно было сводиться к немецкому национальному мифу. Этот процесс происходил тогда во всей Европе. Эразм Роттердамский, отрицавший свою причастность к формированию национальных мифов, печально констатировал, что природа привила личный эгоизм не только каждому индивиду, но и всеобщий — различным нациям. У немецкого национального мифа отсутствовали, однако, не только государственно-политические рамки, которые могли бы сделать его долговечным, но и языковой субстрат. Немецкие гуманисты, за очень небольшими исключениями, писали по-латыни. Немецкие ученые оставались прежде всего гуманистически настроенными космополитами, тесно связанными с европейской «республикой» ученых. Их национальная миссия — вывести Германию из состояния варварства — осуществлялась через латинско-классическую культуру. На рубеже XV–XVI столетий возникли первые четкие и прочные контуры немецкой нации. В сущности, начиная именно сотого времени мы можем говорить о «немецкой истории», во всяком случае об «истории немцев» — разумеется, о такой истории, которая с самого начала была глубоко укоренена в гуманистической общеевропейской почве.
Не научные усилия гуманистов, не потерпевшая крах имперская реформа сформировали образ Германии на следующие века, а реформа Мартина Лютера. Разумеется, она была бы невозможна, не имей Лютер многочисленных предшественников. Уже с XIII в. предпринимались неоднократные попытки обновить церковь, заставить ее следовать принципам христианской бедности и смирения и уменьшить пропасть между духовенством и народом Божьим. Прежние реформаторы, нищенствующие ордены Св. Франциска и Св. Доминика, еще могли быть восприняты церковью. Позднейшие реформаторы, Джон Уиклиф (1330–1384) в Англии и Ян Гус (1371–1415) в Богемии, выдвигавшие более радикальные требования: о ликвидации папства и почитания святых, о безусловном авторитете Священного Писания и совести, об общности причащения вином для священников и общины — остались вне церкви. Они подвергались преследованиям и были сожжены (Гус — заживо на Констанцском соборе, останки Уиклифа сожгли после его смерти), но идеи их последователей уже нельзя было искоренить.
Мартин Лютер.
Лукас Кранах Старший, 1529 г.
Виттенбергский монах Мартин Лютер (1483–1546) тоже не хотел соглашаться с тем, что милость Божья может покупаться продажей земных благ церкви. На вопрос «Как обрету я милость Божью?» он в своих тезисах от 31 октября 1517 г. вопреки католическому учению ответил: sola fide, т. е. только с помощью веры, и sola scriptura, т. е. только с помощью Священного Писания. Торговля индульгенциями, мошенничество под видом спасения душ и злоупотребление должностями в церкви были тем самым лишены теологической почвы, как и духовная монополия на посредничество между Богом и человеком.
Мятежного монаха, порвавшего с папой, желавшего на основе общины верующих обновить подлинную церковь Христову, человека, для которого единственным авторитетом в делах веры было Писание Божье, пригласили в 1521 г. на заседание рейхстага в Вормс. Это был первый случай, когда светский орган присвоил себе право судить о вопросах церковной догматики. Настроение участников рейхстага было направлено резко против пороков церкви и папства, и советники Карла V склонялись к тому, чтобы с помощью Лютера оказать давление на папу. Но Лютера нельзя было использовать для дипломатических уступок, а его отказ пересмотреть хотя бы отчасти свое учение заводил, по мнению императора, слишком далеко. Лютер мог бы разделить судьбу богемского реформатора Яна Гуса, если бы его не взяли под защиту несколько имперских князей. Это произошло также по причинам религиозного характера, а может быть, прежде всего из-за них. Папский легат сообщал в Рим: «Девять десятых немцев присоединились к боевому кличу Лютера, а оставшаяся часть провозглашает по меньшей мере “Смерть римскому двору”…» Но главное — реформация Лютера оказалась удобной для отклонения притязаний императора на власть по отношению к имперским сословиям и к консолидации власти местной знати.
На рейхстаге в Шпейере в 1526 г. был достигнут компромисс, который позволял владетельным князьям-лютеранам и магистратам городов, где возобладало лютеранство, самим решать вопросы церковной жизни на своих территориях. Евангелические властители без лишних слов взяли на себя задачу «чрезвычайных епископов», встав во главе церковной организации своих земель. Лютер рассматривал это только как переходное решение, но князья не собирались утрачивать обретенный контроль над церковью, тем более что почти все церковное имущество было взято во владение государством, отчасти продано, но большей частью присоединено к собственности князя. Урегулирование церковных проблем князьями было облегчено благодаря учению Лютера, который, ссылаясь на апостола Павла: «…ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1), поставил перед светской властью задачу защищать сообщество христиан от зла. Таким образом евангелический суверен, подобно английскому королю, оказывался summus episcopus и главой строго иерархически организованной церкви, в результате чего конфессиональная сфера полностью включалась в бюрократический государственный аппарат.
И на территориях, сохранивших приверженность прежней вере, суверены пытались удержать церковь под контролем государства. Баварские герцоги, например, обратились в Университет Ингольштадта, чтобы, прибегая к церковному учению, добиться для светской власти права контролировать власть епископов. Здесь, однако, речь шла о католическом обновлении, ибо было слишком много священнослужителей, чье представление о служении не соответствовало новой для католической церкви строгости нравов или было слишком дружественно в отношении учения Лютера. Контрреформация не была, кстати, только реакцией римской церкви на Реформацию. Напротив, потрясения, вызванные Гусом, Лютером и Кальвином, укрепили, в том числе и внутри церкви, давно существовавшие реформаторские силы, начавшие теперь бороться против церковной коррупции, прилежно обучать духовенство и возвращать в лоно истинной веры людей, которые были потеряны для церкви из-за Реформации. Во всяком случае, как Реформация, так и католическое обновление стали служить отдельным государствам и их властителям. Территории, с трудом возникавшие на основе бесчисленных распыленных владельческих прав, нуждались по политическим соображениям в объединяющем духовном скреплении, а при том значении, которое имела религия, пронизывавшая все сферы жизни, такое скрепление давало только единство вероисповедания.
* * *
МАРТИН ЛЮТЕР
«Христианскому дворянству германской нации: об улучшении христианского состояния». Виттенберг, 1520 г.
«Придумали называть папу, епископов, священников, монахов духовным сословием, князей, господ, ремесленников, земледельцев — сословием. Это очень тонкая и лицемерная выдумка. Никто, однако, не должен смущаться этим, и вот на каком основании. Дело в том, что все христиане полностью принадлежат к духовному сословию и между ними существует только различие должностей…»
Аугсбургский религиозный мир 1555 г., в соответствии с которым лютеранские имперские сословия окончательно обрели равноправие с католическими, провозгласил для всех суверенов принцип ius reformandi. Это означало, что «спасение души» является делом суверенов, а не каждого отдельного верующего и что население должно, следовательно, иметь религиозное исповедание соответствующего государя. Тому, кто не был готов поступить таким образом, оставалось ius emigrandi, т. е. право выезда в ту страну, вероисповедание которой ему подходило. Внутренняя унификация германских земель и имперских городов тем самым укрепилась, что было решающей предпосылкой для формирования их собственной государственности и самостоятельности как внутри них, так и вовне. Но одновременно «Священная Римская империя», территориальная раздробленность которой была усугублена конфессиональным расколом, становилась слабее. В то время как империя продолжала все более терять государственное начало, императоры из династии Габсбургов чем дальше, тем сильнее закреплялись на своих наследственных — австрийских — землях. Постепенное обособление Австрии от германской истории началось уже во времена Реформации.
Теология Лютера была теологией слова, исходившей из начала Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Таким образом Библия стала единственным авторитетом евангелической христианской веры, и, так как церковь Лютера представляла собой сообщество всех верующих, Слово Божье должно было быть провозглашено и на языке верующих. Так выполненный Лютером перевод Библии на тот сочный немецкий язык, на котором он говорил, — язык саксонцев, а особенно жителей Майсена, — превратился в книгу для чтения всей нации. То же произошло и с трактатами и посланиями Лютера; например, трактат «Наставление об индульгенции и спасении», вышедший весной 1518 г., выдержал к 1520 г. двадцать пять изданий и допечаток, а 4 тыс. экземпляров его сочинения «К христианскому дворянству немецкой нации» были проданы за восемнадцать дней, и второе издание этого сочинения появилось уже неделю спустя после первого. На стороне Реформации выступили немало и других протестантских авторов, теологов, монахов, образованных бюргеров и ремесленников-поэтов. Поток немецкоязычной литературы, преимущественно теологической, соответствовал быстрому расширению круга читателей. На территориях, где утвердилась Реформация, резко возросли образованность и грамотность мирян. По меньшей мере протестантские области Германии были объединены в культурном отношении, и немецкий язык стал с тех пор обобщающим понятием для обозначения многочисленных диалектов и отдельных языков. Но, обращаясь в 1520 г. «К христианскому дворянству немецкой нации», Лютер имел в виду под «немецкой нацией» вполне традиционно не что иное, как немецкое дворянство, т. е. духовные и светские власти. Его призыв был нацелен не на культурное единство или государственно-политическое действие, а на улучшение положения в христианском мире и на реформу римской папской церкви.
Современники Мартина Лютера — ученые-гуманисты превозносили его как «немецкого Геркулеса», «немецкого соловья». Его выступления способствовали зарождению чувства национальной общности. Однако глубочайшая ирония истории заключается в том, что именно Реформация Лютера самым серьезным образом отбросила назад формирование немецкой нации как культурного и, вероятно, государственного единства, которое могло бы происходить в соответствии с развитием других стран Западной Европы. Поскольку Реформация возобладала не во всей империи и протестантизм стал делом церквей земель и протестантских сословий, борьба между вероисповеданиями в Германии в соответствии с территориально-государственным принципом cuius regio, eius religio («чья власть, того и вера») оказалась не завершена. Эта незавершенность закрепилась, и территориальный раскол империи был дополнен и углублен расколом конфессиональным. Тот, кто говорил о patria, отечестве, имел в виду не империю, так как она была и оставалась чем-то очень далеким, постижимым в качестве института разве что для имперских городов и высшей знати. Не подразумевалась под отечеством и Германия, ибо она представляла собой неопределенное понятие, осознаваемое на уровне скорее культурном, нежели политическом. И уж тем более понятие «отечество» не означало принадлежность к немецкой нации, так как под немецкой нацией абсолютно точно подразумевались имперские сословия, представленные в рейхстаге и противостоявшие императору, а не население, говорившее по-немецки и проживавшее на территории империи. Отечеством был родной город или земля, княжескому дому которых ее обитатели были обязаны лояльностью и чьей религии они были привержены.
Пути развития Германии расходились не только в политическом, конфессиональном, но и в культурном отношении. Части империи, оставшиеся католическими, преимущественно на западе и юге, за исключением большинства крупных городов, попали в сферу влияния католической, направленной против Реформации, культуры Южной Европы. Это означало проникновение в католическую европейскую культуру, но в то же время обособление от протестантского севера. С того времени в католической Германии под итальянским и французским влиянием расцвели изобразительные искусства, театр, живопись, церковная и светская парадная архитектура, тогда как в областях, где господствовали евангелические церкви, в центре культурного развития были, наряду с заботой о церковной музыке, язык и его художественные формы. Последствия этого культурного раскола заметны в Германии до сих пор.
И в этом отношении Германия и империя находились на пограничной линии, разделившей всю Европу. В то время как, согласно решениям Аугсбургского рейхстага 1555 г., в империи воцарился мир, сохранявшийся благодаря компромиссу в вопросах власти между католическими и протестантскими сословиями, повсюду в Европе разгорались острые религиозные конфликты. Камнем преткновения оказалось при этом не учение Лютера, а радикальный кальвинизм, приверженцы которого отвергали свойственное немецкому реформатору послушание властям и требовали осуществления своей вероучительной истины любой ценой. Если господин преследует подданного за веру, то, по учению Жана Кальвина (1509–1564), активное сопротивление становится обязанностью каждого. Это означало готовность к гражданской войне, и такая война разразилась во Франции в 1562 г. Кальвинисты, называвшиеся во Франции гугенотами[18], взялись за оружие по всей стране. С этого момента до 1598 г. в стране бушевали одна кровавая война за другой, причем разгоревшийся с обеих сторон религиозный фанатизм приводил к ужасающим жестокостям.
Фридрих Мудрый.
Мастерская Лукаса Кранаха Старшего, около 1525 г.
Реформация Мартина Лютера потерпела бы, конечно, поражение как еретическое движение, если бы некоторые могущественные имперские князья не стали сторонниками его учения. При этом укрепление их господства над подвластными территориями и умножение государственных доходов было не менее важно, чем приверженность определенному вероисповеданию, Фридрих III, курфюрст саксонский (1486–1525), защитил Лютера в качестве профессора саксонского земельного университета в Виттенберге, но в политической и религиозной сферах он пытался лавировать, почему и был назван «Мудрым». Фридрих III, как утверждают, постоянно уклонялся от встреч с Лютером и только на смертном одре объявил себя приверженцем его учения.
Если распад Франции удалось в конце концов предотвратить благодаря переходу вождя гугенотов Генриха Наваррского в католичество и коронованию его королем, то гражданская война во Франции оказалась лишь частью длительной кровавой бойни, которая грозила погружением в нее большинства государств Европы. Дворяне-реформаты в семи северных провинциях Испанских Нидерландов восстали против политики Мадрида, направленной на подавление Реформации. Начавшаяся в 1567 г. война, имевшая черты как освободительной, так и гражданской, бушевала еще и в следующем столетии. Она закончилась только с признанием независимости Нидерландов в результате заключения Вестфальского мира в 1648 г. В это же время (1642) разразилась гражданская война в Англии между партией парламента и партией короля. И здесь религиозные течения прикрывали борьбу за политическую власть. В Англии случилось самое чудовищное — побежденный король был приговорен палатой общин к смерти как тиран и враг народа и публично казнен.
* * *
ПРАЖСКИЕ КАЗНИ
Восстание протестантских чешских сословий, с которого в 1618 г. началась Тридцатилетняя война, было подавлено императорским войском и войсками Католической лиги после поражения в битве на Белой Горе 8 ноября 1620 г. Месть императора Фердинанда II как чешского короля должна была преподать урок. Он отменил религиозную свободу в Чехии, выборность короля и повелел приговорить почти всех участников восстания к смертной казни. Оглашение приговора, напрасные просьбы близких о милости, доставка пленных в город, казни и пытки на Староместской площади, выставление голов казненных на башне у Староместского моста — все это оставило глубокие следы в сознании чехов.
Напротив, в Германии с заключением Аугсбургского религиозного мира с 1555 г. по 1618 г. царил самый длительный период тишины и спокойствия в немецкой истории. Однако он закончился, как только сформировались конфессиональные союзы под руководством честолюбивых вождей, ждавших любого повода для начала войны. И таковой представился, когда выявилось скрытое напряжение в отношениях между преимущественно протестантскими сословиями Богемии и католической, враждебной Реформации администрацией Габсбургов. 23 мая 1618 г. богемские сословия восстали. В соответствии со старым богемским обычаем в знак политического протеста несколько императорских чиновников были выброшены из окна королевского дворца в Пражском Граде. Было создано временное богемское правительство, изгнаны иезуиты и сформировано войско. Государства протестантской унии действовали на стороне богемских единоверцев. Император Фердинанд II (1619 — 1637) жестоко подавил восстание в союзе с государствами — членами Католической лиги под руководством Баварии.
Конфликт перерос в войну, охватившую территории далеко за пределами империи, — войну, в которой имена таких полководцев, как Валленштейн, Тилли и Мансфельд, стали символами противоречий того периода. Во время Тридцатилетней войны, а по сути дела череды войн, речь шла о восстановлении католического единства Европы оружием Габсбургов и Виттельсбахов[19]. С вмешательством в немецкую войну шведского короля Густава II Адольфа (1611–1632), который был воспринят протестантскими сословиями как евангелический альтернативный император, могло бы произойти разделение империи на католическую и евангелическую Германию, если бы Густав Адольф не погиб под Лютценом.
Одновременно это была и борьба за гегемонию в Европе между Габсбургами и Францией, причем католическая Франция во главе с великими министрами Ришелье и Мазарини, невзирая на внутреннюю смуту, за пределами своих границ становилась большей частью на сторону протестантов. Не в последнюю очередь в ходе войны речь шла об отпоре притязаниям императорской власти со стороны владетельных князей, видевших в протестантизме оправдание своим устремлениям.
Вестфальский мир, заключенный в Мюнстере и Оснабрюке[20] в 1648 г., прекратил убийства и разбой, которые творили разнузданные наемники. Обширные области Германии подверглись невероятным опустошениям. К прямым жертвам войны — убитым солдатам и пострадавшим от жестокостей мародерствовавшей солдатни — добавились те, кто умер от голода и эпидемий, которые, распространяясь на огромные территории, шли вслед за перемещавшимися войсками и потоками беженцев. В 1648 г. численность населения Германии сократилась с 17 до 10 млн. человек. Кровавая бойня, которую представляла собой Тридцатилетняя война, отбросила страну по количеству населения на полтора столетия назад.
Мир, заключенный в Мюнстере и Оснабрюке, был европейским миром, последовавшим за большой европейской войной. Потребовалась опустошительная всеобщая война, чтобы убедить европейские государства в том, что только порядок, в который будут включены все, сможет надолго избавить континент от войны всех против всех. Сообщество европейских государств, выйдя из Тридцатилетней войны в результате подписания системы договоров, создало для себя своего рода европейскую конституцию. Она стала исходным пунктом для ius publicum europeum, европейского международного права, но одновременно потребовала подписания целого ряда конвенций и заключения несколько позже мирных договоров, обеспечивавших стабильность системы европейских государств. С этих пор сосуществование европейских государств было урегулировано правовыми нормами, выходившими за пределы повседневной политики и имевшими силу и во время войны. Эти нормы касались особого положения дипломатов, военных действий и заключения мира, правомочности войн, сохранения мира, а в первую очередь — неприкосновенности государственного суверенитета. Существование и суверенитет каждого европейского государства были теперь признаны всеми остальными государствами. Но для того чтобы сбалансировать эту систему на длительную перспективу, требовался слабый, раздробленный центр Европы, который отделял бы друг от друга сильные государства европейской периферии: Швецию, Данию, Нидерланды, Великобританию, Францию, Османскую империю и Россию. В случае войны он мог бы стать европейским театром военных действий, а в мирное время стратегическим и дипломатическим предпольем. Так «Священная Римская империя» превратилась после длительной опустошительной войны в мягкое ядро европейской системы государств. Вестфальский мир был не только большим барочным зданием международного миропорядка, но и основным законом империи. В то же время Швейцария и Северные Нидерланды вышли из состава имперского союза, к которому они уже задолго до этого принадлежали лишь формально.
Прежняя система конституционного устройства, прообразом которого являлись Золотая булла и Аугсбургскии религиозный мир 1555 г., была дополнена и углублена. С этих пор предполагалось на паритетных началах замещать имперские институты католическими и протестантскими. Религиозные партии стали системными учреждениями империи. Их называли corpus evangelicorum и corpus catolicorum, и они обсуждали на рейхстагах все религиозные вопросы раздельно и без риска подчинения одной конфессии другой. В результате признания кальвинизма в качестве третьей религиозной конфессии, права которого гарантировались имперским законодательством, многоконфессиональность империи получила юридическое обеспечение. В то же время князья формально обрели полный суверенитет над своими землями во всех духовных и светских делах. Отныне они обладали правом формировать собственные вооруженные силы и могли к тому же заключать союзы друг с другом и с зарубежными государствами. Тем самым немецкие князья превратились в самостоятельные субъекты международного права. Их суверенитет ограничивался только обязанностью соблюдать верность империи и ее институтам: рейхстагу, имперскому палатному суду и императорскому придворному совету.
Густав II Адольф высаживается в Германии.
Листовка. Кёльн, 1632 г.
Шестого июля 1632 г. шведский король Густав II Адольф высадился в Германии во главе крестьянского войска. Притесняемые протестанты сплотились вокруг спасителя из северной страны как вокруг евангелического императора. На иллюстрации — король в образе Моисея в момент освобождения избранного народа. Увенчанный лавровым венком, Густав II Адольф стоит на берегу Балтийского моря и принимает меч из рук Божьих. Благодаря тексту цитат, вставленных в листовку из Библии, он оказывается в ряду библейских спасителей и пророков Израиля.
Раздробление и значительное ослабление империи в пользу «вольностей», которыми обладали немецкие княжества и имперские города, обеспечивались двумя «фланговыми» державами. Одной из них была Франция, получившая епископства Мец, Тул и Верден, а также прежние владельческие права Габсбургов в Эльзасе. В то же время с помощью в высшей степени активной политики союзов с немецкими князьями она пыталась укрепить свое влияние в империи. Другой державой была Швеция, которая вместе с Передней Померанией и бывшими епископствами Верден и Бремен приобрела значительные владения в устье Одера, Эльбы и Везера; тем самым ее короли получили права депутата имперского сословия. Позже, после поражений, которые Швеция потерпела от России во время Северной войны, и с окончанием великодержавия, восточным гарантом империи стала Россия. С этого времени она вместе с Францией пыталась насколько возможно препятствовать каким бы то ни было переменам внутри империи. Устройство империи стало европейским вопросом.
III. Сумерки империи (1648–1806)
Мир, заключенный в Мюнстере и Оснабрюке, немцы в большинстве своем расценивали впоследствии как несчастье, как низшую точку немецкой истории. И действительно, исходя из представления о том, что создание национального государства становилось необходимой целью всей немецкой истории, такое мирное устройство должно было рассматриваться как тяжелый провал. «Значимость имперской власти и национальное чувство, — сетовал в 1889 г. историк Генрих фон Зибель, — упали до нулевого уровня. Партикуляризм полностью овладел немецкой землей и немецким духом». В какой-то степени это было верно. Удивительное обстоятельство, на которое обращали мало внимания, заключалось в том, что «Священная Римская империя» продолжала существовать не только в результате гарантий со стороны европейских держав, но и благодаря основам, унаследованным от Средневековья и покоившимся на ленном праве. На этих основах и в дальнейшем держались связи имперских князей с сюзереном — императором. Император и империя образовывали, как и прежде, правовое сообщество, опиравшееся на старые традиции, громоздкое и малоподвижное, сложное и в своих переплетениях едва ли доступное пониманию. И все-таки это было устройство, обеспечивавшее компромисс, мир и защищавшее права и притязания как мельчайших, так и больших имперских территорий. Это была пользовавшаяся всеобщим уважением система, создававшая рамки для пестрого разнообразия немецких государственных образований, — маленький европейский мирный порядок посреди большого общеевропейского сообщества.
Но уже современникам это устройство казалось устаревшим, отсталым и труднопонимаемым. Повсеместно повторялось прозвучавшее в 1667 г. высказывание юриста — специалиста по государственному праву — Самуэля фон Пуфендорфа о том, что империя подобна монстру. На эту знаменитую критику имперского устройства сразу же среагировала императорская цензура, запретив высказывания такого рода. И действительно, возникли многочисленные факторы, углублявшие традиционную отсталость империи по сравнению с западными соседями. Резкое снижение численности населения и всеобщая бедность после окончания Тридцатилетней войны, отражали длительный застой экономики, ибо территории империи оказались отрезанными от мировой торговли, шедшей через Атлантический океан, от приносивших плоды колониальных владений. Исключением были решительные, но не обеспеченные необходимыми средствами попытки «великого курфюрста», бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма (1640–1688), основать колонии на западноафриканском побережье, которые он, в конце концов, продал Нидерландам. Недостаточный приток капитала усугублялся малыми размерами большинства территорий империи, едва ли допускавшими образование более крупных экономических регионов, и кроме того, количество таможенных барьеров доходила до смешного. Торговцу, который хотел доставить свой товар по Рейну из Базеля в Кёльн, приходилось чуть ли не каждые десять километров причаливать к таможне на берегу. Многочисленные мелкие и мельчайшие княжества, в общем и целом определявшие облик империи, не имели ни средств, ни сил, чтобы преобразоваться в государства с надлежащей системой управления.
Тем усерднее многочисленные мелкие князья пытались доказать свою политическую независимость, копируя роскошь Версаля и императорского двора в Вене. Демонстрация княжеского достоинства с помощью пышной архитектуры барокко, придворный церемониал, подчеркивание характера власти, как данной Богом, дистанция, отделявшая придворных от простого люда, — все это инсценировало абсолютизм, прообраз которого находился в Версале и звался Людовиком XIV — «королем-солнце». Для подданных это зачастую означало очень неприятное для них проявление придворного абсолютизма. В отличие от больших государств: Франции, Испании, Австрии — на маленьких немецких территориях невозможно было укрыться от взора властителя. Его светлость князь находился слишком уж близко от своих подданных. Поэтому народная молва гласила: «Лучше к князю не ходи, если нет в тебе нужды». Что и говорить, не лучшая предпосылка для развития свободного, исполненного самосознания буржуазного духа.
Наблюдателям со стороны империя представлялась слабой и мало привлекательной. Франция Людовика XIV (1643–1715), к которой от Испании перешла гегемония в Западной Европе, устремилась далеко на восток и на север, чтобы, во-первых, разорвать стратегически важную военную дорогу, которая тянулась от Северной Италии, находившейся в руках Габсбургов, через Верхний Рейн и Эльзас к Испанским, впоследствии Австрийским Нидерландам, и создавала клещи, до тех пор державшие Францию в стратегическом отношении под давлением Габсбургов. Но задача «короля-солнце» заключалась и в том, чтобы захватить естественную границу по Рейну, обезопасить ее с помощью плацдармов на восточном берегу и тем самым максимально увеличить территорию между Парижем и стратегическими плацдармами неприятельских армий. Имперские войска оказали слабое сопротивление французам, продвинувшимся в Эльзас и Пфальц и жестоко опустошавшим страну. Французский посланник в Вене произносил оскорбительные и угрожающие речи, а император Леопольд I (1658–1705) не осмеливался ему ответить. Влиятельные имперские князья, например рейнские курфюрсты, и прежде всего «великий курфюрст» Фридрих Вильгельм, не испытывали сомнений, временами вступая в союз с Францией против императора. После взятия в 1684 г. имперского города Страсбурга французскими войсками император заключил постыдное перемирие в Регенсбурге, в соответствии с которым за Францией оставались все завоеванные ею территории и города. Рисвикский мир 1697 г. стал формальным подтверждением перемирия. Выбора не оставалось. Империи приходилось по соглашению с Францией бороться с еще более опасным врагом, угрожавшим восточным границам.
В 1683 г. наследственный враг христианства в образе турецкой армии под командованием великого визиря Кара-Мустафы стоял у ворот Вены. Осаду города сняли имперские и польские войска, которыми командовали Карл Лотарингский и польский король Ян Собеский, и это было подобно чуду, случившемуся в последнюю минуту. Чудом казалось также, что инертный до тех пор, тянувший волынку от перемирия к перемирию Леопольд I в последний момент собрался с духом и, сконцентрировав мощные силы, настроился на решающую битву против османской угрозы. Война против Турции (1683–1699), в сравнении войной на Рейне против Людовика XIV, шла в высшей степени успешно. Имперская пропаганда работала в полную силу, имена победоносных полководцев Евгения Савойского, «храброго рыцаря»[21], Макса Эммануэля Баварского, «голубого курфюрста», или маркграфа Людвига Баденского, «Луи турецкого», были у всех на устах. Их деяния обрастали невероятными слухами, сопровождались появлением сенсационных листовок, народных песен. Волна симпатии к императору и империи прокатилась по Германии.
Обращало на себя внимание тем не менее то обстоятельство, что поражения, наносившиеся Францией, общественное сознание приписывало империи, победы же над войсками Сулеймана III и Ахмеда II — Австрии. Таким образом проявлялся успех габсбургской пропаганды, но вместе с тем это свидетельствовало о том, что Австрия как современная великая держава начала высвобождаться из объятий империи.
Венский император был в то же время и главой Casa d'Austria, австрийского дома, который на деле представлял собой множество территорий, связанных друг с другом личной унией, с совершенно различными правовыми формами и институтами сословного представительства. В их числе были наследственные немецкие земли с эрцгерцогством Австрия, герцогствами Штирия, Каринтия, Крайна и графством Тироль, а также королевство Богемия, маркграфство Моравия, герцогство Силезия и королевство Венгрия, расположенное за границами империи. Со времен Вестфальского мира власть императора была жестко ограничена, и тем сильнее габсбургские властители сосредоточивались на собирании и укреплении австрийских династических владений, представлявших собственный пестрый мир. В центре этого мира была столица — Вена, которая в ту эпоху возвысилась до европейской метрополии. Здесь смешивались культуры Южной Германии, Богемии и Венгрии, а также остальной католической Европы: Италии, Испании и Франции. Ничего похожего на такую барочную космополитическую пышность не было в старомодно-скучных резиденциях других государств, входивших в империю.
Но устремления Австрии к расширению сферы своей власти не простирались далеко на север, за границы католического мира. Незначительному влиянию императора на севере сопутствовала растущая слабость польского и шведского соседей. В этот среднеевропейский вакуум власти врывалось набиравшее силу объединение земель Бранденбург — Пруссия. То, что возникло здесь, было в высшей степени искусственным территориальным образованием, сохранявшимся только благодаря стремлению Гогенцоллернов к власти и их огромному организационному таланту. Оно включало курфюршество Бранденбург в центре Германии, Клеве, Марк и Равенсберг на Нижнем Рейне и Пруссию. Позже последнюю стали называть Восточной Пруссией; она находилась на самой дальней окраине немецкоязычного региона, уже за пределами «Священной Римской империи». Тот факт, что курфюрст Фридрих III (1688–1713) в 1701 г. в Кенигсберге собственноручно короновал себя «королем в Пруссии» и с тех пор хотел именоваться королем Фридрихом I, вызвал в Вене оживление и не был воспринят всерьез. Положение принадлежавших ему земель не изменилось. Компактной государственной территории, сравнимой с Францией, Баварией, даже с габсбургским наследственным владением Австрией, не существовало. В этом регионе находились разного рода разрозненные государственные образования, но они возникали и существовали очень недолго — в случае успешной войны или династического наследования — и, как правило, вскоре снова распадались. Пруссия была исключением, ибо сумела успешно разрешить свою проблему.
* * *
КОРОНАЦИЯ ФРИДРИХА I В ПРУССИИ 18 января 1701 г.
«Хотя Фридрих I и осуществил некоторые приобретения, они были слишком незначительны, чтобы обратить на себя внимание Европы. Даже свои слабости он превратил в преимущества своего дома. Его тщеславие принесло ему королевский титул, представлявшийся поначалу вполне химерическим, но впоследствии обретший отсутствовавшую прочную основу» (Фридрих II).
Проблема заключалась в парадоксе, который сам по себе был неразрешим. Положение Пруссии в Центральной Европе требовало проведения такой политики, в результате которой ни один из соседей не должен был ощущать угрозы. В то же время государство находилось на грани своего существования до тех пор, пока его границы оставались открытыми и доступными для любого давления. Эта ситуация имела два исторически испытанных выхода. Пруссия, как и империя в целом, должна была быть открытой для политического влияния со стороны соседей и позволить им воздействовать на свою политику и контролировать ее. Таким был путь, на который вступило другое большое европейское государство — Польша. Следствием для польского государства стало выхолащивание его суверенитета, внутриполитическая анархия и, в конце концов, раздел между соседями. Второй выход состоял в том, что Пруссия должна была решать организационные вопросы и вооружаться так, чтобы вести и выиграть любую войну, в том числе и против вражеской коалиции, на своих находившихся далеко друг от друга, незащищенных границах. Ставка делалась только на победу, ибо, в отличие от больших европейских государств (которым в случае поражения в войне приходилось расплачиваться контрибуциями и идти на территориальные уступки, оставаясь в целом все же неприкосновенными), для «выскочки» Пруссии в каждом конфликте речь шла о том, быть ей или не быть. К тому же Бранденбург — Пруссия была крайне бедна, не имела практически никаких природных ресурсов при сравнительно малой численности населения. Около 1700 г. в прусских землях жили 3,1 млн. подданных, в Польше же — около 6 млн., в странах, подвластных Габсбургам — 8,8, в России — примерно 17, а во Франции, превосходившей по численности все остальные страны Европы, — 20 млн.
По сравнению с остальными европейскими странами Пруссия в 1740 г. находилась на десятом месте по занимаемой площади и на тринадцатом — по численности населения. Что касается военной мощи, то ей принадлежало третье или четвертое место в Европе. Отсюда — преобладание военного начала в прусской государственной системе, та бюрократическая заорганизованность всех сфер жизни, необходимая для мобилизации последних сил, и та напряженность, серьезность, недостаток светскости и жизнерадостности, которые делали все прусское, а потом и немецкое столь несимпатичными в глазах европейских соседей. Это обеспечивало выживание Бранденбурга — Пруссии, способствовало осуществлению хорошо рассчитанного броска на австрийскую Силезию, который предпринял в декабре 1740 г. Фридрих II (1740–1786), только что вступивший на прусский трон.
Дерзкая акция молодого прусского короля стала сенсацией общеевропейского масштаба. 20 октября 1740 г., после смерти императора Карла VI, европейский горизонт начали быстро заволакивать тучи войны. Император не оставил наследника мужского пола. Хотя он десятилетиями пытался получить согласие европейских государств использовать Прагматическую санкцию 1713 г., в соответствии с которой его дочь Мария Терезия должна была стать во главе неразделенной Австрии, слишком велико оказалось искушение воспользоваться слабостью Габсбургов. В кабинетах Франции, Испании, Баварии и Саксонии еще до смерти императора начали разрабатывать планы раздела наследия Габсбургской монархии, казалось обреченной на уничтожение, но Фридрих II опередил других европейских государей. Вторгнувшись в Силезию, прусский король поставил на карту все. Он отдавал себе отчет в том, что его государство не переживет поражения. И дело было не в том, что изменение границ представляло собой нередкое явление в XVIII столетии. Вследствие больших войн провинции и целые государства меняли владельцев. Так, Австрия в результате войн против Турции приобрела большую часть Венгрии, а кроме этого — Банат, Сербию и часть Валахии. Франция закрепила за собой в 1766 г. Лотарингию, а Неаполь с Сицилией дважды меняли владельцев. Россия отторгла у Швеции Эстонию и Лифляндию, а Южные Нидерланды перешли из-под испанского господства под австрийское. Все это происходило по строгим и церемониальным правилам международного права и дипломатии, но Фридрих II, в отличие даже от Людовика XIV, который вел большие захватнические войны, совсем не претендовал на видимость правового обоснования. Как Фридрих II писал Вольтеру, в своей азартной игре он руководствовался желанием «прочитать свое имя в газетах, а со временем в истории» и, кроме того, государственными соображениями. Пруссии суждено быть великим европейским государством, а не «каким-то двуполым существом, то ли курфюршеством, то ли королевством».
Фридриха ждала удача благодаря неожиданному нападению, осуществленному его отлично обученной и вооруженной армией, полученной в наследство от отца, а также благодаря властолюбию европейских государств, искавших союза с бессовестным нарушителем мира, чтобы обеспечить себе долю в наследстве Габсбургов. При поддержке Саксонии, Баварии, Испании и Франции Фридрих сумел в ходе первой силезской войны (1740–1742) удержать за собой большую часть Силезии. Вторую силезскую войну, которую Фридрих начал, опасаясь австрийского контрудара, ему чудом удалось закончить вничью в противостоянии австро-англосаксонскому союзу. Австрия отказалась от большей части Силезии, в свою очередь Пруссия признала Марию Терезию наследницей Габсбургов, а ее супруга Франца Стефана Лотарингско-Тосканского императором.
Тем самым соотношение сил в Центральной Европе претерпело серьезнейшие изменения. Германия оказалась расколотой надвое вдоль линии реки Майн. Императорской власти на юге теперь противостояли силы почти равные по мощи на севере. Король из династии Гогенцоллернов превратился в своего рода протестантскую альтернативу императору-католику, так что евангелическая Германия, обретя отныне защитника внутри империи, не видела более необходимости искать поддержки у иностранных государств. Однако Австрия не могла и не хотела примириться с потерей Силезии. Из этой богатой провинции монархия Габсбургов извлекала 18% своих доходов, и к тому же австрийский государственный канцлер граф Кауниц считал невозможным пренебречь стратегическим положением Силезии, рассматривавшейся в качестве далеко выдвинутого бастиона австрийского дома в империи. В результате четырнадцать лет спустя вновь началась борьба за Силезию и господство в Германии, которая привела к Семилетней войне (1756–1763). Теперь Пруссия стала единственным нарушителем европейского равновесия. Против нее выступила мощная коалиция в составе Австрии, Франции, России и большинства имперских князей.
В ходе именно этой войны, располагая куда меньшей численностью войск и находясь, казалось бы, в неблагоприятной ситуации, Фридрих стал Великим. Конечно, он выиграл ее и с помощью английских субсидий, и благодаря неожиданной смерти царицы Елизаветы Петровны в 1762 г., но прежде всего в силу своего полководческого гения да еще твердой, доходящей до крайних проявлений, воли и сказочного везения. При этом события в Европе, развернувшиеся на второстепенном театре военных действий, представляли собой лишь часть всемирно-исторической борьбы между Францией и Англией за господство над Мировым океаном и за большие колониальные империи в Америке и Азии. С английской точки зрения Пруссия была лишь «континентальной шпагой», и ее предназначение состояло только в том, чтобы связать французские силы и не допустить их использование в Индии и Америке. Результатом истощения противников стал мир, подписанный в Губертусбурге 15 февраля 1763 г. и гарантировавший Пруссии положение великой державы и владение Силезией. Он был заключен через пять дней после Парижского мира, в соответствии с которым Франция уступала Великобритании большую часть своих заморских владений. По замечанию английского премьер-министра Уильяма Питта (1708–1778), Америка была завоевана в Германии.
После Семилетней войны казалось, что мир германских государств в значительной мере освободился от влияния империи и поднялся до уровня суверенных и дееспособных соседей в системе европейских государств. Австрия, Пруссия, Бавария, Саксония, Вюртемберг были государствами в том же смысле, что и Франция или Польша. А что же представляла собой империя? Скорее тускнеющий миф, нежели государственную реальность, юридическую конструкцию, присутствовавшую, во всяком случае, в некоторых институтах, как-то: императорский придворный совет в Вене, имперский палатный суд в Вецларе или «вечный» рейхстаг в Регенсбурге. Молодому Иоганну Вольфгангу Гёте коронация очередного императора «Священной Римской империи» Иосифа II в 1764 г. в старом имперском городе Франкфурте показалась странным, экзотическим спектаклем, бесконечным, сложным патриархальным церемониалом, полным непонятной символики и тем не менее трогательным. Ибо «казалось, на краткий срок воскресает былая Германская империя, почти уже погребенная под грудой пергаментов, булл и ученых трактатов».
Это не означает, что империя окончательно скатилась до состояния метафизического образования. Император и империя все еще представляли собой защиту для небольших немецких имперских сословий, духовных княжеств, имперских городов и имперского рыцарства, которые в противном случае оказались бы беззащитными при нападении хищных великих держав. Правда, в ходе длительных силезских войн имперские войска, военные контингента германских государств, союзных Габсбургам, играли разве что маргинальную роль. Популярные сатирические песни об имперской армии, которая пускалась в бегство, стоило только Фридриху Великому хлопнуть себя по ляжке, свидетельствовали о тогдашнем жалком состоянии империи. Поэтому в период мира, последовавший за 1763 г., началась широкая дискуссия об обновлении и реформе империи. Благодатную почву находила идея «третьей Германии» наряду с двумя великими державами, Австрией и Пруссией, лишь наполовину принадлежавшими империи. Речь шла о создании нового союза государств, который объединил бы средние и малые немецкие территории; о возвращении имперских князей к своим обязанностям в качестве имперских сословий и вассалов, об оживлении связей между императором и империей. Последняя так часто обновлялась со времен Цезаря, Карла Великого и Максимилиана I — почему же старая оболочка не должна была еще раз принять новую форму? В конце XVIII в. вопрос о будущем Центральной Европы оставался открытым. Вновь возникший имперский патриотизм на многочисленных территориях, нуждавшихся в защите, противостоял чувству отечества, пробудившемуся у подданных Габсбургов и Гогенцоллернов в ходе силезских войн.
Вербовочный плакат пехотного полка в Анхальте.
Германия, 1762 г.
Еще в XVIII в. лояльность по отношению к определенному государству не играла большой роли. Ученые, дворяне и солдаты могли служить любому иностранному властителю, а по истечении контракта не считалось зазорным перейти на службу к противнику прежнего господина. Так, например, принц Анхальтский, родственники которого занимали высокие должности в прусской армии, сформировал во время Семилетней войны полк для Франции. Вербовочные плакаты демонстрировали радости жизни в армии. Конечно, приходилось заниматься строевой подготовкой, но зато будущих солдат манили «обучением танцам и фехтованию», изучением французского языка, а также «письма и чтения», «хорошей оплатой наличными» и добрым бочонком вина.
Представление же о том, чем должна была быть Германия наряду с империей и ее реальной государственностью, оставалось туманным. Саксонский чиновник и специалист по теории государства и права Людвиг фон Зеккендорф (1626–1692) опубликовал в 1656 г. труд «Немецкое государство князей», в котором хотя и настаивал, что трудно поддающаяся описанию «немецкая нация» существует в политическом смысле, но констатировал также, что это понятие объединяет многие другие нации. Более трехсот немецких княжеств: от Вюртемберга до Ангальт-Цербста, от Бранденбурга до Брауншвейг-Каленберга — также представляли собой, по мнению фон Зеккендорфа, национальные образования.
В XVII–XVIII столетиях понятие «немецкий» обозначало только язык, и не более, и перспективы этого языка казались мрачными. Повсеместно возникали общества вроде Плодоносящего общества в Веймаре или Пегницких пастухов в Нюрнберге, ассоциации ученых, которые, трогательно подражая Academie Française (Французская академия), посвятили себя заботе о чистоте немецкого языка, но часто вызывали насмешки современников своим непреклонным пуризмом. Обращал на себя внимание тот факт, что забота о немецком языке ограничивалась преимущественно протестантской частью Германии. Это неудивительно, ибо мерилом уровня протестантской немецкой литературы был мейсенско-саксонский диалект, на котором Мартин Лютер осуществил перевод Библии, и еще в XIX в. великий языковед Якоб Гримм заявлял в предисловии к своей грамматике немецкого языка, что «нововерхненемецкий язык в действительности следует оценивать как протестантский диалект».
Никогда ранее немцы не были в такой степени, как в последней трети XVIII столетия, «загадкой политического устройства, добычей соседей, предметом их издевок, раздробленными, бессильными из-за своих разделов, достаточно сильными для того, чтобы навредить себе самим, но слишком слабыми, чтобы спасти себя, безразличными к чести своего имени, непоследовательными в своих принципах, склонными к насилию, великими и в то же время презираемыми, имевшими возможность быть счастливым, на деле же достойным сожаления народом», — писал в 1766 г. имперский надворный советник Фридрих Карл фон Мозер. И в то же время немцы, как никогда ранее, были готовы воспринимать себя как нацию.
* * *
СОСЛОВИЯ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ И ЕВРОПЫ (1500 и 1800 гг.)
Общественный строи в соответствии с представлениями, характерными для Средневековья и Раннего Нового времени, определялся сословной пирамидой. Дворянство и духовенство были господствующими сословиями, ниже стояло бюргерство, а в самом низу — крестьянство. Доля сословий в населении на протяжении столетий в Германии оставалась в значительной мере неизменной и почти не отличалась от той, которая была в других странах Европы. Статическая картина общества менялась только в результате перемен в аграрной сфере, что было связано с увеличением численности малоземельных и неимущих семей, вызванным в основном ростом населения и постоянным делением дворов при наследовании.
Сословие Население, % Германия Европа 1500 г. 1800 г. 1500 г. 1800 г. Дворянство (господствующее сословие) 1–2 1 1–2 1 Бюргерство (городское население) 20 24 20 21 Крестьянство (сельское население) 80 75 78 78 из них: владельцы дворов 60 35 53 43 малоземельные и неимущие семьи 20 40 25 35 Население, млн. человек 12 24 55 150Возникновению нации способствовала раздробленность, существование множества карликовых государств и их правительств с их потребностями. Абсолютистские государства претендовали на представительство в самых отдаленных уголках своих территорий и вмешивались во все сферы жизни своих подданных. Тем самым возрастали объем и круг управленческих задач, а значит, и требования к чиновнику, который должен был разбираться в экономике и торговле так же хорошо, как в праве и финансах. Теперь оказалась востребованной не только принадлежность по рождению к определенному сословию, но и способности и знания. Для подготовки компетентных государственных служащих каждый князь в меру своих возможностей заботился о создании высших школ, университетов и академий. Таким образом, на протяжении второй половины XVIII в. во всей Германии появился слой образованных людей как дворянского, так и бюргерского происхождения, состоявший из чиновников, священников, профессоров, юристов, учителей, врачей, книготорговцев и других привилегированных лиц свободных профессий. Всех их связывало нечто общее; они занимали должности не в силу унаследованного сословного положения, а благодаря знаниям и другим навыкам, приобретенным в процессе обучения.
С формированием этого слоя образованных людей немецкие диалекты и наречия сливались в язык высокой немецкой культуры. Немецкая национальная литература, немецкий национальный театр, в том числе музыкальный, создавали единую эстетику и вкус, получавшие распространение за пределами германских территориальных государств. Те, кто во второй половине XVIII в. писал по-немецки, делали это, следуя не только требованию литературного рынка. Таким способом демонстрировалась приверженность единству просвещенного бюргерского духа, стоявшего над государственными границами и сознательно отмежевывавшегося от культуры французского языка, которая господствовала при княжеских дворах. В языковом отмежевании от французской культурной гегемонии во всей Европе образованная элита немецкого общества обретала национальную идентичность, и уже в 1785 г. Юстус Мёзер[22] призывал немцев перестать быть «подражателями чужой моде». Фридрих Готлиб Клопшток[23] воспевал отечество в своей оде.
Несть среди стран, Внушающих страх иноземцам, праведнее тебя, Но не гордись! Им никому не дано Красоту прегрешений твоих узреть[24].Поэт говорил о немецкой нации — правда, о той, которая существовала только в умах ее образованных представителей. Где четверо из пяти немцев еще принадлежали к крестьянской среде и воспринимали большую политику разве что в возносимых в церкви молитвах за семью своего господина или в бедствиях, которые приносили им война, постои и грабежи со стороны как чужих, а нередко и своих солдат; где городская молодежь, подобно молодому Гёте, чувствовала себя «фрицевской»[25] и почитала прусского короля Фридриха, который своими победами над французскими и русскими войсками показал пример национального героизма, — там еще отсутствовала какая бы то ни было почва, на которой могла произрасти подлинная нация. По оценке берлинского книготорговца Кристофа Фридриха Николаи (1733–1811), во всей Германии около 1770 г. примерно 20 тыс. человек участвовали в обсуждении вопросов становления нации, но это не повлекло никаких политических последствий. Немецкая нация имела сначала культурно-языковую природу. Интенсивность общения между образованными людьми всех немецких территорий, огромный рост названий и тиражей книг, существенное увеличение объема публицистических изданий, расцвет читательских обществ в крупных и маленьких городах создавали мыслящую общественность нового типа. Французская писательница мадам де Сталь (1766–1817) констатировала: «Образованные люди Германии с величайшей живостью дискутируют друг с другом в области теории и не терпят в этой сфере никаких оков, но зато довольно охотно предоставляют всю повседневную жизнь земным властителям».
* * *
ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛОВ В ГЕРМАНИИ, XVIII в.
Буржуазное просвещение создало массовую читающую публику, к услугам которой оказался быстро расширявшийся журнальный и книжный рынок. В XVIII в. в немецкоязычном регионе известно около 4 тыс. журналов. Распространенным типом издания был журнал на моральные темы. Дискутировались вопросы, которые определяли духовный горизонт немецкой культуры XVIII в. Так складывались идейные миры образованной буржуазии, для которой не существовало территориальных границ, но был единый язык — немецкий и которая формировала национальную культуру.
В результате немецкая нация возникла в умах образованных людей, и это была культурная нация, при отсутствии прямых политических действий. Поэтому вполне естественно, что ее олицетворяли не князья и герои войны, как во Франции или в Англии, — если не принимать во внимание Фридриха Великого, «философа из Сан-Суси», — а множество поэтов и философов. Гёте и Веймар были для немцев таким же символом нации, как король и Лондон для англичан, Наполеон и Париж для французов, а политическая раздробленность не воспринималась как бремя. На нее часто сетовали начиная со времен гуманистов, однако считалось, что покончит с ней вовсе не национально-государственное объединение, подобное Англии или Франции, а усиление солидарности князей и решительная поддержка императора. Зло видели не в территориальной фрагментации империи, а в эгоизме властей. Множество властителей, резиденций и конституций в границах империи считалось преимуществом. Поэтому деспотичному правлению, подытоживал Кристоф Мартин Виланд[26], следует поставить предел в той же мере, в какой естественное многообразие нравов и обычаев, а также театров и университетов благоприятствует культуре и гуманизму. Таким образом, благосостояние также будет распределено равномернее, нежели в государствах, в которых национальное богатство концентрируется в одном месте. Германия, утверждали Фридрих Шиллер и Вильгельм Гумбольдт, — это новая Греция в своем неслыханном культурном расцвете, бессильная, но богатая идеями. А новый Рим, стремящийся к гегемонии, в высшей степени организованный, цивилизованный, но безо всякой культуры, которой столь ревностно служили немцы, — это Франция.
Повсюду в Европе в последней трети XVIII в. участились волнения, городские и сельские восстания. Хотя большей частью они быстро подавлялись, но тем не менее создавали атмосферу всеобщей неуверенности. Кризисы такого рода, вызванные неурожаями и отсюда колебаниями цен на продовольствие, были известны со Средних веков, но до сих пор едва ли ставили под сомнение существование государственного и общественного строя. Теперь же ситуация стала меняться. Богоданность верховной власти и «старое доброе право» перестали в свете идей Просвещения восприниматься как сами собой разумеющиеся. Просвещение было не столько элитарной философией, сколько духовным и культурным климатом, присущим всем сферам жизни. Люди обретали уверенность в том, что они в состоянии стать счастливыми в согласии с законами природы и разума. Благо человека находилось не на небе, а на земле, и казалось, что для его обретения не требовалось ничего, кроме разума и некоторой решимости. В Америке народ уже восстал против тирании британской короны, и этот пример мог быть воспринят в Европе повсеместно. Почва, таким образом, была подготовлена, когда в июне 1789 г. из Парижа пришла весть о том, что третье сословие Генеральных штатов объявило себя Национальным собранием, единственным представительством французского народа, и намерено провозгласить конституцию на основе суверенитета народа и прав человека.
Происходящее получило отзвук в немецком духовном мире. «Эта революция, — замечал Иммануил Кант, — вызывает в душах всех ее свидетелей сочувствие, граничащее с энтузиазмом». Но восторг образованного бюргерства по поводу того, что дух Просвещения охватил теперь и политику, не долго оставался неомраченным. Революция соскользнула на кровавый путь, и террор 1793 и 1794 гг., первое массовое убийство в Новой истории, совершенное во имя всех добродетелей Просвещения, был воспринят ужаснувшимися немецкими бюргерами как катастрофа разума. Назад в свою внутреннюю жизнь, прочь от политики — и самые блестящие поэты Германии, такие, как Новалис, Людвиг Тик, Ахим фон Арним или Клеменс Брентано, отправились на поиски «голубого цветка»[27] романтики, в то время как Европа погружалась в войны и революции.
С апреля 1792 г. на европейском континенте бушевала война между революционной Францией и остальными странами Европы. У французских революционеров война не вызывала серьезных опасений, так как в Париже надеялись на слабость Габсбургов, которым приходилось бороться с внутренней напряженностью в своей империи, а союз между Пруссией и Австрией они считали невозможным. В свою очередь, военачальники европейских государств, объединившихся в коалицию против Франции, считали, что их непобедимые, закаленные в Семилетней войне армии быстро и без труда расправятся со взбунтовавшимся парижским сбродом. Таким образом, эта война, как бывало уже не раз, началась из-за ошибочной взаимной оценки сторон. Армии абсолютистских государств уступали французским солдатам-гражданам с их высокой мотивацией, новой тактикой, да и просто численным превосходством. На протяжении нескольких лет революционная Франция затмила мощь «короля-солнце», диктуя континенту будущее. Война и цели, ради которых она велась, приобрели огромные масштабы с обеих сторон. Речь шла теперь не просто об изменении границ внутри по-прежнему существовавшей в Европе системы, определявшей равновесие на континенте, а о революционном преобразовании Германии, Европы, даже всего мира, и в этих процессах участвовали все великие державы. Франция стремилась присоединить территории к западу от «естественной» границы по Рейну и, более того, перешла к созданию широкого предполья, состоявшего из государств-сателлитов — от Батавской и Гельветской до Цизальпинской и Лигурийской республик. В то же время антиреволюционные великие державы: Россия, Пруссия и Габсбурги — действовали поистине революционно, разделив между собой Польшу в 1793 г. и завершив этот процесс в 1795 г. Тем самым с карты исчез давний и важный представитель системы европейских государств. Но дело не ограничивалось только перекраиванием европейского континента. Военные действия распространились на половину земного шара, охватив колониальные империи, и от Индии до обеих Америк бушевал морской бой за обладание колониями и обеспечение коммуникаций. Шла самая настоящая мировая война, которая, однако, затихала то здесь, то там, но лишь для того, чтобы разгореться вновь, вовлекая складывающиеся союзы и свежие силы. Впервые в Новой истории встала задача завоевания мирового господства и полного подавления неприятеля, и, до тех пор пока одна из главных противоборствующих сил — Англия, Франция или Россия — не была окончательно повержена, надеяться на окончание войны не приходилось.
Правда, Пруссия, постоянно попадая в затруднительное с геостратегической точки зрения положение между Россией и Францией, вышла из коалиции после заключения в 1795 г. Базельского мира. Она отдала рейнские земли, отказалась от верности императору и империи, и отступила на восток. На протяжении десяти лет под защитой прусского оружия на севере и востоке Германии воцарилось спокойствие, без которого был невозможен процветающий мир — мир Гёте и Шиллера, Новалиса и Гумбольдта. Тем самым Пруссия дала сигнал к решительному перекраиванию карты немецких земель, революционному соединению владения и власти и прекращению существования «Священной Римской империи».
Так в Центральной Европе начался земельный передел в не виданных до тех пор масштабах. Истощенные Испания и Португалия вышли из войны. Австрия терпела одно поражение за другим. Англия оказывалась во все большей изоляции, а Россия демонстрировала безразличие к событиям, чтобы в 1802 г. перейти к совместным с Францией действиям против Англии. В этой ситуации Франция шла от триумфа к триумфу. Бельгия и рейнские земли были аннексированы и присоединены к французскому государству, Нидерланды и Швейцария превращены в протектораты, а Италия расчленена на «дочерние республики». Иначе говоря, революционная действительность превзошла самые смелые мечты Людовика XIV. Теперь Франция вместе с Россией обладала гегемонией в Европе. Напротив, немецкие княжества, понесшие ущерб: Бавария, Гессен-Кассель, Вюртемберг и Баден — нашли выход, чтобы по прусскому образцу пережить катастрофу без потерь, более того, даже с определенной выгодой. В обмен на передачу рейнских земель Франции князья Южной Германии ожидали «соразмерной компенсации» за счет тех, у кого не было ни силы, ни защитников. Речь шла о мелких князьях и графах, а также о территориях духовных владык, имперских городов и имперских рыцарей. Сам император Франц II последовал их примеру в сговоре при заключении мира в Кампоформио в 1797 г., отказавшись тем самым от целостности империи ради династических интересов Габсбургов. Последнее слово сказали даже не германские князья, а Франция и Россия в качестве держав — гарантов империи. Их план возмещения был принят имперской депутацией в 1803 г. и утвержден месяц спустя рейхстагом в Регенсбурге.
С тех пор мир раздробленных германских государств уже принадлежал прошлому. Численность территорий, непосредственно подчинявшихся империи, снизилась с 314 до 30, не считая оставшихся примерно 300 владений имперского рыцарства. Перемены были огромны. Вюртемберг удвоил численность своих подданных, а Баден разом более чем на треть увеличил первоначальное количество жителей. Что только не исчезло на веки вечные! Это был пестрый и гордый мир старых имперских городов Франконии и Швабии, в основном крошечных местечек вроде Вимпфена, Бибераха или Бухгольца, а также крупных культурных и торговых центров, например Ульма, Аугсбурга или Хайльбронна. Перестали существовать маленькие столицы Фюрстенбергов, Ляйнингенов, Фуггеров и Гогенлоэ, чей неяркий блеск все же обеспечивал подданным благосостояние и уважение. Теперь же эти города, управлявшиеся чиновниками и комиссарами далекого и невидимого правительства, утрачивали свое значение. Были противоправно устранены владения Мальтийского и Тевтонского орденов в Брейсгау и на Боденском озере, беспощадно уничтожено господство князей-епископов и монастырей, ликвидированы верхненемецкие монастырские землевладения — от франконского монастыря Четырнадцати святых до Вайнгартена в Верхней Швабии. То был крах правового и государственного устройства, складывавшегося на протяжении почти тысячи лет, и одновременно революционный триумф современного централизованного государства, владеющего всем и намеревающегося все подчинить себе.
Самые верные приверженцы императора и империи: имперские города, имперское дворянство и имперская церковь — почти перестали существовать, в то время как средние германские государства, увеличившиеся с помощью Франции, видели свое будущее в тесной связи с ней. Осенью 1804 г. Наполеон Бонапарт, к тому времени уже пять лет первый консул и диктатор Франции, предпринял поездку по рейнским землям. Ликование населения не знало пределов. Несколько недель спустя Наполеон короновался в Париже французским императором, и в этой церемонии большую роль играл скипетр Карла Великого, правда, никто не знал, что он ненастоящий. Два императора в Европе? Император «Священной Римской империи» Франц II принял корону императора Австрии; Наполеон высмеивал своего соперника, говоря, что это «скелет, взошедший на трон только благодаря заслугам предков». Нанести смертельный удар оказалось легко. Двенадцатого июня 1806 г. представители шестнадцати государств юга и юго-запада Германии подписали Акт о создании Рейнского союза, в соответствии с которым они отказывались от обязательств по отношению к империи и отдавали себя под протекторат императора французов.
Шестого августа 1806 г. Франц II сложил с себя корону императора. Как заметил Гёте, спор, затеянный Францем II со своим кучером, интересовал императора куда больше этого события, и он, как и весь мир, пожав плечами при известии о конце «Священной Римской империи германской нации», перешел к привычным делам. Империя, которой больше не было, оказалась уникальным явлением в истории. Просуществовавшая со времен Юлия Цезаря почти две тысячи лет, то оступаясь, то вновь и вновь преобразовываясь, она при всех своих слабостях и странностях, особенно в последние столетия, все же обеспечивала длительный мир. Только один негерманский имперский князь, шведский король Густав IV Адольф, в качестве суверена Передней Померании входивший в имперское сословие, имел представление о том, что будет дальше. Сообщив своим подданным с уважением и печалью о решении императора, он добавил: «Если теперь и оборвались священнейшие узы… то немецкая нация никогда не может быть уничтожена, и милостью Всевышнего Германия, однажды объединенная заново, снова обретет силу и достоинство».
IV. Рождение немецкой нации (1806–1848)
Военный успех французских солдат-граждан, воевавших и побеждавших во имя своей «единой и неделимой нации», был неслучаен. Если вспомнить слова магистра Лаукхарда из Галле, который оказался во французском плену, служил в революционной армии и, следовательно, знал, о чем говорил, то французы «обладали тем, что было присуще и благородным защитника Древней Греции, — горячей любовью к отечеству — любовью, которой немец не знает потому, что он как немец не имеет отечества». Поэтому могло показаться, что французские войска непобедимы. В 1805 г. Наполеон разбил при Аустерлице главные силы Австрии, и в соответствии с заключенным вслед за тем миром в Прессбурге[28] у нее остался лишь статус державы весьма средней руки. Четырнадцатого октября 1806 г. в битвах под Йеной и Ауэрштедтом подобная участь постигла и прусскую армию. Пруссия понесла настолько сокрушительное поражение, что крупных битв больше не происходило. Наполеон, которого восторженно приветствовало население, вступил в Берлин. В следующем году прусский король Фридрих Вильгельм III подписал в Тильзите тяжелый мир, продиктованный победителем, и Пруссия, конечно, полностью исчезла бы с карты, если бы как Наполеон, так и русский царь Александр I не были заинтересованы в существовании стратегического буфера между своими силовыми блоками.
До тех пор Германию нельзя было представить без «обертки» — империи. С 1806 г. «обертка» исчезла, и теперь менее, чем когда-либо, можно было сказать, что же такое Германия. Правда, прусский, баварский, саксен-готский или шварцбург-зондерсхаузенский подданный мог чувствовать себя «немцем», но «германство» немедленно оказалось в конкуренции с широко распространенным бюргерским космополитизмом, а также с лояльностью по отношению к соответствующему суверену. Если заходила речь о «нации», «отечестве» или «патриотизме», то под этим могли подразумеваться как Германия с неопределенно очерченными границами, так и государственное образование, где жил тот или иной гражданин, или сразу и то и другое вместе.
Шок, испытанный в результате поражений, чувство унижения, тяжелое финансовое бремя, которое приходилось нести побежденным государствам, опустошительные марши французских армий, кормившихся за счет стран и выжимавших из них все соки, резкий скачок цен, вызванный введением французской таможенной системы — все это привело к двум разнонаправленным результатам — проведению в германских государствах реформ по французскому образцу и открытию немецкой нации.
Там, где были созданы марионеточные правительства Франции, — в королевстве Вестфалия и великом герцогстве Берг — система управления и права была непосредственно навязана Францией. Союзники Франции, т. е. государства, входившие в Рейнский союз, в конце концов охвативший все германские государства, кроме Пруссии и Австрии, в разной степени переняли французские институты и правовые нормы, часто приспосабливая их к собственным традициям. Были изданы конституции, государственное управление модернизировано по французскому образцу, перенят «Кодекс Наполеона», т. е. новый французский гражданский кодекс, свободный от правовых феодальных норм и формализовавший буржуазное государство послереволюционной эры в соответствии с новыми правовыми нормами. После предоставления гражданских прав, отмены привилегий дворянства, освобождения крестьян эта часть Германии стала более передовой и свободной, хотя и потеряла независимость.
Государства, не входившие в Рейнский союз, но постоянно испытывавшие угрозу со стороны Наполеона, — Австрия и Пруссия — также в значительной степени реформировали свои структуры по французскому образцу. Для правителей и крупных чиновников этих стран речь шла прежде всего о том, чтобы компенсировать последствия поражений под Аустерлицем и Йеной, восстановить и расширить полноту власти в своих государствах. Франция служила тем примером, который давал реформаторам понять, что такого поражения, как в 1805 и 1806 гг., никогда не должно повториться. Именно в Пруссии, которая оказалась более целеустремленной и восприимчивой к изменениям, нежели тяжеловесная Дунайская монархия, создание современного государства осмысливалось с неслыханным напряжением духовных и умственных сил. Носителями реформ были государственные служащие, т. е. чиновники, военные и юристы, — те, кто считал себя законным представителем государства в целом. Под руководством министров барона Карла фон Штейна (1757–1831) и Карла Августа фон Гарденберга (1750–1822) с поистине революционным энтузиазмом с помощью декретов стало создаваться новое государство. Речь шла о замене старого наемного войска армией, формируемой из свободных граждан. Продвижение по службе должно было зависеть не от происхождения, а лишь от успехов и заслуг. Предусматривалось сокращение и модернизация правительственного и административного аппарата, отмена поместной зависимости остэльбских крестьян от помещиков, городская и общинная реформы, эмансипация евреев и модернизация юстиции, свободное движение капитала и развитие промыслов. Как венец всех этих дел было обещано создание прусского национального представительства, в котором избранные представители народа должны будут на равных противостоять короне.
В то же время в народе росло сопротивление оккупации. Реформы шли медленно, и все большему количеству граждан дипломатическое раболепие их правителей перед Францией с ее превосходящими силами казалось проявлением слабости и бесчестья. В результате наполеоновской оккупации такие понятия, как «отечество» и «нация», стали лозунгами. Зимой 1807/08 г. в Берлине, оккупированном французами, философ Иоганн Готлиб Фихте (1762–1814) выступил с «Речами к немецкой нации». Немецкий народ, заявил он, народ исконный, неиспорченный, который борется против военного и культурного подчинения Франции за свою свободу и идентичность и тем самым служит историческому прогрессу. Поэт и публицист Эрнст Мориц Арндт (1769–1860) проповедовал: «Единодушие в сердце — вот ваша церковь, ненависть к французам — ваша религия, свобода и отечество — святые, которым вы молитесь!»
Национальное движение находило проявление и в чисто организационном плане, преимущественно в виде конспиративных групп вроде Тугендбунда[29], «Немецкого союза», созданного «отцом гимнастики» Фридрихом Людвигом Яном или множества более или менее неформальных дискуссионных кружков. Общим для всех этих образований было стремление побудить к борьбе за национальную свободу колебавшееся государственное руководство, часто казавшееся склонным к измене, а там, где это не удавалось, возникали небольшие патриотические группы активистов, начинавшие повстанческую войну. Примерами таких действий стали восстания и походы гессенского полковника Вильгельма фон Дёрнберга, прусского майора Фердинанда фон Шилля, «черного герцога» Брауншвейгского в 1809 г. Народное же вооруженное сопротивление Наполеону развернулось только в католических регионах Европы и осуществлялось во имя религии и традиционной власти — таковы были повстанцы Вандеи, итальянские санфедисты, испанские герильясы. На немецких территориях народным стало восстание тирольских крестьян во главе с трактирщиком Андреасом Гофером (1767–1810), неоднократно побеждавших баварские войска, союзные французам, но не получивших достаточной поддержки от Австрии и вынужденных в 1809 г. сложить оружие. Гофер был расстрелян в Мантуе (Италия) по приговору военно-полевого суда. Подлинное значение этого движения заключалось в его пропагандистском эффекте: прямая акция оказывала мощное воздействие на пробуждавшийся патриотизм.
Удивительное изменение настроений в Германии объясняется также получением известия о пожаре Москвы и бегстве Наполеона из России, сопряженном с тяжелыми потерями. Если крах империи в 1806 г. не вызвал большого интереса, а немцы были очарованы императором французов, то теперь, после уничтожения «Великой армии» в России, воззвание Фридриха Вильгельма III «К моему народу» от 17 марта 1813 г. породило массовое воодушевление, кое в чем сходное с восстаниями, вызванными Французской революцией. Эти настроения подогревались потоком мощной националистической и антифранцузской пропаганды, в том числе поэтической, не участвовать в которой рискнул бы едва ли какой-либо немецкий поэт. Редким исключением стал космополит Гёте, у которого националистические восторги земляков вызывали отвращение и который носил орден, пожалованный ему Наполеоном, даже тогда, когда это стало непопулярно. Борьба за свободу против Наполеона воспринималась как подлинно народная война. Теодор Кернер (1791–1813), поэт, пошедший добровольцем на войну, писал:
То не война велением монарха, поход крестовый, бой святой идет.Образованные представители буржуазии и ремесленники устремились в добровольческие корпуса, а женщины жертвовали свои золотые украшения на покупку железа и щипали корпию для перевязки раненых. Людей охватил восторг, который примерно на полтора десятилетия сделал немецкую нацию чем-то чувственно воспринимаемым.
Тем не менее исход войны, успешной вначале, вовсе не был предрешен. Сил России, Англии, Пруссии и Швеции не хватало, чтобы последние войска, собранные Наполеоном, оказались в затруднительном положении. Сначала, после долгих колебаний, потребовалось присоединение к коалиции Австрии, и, наконец, в лагерь союзников перешли войска Рейнского союза, за которыми поспешно последовали их государи. Весной 1814 г. союзные армии стояли у ворот Парижа. Наполеон отрекся. Мировая война, длившаяся более двадцати лет, закончилась.
В то время как добровольцы возвращались к гражданской жизни и мечтали об осуществлении своих надежд и обещаний — введения конституции и объединения Германии, — в Вене собрались государственные деятели и дипломаты союзных государств. Они ничего так не боялись, как нового национального устройства в Европе, которое казалось им революционным и опасным. Ключевыми понятиями европейской дипломатии были «реставрация» и «возвращение к дореволюционной системе государств и их политическому устройству». Снова, как во время мирных переговоров после Тридцатилетней войны, все государства Европы, без различия между победителями и побежденными, оказались равноправными за столом переговоров. Великие европейские державы в основном восстановили свои владения по состоянию на 1792 г. Только Пруссия получила наряду с частью Саксонии территории, протянувшиеся вдоль Рейна, а Австрия ушла из Бельгии и с Верхнего Рейна. Тем самым была прекращена прямая конфронтация между Францией и Австрией, начавшаяся с борьбы Франциска I и Карла V из-за Италии и бургундского наследства. Отныне место Габсбургов в качестве германского соседа и потенциального главного противника Франции на Рейне заняла Пруссия. Прусское государство простиралось от Ахена до Тильзита и соединяло Западную и Восточную Германию. Напротив, Австрия отвернулась от Запада, сохраняя свое присутствие только на восточной периферии Германии, и смотрела впредь только на юго-восток и юг Европы. Областями интересов Дунайской монархии стали теперь Италия и Балканы.
Центральная Европа продолжала оставаться раздробленной, скрепленная разве что слабыми узами Германского союза[30], в известной степени секуляризованного наследника бывшей «Священной Римской империи». Она превратилась в рыхлое объединение 39 суверенных государств и городов, с постоянным конгрессом посланников, бундестагом (союзным сеймом) в качестве единственного общего конституционного органа под председательством австрийского императора, но с таким распределением голосов, которое делало невозможным использование Пруссией или Австрией своего преобладающего положения против остальных государств. Обе эти великие державы входили в Германский союз только благодаря своим бывшим имперским территориям, в то время как короли Дании, Англии и Нидерландов также были членами Союза в качестве суверенов Шлезвига, Ганновера и Люксембурга. Таким образом, устройство Германии было вписано в европейский порядок. Имело место решительное отрицание принципа суверенитета национальностей, последняя попытка обустроить Германию не как компактную державу в центре Европы, а в качестве территории согласования европейских интересов. Последний раз в истории Европы государственные деятели могли проводить разумную политику равновесия сил и обеспечения мира, не испытывая помех из-за идеологии или ненависти народов друг к другу.
Устройство Германии и Европы, относительно которого европейские державы договорились на Венском конгрессе в 1815 г., пока оставляло внутриполитические отношения в государствах неопределенными. Было возможно как консервативное, так и либеральное конституционное устройство. Но общественное мнение в Западной и Центральной Европе взбудоражили освободительные войны. Теперь раздавались громогласные требования выполнения обещаний, данных правительствами в годину бедствий, — предоставление свободы и конституции. Студенческие объединения большинства немецких университетов собрались в 1817 г. в Вартбурге под черно-красно-золотыми знаменами — это были цвета формы добровольческого корпуса Лютцова, в котором многие студенты боролись против Наполеона (черный мундир с красными отворотами и золотыми пуговицами). Собравшиеся требовали создания единой свободной Германии и бросали в огонь книги писателей, которых считали реакционными в силу их антинациональной позиции. Два года спустя студент Карл Занд убил писателя Августа Коцебу, высмеивавшего идеалы национального движения. Событие вызвало сенсацию — это было первое политическое убийство в Германии, с тех пор как в 1308 г. короля из династии Габсбургов Альбрехта I убил его племянник Иоганнес Паррицида. Теневая сторона нового национального духа проявилась слишком рано, и австрийский канцлер князь Клеменс Меттерних (1773–1859), архитектор новой системы государств, увидел, что сбываются его худшие опасения. В августе 1819 г. министры германских государств договорились в Карлсбаде о беспощадном подавлении всех революционных и свободолюбивых стремлений. С этого времени в конституционном развитии наступил застой. Австрия и Пруссия вернулись к абсолютизму, силы национального и освободительного движения ушли с авансцены. Плотина на пути революционного потока казалась прочной, хотя Меттерних и знал, что пути назад не было. «Моя самая заветная мечта, — писал он в дневнике, — чтобы старая Европа оказалась у начала своего конца».
Теперь Германия вступила в фазу, которую позже назвали бидермайером[31]. Два десятилетия в Европе не было войны — мирный период оказался самым длительным с незапамятных времен. Это следует осмыслить, когда жалуются на несвободу, которая воцарилась в эпоху реакции. Политические дискуссии отошли на задний план, чему не в последнюю очередь способствовали цензура и преследование со стороны властей. Вместо этого развивался менталитет, ориентированный на мелочность, узкое видение окружающего, экономию средств и уют; менталитет, при котором, казалось, торжествовала идиллия. Немецкий Михель[32] превратился в немецкий символ. Прямодушным, сонным и, однако, достойным любви предстает он перед нами в самых разных облачениях на романтических, сказочных или чудаковатых картинах, написанных Морицем фон Швиндом или Людвигом Рихтером. Ни одна эпоха не была более музыкальной. Премьера «Вольного стрелка» Карла Марии фон Вебера состоялась в Берлине и вызвала живой интерес публики как премьера немецкой национальной оперы. Не менее популярны были такие оперные композиторы, как Конрадин Крейцер или Альберт Лорцинг, а также Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт и Феликс Мендельсон-Бартольди, стяжавшие успех прежде всего благодаря своей камерной музыке. Типичным для этого времени стало обращение к домашнему музицированию, к фортепьяно, струнному квартету и песне. В поэзии господствовало эпигонство и малые формы, например эссе, ярким представителем которого был Людвиг Берне, или лирические стихи графа Августа фон Платена, Эдуарда Мёрике, Фридриха Рюккерта и прежде всего Генриха Гейне. Обманчивая простота его мелодичного стиха восхищала целое поколение. В архитектуре еще существовал классицизм Карла Фридриха Шинкеля и Лео фон Кленце с его ясными формами и пропорциями, хотя ему уже угрожали новые веяния времени, в соответствии с которыми красивым представлялось все сколько-нибудь старое. Мариенбург в Западной Пруссии был соответственно отреставрирован и достроен в память о прошлом и в качестве символа прусских реформ, как и Кёльнский собор. Под знаком этого храма, представлявшего собой немецкую национальную церковь, должны были объединиться не только немецкие племена, но и конфессии. Считалось, что готика — истинный германо-немецкий архитектурный стиль, и лишь позже оказалось, что прообразом Кёльнского собора был собор в Амьене.
* * *
РАЦИОН ПИТАНИЯ с 1800 по 1850 гг.
Победное шествие картофеля как общенационального продукта питания началось только в XIX в. Примерно до 1770 г. важнейшим продуктом питания были зерновые культуры до тех пор, пока из-за постоянного роста цен они не были заменены в рационе бедноты капустой (поэтому англичане называли немцев krauts). С 1835 г. потребление картофеля распространилось настолько, что болезни культуры приводили к голоду и эмиграции (как в 1846–1847 гг.).
Количество калорий, приходящихся на человека, % 1800 г. 1835 г. 1850 г. Зерновые культуры 52 44 44 Картофель 8 26 28 Капуста и другие овощи 25 19 17 Мясо 15 11 И Всего 100 100 100Однако идиллия была обманчивой. Об этом свидетельствовали события 1830 г., вызванные Июльской революцией в Париже, волны которой прокатились по всей Европе. Во многих германских государствах дело дошло до баррикадных боев, за которыми последовали уступки князей либеральному духу времени — провозглашение конституций и созыв ландтагов. Двумя годами позже, на «Всегерманском празднике» около замка Гамбах во Пфальце, национальное движение, состоявшее из студентов, либеральной буржуазии и демократически настроенных ремесленников, продемонстрировало свою жизненность. Оно обрело дополнительную силу благодаря движениям социального протеста крестьян на юго-западе Германии. Причиной крестьянских волнений стал быстрый рост населения при отставании производства продовольствия. В деревне, прежде всего в остэльбском регионе, начался настоящий кризис перенаселения, так как очень быстро выросла численность неимущих слоев, обреченных на батрачество. Те, кто не находил пропитания и работы на селе, отправлялись в города, умножая тем самым численность имевшегося там нищего населения. Ремесленникам приходилось особенно сильно страдать от обнищания, ибо в результате проведения реформ в Пруссии и государствах Рейнского союза был устранен механизм регулирования деятельности ремесленных цехов. В результате здесь за кратчайшие сроки возник переизбыток рабочей силы, и все большее число подмастерьев и учеников теряли работу. Никто не знал, как можно было справиться с этим массовым обнищанием, которое называлось «пауперизацией».
До этого времени контуры будущего немецкого национального государства едва можно было распознать только в виде схем. Хотя теперь все чаще слышались слова «немецкий народ» и «немецкое отечество», употреблялись они, как правило, для отмежевания от враждебного француза, и к тому же в расплывчато-поэтической форме. Это было культурное и языковое понятие, которое даже отчасти не означало преодоления партикуляризма отдельных государств и его растворения в едином германском национальном государстве. На вопрос о том, где его отечество, поэт Вильгельм Раабе отвечал, что оно «там, где по старой привычке на карте написано мифическое название “Германия”, где с незапамятных времен самый простодушный народ Земли демонстрирует верность и честность и с момента своего возникновения из первобытного праха ни разу не дал своим правителям справедливого основания для жалобы на себя». Что касается последнего утверждения, то ситуация должна была вскоре измениться. Немецкое отечество, относящееся к периоду освободительных войн 1813 и 1815 гг., еще не обрело определенного облика. Оно оставалось чем-то поэтическим, историческим и утопическим, идеалом, в своем земном воплощении большей частью носившим имя Пруссии.
Вероятно, отдельные германские государства могли бы еще и в 40-е годы XIX в. обеспечить в долгосрочной перспективе лояльность своих граждан, и Германия осталась бы не более чем географическим понятием. Но реформы, имевшие место в пределах отдельных государств, кончались ничем, экономическая модернизация, проводившаяся путем аграрных, налоговых и других реформ, повлекла за собой существенные общественные расходы. Так возникала опасная напряженность, зоны разлома в обществе, и к тому же обращение прусских реформаторов к «арсеналу революции» не осталось безнаказанным. Нельзя было вводить всеобщую воинскую повинность, улучшать национальную систему воспитания, не следовало слишком усердно играть общественным мнением в период освободительных войн и затем надеяться, что народ подчинится воспитательным мерам просвещенной чиновничьей элиты. К нарастающему социальному напряжению предреволюционного периода (до марта 1848 г.) добавлялась горечь, связанная с нарушением обещаний введения конституции и поведением власти, которая, устрашившись радикальных перемен в оппозиционном общественном мнении и опасаясь французской революции на немецкой земле, завинчивала цензурные гайки. Она пыталась с помощью полицейских мер противостоять требованиям соединить экономическую свободу с участием в решении политических вопросов. Так государство и общество все больше отдалялись друг от друга.
Не только социальная напряженность, но и политические волнения снова нарастали в Германии. В целом обращает на себя внимание то, что мощные эмоциональные, политические и национальные потрясения 1813, 1817 и 1830 гг. и позже всегда сопровождались внешнеполитическими и экономическими кризисами. Хотя после событий 1830 г. правящие силы снова натянули поводья, но один лишь факт, что теперь в большинстве германских государств существовали ландтаги, либеральные депутаты которых могли, не опасаясь наказания, говорить и публиковаться, привели к весьма значительному усилению либеральной оппозиции. Все больше набирала силу идея национального единства — прежде всего с момента Рейнского кризиса 1840 г. Тогда впервые с 1815 г. Франция вновь проявила экспансионистские намерения в отношении границы по Рейну. В Германии это привело к стихийному массовому движению, направленному и против вялой реакции со стороны Германского союза. Годы после 1840-го стали временем возрождения немецкого национализма и его организаций. Гимнастическое движение распространялось по всей Германии, а с ним и идеологическая смесь из идей об укреплении тела и силы воинствующего национального духа. Другими важными звеньями национального движения стали певческие союзы, слившиеся в общенациональное объединение, которое проводило первые общегерманские праздники песни, поднимавшие национальный энтузиазм. Здесь не только заботились о национальном песенном достоянии, но и одновременно исполняли «крамольные» песни. Первые общегерманские конгрессы деятелей науки подчеркивали единство науки и национальной идеи. Это десятилетие стало также временем повсеместного создания национальных памятников; некоторые из них уже существовали и приобрели особое значение, другие еще строились: Кёльнский собор, памятник Арминию под Детмольдом, Вальхалла — пантеон славы под Регенсбургом, Зал освобождения под Кельхаймом. Стало очевидно, что национальная идея и оппозиционный либерализм были двумя сторонами одной медали.
* * *
ПЕСНЯ НЕМЦЕВ
Гофман фон Фаллерслебен (1798–1874) написал свою «Песню немцев» в августе 1841 г., находясь в изгнании на английском острове Гельголанд, принадлежавшем тогда Англии. Впервые она была исполнена гамбургскими гимнастами в честь демократически настроенного профессора Велькера на мелодию «Императорского квартета» Гайдна. Первая строфа («Германия, Германия превыше всего») не носила шовинистического характера; она ставила единство Германии выше множества государств, составляющих Германский союз. В XIX в. стала более популярной «Стража на Рейне». После основания империи в 1871 г. ее сменил кайзеровский гимн «Славься в венце побед», и только в 1922 г. президент Фридрих Эберт, сознательно опираясь на традиции революции 1848 г., объявил «Песню немцев» национальным гимном. С 1952 г. первая строфа исполняется как национальный гимн Федеративной Республики Германия.
В атмосфере политических и социальных волнений для возникновения острой революционной ситуации, подобной той, что сложилась в 1789 г., не хватало только экономического кризиса, связанного с будоражащим политическим событием. Такой экономический кризис возник в 1846–1847 гг. и проявил себя в двух качествах — как последний европейский кризис старого типа, «голодный» кризис, вызванный неурожаем, и кризис ремесленного производства, а затем, в 1847–1848 гг., как первый «современный» кризис роста, вызванный спадом конъюнктуры в производстве потребительских товаров. В то время когда Германию охватили стихийные голодные волнения, которые удавалось подавлять только военной силой, заявил о себе конституционный либерализм. Десятого октября 1847 г. на Бергштрассе в Геппенгейме собрались ведущие представители этого направления с требованием создания союзного германского государства с сильным правительством, ответственным перед парламентом. Месяцем раньше в Оффенбурге заседали представители демократического радикализма, наследники движения 30-х гг. XIX в., планировавшие создание республиканского и единого национального государства. К тому же становилась заметной активность объединений, проникнутых идеями социальной революции, социализма и группировавшихся вокруг Фридриха Геккера, Вильгельма Вейтлинга и Мозеса Гесса, а также радикальных немецких союзов подмастерьев, находившихся в швейцарской, парижской и лондонской эмиграции. Этот многоголосый хор недовольства и протеста, которому правительства государств Германского союза ничего не могли противопоставить на публичном уровне, настраивал общественность на грядущие революционные события.
* * *
КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ В НЕКОТОРЫХ ГОРОДАХ ГЕРМАНСКОГО СОЮЗА
В эпоху между освободительными войнами и революцией 1848 г. численность читающей публики резко возросла, хотя существовали характерные региональные различия. В 1844 г. в одном только Берлине было больше книжных магазинов, чем во всей Австрии. Правда, выбор книг в значительной степени ограничивался беллетристикой и неполитической специальной литературой, что было не только знаком времени, но и следствием цензурной политики.
Город 1831 г. 1844 г. 1855 г. Берлин 80 127 195 Вена 43 48 34 Лейпциг 79 130 156 Штутгарт 17 36 55* * *
СИЛЕЗСКИЕ ТКАЧИ
Общая численность населения Германского союза возросла с 1815 до 1848 гг. с 22 до 35 млн. чел., т. е. на две трети на протяжении одного поколения, а производство продуктов питания не поспевало за этим ростом. Массовая нищета обострялась в результате перехода от старого ремесленного производства к новому индустриальному. Эта проблема возникла во многих странах Европы. Первыми на нее отреагировали чартисты в английском Мидленде, разрушавшие машины на текстильных фабриках. Жертвами такого развития событий были, в частности, силезские ткачи, продукция которых больше не выдерживала конкуренции с дешевыми фабричными текстильными изделиями. На фабриках в Силезии увеличивали рабочий день, использовали детский труд, платили нищенскую заработную плату. В 1844 г. в деревнях округов Лангенбилау и Петерсвальде вспыхнули вызванные отчаянием бунты, в ходе которых были разрушены механические ткацкие станки, а дома фабрикантов разграблены. Прусские войска подавили восстание, но с тех пор социальный вопрос стоял на повестке дня и обострял общественное и политическое напряжение, которое разрядилось в 1848 г.
V. Железом и кровью (1848–1871)
Как и в 1830 г., 24 февраля 1848-го события начали развиваться с сообщения из Парижа. Там снова свергли короля, снова были воздвигнуты баррикады и появились мученики революции. Волнения распространились на большую часть Европы, повсюду переплетались национальные, социальные и либеральные тенденции, в целом направленные против того антинационального, враждебного свободе устройства континента, которое было создано в соответствии с решениями Венского конгресса 1815 г. Уличные беспорядки начались почти во всех германских столицах. Как умеренно-либеральная, так и радикально-демократическая оппозиция в парламентах требовала свободы печати и собраний, разрешения деятельности партий и вооружения народа, т. е. организации гражданского ополчения в противовес постоянному войску, существовавшему в рамках старого порядка, и как итог — созыва германского национального парламента. За «мартовскими требованиями» последовали «мартовские правительства», кабинеты либеральной знати, взявшиеся за осуществление мартовских требований. Царило настроение национального подъема, новое баварское правительство приступило к своим обязанностям под названием «министерства утренней зари», и над всей Германией реяли черно-красно-золотые знамена национального движения.
Теперь все зависело от развития событий в двух ведущих державах Германского союза. За несколько дней в Вене умеренные либеральные элементы оказались сметены потоком радикальной демократии. Меттерних укрылся в Англии, двор спасся бегством в Инсбрук, в то время как во всех частях многонационального государства разгорались национальные восстания. В течение нескольких недель Австрия, гарант консервативной «системы Меттерниха», стала недееспособной. В Пруссии поначалу казалось, что Фридриху Вильгельму IV удастся овладеть ситуацией и встать во главе объединительного движения. Но король колебался слишком долго, его уступки оказались слишком запоздалыми, и 18 марта в Берлине вспыхнуло открытое восстание, с которым удалось справиться только благодаря выводу войск и согласию на созыв прусского Национального собрания с целью выработать конституцию для Пруссии.
Восемнадцатого мая 1848 г. в соборе Св. Павла во Франкфурте собрались 585 представителей немецкого народа, избранные в германское Национальное собрание. Им надлежало принять конституцию для всей Германии, основанную на принципах свободы, и избрать национальное правительство. То был своего рода смотр великих имен свободолюбивой и мыслящей Германии. Поэты Людвиг Уланд или Фридрих Теодор Фишер были избраны точно так же, как и вожди эпохи освободительных войн Эрнст Мориц Арндт и Фридрих Людвиг Ян; депутатами были такие историки, как Фридрих Кристоф Дальман, Иоганн Густав Дройзен и Георг Готфрид Гервинус, а также священнослужители, как, к примеру, епископ Майнцский и теоретик в сфере социальных вопросов барон Вильгельм Эммануэль фон Кеттелер, а кроме них и лидеры политического либерализма всех оттенков. В середине XIX в. образованная буржуазия была подлинным носителем идеи национального единства.
Национальное собрание в соборе Св. Павла во Франкфурте-на-Майне.
Литография Пауля Бюрде, после 1848 г.
585 депутатов Германского национального собрания, избранные на основе всеобщего и равного избирательного права (для мужчин) на территории Германского союза, а также в Западной и Восточной Пруссии и Шлезвиге, заседали во франкфуртском соборе Св. Павла с 18 мая 1848 г. по 30 мая 1849 г. Барон Генрих фон Гагерн (на председательской трибуне) окружен наиболее знаменитыми и популярными депутатами.
Однако какой же должна стать Германия? В этом вопросе никогда не было единодушия, и депутаты, собравшиеся в соборе Св. Павла, также погрязли в безнадежных спорах. Выявились два возможных решения проблемы: первое — великогерманское, означавшее объединение всех германских земель, включая Австрию, под властью императора из династии Габсбургов. Сторонники малогерманского решения возражали и предполагали объединить германские земли без Австрии. Во главе такого государства мог бы стоять Гогенцоллерн. О границах и будущем гегемоне разгорелся многомесячный спор, в то время как революционно настроенные демократы в Юго-западной Германии действовали бескомпромиссно и их выступления закончились кровавым подавлением союзными войсками. В конце концов была все же принята конституция в соответствии с достойными уважения американским, французским и бельгийским образцами и появилось временное центральное правительство. Но эта конституция не имела силы, а правительство — власти. В революции побеждает тот, кто решает в свою пользу вопрос о власти, а франкфуртский парламент был совершенно безвластен.
Это проявилось уже в шлезвиг-гольштейнском кризисе. Двадцать четвертого марта 1848 г. шлезвиг-гольштейнские сословия провозгласили независимость от Дании, образовали временное правительство и обратились к Национальному собранию с просьбой о помощи. Судьба герцогств на Эльбе очень обеспокоила немецкую общественность, и в глазах национального движения германский парламент во Франкфурте мог обрести легитимность только в том случае, если бы герцогства стали частью нации. Национальное собрание не располагало, однако, собственной властью и оказалось вынужденным временно использовать прусские войска. Они продвинулись далеко в Ютландию, но после протеста европейских держав их пришлось отвести. Английские военные корабли демонстрировали свои силы в Балтийском море, русские войска сосредоточились у восточнопрусской границы, французские посланники выступили в роли посредников перед немецкими правительствами. Распространение немецкого национализма на земли датской короны подтвердило опасения европейских дворов, что единое германское государство в сердце Европы станет угрозой равновесию европейских государств. Теперь стало ясно, что изменений в Центральной Европе и германского единства нельзя было достичь вопреки существовавшей тогда системе европейских держав.
* * *
КОНСТИТУЦИЯ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 1849 г.
Германская имперская конституция 1849 г. была основным законом, достойным уважения, проникнутым духом суверенитета народа и прав человека, документом, который не был воплощен в действительность, но остался одним из важнейших в германской конституционной истории. Это была конституция, и сегодня производящая впечатление современной, ясная в своей концепции и точная в деталях. Особенно тщательно были разработаны правовые положения, кодифицировавшие просветительское естественно-правовое представление о человеке и ставившие перед государственной властью непреодолимые границы по отношению к свободам граждан. На принципах этой конституции в значительной степени основывается Основной закон Федеративной Республики Германии.
Национальное собрание, однако, потерпело поражение не только из-за общеевропейской ситуации, но и из-за опасности радикализации революции. Буржуазно-либеральные силы, мечтавшие о едином конституционном национальном государстве, где были бы обеспечены благоприятные условия для предпринимательства, а теперь видевшие приближение второй социальной революции, якобинского террора и гильотины, пошли на соглашение с контрреволюционными силами в Берлине и Вене, поспешно пытаясь упрочить достигнутое. Правовой гарантии конституции в Пруссии оказалось, таким образом, достаточно для того, чтобы в ноябре 1848 г. фактически прекратить там революцию, пусть даже с помощью военной силы. Запоздалая попытка Национального собрания, преодолев все препятствия, разрешить вопрос о власти, т. е. отказаться от желательного для большинства депутатов великогерманского решения и предложить корону малогерманской империи, также провалилась. Фридрих Вильгельм IV охотно принял бы власть в Пруссии, но только из рук князей, а не от парламента. О предложении, сделанном делегацией Национального собрания, он писал великому герцогу Гессенскому: это «свинская корона», «обруч из дерьма и глины», источающий «смрадный запах революции». Кроме того, Фридрих не без оснований боялся протеста остальных европейских держав и интервенции Австрии. Новая Семилетняя война не отвечала интересам миролюбивого, опасавшегося конфликтов монарха. При поверхностном взгляде может показаться, что революция 1848–1849 гг. потерпела поражение. На деле же конфликт между силами застоя и силами прогрессивного движения завершился компромиссом. Повсюду в Германии монархи были теперь связаны существовавшими не на словах конституциями и делили законодательную власть с парламентами. Вместе с тем мечта участников мартовского движения 1848 г. о создании великогерманского национального государства на основе суверенитета народа и прав человека осталась нереализованной, разбившись как о сопротивление европейских держав, так и о разнородность революционных сил. Во всяком случае, изменилось одно: после революции появилась ясность относительно альтернатив будущего решения германского вопроса. Приверженцы идеи германского национального государства собрались под двумя знаменами — тут великогерманцы, там малогерманцы.
Значительное влияние, которым с самого начала пользовалась малогерманская партия, объяснялось тем, что ее требования в сфере экономической политики были уже осуществлены. Еще в 1834 г. под прусским руководством, прежде всего благодаря прусскому министру финансов Фридриху фон Моцу (1775–1830), был создан Германский таможенный союз, к которому накануне революции 1848 г. присоединились 28 из 39 государств Германского союза. Он вызывал недоверие Меттерниха, который считал, что этот Таможенный союз усилит «преобладание Пруссии» и будет способствовать распространению «в высшей степени опасной теории о единстве Германии». В действительности Германский союз, в котором доминировала Австрия, представлял собой лишь инструмент сохранения статус-кво, инструмент недопущения чего бы то ни было нового, в то время как Таможенный союз, руководимый Пруссией, был сообществом, устремленным в будущее, постоянно приумножавшим экономическую силу и оказывавшим магнетическое воздействие на близлежащие государства.
Но фактическое единство этого довольно большого экономического пространства не было установлено до тех пор, пока транспортные связи осуществлялись медленно и оставались громоздкими. Прежде всего следует поблагодарить ученого-экономиста Фридриха Листа (1789–1846) и некоторых рейнских промышленников за то, что после длительной борьбы против консервативных представлений, проникнутых недоверием к техническому прогрессу, 7 декабря 1835 г. открылась первая немецкая железная дорога. Протяженность железнодорожной линии от Нюрнберга до Фюрта составляла «целых» 6 км, в то время как в Бельгии было уже 20, во Франции — 141, а в Великобритании — 544 км железных дорог. Железнодорожная сеть в Германии росла, однако, очень быстро — накануне революции 1848 г. она насчитывала в границах Таможенного союза уже без малого 5 000 км, что было вдвое длиннее французских железнодорожных линий и вчетверо — австрийских. Именно железная дорога позволила создать рынок в рамках Таможенного союза, и только теперь сложился единый экономический регион, в котором могли соответственно формироваться предложение, спрос и цены, так как лишь теперь условия конкурентной борьбы оказались равными. К тому же железнодорожное строительство вызвало небывалый расцвет промышленности, связанной с железной дорогой, — понадобились локомотивы, машины, вагоны, рельсы. Росли машиностроительные заводы и предприятия-поставщики.
Тем самым около 1848 г. была заложена основа индустриального развития. Так как после революции до поры до времени не приходилось больше опасаться политических потрясений, имело смысл планировать долгосрочные капиталовложения. К тому же для предпринимателей начались золотые годы, поскольку после сенсационных открытий месторождений золота в Калифорнии и Австралии количество капитала резко возросло, кредиты подешевели, в то время как цены поднялись и увеличился спрос. Повсюду возникали новые банки, акционерные общества, что стимулировалось прежде всего потребностями в капитале для железнодорожного строительства, и с 1850 по 1857 г. обращение банкнот, количество банковских депозитов и выплаченный капитал на территории Таможенного союза утроились.
У экономического бума была и еще одна причина — дешевизна рабочей силы. Новые фабрики поглощали людей. Массы обнищавшего, пауперизированного народа были рады получить хоть какую-нибудь постоянную работу и обеспеченный заработок. При сколь угодно справедливой критике в адрес тяжелых условий жизни и труда этого первого поколения фабричных пролетариев следует иметь в виду, что по сравнению с массовой нищетой доиндустриальной эпохи средний рабочий новых времен находился в лучшем положении. Уменьшились безработица, недостаточная занятость. Снижение заработков в результате применения надомного труда, влияние на зарплату, вызванное английской и бельгийской конкуренцией, взвинчивание цен на продовольствие в связи с плохими урожаями в 1852 и 1855 гг. в этот раз не привели в Германии к голодным волнениям. Пауперизм — социальная угроза будущему Европы в первой половине столетия — поблек и поколение спустя был известен только по названию.
С индустриализацией Германии возникло новое общество. Старый мир преобразила не политическая революция, а революция в экономических и трудовых отношениях вследствие революционных преобразований коммуникационных средств — от железной дороги до телеграфа. Все это было связано друг с другом и взаимно обусловлено. Резкий рост численности населения и ухудшавшиеся условия жизни в сельской местности заставляли людей мигрировать. Известия о надежных рабочих местах в новых индустриальных районах Силезии, Саксонии, пригородах Берлина, на Рейне и в Руре вызвали самое большое массовое переселение в немецкой истории. Поток ищущих работу выплеснулся из аграрных остэльбских районов вначале в Берлин. Позже переселенческая волна распространилась на Центральную Германию, чтобы затем, примерно с 1860 г., постоянно возрастая, достичь рейнско-вестфальского промышленного района. Формировавшийся фабричный пролетариат — вчерашние батраки, не обученные ремеслу, — противостоял городским ремесленникам, которые не могли больше существовать за счет цеховых профессий, так как спрос на дешевые массовые товары фабричного производства все время превосходил спрос на дорогие ремесленные штучные изделия. Только с введением в 80-е гг. XIX в. электромотора — «электростанции маленького человека» — ремесленное предприятие смогло стать конкурентоспособным в индустриальную эпоху. Пророчество Карла Маркса о вымирании ремесленного производства не оправдалось.
* * *
Немецкая эмиграция с 1820 по 1913 г., тыс. человек
1820–1829 … 50
1830–1839 … 210
1840–1849 … 480
1850–1859 … 1161
1861–1870 … 782
1871–1880 … 626
1881–1890 … 1343
1891–1900 … 529
1901–1910 … 280
1911–1913 … 69
Начавшийся бум мобилизации капитала охватил также и широкие слои среднего бюргерства. Высвобождение капитала и труда в результате прусских реформ влекло бывших сельских ремесленников в города, а городских предпринимателей в растущие индустриальные метрополии с увеличивавшимися шансами оборота. Рост государственного управленческого аппарата стал обычной практикой перемещения административного персонала на территории, зачастую более отдаленные от места прежнего проживания. Одним словом, сословное аграрное общество старой Европы распалось, и его место заняло городское современное индустриальное общество, разделенное на пролетариат и буржуазный средний слой.
Прощание эмигрантов.
Антона Фольжар, 1860 г.
Между 1830 и 1913 гг, Германию покинули более 6 млн. человек, из них более половины — с 1861 по 1913 г. Экономические тяготы были главной, но не единственной причиной эмиграции за океан, прежде всего в «страну обетованную» — Северную Америку. Возрастающие цифры эмиграции в США после революции 1848–1849 гг. во многом были связаны с надеждами на более свободную, демократическую жизнь на другом континенте.
Забвение корней стало преобладающим: семейные узы распадались, религиозные связи ослабевали, происходил отказ от обычных форм лояльности. Индустриальная среда ничего не предлагала взамен; превалировало чувство зависимости от неких анонимных сил, ощущение собственной ненужности и социальной атомизации. Теперь как никогда остро воспринималась утрата жизненных норм, потеря уверенности в общественных ориентирах и кризис идентичности. Там, где религия и прочные общественные нормы переставали служить опорой, их место занимало свойственное новому времени многообразие мифов и толкований действительности, конкурирующих между собой, самым жестоким образом враждующих друг с другом и категорически друг друга взаимоисключающих. Например, либерализм претендовал на осуществление свободы, счастья и как экономического, так и политического самоопределения индивида. Либерализм представлял собой светский принцип, противостоявший господствовавшим до революции абсолютистским и аристократическим властным структурам и связанный с идеей единства нации, в которой должна была воплотиться общая воля.
Наряду с ним сформировалась вторая великая оппозиционная идеология столетия — социализм как миф класса, стремящегося к солидарности масс и выступающего против своекорыстия властвующих, благосостояние которых только и оказывалось возможным благодаря труду на фабриках. Старый мир, с другой стороны, мобилизовал защитные силы, которые сформировали идеологию, также воздействовавшую на массы. Консерватизм создал оборонительный фронт традиционных правящих слоев против восстания «черни» и в не меньшей степени против подъема либерального капитализма. Наконец, политический католицизм представлял собой реакцию глубоко связанного с традициями, менее затронутого утратой общественных норм, меньшинства населения в Силезии, Рейнланде и Южной Германии. Это был стремящийся к господству агрессивный либерализм, преимущественно прусско-протестантский.
Так возникло множество конкурировавших друг с другом представлений о порядке и легитимации, кристаллизовавших партии. Ядром этого процесса стали парламентские фракции и политические журналы. Это стало ясно в конце 50-х годов XIX столетия, когда в результате падения экономической конъюнктуры и появления новых движений на европейском пространстве внутренние политические процессы вновь дали о себе знать. Возникли первые долговременные организации самостоятельного германского рабочего движения. В 1863 г. Фердинанд Лассаль (1825–1864) разработал проект программы Всеобщего германского рабочего союза — и в то же время возник основанный Августом Бебелем (1840–1913) и Вильгельмом Либкнехтом (1826–1900) Союз немецких рабочих обществ в качестве эмбриона Социал-демократической рабочей партии, созданной в 1869 г. Обе организации были предшественницами современной германской социал-демократии.
Оживился и парламентский либерализм. В Пруссии преемником короля Фридриха Вильгельма IV, под конец жизни впавшего в помешательство, стал его брат Вильгельм I, ко всеобщему изумлению ослабивший гнет цензуры и назначивший либеральный кабинет. Но очень скоро у него возник конфликт с либеральным большинством палаты депутатов, когда Вильгельм вознамерился против воли депутатов увеличить численность личного состава армии, продлить срок военной службы и ликвидировать ландвер — бюргерское ополчение — этот противовес линейной армии. Возмущение либеральных кругов нарастало, противоречие между либеральными парламентариями Пруссии и господствующим союзом короны, землевладельческого дворянства и армии затрагивало принципиальные вопросы.
Политический ландшафт пришел в движение и еще по одной причине. Наполеон III, племянник великого корсиканца, в подражание дяде выступивший в роли императора французов, стремился вновь осуществить старую идею французского рывка в Италию. Для этого в 1859 г. он заключил союз с королевством Пьемонт-Сардиния против австрийского преобладания в Северной Италии.
Впервые после поражения революции 1848 г. немецкую общественность охватил национальный подъем. Старый мотив германо-французской наследственной вражды, пробуждавший национальные чувства уже в 1813 г., переживал радостное воскрешение. Требование о быстром создании суверенного германского национального государства, сильного во внешнеполитическом и военном отношении, выдвигалось в тысячах листовок, памфлетов и газетных статей. Волна национального подъема достигла кульминации во время празднования столетия со дня рождения Шиллера 10 ноября 1859 г. на всем немецкоязычном пространстве. В то же время стало очевидно, что фронты, сформировавшиеся в немецком национальном движении во время революции 1848 г., продолжали существовать, а теперь произошло их организационное укрепление. Предлагалось малогерманское или великогерманское решение. Явным свидетельством преимущества, которым обладала Пруссия по сравнению с Австрией, стала организационная, финансовая, а главное, пропагандистская победа малогерманского Немецкого национального союза, основанного в 1859 г. в Кобурге, над великогерманскими силами, отражавшими преимущественно партикуляристские настроения католических кругов. Германский союз реформы, организация, созданная великогерманскими силами только в 1862 г., появилась слишком поздно, была раздробленной и не выдвинула мобилизующих лозунгов.
Однако малогерманское национальное движение наталкивалось на определенное сопротивление. У его сильнейшей опоры — либеральной фракции в прусской палате депутатов — был тяжелый конфликт с прусским правительством, т. е. как раз с той самой властью, которая должна была осуществить малогерманский вариант объединения Германии. Двадцать четвертого сентября 1862 г. Вильгельм I назначил министром-президентом Пруссии прусского посланника в Париже князя Отто фон Шёнхаузена Бисмарка (1815–1898) как крайнего консерватора и воплощение персонифицированной контрреволюции. Это произошло после того, как Бисмарк в ходе длительной беседы в замковом парке Бабельсберга[33] пообещал королю стабилизировать монаршую власть и покончить с либеральным парламентским господством. В глазах немецкой общественности Бисмарк был воплощением не только антилиберальных, но и антинациональных стремлений, так как либерализм и национализм представляли собой две стороны одной медали. Бисмарка, однако, неверно поняли не только противники, но и сторонники. Пост министра-президента был для него не целью, а лишь средством для достижения более высокой цели. Он ставил перед собой задачу усиления мощи Пруссии и ее консолидации в революционной Европе. Для этого предполагался путь, по которому, как считал Бисмарк, можно было идти только с помощью установления прусской гегемонии в Германии за счет Австрии, но по возможности в согласии с другими европейскими державами. Вопреки их сопротивлению, как показал крах надежд на создание национального государства в 1848–1849 гг., изменений на карте Центральной Европы добиться было невозможно.
Когда в ноябре 1863 г. герцогство Шлезвиг было формально аннексировано Данией, с которой его связывала до сих пор только личная уния, Германию снова охватило патриотическое воодушевление. И среди общественности, и с парламентских трибун звучало требование начать немецкую национальную войну против Дании. Как ив 1848 г., Шлезвиг-Гольштейн стал немецкой ирредентой[34], символом распространения немецкого национализма за границы, установленные венским мирным порядком 1815 г., чего так боялись европейские державы. Все фракции немецкого национализма глубоко заблуждались, игнорируя в своих дискуссиях роль соотношения сил в Европе. Мирный порядок, установленный Венским конгрессом 1815 г., воспринимался национально настроенными силами всех европейских государств, а не только Германии как реакционное препятствие, борьба против которого с использованием любых средств казалась вполне оправданной.
Ирония германской истории заключается в том, что именно либеральному национальному движению, исполненному ненависти к политике Бисмарка, суждено было способствовать его успеху. Ничто не могло бы сильнее воспрепятствовать осуществлению планов Бисмарка, чем союз с национальным движением, намерения которого, нацеленные на взрыв системы, были очевидны. Бисмарку требовалась противоборствующая сторона, чтобы за кулисами этого конфликта скрыть свои планы и свои возможности и в нужный момент действовать неожиданно. Не обращая внимания на национальное воодушевление, он, к удовольствию Англии, Франции и России, признал властные суверенные права датского королевского дома на Шлезвиг-Гольштейн, но тем не менее планировал вооруженное вступление в герцогства на Эльбе, так как в результате включения Шлезвига в состав датского государства ущемленными оказались старые привилегии жителей Шлезвиг-Гольштейна. Таким образом, различие между требованиями национального движения и двух больших германских государств, вдруг, ко всеобщему изумлению, выступивших рука об руку, было лишь формально-правовым, но немецким патриотам признание датских королевских прав и венского мирного порядка казалось невыносимым. В то время как в январе 1864 г. прусские и австрийские войска вступили в Ютландию и добились значительных военных успехов, ярость либеральной общественности не знала границ — и, как выяснилось, не без оснований. При заключении мира 30 октября 1864 г. оказалось, что освобожденные герцогства на Эльбе вовсе не вошли в Германский союз на правах нового государства, а были в качестве кондоминиума разделены между Австрией и Пруссией.
Многие либералы понимали, что политика Бисмарка, сколь бы беспринципной она ни казалась, была явно успешной в отличие от национального движения. Теперь лишенный иллюзий реализм позиции Бисмарка, сформулированной в 1862 г. в палате депутатов и возмутившей либеральную общественность, оказался оправданным. «Не речами, не постановлениями большинства решаются великие вопросы эпохи — это было ошибкой 1848 и 1849 гг., — а железом и кровью», — заявил он тогда.
Бисмарк сделал первый шаг. Национальное движение, либеральная общественность показали себя громогласными, но бессильными. Дания была вытеснена из Германского союза, а Пруссия существенно увеличила свои владения. Теперь следовало осуществить великую цель, ради которой Бисмарк работал со времен революции, — окончательно установить гегемонию Пруссии в Германии и рассчитаться с Австрией. Это означало сделать выводы из той политики, начало которой положил в 1740 г. Фридрих II своим броском в Силезию. С 1848–1849 гг. между обоими ведущими германскими государствами существовало неустойчивое равновесие. Их соперничество становилось все более ощутимым. А между ними находились малые государства «третьей Германии», пытавшиеся обеспечить свою независимость от двух великих держав и сохранить существовавшую федеральную структуру Союза с помощью проведения политики лавирования между севером и югом.
Объединение Германии в 1866–1871 гг.
После австро-прусско-датской войны кое-что изменилось. Впервые карта Центральной Европы преобразилась без вмешательства европейской периферии, и дело было не только в гениальной стратегии Бисмарка, но и в том, что в результате Крымской войны (1853–1856) слаженность действий европейских государств оказалась нарушенной. Россия и Англия, остро враждуя друг с другом, на время оказались неспособными к сотрудничеству на континенте. Тем самым всего на несколько лет открылось окно истории. Центральноевропейская держава под решительным, целеустремленным руководством обладала теперь гораздо большим пространством для маневра, чем длительное время как до, так и после этого.
Уже в начале 1866 г. и в Вене, и в Берлине стало ясно, что предстояла решающая кампания, направленная на достижение господства над Германией. Искали только предлога, чтобы представить противника агрессором. Предлог нашелся, когда Италия, только что объединенная в соответствии с концепцией Бисмарка, открыто встала на сторону Пруссии. Это заставило венское правительство мобилизовать 21 марта 1866 г. австрийские войска. Так лавина пришла в движение, но оно было резко остановлено 3 июля 1866 г. на поле битвы под Кёниггрецем. Эта неожиданная победа прусских войск над союзными войсками Австрии и Саксонии была достигнута благодаря техническому превосходству прусского вооружения и хорошо обученной армии, а в первую очередь — благодаря военному руководству начальника Генерального штаба Хельмута Карла фон Мольтке (1800–1891). С помощью телеграфа и железной дороги он впервые в военной истории одновременно передвигал большие массы войск с разных направлений к одной и той же цели. Это была самая большая битва в европейской истории XIX в.
Война, закончившаяся под Кёниггрецем, с тех пор рассматривается как победа Пруссии и как шаг к установлению единства Германии. В случае победы Австрии проявились бы подлинные взаимосвязи. Перед началом войны на деле именно Пруссия объявила аннулированным союзный договор, лежавший в основе Германского союза, и тем самым нарушила европейский мирный порядок, в то время как Австрия действовала в качестве председателя Союза. Таким образом, это была война не между Пруссией и Австрией, а между Пруссией и Германией. Находившиеся на стороне Австрии союзные войска носили черно-красно-золотые повязки, воюя против прусских войск, сражавшихся под черно-белыми знаменами.
После заключения Пражского мира Австрия была вытеснена из Германии, и Германский союз остался в прошлом. Образовалось союзное государство, состоявшее из 22 малых и средних государств, лежащих к северу от Майна и находившихся под полным политическим, военным и экономическим господством Пруссии. Это был Северогерманский союз, связанный с остальными государствами, расположенными к югу от Майна, военной конвенцией и тесными узами все еще существовавшего Таможенного союза, — странная государственно-правовая конструкция, которой не суждено было сохраниться надолго из-за резкого отличия в положении сил на юге и севере Германии.
Именно французское правительство благодаря своим агрессивным внешнеполитическим маневрам помогло осуществить как раз то германское единство, которому оно, собственно говоря, хотело помешать любой ценой. Бисмарк понимал, что задача объединения могла быть доведена до конца только с помощью давления извне, и это желаемое давление обеспечивал Наполеон III, Французская политика оказалась безрезультатной уже в 1866 г., претензии на компенсацию, высказанные Францией после создания Северогерманского союза, были решительно отвергнуты Бисмарком, что породило во Франции чувство уязвленной гордости, искавшее лишь момента для выхода. Весной 1870 г. испанский парламент предложил освободившийся королевский трон представителю дома Гогенцоллерн-Зигмаринген из католической боковой линии Гогенцоллернов. Во Франции это вызвало давнюю боязнь оказаться во враждебном окружении, и Наполеон заявил резкий протест. Бисмарк не среагировал бы на эту ситуацию, не знай он об изоляции Франции. Англия и Россия продемонстрировали незаинтересованность в происходящем. Бисмарк не хотел развязывать войну, но и не избегал ее. Вильгельм I был даже готов пойти навстречу желаниям Франции и не оставлять испанский трон за немецким кандидатом. Взбудораженной французской общественности этого было мало. Французский посол Бенедетти отправился в Бад-Эмс и передал находившемуся там прусскому королю требование о гарантии отклонения подобных кандидатур из дома Гогенцоллернов в будущем. Вильгельм I воспринял требование именно так, как оно и было задумано, — в качестве дипломатической пощечины — и отверг его. Бисмарк получил в Берлине депешу из Бад-Эмса, объективно описывавшую происходившее, отредактировал ее таким образом, что содержание оказалось значительно более резким, после чего передал измененный текст «эмской депеши» в печать в тот же день, 13 июля 1870 г. Он знал, что слабое французское правительство не сможет смириться с дипломатическим поражением по внутриполитическим причинам, и правильно оценил действия Наполеона III, который искал спасения во внешних действиях и 19 июля 1870 г. поспешно и без дипломатического обеспечения тыла объявил войну.
* * *
ПОДПИСАНИЕ КАПИТУЛЯЦИИ
(из письма Бисмарка жене, 3 сентября 1870 г.)
«Вчера утром (2.9.1870) меня разбудил генерал Райле, чтобы сказать, что Наполеон хочет говорить со мной. Я, не умывшись и не позавтракав, поехал в направлении Седана и встретил императора на проселочной дороге в открытом экипаже в сопровождении трех адъютантов. Я спешился, приветствовал его столь же вежливо, как когда-то в Тюильри, и осведомился о здоровье. Он пожелал видеть [прусского] короля… Во Френуа мы обнаружили маленький замок с парком, и там была подписана капитуляция, согласно которой от 40 до 60 тысяч французов, точнее я еще не знаю, оказались нашими пленниками. Вчерашний и позавчерашний дни стоили Франции 100 тысяч человек и императора. Сегодня утром последний со своими придворными, лошадьми и экипажами отбыл в Вильгельмсхёэ под Касселем…»
В отличие от войны кабинетов, какой была война 1866 г., Франко-прусская война 1870–1871 гг. благодаря вступившим в силу союзным договорам Пруссии с южногерманскими государствами превратилась во франко-германскую, стала войной современной техники и массовых армий, народной войной, заставлявшей предвидеть ужас ничем не сдерживаемой тотальной войны XX в. На первом этапе этой войны техническое и стратегическое превосходство прусского Генерального штаба во главе с фон Мольтке играло решающую роль. Немецкая сторона лучше владела искусством мобилизации, развертывания и передвижения больших масс войск на значительные расстояния. Исход войны был решен не в легендарно тяжелых битвах при Марс-ла-Туре и Гравелоте, а в больших, спланированных с клинической точностью битвах на окружение под Мецем и Седаном. То были шедевры теоретического искусства Генерального штаба, которые почти не оставляли возможности для проявления инициативы отдельного военачальника. Битвы обозревались только с большой дистанции и обходились при этом гораздо меньшей кровью, чем предшествующие, которые тем не менее принудили французские армии к капитуляции.
Ход второго периода войны, когда народные войска вновь возникшей французской республики пытались во время levee en masse[35] по образцу 1793 г. подавить врага, привел германские войска к отдельным неудачам, но не мог поставить под сомнение их победу. Двадцать восьмого января 1871 г. было заключено перемирие, 26 февраля последовал прелиминарный мир. В это время немецкие войска стояли у ворот окруженной французской столицы и с самого близкого расстояния могли наблюдать восстание пролетариата и гибель Парижской коммуны. При этом консервативные немецкие политики и военные, размышлявшие о немецкой социал-демократии, думали о том, что такого никогда не должно произойти в Германии.
Франкфуртский мирный договор 10 мая 1871 г., стоивший побежденной Франции в основном провинций Эльзас и Лотарингия, а также контрибуции в 5 млрд. франков, показал еще раз, что войны кабинетов, ведшиеся с ограниченными и рациональными целями, ушли в прошлое. Бисмарк не мог справиться с общественным мнением, которое, за малыми исключениями (в частности, председателей СДПГ Вильгельма Либкнехта и Августа Бебеля), требовало «возвращения старой немецкой народной почвы», т. е. Эльзаса и Лотарингии, и с прусским Генеральным штабом, который в качестве цели войны объявил захват Вогезского гребня и крепости Мец, прибегая к чисто военным обоснованиям. При этом ему было совершенно ясно, что его собственная чисто военная цель, т. е. долговременное устранение опасности войны на немецкой западной границе, оказалась под угрозой уже с заключением мира.
Параллельно с военными событиями шло политическое объединение воевавших германских государств. Национальное воодушевление населения и общественное мнение оказывали такое давление на кабинеты южногерманских государств, что для них представлялся приемлемым только один путь — путь объединения с Северогерманским союзом в какой бы то ни было форме. Германское единство было осуществлено отнюдь не только «сверху», князьями и правительствами, но также и «снизу», силами буржуазного и либерального национального движения. Поэтому результатом стала не Великая Пруссия, а Германская империя. Отнюдь не князья первыми провозгласили прусского короля Вильгельма I германским императором 18 января 1871 г. в Зеркальном зале Версаля. Это сделала депутация северогерманского рейхстага, которая уже 18 декабря 1870 г. просила прусского короля принять императорскую корону. Депутацию возглавлял Эдуард фон Симеон, который еще в 1849 г. стоял во главе такой же депутации Национального собрания во Франкфурте-на-Майне, столь позорно отвергнутой Фридрихом Вильгельмом IV. Новая германская империя обладала, следовательно, с самого начала двойной легитимацией. С одной стороны, она получила согласие глав отдельных германских государств, а с другой — обоснование благодаря парламентским и плебисцитарным процедурам. Такова была двойственность нового германского национального государства, и симптоматичным оказался контраст между серыми гражданскими костюмами парламентской делегации, что придало акту нечто приземленно-повседневное, и блестящими мундирами князей и генералов, сверкание которых озарило основание империи.
VI. Каким путем могла бы идти Германия? Возможные пути отклонения в немецкой истории
После основания кайзеровской империи в 1871 г, вопрос о том, было ли необходимо германское национальное государство — и если да, то в такой ли форме, — казался излишним. Современники и два последующих поколения считали государство, созданное Бисмарком, исторической необходимостью без какой бы то ни было альтернативы. И разве не существовало множества аргументов в пользу такой точки зрения? Разве немцы, «запоздавшая нация» (Хельмут Плеснер), не наверстывали просто-напросто то, что большинство европейских наций оставили уже далеко позади? Не говорила ли сила нараставшего национального сознания как массовой идеологии в той же мере в пользу бисмарковского решения германского вопроса, как и аргумент экономической модернизации и важности развития экономических структур? Имеет ли вообще смысл ставить вопрос об исторических альтернативах?
Вопрос этот ставить необходимо, ибо только реконструкция прежних возможностей и шансов освобождает нас от фаталистической компиляции истории, позволяя судить о действительном историческом развитии. С точки же зрения политического наблюдателя, накануне создания империи происшедшее тогда было в действительности лишь одной из многих возможностей, и даже может быть, не особенно вероятной.
Существовало много возможностей решения германского вопроса. Одной из них был созданный в 1815 г. Германский союз, и в пользу этого говорят серьезные факты: то, что еще сохранилось от имперской традиции, уважение интересов существующей власти, гармоничность «Союзного акта», который действительно придавал существенный вес обеим ведущим державам, но не позволял им, однако, воспользоваться своим положением в ущерб остальным германским государствам. Не в последнюю очередь следует упомянуть также факт заинтересованности европейских держав в сохранении равновесия сил, которому, казалось, угрожал любой процесс объединения в Центральной Европе. Недолговечность Германского союза объяснялась прежде всего патовой ситуацией в отношениях между Австрией и Пруссией, препятствовавшей как любой модернизации Союза, так и какой бы то ни было централизации власти. Кроме того, она объяснялась идеологической отсталостью этого государственного образования, чья легитимация и система сохранения власти противостояла идейным течениям XIX в. и творческому осмыслению происходящего.
Вторая возможность решения германского вопроса была испытана в 1848–1849 гг.: создание современного, централизованного германского национального государства на основе суверенитета народа и прав человека. И эта модель оказалась нежизнеспособной — она потерпела крах как из-за социальной и идеологической разнородности ее либеральных и национальных движущих сил, так и из-за сопротивления европейских держав, воспринимавших распространение немецкого национализма за границы Германского союза как революцию, направленную против европейской системы равновесия. Но на поддержку со стороны немецких патриотов не мог надеяться ни один национальный парламент, отказавшийся от «освобождения» немецкой ирреденты, Эльзаса и Шлезвиг-Гольштейна.
После неудачи революции 1848 г. не было недостатка и в других моделях. С момента пробуждения национального движения в 1859 г. они горячо обсуждались, и у каждой были свои приверженцы. Существовала великогерманская идея, предполагавшая включение не только Австрии, но также Богемии и Северной Италии. Из всех идей именно эта была самой захватывающей, ибо открывала широчайшие перспективы и эмоционально воздействовала сильнее всего, пробуждая воспоминания о славной истории империи. Тем не менее уже в начале 60-х годов этот проект оказался наиболее безнадежным. Он не отвечал — не столь уж безусловно — гегемонистской претензии Пруссии, а это соответствовало в основном интересам высокопоставленной прусской бюрократии, в то время как король и крайне консервативное дворянство вполне уважали привилегии Габсбургов. Великогерманскому варианту противостояла экономическая целесообразность прогрессировавшей экономической интеграции в рамках Таможенного союза, относительная отсталость Дунайской монархии и ее допотопная меркантилистская экономическая политика. В остальном же Австрия давно уже вступила на путь, ведший за пределы Германии, — в Италии и на Балканах она была вовлечена во внегерманскую торговлю. Если бы многонациональное устройство Австрии привело к растворению государства Габсбургов в германском национальном государстве, это вызвало бы неразрешимые проблемы.
Возможна была и дуалистическая гегемония обеих ведущих держав в Германском союзе, в пользу которой время от времени выступала Пруссия, пытаясь воплотить ее в концепцию реформы Союза. Это привело бы к разделению Германии вдоль линии Майна с прусско-северогерманским союзом на севере и южногерманской федерацией на юге, управлявшейся из Вены. Еще в 1864 г. Бисмарк предлагал такое решение германского вопроса, которое могло привести к ликвидации давнего и затяжного прусско-австрийского конфликта. Это была бы реалистическая альтернатива в немецкой истории, потерпевшая, однако, поражение из-за того, что Австрия испытывала небезосновательное недоверие относительно стремления Пруссии к самоограничению и опасалась все новых требований со стороны берлинского правительства.
И наконец, существовала идея триады, с которой выступали средне-германские государства, боявшиеся как прусской гегемонии, так и прусско-австрийского двойного господства. Разве не напрашивалась идея объединить многочисленные чисто немецкие территории в национальное государство, а Пруссии, как и Австрии, продвинувшимся за пределы старой империи и обладавшим большей частью ненемецкого населения предоставить возможности идти своим собственным путем в качестве европейских держав? Концепция «третьей Германии» на протяжении столетий входила в число серьезных созидательных элементов немецкой истории — объединение малых и средних территорий с целью отпора гегемонистским устремлениям великих держав и сохранения унаследованных вольностей. «Третья Германия» была издавна верна империи в том смысле, что имперское устройство казалось лучше всего приспособленным для гарантирования прав отдельных государств. Существовало, правда, и искушение «прислониться» к какой-либо великой державе, чтобы противостоять давлению других держав. Модель Немецкого союза князей 1785 г. под прусским патронатом была так же допустима, как и союз с негерманской державой — от Хайльброннского союза 1633 г., в котором доминировала Швеция, до Рейнского союза под протекторатом Наполеона. С 1859 г. снова дала о себе знать идея «третьей Германия», предполагавшая реформировать союзное устройство с помощью усиления федеративных прав и укрепить компетенцию Союза в противовес ведущим державам Пруссии и Австрии. Довольно быстро выяснилось, что баварские, саксонские и баденские планы реформы Союза так сильно отличаются друг от друга, что единое выступление средних государств было невозможно, но триада имела достаточно сил, чтобы маневрировать между Австрией и Пруссией и сталкивать друг с другом обе немецкие великие державы в бундестаге. Впрочем, на основе Союзного акта 1815 г., как и прежде, существовало право каждого отдельного государства заключать союзы с негерманскими державами. Не исключался и новый вариант политики Рейнского союза.
Осуществленное в конце концов малогерманское решение германского вопроса под главенством Пруссии было, следовательно лишь одной возможностью из многих. Ее реализации способствовали Таможенный союз, слабость Австрии и проявлявшиеся временами симпатии со стороны либералов. Однако проведение в жизнь такого решения не было предопределено. Бисмарк признавался в своей приверженности национальному единству и при этом добавлял: «Если Германия добьется своей национальной цели еще в девятнадцатом веке, то это представляется мне как нечто великое, а если это случится через десять или даже пять лет, то будет чем-то исключительным, неожиданным даром Бога». Это было сказано в мае 1868 г., почти за три года до объединения империи. Чтобы это произошло, были необходимы по меньшей мере две предпосылки: исключительная международная ситуация, в условиях которой был бы невозможен механизм интервенции системы европейских держав в случае концентрации силы в Центральной Европе, и осознание прусским государственным руководством благоприятности момента.
В результате Крымской войны слаженность «европейского концерта» была нарушена, когда Франция и Англия встали на сторону Турции, подвергшейся нападению России. Они сделали это, руководствуясь не соображениями добродетели, а лишь стремясь помешать прорыву России в Средиземноморье. Крымская война глубоко взволновала общественность обеих сторон, и обе фланговые европейские державы, Англия и Россия, к концу войны существенно отдалились друг от друга. В итоге совместное вмешательство, как и в 1848 г. из-за немецкого вторжения в Данию, стало менее вероятным. Франция же Наполеона III заигрывала и с Веной, и с Берлином, демонстрируя беспристрастность, и надеялась оказаться в случае решающего боя за Германию третьим радующимся. Тем самым возможность маневра Пруссии временно возросла, хотя было неясно, до какой степени. Риск перехода границы с перспективой превращения во второстепенное государство в случае неудачи оставался огромным. При ином руководстве прусской политикой, при вмешательстве Франции в войну 1866 г., а России или Австрии в 1870 г. или даже при ином исходе одной из битв немецкая история совершенно изменила бы свой путь.
VII. Национальное государство в центре Европы (1871–1890)
Германская империя, основанная в 1871 г. вследствие сражений на полях Франции, представляла собой союз немецких князей, опиравшийся на прусское оружие и легитимированный благодаря торжеству националистически настроенной немецкой буржуазии. Эта буржуазия в 1848 г. напрасно пыталась создать национальное государство на основе суверенитета народа и прав человека. Теперь же воплощение своей мечты о государстве всех немцев она связывала с силовой политикой Бисмарка.
Основы империи: союз князей, прусское оружие, плебисцитарное согласие народа — отражались в ее конституции. Последняя предусматривала в качестве первой палаты орган представительства немецких князей, почему, собственно, Германская империя и была не монархией, а олигархией союзных монархов. Правда, этому бундесрату противостояло в качестве второй палаты народное представительство, рейхстаг, избиравшийся в соответствии с революционным имперским избирательным законом, принятым в 1849 г., на основе свободных, равных и тайных выборов всеми немецкими мужчинами начиная с 25 лет. Законы должны были приниматься совместно обеими палатами. Конституция оказалась документом, достаточно хорошо сбалансированным международным (Volksstaat) и авторитарным государством. Правда, в этой конструкции был и третий элемент, представлявший подлинную опору государственной власти, — армию и систему управления, на которые не распространялось право вмешательства со стороны парламента, ибо они оставались княжеской прерогативой. А так как три пятых административного аппарата состояло из прусских чиновников и, главное, прусская армия была основной составной частью имперской армии, которая подчинялась прусскому королю как главнокомандующему союзными войсками, то существовала и решающая сила — власть прусского короля, в руках которого находился союзный президиум, и сам король в этом качестве назывался «германским императором» (статья 11). В действительности же Вильгельма I с Францем II Габсбургом, сложившим с себя корону императора «Священной Римской империи», не связывали какие бы то ни было государственно-правовые отношения, равно как и великопрусское, малогерманское национальное государство не имело ничего общего с тем транснациональным образованием, которое представляла собой былая «Священная Римская империя германской нации». Однако сознание приверженцев немецкой национальной идеи, преимущественно либеральной буржуазии, формировалось на протяжении поколений под воздействием образов и мифов романтического, обращенного в прошлое, утопического представления о воссоздании германского имперского величия, якобы существовавшего в Средние века. Этот миф оказался столь силен, что никакое национальное государство немцев не могло быть легитимировано без ссылки на него — к весьма сильному неудовольствию Вильгельма I, который в императорском титуле усматривал лишь уступку духу времени и полагал, что с провозглашением императора в Версале старая Пруссия будет похоронена.
Итак, возвышение нового государственного образования оказалось обеспеченным в идеологическом отношении, но то же можно сказать и об экономическом аспекте. Не в последнюю очередь благодаря контрибуции, полученной с Франции, Германскую империю с конца войны охватила настоящая лихорадка создания фирм и спекулятивная горячка. Промышленные мощности расширялись без какой бы то ни было гарантии их рентабельности, и в кратчайшие сроки создавались огромные состояния. В связи с «грюндерским бумом» облик Германии изменился. Стародавняя простота прежнего высшего слоя общества, выраженная прусским девизом «Более быть, чем казаться» и продиктованная недостатком средств, исчезла. Она уступила место чрезмерной помпезности и кичливости нуворишей, качествам, проявлявшимся как в архитектуре, так и в мебели, как в гардеробе, так и в стиле жизни в целом. Вильгельм I, упрямо сохранявший свой простой, присущий бидермайеру, образ жизни, со своей резиновой ванной, раз в неделю доставлявшейся из гостиницы в замок[36], которая стала притчей во языцех, пытался воспротивиться духу нового времени. Для этого он стремился стать образцом соответствующего поведения для своих подданных, а в сфере управления и в отношении офицерского корпуса прибегал к приказам. При этом император производил впечатление какого-то ископаемого. Хотя вслед за восторгами грюндерства в связи с коллапсом на Венской бирже в 1873 г. наступил крах, и за одну ночь огромные состояния обратились в ничто. Несколько лет спустя раны зарубцевались, барометр экономики вплоть до Первой мировой войны указывал на непрерывное повышение показателей, а значит и на рост и благосостояние подданных.
Не только общество меняло свой облик. Благодаря успехам экономического развития Германия окончательно превратилась из аграрной страны в промышленную. Там, где полвека назад пейзаж страны определяли деревни и маленькие сонные городки, теперь формировались мощные городские конгломераты и обширные промышленные ареалы. Например, Эссен, еще в 1850 г. представлявший собой уютный провинциальный город с 9 тыс. жителей, через пятьдесят лет насчитывал 295 тыс. горожан, т. е. численность населения возросла в 33 раза. Была завершена прокладка сквозных железнодорожных линий от Ахена до Кенигсберга, от Гамбурга до Мюнхена, единое экономическое пространство Германии стало такой же действительностью, как и политическое единство страны, если не считать того, что между индустриальным западом Германии и колонизированными землями к востоку от Эльбы разверзалась еще более широкая пропасть. Переехав железнодорожный мост через Эльбу около Магдебурга, можно было внезапно снова очутиться в аграрном мире, посреди широких ржаных полей, принадлежавших хозяевам имений. Только иногда то здесь, то там в этот пейзаж вносили разнообразие господские дома и деревни с устремленными в небо кирпичными колокольнями.
Этому контрасту соответствовала и стратификация нового общества. Наиболее привилегированным слоем было землевладельческое дворянство, занимавшее в соответствии с конституционным устройством империи и земель прочные позиции, при том что его экономическая основа, поместное хозяйство, быстро теряла значение. Наряду с прежним образованным бюргерством и бюргерством, занятым в управленческом аппарате, появилась новая буржуазия, либерально или либерально-консервативно настроенные собственники, — экономическая опора империи и подлинная опора германского национального государства. Существовала и мелкая буржуазия — ремесленники, над которыми тяготел постоянный страх перед конкуренцией машин и превращением в обезличенный пролетариат. Поэтому мелкая буржуазия становилась восприимчивой к лозунгам антисоциалистических и шовинистических движений. И наконец, существовала все увеличивавшаяся масса фабричного пролетариата, который обретал свою идентичность в качестве четвертого сословия и объединялся в организации социал-демократии, а в католических областях — в партию Центра и соответствующие профсоюзы. Впечатления, вызванные формированием классового общества, усиливались контрастом, который существовал в городах: в западной части утопали в зелени виллы предпринимателей, а на востоке, куда ветер доносил зловонные испарения промышленных предприятий и больших скоплений людей, — каменное море домов-«казарм».
Это огромное разнообразие пересекавшихся и боровшихся друг с другом социальных и экономических интересов облекалось в партии, массовые организации и союзы по интересам, усиливалось воздействием политических и социальных аутсайдеров. С возникновением нового германского национального государства появилась проблема меньшинств. Существовали большие группы французского, польского и датского населения, и жаркие споры вызывал вопрос о роли немецких евреев. «Внутренняя консолидация рейха», т. е. национальное примирение между различными группами, представляла собой важнейшую внутриполитическую проблему Германской империи. Механизм господства Бисмарка был направлен на решение этой проблемы с помощью сегрегации и объявления «врагами империи» значительных групп населения, не поддававшихся интеграции в соответствии с установками монархического авторитарного государства.
Плакат компании AEG. Берлин.
Луи Шмидт, 1888 г.
Искусственное освещение было одним из символов индустриальной революции. «Превратить ночь в день» означало преодолеть границу ночи. Уже в XVIII в. в некоторых городах в общественных местах появились смоляные и масляные лампы; мерцающий свет зловонного газа освещал города с 1830 г. Однако только изобретение электрической лампы накаливания в 1879 г, американским техником Томасом Алвой Эдисоном принесло окончательный триумф искусственному свету. В 1880–1920 гг. электричество стало неотъемлемой чертой цивилизации современного крупного города.
* * *
РОСТ КРУПНЫХ ГОРОДОВ В XIX в.
Перенаселение и трудности получения работы на селе, прежде всего в Восточной Германии, на протяжении XIX в. повлекли за собой массовую миграцию из деревни. Если около 1800 г. в сельской местности жило еще почти 90% населения, а в крупных городах только 5%, то в 1871 г. уже 50% населения проживало в городах.
1800 г. 1850 г. 1880 г. 1900 г. 1910 г. Берлин 172 419 1222 1889 3730 Гамбург 130 132 290 706 932 Мюнхен 30 110 230 500 595 Лейпциг 40 63 149 456 588 Дрезден 60 97 221 396 547 Кёльн 50 97 145 373 516 Бреслау 60 114 273 423 512 Франкфурт-на-Майне 48 65 137 289 415 Дюссельдорф 10 27 95 214 358 Эльберфельд-Бармен 25 84 190 299 339 Нюрнберг 30 54 100 261 333 Шарлоттенбург 30 189 305 Ганновер 18 29 123 236 302 Эссен 4 9 57 119 295 Хемниц 14 32 95 207 287 Дуйсбург — Дортмунд 67 143 214 Киль 7 15 44 108 211 Мангейм 53 141 193В числе таких «врагов» сначала была партия Центра, парламентское орудие политического католицизма, с середины века оказывавшего упорное сопротивление политическим и культурным централизаторским усилиям прусско-протестантского государства. «Культуркампф»[37], который, как казалось со стороны, не занимался ничем иным, кроме государственного надзора за школьным образованием и замещений должностей священников, был в действительности попыткой прусско-германского авторитарного государства провести национальную медиатизацию[38] собственных политических устремлений немецкого католицизма с его транснациональными аспектами. И это полтысячелетия спустя после того, как французское и английское государства вели борьбу против церкви. С конца же 70-х годов к этому добавилась борьба против социал-демократии. Август Бебель, председатель фракции СДПГ в рейхстаге, смертельно напугал правящих и имущих, заявив 25 мая 1871 г., что Парижская коммуна — «маленькая стычка передовых отрядов» в сравнении с тем, что еще ожидало современников в отношении социальных революций. Закон против социалистов, принятый в 1878 г., был ответом государства на боевой вызов со стороны «партии крамолы», даже если он и выглядел почти безобидным по сравнению с мерами подавления, принимавшимися в XX в. Как бы то ни было, фракция СДПГ в рейхстаге продолжала существовать и усиливалась от выборов к выборам. С другой стороны, имперское правительство, чтобы сделать из неимущих социалистов консервативных рантье, с 1880 г. шаг за шагом вводило государственное социальное страхование, ставшее примером для всей Европы. Социальная политика, образцовая для Европы, хотя и полностью выдержанная в духе остэльбского патернализма, оказалась безуспешной, так как после отмены закона против социалистов в 1890 г. приток в ряды СДПГ значительно усилился.
Новое государство нуждалось, однако, не только во внутреннем укреплении. С точки зрения европейских соседей, его существование отнюдь не подразумевалось само собой, достаточно было бросить беглый взгляд на карту континента. Объединяющаяся Центральная Европа была новым и непривычным элементом в системе европейских государств и воспринималось как потенциальная угроза существующему на континенте равновесию. Лидер британской оппозиции Бенджамин Дизраэли выразил общее беспокойство, царившее в кабинетах в Санкт-Петербурге, Париже и Лондоне, сказав, что создание прусско-германской империи представляет собой революцию, большую, нежели Французская революция прошлого века, а связанные с этим опасности для будущего в высшей степени серьезны. Самая главная забота Бисмарка заключалась в том, чтобы показать внешнему миру, что империя «удовлетворена», что бурлящий немецкий национализм канализирован и обезврежен, европейская система упрочена и ей ничто не угрожает. В действительности великогерманская мечта, окрылявшая поколения немецких либералов, после 1871 г. с ошеломляющей быстротой утратила свое значение. Бисмарк привел в уныние немецкую ирреденту в Восточной Европе, вызывавшую опасение у Австрии и России, а «союз двух императоров», заключенный в 1879 г. между Германской империей и Австро-Венгрией, показал, что оба германских государства могли сблизиться, несмотря на битву при Кёниггреце, не расшатывая тем самым общеевропейскую систему.
В июне 1877 г. Бисмарк сформулировал в своей «Киссингерской памятной записке» курс немецкой внешней политики, Согласно этому курсу, следовало добиваться того, чтобы все европейские державы, кроме Франции, были в состоянии сотрудничать с Германской империей, и не допускать коалиций, направленных против нее. Чтобы избежать этого, по словам Бисмарка, «cauchemar des coalitions», кошмара коалиций, империя взяла на себя роль «честного маклера» в отношениях между остальными державами. Кульминационным моментом такой политики стал Берлинский конгресс 1878 г., на котором под сильным влиянием германского рейхсканцлера была стабилизирована ситуация, сложившаяся в Европе, и опасность новой большой европейской войны за обладание Балканами оказалась устраненной,
Но эта политика, без сомнения, оставалась своего рода трюком, ибо она требовала не только политического самоограничения, которое было трудно осуществить вопреки экспансионистскому духу времени. Экспансионистские настроения воплощались в идеях националистических сил, интересах промышленников, а промышленники стремились выйти далеко за пределы прежнего Германского таможенного союза и призывали к завоеванию сфер влияния и колоний, или также в позиции империалистически настроенных либералов, желавших обрести могущество на морях и статус мировой державы. Прежде всего проведение такой политики требовало от государственного деятеля необычайных способностей, чтобы центральноевропейское государство могло уравновешивать антагонистические интересы европейских держав и, кроме того, препятствовать Франции в создании коалиций против Германии. Для этих целей был создан германо-австрийский двойственный союз, к которому впоследствии присоединились Италия, Румыния, а периодически присоединялась и Сербия, которые обхаживали Россию, что привело в 1881 г. к заключению договора трех императоров и, наконец, в 1887 г. к заключению двустороннего германо-российского договора перестраховки, формально открывавшего Санкт-Петербургу путь к Дарданеллам. Но такая политика оставалась в высшей степени сложной «игрой с пятью шарами», нацеленной, по словам Бисмарка, на то, чтобы «один меч удерживал другой в ножнах». Такая цель все более оказывалась под вопросом во всех европейских государствах в результате воздействия внутриполитических сил и тенденций. Это касалось не только Германии, но и, например, Франции, где идея реваншистской войны против Германской империи и возвращения Эльзаса и Лотарингии была столь популярна, что ни одно правительство не могло с ней не считаться. То же самое касалось и России, панславистское движение которой угрожало турецким и австро-венгерским интересам. Германия оказывалась между Россией и Францией, и прежняя ситуация, в которой находилась Пруссия, — страх перед войной на два фронта — возникла вновь. Опасность объединения фланговых держав Европы за счет государств, расположенных в середине континента, была очевидной.
Отставка Бисмарка, последовавшая 20 марта 1890 г., не имела непосредственного отношения к его внешней политике. Он поссорился с Вильгельмом II, который стал германским императором в 1888 г. в качестве преемника своего отца, «стодневного кайзера» Фридриха III[39], и воспринимал могущественного «железного канцлера» как тягостную обузу. Острые разногласия возникли между императором и канцлером по социальному вопросу. Вильгельм II стремился к разрешению социальных противоречий, и враждебность Бисмарка к социал-демократии досаждала ему. Кроме того, рейхстаг не проявлял готовности продлевать принятый в 1878 г. Исключительный закон против социалистов, действие которого истекало в 1890 г., и канцлер оказался в невыгодном положении. В последние дни его пребывания на посту встал также вопрос о продлении германо-российского договора перестраховки, важнейшей опоры системы союзов Бисмарка. Отсутствие у кайзера интереса к продлению договора ускорило отчуждение между ним и канцлером. С отставкой Бисмарка закончилась эпоха, с которой была связана попытка проводить политику дореволюционного стиля в эру массовых эмоций, становившихся все более действенной силой в политическом отношении. Это была политика возможного пересечения интересов участников, проводившаяся рациональными средствами и с ограниченными целями. Но именно такая политика и создала предпосылку для дальнейшего существования германского национального государства в центре Европы.
VIII. Внутренняя консолидация империи и мечта о мировой державе (1890–1914)
Вильгельм II во многих отношениях воплощал дух новой эпохи. Представляя собой полную противоположность своему деду Вильгельму I, он был человеком, позировавшим перед обществом, блестящим и производившим впечатление. Студентом в Бонне он усвоил, что знание — сила, кадетом в Потсдаме обрел склонность к ярким армейским атрибутам и прославлению Пруссии. Человек с блестящими дарованиями, феноменальной памятью и острым умом, но воспитанный в атмосфере крайнего ханжества и настроенный романтически до абсурда, к тому же испытавший душевную травму из-за искривленной руки и влияния властной матери, — таков был новый император. Оставаясь и на посту главнокомандующего надменным вечным кадетом, мечтателем, влюбленным в технику, основывавшим большие научно-исследовательские институты и предпочитавшим одеваться наподобие Фридриха Великого или «великого курфюрста», этот человек играл многочисленные роли, но не имел определенной идентичности. Вильгельм II являл собой ходячий символ народа, над которым он властвовал.
Его вступление на престол в 1888 г. означало новый этап в истории Германской империи. Символическая смена скромного Вильгельма I, чувствовавшего себя всецело прусским королем и ненавидевшего императорскую горностаевую мантию, его внуком, любившим роскошь, экзальтированным и романтичным, совершенно вне исторического контекста видевшим себя преемником средневековых кайзеров, соответствовала коренному изменению настроений в государстве. Кто-то может объяснить это экономическими переменами. После десятилетий свободной торговли, которая была одним из важнейших догматов веры либеральной буржуазии, с середины 70-х гг. XIX в. представители западногерманской тяжелой промышленности потребовали введения таможенной защиты от конкуренции зарубежных товаров. Ввиду возраставшего во всем мире перепроизводства зерна к этому требованию присоединились и остэльбские землевладельцы. В результате долгой публицистической и парламентской борьбы возобладали протекционистские интересы и стоявшие за ними политические и общественные силы. Буржуазный национал-либерализм, в первое десятилетие существования рейха опора политики Бисмарка, все более оттеснялся в оппозицию; на передний план выходили консервативные партии. Так, несмотря на растущий экономический вес, либеральная буржуазия теряла политическое влияние, в то время как остэльбские аграрии, опиравшиеся все еще на дворянское землевладение, приобретали более важную не только политическую, но и общественную роль вопреки снижению своего экономического значения.
Наряду с этим шло усиление внутриполитического значения армии, и без того свободной от парламентского контроля и подчинявшейся только суверену. Она рассматривала себя как единственного гаранта государства и монархии, причем от посягательств не только внешнего, но и внутреннего врага, т. е. социал-демократов, католиков и либералов. В результате оказалось, что образ прусского военного возобладал в общественном сознании над буржуазным либерализмом. Гражданская добродетель образованной и имущей буржуазии — столь важная для германской истории XIX столетия — теряла свой эталонный характер, а уважение завоевывали манеры говорить и держаться, свойственные прусскому гвардейскому лейтенанту. Конечно, в немецкой провинции, прежде всего в резиденциях и бюргерских городах «третьей Германии», а именно в Южной Германии, сохранились более простые бюргерские нравы первой половины века, но немецкое самосознание определялось возраставшим политическим значением прусской триады: «императорский двор, двор имения и двор казармы». К сказанному добавлялась высокая оценка населением армии (со времен объединительных войн) — она была гордостью нации. Такое уважение к армии переносилось на каждого военнослужащего и повышало его репутацию в социальном окружении. Поэтому всеобщая воинская повинность ощущалась не как тягота, а как награда и социальный шанс. Оружие и военную форму идеализировали, окружая романтическим блеском, который усиливали в литературных произведениях и периодике, за исключением некоторых либеральных и социалистических газет. В гражданской жизни также считалось важным пройти «служение в армии». Чиновники и учителя обретали самосознание на основе статуса офицеров запаса и переносили нормы, усвоенные в армии, на ведомства и школы. Нельзя было избежать влияния «духовного милитаризма» на формирование политических оценок — сначала у подданных, потом и у правящих.
Однако этого было недостаточно, для того чтобы сформировать полноценный общественный образ жизни — за напыщенными манерами отсутствовало содержание. Поверхностные жизненные проявления служили сокрытию этого недостатка, скорее ощущавшегося, нежели осмысливавшегося. В архитектуре появился стиль необарокко. Типичным для него стало возведение Отто Рашдорфом на рубеже XIX–XX вв. массивного, вычурного, совершенно непропорционального сооружения вместо построенного за 60 лет до этого Карлом Ф. Шинкелем небольшого и скромного Берлинского собора. Стоит сказать и о потоке символов и аллегорий, произвольность которых свидетельствовала об отсутствии какой бы то ни было внутренней духовной связи нации. Парадность, за которой просматривались неуверенность и чувство, что все это недолговечно, — таков был знаменатель «вильгельминизма».
Важнейшая причина подобного мировосприятия заключалась в том, что «внутренняя консолидация» империи не происходила. Германия оставалась внутренне раздробленной, старый раскол по территориальному и конфессиональному признакам преодолевался за краткое время в столь же малой степени, сколь и социальные противоречия между промышленностью и сельским хозяйством, дворянством и буржуазией, капиталом и трудом, возникшие в ходе индустриализации. Политические партии, которым следовало обратить внимание на данные противоречия и сглаживать их, сделать это оказались не в состоянии, и не в последнюю очередь потому, что они в соответствии с германским конституционным устройством не были обременены политической ответственностью, а следовательно, и стремлением к компромиссу. Потому-то партии направляли усилия больше на создание философско-идеологических программ, чем на осуществление прагматической политики. Они являлись для своих приверженцев скорее заменой церкви, нежели представительством интересов. Немецкую партийную систему отличало проявление непримиримых антагонизмов, лабиринт траншей и сохранение позиций круговой обороны.
При этом ощущалось воздействие организованных групповых интересов. Прежде всего с начала длительной фазы дефляции после 1873 г., с конца экономического бума и начала эпохи длительного отмирания либерализма возникли объединения, выражавшие интересы промышленников и аграриев. Это были Немецкий сельскохозяйственный совет, представлявший малые и средние прусские предприятия, а затем католическое Центральное объединение крестьянских союзов. В политическом отношении они находились в тени основанного в 1893 г. Союза сельских хозяев, который выражал в основном интересы остэльбских аграриев, возглавлявшихся крупными землевладельцами. Представители этого союза работали в министерствах не менее успешно, чем в парламентах, но в первую очередь действовали в окружении императорского двора и прусского государственного министерства.
На уровне промышленности вышеперечисленным организациям соответствовали Центральный союз немецких промышленников и наряду с ним основанный в 1895 г. Союз промышленников. Первая из названных организаций представляла интересы экспортеров, вторая — тяжелой промышленности.
Так возникали все экономические и общественные группировки, вплоть до рабочих профсоюзных организаций — социал-демократических «свободных профсоюзов» и католических «христианских профсоюзов». Все вместе они представляли собой сложные, в высшей степени заорганизованные образования, объединенные в отраслевые и центральные союзы, рядом с которыми вырисовывалась густая сеть экономических объединений со множеством картелей в сфере производства, сбыта и цен. В отношениях между ними, как и между партиями, преобладало взаимонепонимание, т. е. глубоко укоренившаяся неспособность к социальному и политическому компромиссу. Там, где был бы необходим common sense[40] или обращение к ценностям более высокого порядка, в общественной системе господствовала заряженная идеологическими стереотипами борьба всех против всех. Система несла на себе отпечаток имперско-немецкого национализма. Он проникал глубоко в ряды рабочего движения, несмотря на все интернационалистские заверения социал-демократии.
Однако этот национализм становился бледным и пошлым. С основанием империи исчезла утопия, придававшая двум поколениям немецких патриотов как смысл и масштаб политического действия, так и идентичность, а место утопии заняла экономика. Чего не было, так это буржуазной культуры common sense, общепринятых обычаев и само собой разумеющихся процедур, регулировавших политическую культуру западных соседей Германии. Кроме того, отсутствовала объединяющая идея, которая указывала на будущее, выходя за границы современности.
Существовала, таким образом, лишь одна инстанция, которая была в состоянии уменьшить остроту достаточно драматичной общественной ситуации, фокусируя на себе все усилия по разрешению конфликтов, включая проблемы общественного сознания и идентичности. Речь идет о государстве, прусско-германском авторитарном, управляющем, воспитывающем и распределяющем государстве, которое заявляло о своей ответственности за всех и вся, от социального попечения до порядка на кладбищах. Его институты, его управленческий аппарат и прежде всего его армия служили идеологии, возвышавшейся над противоречиями интересов, имевшимися в обществе, и представлявшей идею всеобщего благополучия. Это была в корне антидемократическая, авторитарная идея. И роль государства оказывалась масштабнее, чем роль существовавшего народного представительства, рейхстага, который считался местом болтовни и распрей и потому обладал малым авторитетом. По словам одного консервативного политика, император должен был иметь возможность в любой момент распустить парламент с помощью лейтенанта и десятка солдат. Насколько глубоко укоренился образ «государства-отца», стоящего над безответственным народом и его распрями, не в последнюю очередь демонстрировала немецкая социал-демократия, которая претендовала на осуществление крупного контрпроекта по отношению к этому государственному образованию. На деле же она как по духу, так и по структуре предельно копировала государственную организацию.
Нет худшего врага для нас Невежества народных масс.Это не девиз прусской канцелярии, а слова из социал-демократической «Рабочей Марсельезы».
Глубокие трещины, прошедшие по вильгельмовской Германии, просматривались и в тех областях, которые наряду с блеском и славой оружия составляли славу империи — в науке и искусстве. В сфере культуры эпоху характеризовали резкие противоречия: академизм и помпезность — с одной стороны, авангард — с другой. Никогда антагонизмы не проявлялись так отчетливо. Например, Новая ратуша в Ганновере, выполненная в стиле необарокко, появилась тогда же, когда и конструктивистский турбинный зал работы Петера Беренса в Берлине или фабрика «Фагус» в Альфельде, спроектированные Вальтером Гропиусом, — легкое и светлое функциональное сооружение из стекла и стали. В конце XIX–XX вв. получил развитие стиль модерн, скорее выражение кризиса, нежели средство его преодоления, явление, не имевшее перспектив творческого развития.
В живописи доминировали, с одной стороны, академические мэтры изобразительного искусства, которым покровительствовал двор, например Антон фон Вернер или Ханс Макарт. Пышность и фотографическая точность работ этих живописцев почиталась высшей добродетелью. С другой стороны, заявили о себе художники-авангардисты, приверженцы мюнхенского, венского и берлинского «Сецессионов», групп «Голубой всадник» и «Мост». Такие художники, как Франц Марк, Густав Климт и Макс Либерман, представляли модерн. Две тенденции, символами которых служили Вагнер и Брамс, противостояли друг другу и в музыке. Иоганнес Брамс, приверженный традиции протестантской самоуглубленности, идущей от Шюца и Баха, пытался соединить выразительные способности романтизма со строгостью формы, свойственной старой полифонии. Современники считали его музыку «академичной». На другом полюсе возвышалась фигура Рихарда Вагнера, который стремился осуществить прорыв к целостному художественному произведению и уже начал отказываться от традиционных музыкальных форм. Вагнер был одним из великих революционеров в истории музыки (кстати, в 1848 г. он стоял на баррикадах в Дрездене), но постоянно растущая часть его массовой аудитории ложно интерпретировала творчество композитора в реакционном духе, чему способствовал историзирующии и героизирующий материал для сюжетов его опер. Вслед за обоими этими гигантами в истории музыки на одной стороне появились поздние романтики, Ферручо Бузони и Антон Брукнер, на другой — новаторы Густав Малер и Рихард Штраус. Обеим линиям развития было суждено снова соединиться в смелой музыке Арнольда Шёнберга. Правда, Вагнер пользовался благосклонностью сильных мира сего — баварского короля Людвига II, а потом и Вильгельма II, охотно видевшего в себе нового Лоэнгрина. Напротив, Рихарда Штрауса он не осилил. «Для меня это не музыка!» — заявили их величество и в 1910 г. возмущенно покинули еще до окончания спектакля берлинскую премьеру оперы «Кавалер розы».
Столкновение традиции и современности происходило повсеместно. Такие драматурги, как Герхарт Гауптман или Георг Кайзер, вторглись на сцену театра классического репертуара. В области литературы противостояли друг другу, словно разделенные столетиями, такие фигуры, как крайне консервативный Теодор Фонтане и экспрессионистски настроенный, еще студентом погибший в результате несчастного случая, поэт Георг Хайм. Подъем и упадок уравновешивали друг друга, но эпохе было свойственно глубоко укоренившееся ощущение того, что мир и общество полностью изменятся в течение самого короткого времени. Ощущение это болезненно подрывало буржуазное благополучие вильгельмовского государства. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, а вслед за ними крупные и менее выдающиеся мыслители-социалисты пророчили социальную революцию, «большой крах» (Вильгельм Либкнехт) еще при жизни поколения. Фридрих Ницше постулировал «переоценку всех ценностей» и предсказал появление «сверхчеловека», действующего вне зависимости от морали, ведомого «волей к власти», в то время как Артур Шопенгауэр проповедовал буржуазии своего столетия, верившей в прогресс, бессмысленность мировой истории. Позитивистская вера в разум подвергалась атаке и с другой стороны; в героических, антибуржуазных видениях будущего, созданных Рихардом Вагнером и в не меньшей степени в результате открытия Зигмундом Фрейдом подсознательного и инстинктивного как единственного человеческого свойства.
Среди буржуазной молодежи, воспринимавшей belle epoque[41] как время мещанской пресыщенности, бездуховной мании величия, новые пророки нашли массу последователей, В отличие от поколения родителей, пережившего основание империи и теперь взиравшего на политические и материальные успехи Германии, преисполнясь гордости и повторяя вслед за императором «Достигнуто!», большая часть молодежи ни в чем не была убеждена так, как в пустоте и лживости вильгельмовского государственного строя. То, что происходило в умах и душах этого поколения, абстрактно можно описать как ответ на насильственные общественные и технические изменения индустриальной эпохи, Шок, вызванный ими, наступил с опозданием, и реакцией стала паника, отчуждение, «утрата баланса равновесия» (Verlust der Mitte) (Ханс Зедльмайр). Поиск серьезных альтернатив вел к радикальным выводам. Намечался резкий отход от ценностей родителей — либеральность, умеренность, формы общественного бытия, вера в разум и добро, буржуазную цивилизацию подвергались полному отрицанию, Родители были консерваторами, национал-либералами или свободомыслящими, сыновья и дочери становились националистами, социалистами или нигилистами, а то и примыкали к различным молодежным движениям, например к «Перелетным птицам»[42] (образовано в гимназии берлинского района Штеглиц). Совершая бегство от мрачной действительности, молодежь демонстрировала презрение к политике вообще вместе с относящейся к ней культурой. Эксперименты с антибуржуазной культурой расцвели пышным цветом: возникали колонии и коммуны, причем друг друга уравновешивали антимеркантильное воодушевление искусством, требование общности, характерное для молодежного движения, и аграрно-романтические черты. От Монте-Верита под Асконой до Ворпсведе[43] и Эмсланда расцветали сообщества, в которых предполагалось возобновить прежнее единение между человеком и природой. Анархистские, проникнутые идеями реформ повседневной жизни, и антропософические оазисы соперничали друг с другом за создание нового человека, и все это имело полнокровный, живой характер. Цивилизационное пресыщение, ожидание чего-то совершенно нового — такая почва, формировавшая духовную позицию, должна была облегчить буржуазной молодежи в августе 1914 г. выступление в поход, движение в ожидаемый апокалипсис.
Плакат Международной художественной выставки Союза изобразительных искусств Мюнхена («Мюнхенский сецессион»).
Франц фон Штук, 1898 г.
Академической живописи Антона фон Вернера или Вильгельма Блайбтроя» которую ценило и поддерживало государство, противостояли новые художественные течения, получавшие стимулы для развития г прежде всего из Франции, например символизм, импрессионизм, модерн. Основанные в 1892 г. в Мюнхене и в 1898 г. в Берлине «Сецессионы» были союзами художников, в которые входили такие представители модерна, как Ловис Коринт, Франц фон Штук и Макс Либерман. Выполненные ими выставочные плакаты в своей стилизованной простоте представляли собой осознанный контраст с «вильгельминизмом».
* * *
Добыча угля и производство чугуна в Англии, Германии и США в 1800–1913 гг.
Развитие немецкой тяжелой промышленности создало основу для экономического подъема Германии после 1871 г. По добыче угля Германии никогда не удавалось догнать своего экономического соперника Англию, но по темпам роста она сумела сравняться с США. Немецкая черная металлургия была обязана своим ростом как запасам угля, так и железной руде Лотарингии. В 1910 г. Германия, выплавив 14,8 млн. т стали, обогнала своих европейских конкурентов; производство стали в Англии составило в том же году 10,2 млн. т.
В основном это была та же молодежь, которая заполняла аудитории университетов и высших технических школ, которая могла претендовать на никогда прежде не наблюдавшееся мировое признание. А численность студентов росла непрерывно. Рост прекратился к 1860 г., но затем вновь взметнулся с 11 тыс. около 1860 г. до 60 тыс. накануне Первой мировой войны. В числе студентов было около 4 тыс. девушек, которых, правда, стали принимать в высшие учебные заведения на регулярной основе только с 1908 г. Образование, прежде всего высшее, было, как и прежде, входным билетом, обеспечивавшим доступ к привилегированным, более доходным и престижным в социальном отношении профессиям. Государство содействовало наблюдавшейся тенденции, ибо университеты, прежде всего расширявшиеся юридические факультеты, поставляли способных чиновников, а высшие технические школы — кадры, обеспечивавшие экономический подъем, который стал основой все возраставшей мощи и международного значения Германской империи.
«Знание — сила» — данное положение имело важное значение как для государства, так и для индивида. Оно было хорошо воспринято рабочими массами, для которых общественное освобождение вырастало из собственных образовательных усилий. Рабочие просветительные союзы представляли собой народные высшие школы в истинном смысле слова. Однако государство организовывало не только школы и высшие школы, содействовало им, но также инициировало создание самых современных, крупных научно-исследовательских институтов, которые занимались проблемами естественных наук, чтобы превзойти английскую, французскую и американскую науку. Основанное в 1911 г. в Берлине Общество кайзера Вильгельма, финансировавшееся отчасти государством, отчасти крупными промышленниками, проводило фундаментальные и прикладные исследования в не виданных до сих пор масштабах. До 1918 г. из его институтов вышли пять лауреатов Нобелевской премии: Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Эмиль Фишер, Фриц Хабер и Макс фон Лауэ. Вильгельм II не упустил случая лично открыть первый институт. Романтик в кирасе и каске с орлом, мечтавший о средневековом великолепии императора и оказывавший покровительство big science[44], воплощал всю противоречивость эпохи. Маленькая Центральная Европа казалась слишком тесной для огромной экономической и политической динамики. Ограничение в развитии, связанном только собственным внутренним пространством, воспринималось немецкой буржуазией как унижение, а по сравнению с европейскими соседями и как дискриминация. До сих пор национальной политикой считалось осуществление объединения Германии, а вслед за тем внутренняя консолидация империи. Но с 90-х годов германская политика выходит за рамки империи, становясь мировой политикой (Weltpolitik). «Мы должны понять, что объединение Германии было юношеской сумасбродной выходкой, совершенной нацией в память о своем прошлом и от которой из-за ее дороговизны следовало бы лучше воздержаться, если ей суждено стать завершением, а не исходным пунктом проведения немецкой политики создания мировой державы» — эти слова произнес Макс Вебер в 1895 г. по случаю вступления в должность профессора во Фрейбурге. Таким образом, стремление к созданию мировой державы представлялось завершением и осуществлением национального единства. То был решительный разрыв с политикой Бисмарка, означавшей строгое самоограничение Центральной Европой. За рывком к империалистическим авантюрам стоял отнюдь не старый прусский высший слой, казавшийся иностранным наблюдателям столь нецивилизованным и пугающим, а на самом деле поглощенный защитой своих все более подрывавшихся социальных и внутриполитических позиций и не имеющий ни малейших внешнеполитических амбиций. Напротив, за подобного рода рывком стояла либеральная и имущая буржуазия, наследница немецкого национального движения, которая теперь, по мере роста своего экономического могущества, стремилась к экспансии и обретению значимости в мире. При этом сложно разграничить, что представляло собой экономико-политический расчет, а что — компенсацию неудовлетворенного национального чувства, связанного с империалистическим расширением пределов государств-соседей: Франции, Англии и России.
Бисмарк довольно сдержанно, даже с неохотой реагировал на требование о приобретении немецких колоний и расширении сфер влияния. Это было время колониальных авантюристов вроде Карла Петерса и Густава Нахтигаля, которые водрузили германский флаг над Восточной Африкой и Камеруном, а затем с помощью прессы, давления массовых колониальных организаций и экономических союзов в какой-то степени вынудили империю установить протекторат над этими странами. Такая позиция изменилась при преемниках Бисмарка. Под давлением массовых организаций нового типа, вроде основанного в 1887 г. Германского колониального общества, но прежде всего Пангерманского союза, образованного в 1891 г., немецкие колонии в Африке и Океании превратились в официальную составную часть германской внешней политики. Юго-западная Африка (ныне Намибия), Восточная Африка (ныне Танзания), Того и Камерун стали немецкими протекторатами, так же как и китайский Циндао и часть Новой Гвинеи. О разделе мира еще можно было по-джентльменски договариваться с европейскими соседями. Об этом свидетельствовал принятый на Международной конференции в Берлине в 1885 г. Акт о Конго, германо-британский договор о Занзибаре 1891 г. и, наконец, Альхесирасский договор 1906 г., с помощью которого был урегулирован марокканский вопрос.
Опаснее были, однако, два других элемента германской мировой политики. Это, во-первых, продление немецкой оси влияния через Вену и Юго-восточную Европу во владения Османской империи вплоть до Месопотамии. Кульминацией действий на данном направлении стало строительство Багдадской железной дороги в 1899 г., а также поездка Вильгельма II на Восток, помпезная и провоцировавшая как Россию, так и Англию. Тем самым были затронуты как русские амбиции на Балканах и Босфоре, так и английская позиция на Среднем Востоке и в Индии. Каждый конфликт в этих невралгических узлах мировой политики должен был повлиять на мир в Центральной Европе. Во-вторых, речь шла о политике наращивания потенциала Германии. С того момента, как в 1897 г. немецкую внешнюю политику возглавил Бернхард фон Бюлов и почти одновременно во главе морского ведомства встал адмирал Альфред фон Тирпиц, началось ускоренное строительство немецкого военного флота, который мог бы дать отпор самой мощной тогда морской державе — Великобритании. При этом имела место не четко просчитанная силовая политика, а волна национального воодушевления, подлинно массового движения и стремления к самоутверждению, — волна, связанная с попыткой компенсировать глубоко укоренившийся комплекс неполноценности по отношению к «английскому кузену», во многом превосходившему Германию. На гребне этой волны был прежде всего Германский флотский союз, самое сильное немецкое пропагандистское объединение, насчитывавшее более миллиона членов. В общественной дискуссии того времени совершенно не играл роли тот факт, что проведение такой политики толкало Англию на сторону европейских фланговых держав — России и Франции. Как когда-то, перед объединением Германии, так и теперь господствовало всеобщее настроение, подогретое эмоциями и темными чувствами масс, направленное против аргументов, оправдывавших европейское равновесие. Правда, на сей раз такое движение имело представителей и в политическом руководстве, прежде всего в лице императора, не упускавшего возможности провоцировать и беспокоить британских политиков своими воинственными выступлениями и плохо продуманными речами.
* * *
ГЕРМАНСКАЯ ВОСТОЧНАЯ АФРИКА
«Вся колониальная история — это, конечно, надувательство, но она нужна нам для выборов», — утверждал Бисмарк в 1884 г. Он нехотя проявил готовность уступить давлению общественности и передать под защиту Германской империи африканские территории, приобретенные купцами и авантюристами. Бисмарк считал, что сумеет сделать колониальную пропаганду полезной для государства, преемники же Бисмарка все более склонялись к тому, чтобы поставить государство на службу колониалистским и националистическим массовым организациям. Немецкая общественность воспринимала заморские владения в качестве залога немецкого «мирового значения», окутанного романтически-авантюрным флёром. Гора Килиманджаро в Германской Восточной Африке, высотой 5895 м, считалась «высочайшей немецкой горой».
Итак стрелки были переведены в сторону именно такого формирования европейских союзов, которое виделось Бисмарку в его кошмарных снах. В 1904 г. Великобритания и Франция урегулировали свои колониальные разногласия и заключили далеко идущий союз, entente cordiale[45]. После того как в 1905 г. закончилась неудачей попытка Вильгельма II возобновить прежний германо-российский союз, через два года последовало заключение англо-российского договора, покончившего с двусторонним соперничеством на Среднем Востоке. Германия увидела себя окруженной и политически изолированной, если не считать австрийского союзника, который, однако, представлял собой скорее обузу из-за своей длительной вовлеченности в балканские проблемы.
Ощущение того, что Германия попала в окружение, породило упрямое настроение, формулируемое как «именно теперь». Начался подъем массового невротического национализма, развернувшего свою деятельность в усиленной агитации Пангерманского союза. С этой ситуацией связывалось военное планирование. Начальник Генерального штаба граф Альфред фон Шлифен с 1905 г. разработал план на случай войны — считая ее неизбежной, — план развертывания войск на два фронта. Так как военный потенциал Германии был недостаточен для ведения войны одновременно против России и Франции, основную массу немецких войск следовало сосредоточить на Западе в расчете на медлительность России в мобилизации армии. Немецкой армии предстояло в течение нескольких недель в ходе молниеносной войны под кодовым названием «Канны»[46] окружить и уничтожить французскую армию широким охватывающим маневром вокруг оси у Меца, пройдя через нейтральную Бельгию и Северную Францию. Затем предполагалось повернуть войска против русской армии. План, не согласованный ни с командованием флота, ни с внешнеполитическим руководством, содержал ряд моментов, возымевших роковые последствия. Это, во-первых, автоматизм, с самого начала делавший при осложнении отношений с Россией неизбежной войну с Францией, и, во-вторых, запланированное нарушение нейтралитета Бельгии, гарантированного Великобританией, что просто вынуждало Англию вступить в войну против Германии.
И внешнеполитический и внутриполитический горизонт заволакивало тучами. Социальный мир утрачивал стабильность. Социал-демократия усиливалась от выборов к выборам, нарастание забастовок свидетельствовало о растущем самосознании профсоюзов. Объектом открытой и безнаказанной критики как в печати, так и с парламентских трибун становились даже основы существовавшего порядка. Феодальные власти вызывали возмущение, равно как и состав офицерского корпуса. Предпочтение, оказывавшееся дворянству, официальное двуличие в дуэльном кодексе — ситуация, когда господа могли доводить свой поединок до смертельного исхода, не боясь судебного преследования его участников за убийство, были скандальными. И все это стало лишь первым ощущением взрыва общественного гнева, когда в ноябре 1913 г. произошел известный Цабернский инцидент, в ходе которого военная каста показала гражданской Германии, «кто в доме хозяин». Прусские военные, исполненные заносчивого чувства превосходства, позволили себе злоупотребления по отношению к населению эльзасского города Цаберн (Саверн) и не только не были наказаны военным и политическим руководством, но, напротив, взяты под защиту и оправданы.
Атмосфера внутреннего напряжения в обществе все более сгущалась, и сообщение об убийстве австро-венгерского престолонаследника — эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараеве 28 июня 1914 г. подействовало буквально как очищающая гроза. В условиях быстро обострявшегося международного кризиса и военной опасности немецкий народ снова обрел единство. «Дух 1914 года», воодушевление, с которыми немцы, включая и социал-демократов, приветствовали начало войны, были прежде всего объяснимой с точки зрения социальной психологии реакцией как на невыносимое внешнеполитическое давление, так и на утрату внутреннего единства в предшествующие годы. Губительными и трагическими аспектами немецкой истории является то, что «внутренняя консолидация» бисмарковскои империи в мирное время все отдалялась и смогла стать реальностью только в пору войны, да и то на короткое время. С поражением в войне проигранным оказывалось внутреннее единство государства, и поэтому подлинной истиной Веймарской республики должна была стать гражданская война.
IX. Великая война и послевоенное время (1914–1923)
«Я не знаю больше никаких партий, я знаю только немцев», — заявил Вильгельм II по поводу открытия рейхстага 4 августа 1914 г. Слова императора в известной степени объясняют всеобщее воодушевление войной, охватившее — и сегодня это трудно понять — большинство немцев в момент начала Первой мировой войны. Пропаганда превозносила такие настроения как «дух 1914 года»; впрочем, подобные всплески массового воодушевления происходили в Лондоне, Париже или Санкт-Петербурге. В немецкой политической традиции партии были символами мелких частных интересов, внутриполитических распрей и угрозы национальной сплоченности. Теперь, с началом войны, они объединились вокруг имперских властей и единодушно, включая подавляющее большинство социал-демократии, одобрили кредиты, необходимые для ведения войны, которая, как полагал весь мир, закончится за несколько недель. Она и должна была завершиться быстро. На этом строилось стратегическое планирование немецкого Генерального штаба — план Шлифена мог сработать только в случае принятия быстрых военных решений. Ведь даже экономистам-дилетантам в имперском руководстве было ясно, что материальных ресурсов Германии не хватит для ведения длительной войны на два фронта. Но программа Шлифена не сработала. Наступление немецких армий в Бельгии и во Франции потерпело неудачу на Марне, почти в виду Парижа, в основном из-за того, что правое крыло Западного фронта было слишком слабым. Вопреки предупреждениям Шлифена его преемник граф Хельмут Иоганн фон Мольтке (Младший) усилил левое крыло, размещенное в Эльзасе, чтобы воспрепятствовать французскому прорыву в Южную Германию. Уже в октябре 1914 г. война на Западе превратилась в позиционную. В ходе военных действий, несмотря на многочисленные кровопролитные наступления обеих сторон, линия фронта не претерпела существенных изменений до 1918 г. Напротив, на Востоке русскую армию, первоначально добившуюся существенных успехов в Восточной и Западной Пруссии, разгромил возвращенный из отставки генерал Пауль фон Гинденбург, взявший на себя командование. Дальнейшее развитие военных действий на Востоке определялось широкомасштабными операциями, в ходе которых переход к позиционной войне происходил временно и только на отдельных участках фронта. Германским войскам, воспользовавшимся революцией в России в 1917 г. и полной деморализацией русской армии, удалось до окончания войны в 1918 г. занять Прибалтику, Украину, а также Южную Россию вплоть до Кавказа.
Война затягивалась, конца ее не предвиделось, и первоначальное воодушевление быстро угасало. Конечно, в кругах образованной буржуазии настроение по-прежнему сопровождалось большими ожиданиями. В бесчисленных проповедях протестантских пасторов и лекциях национал-либеральных профессоров фигурировали враг как воплощение сатанинского начала, «всемирный пожар» как Страшный суд, а немецкий народ как исполнитель Божьего повеления. Националистические массовые организации находились на вершине влияния, Пангерманский союз, Отечественная партия и подобные им громогласно выступавшие группы соперничали друг с другом, выдвигая требования относительно целей войны, граничивших с манией величия. В этом они получали поддержку от Имперского союза германской промышленности, а также высшего военного руководства, мечтавших раздвинуть немецкие границы от Кале до Санкт-Петербурга. Впечатление о всеобщем воодушевлении войной довершалось позицией немецких писателей и мыслителей, в том числе будущих демократов Томаса Манна или Альфреда Керра, превозносивших войну как огонь, очищающий нацию.
Но реальная действительность в Германии была далека от высоких полетов мысли. Продовольственных запасов не хватало, несмотря на все более жесткое рационирование и попытки распределять хотя бы основные продукты питания. По свидетельству современника, «война была проиграна уже к началу третьего военного года, если говорить о продовольственной ситуации». В апреле 1917 г. берлинские и лейпцигские рабочие, занятые в военном производстве, впервые прекратили работу, протестуя против голода, и наряду с социальными требованиями прозвучал призыв к скорейшему заключению мира. Напряженность росла также в армии и во флоте.
«Гражданский мир», а именно обязательство партий и союзов по осуществлению социальной и политической сдержанности во время войны, начал расшатываться. В июле 1917 г. рейхстаг снова должен был одобрить военные кредиты. До сих пор не находилось ни одной партии, включая большинство СДПГ, которая не видела в этом свою обязанность перед отечеством, будучи убежденной, что немецкая сторона ведет чисто оборонительную войну. Острая дискуссия вокруг аннексионистских немецких целей войны разрушала, однако, чем дальше, тем сильнее эту иллюзию. Продовольственная ситуация представлялась столь же неблагоприятной, как и положение на фронтах, и к тому же Февральская революция в России породила формулу мира, которая, казалось, предлагала окончание войны на приемлемых условиях: «Мир без аннексий и контрибуций». Так лидеры трех фракций рейхстага: СДПГ, партии Центра и леволиберальной Прогрессивной народной партии — объединились в «межфракционный комитет» с целью, которую со времени конституционного конфликта 1862 г. в Пруссии не отваживался поставить перед собой ни один из германских парламентов: оказать совместное давление на имперское правительство, угрожая отказом в одобрении военных кредитов. К ним присоединилась Национал-либеральная партия, и 17 июля 1917 г. новое большинство рейхстага высказалось за «мир на основе договоренности… без территориальных приобретений, достигнутых силой». Тем самым рейхстаг вступил в игру как самостоятельная политическая сила, причем под руководством тех партий, которым было суждено создать опору Веймарской республики. Час рождения первой немецкой демократии пробил в разгар мировой войны, а не после нее.
Но пока о демократии не могло быть и речи. Руководство государства и верховное военное командование не обратили внимания на попытку восстания депутатов, которая до поры до времени не возымела последствий. Положение на фронтах обострялось. Хотя в ходе революции в Петрограде русский фронт все более разваливался, 2 апреля 1917 г. в войну с Германией вступили США, чьи свежие войска быстро прибывали на Западный фронт. В то же время немецкие соединения несли большие потери как в кадровом составе, так и в материальном отношении, не имея перспективы сколько-нибудь серьезных изменений. Фронтовым частям приходилось даже уменьшать наполовину свои продовольственные резервы, чтобы помочь улучшить ситуацию с продуктами в тылу. Начальник штаба группы армий во Фландрии отмечал: «Целые дивизии превращаются в шлак, и требуются новые, которые не появляются. Пусть Богу будет угодно, чтобы это была последняя бойня Великой войны; сегодня утром пришлось снова пасть тысячам…»
В подобной ситуации надежды людей обращались не к парламентариям в рейхстаге, а к двум полководцам — Паулю фон Гинденбургу и Эриху Людендорфу. Ни один генерал и уж тем более ни один политик не был и близко так популярен, как эти стратегические близнецы, которые после победы над русскими армиями в Восточной Пруссии в 1914 г. казались подобными св. Георгию после умерщвления дракона. Именем Гинденбурга назывались улицы и площади, его портрет можно было увидеть в любой мелочной лавочке патриотически настроенного хозяина, он был невероятно популярен в народе и куда более любим, нежели кайзер. Назначение народных героев на высшие посты в верховном командовании 29 августа 1916 г. было своего рода плебисцитом, давшим военной верхушке такую степень легитимности, которой не располагал и избранный в 1912 г. рейхстаг. Но облик военного руководства определял не Гинденбург, а его помощник, первый генерал-квартирмейстер Эрих Людендорф. Он был первым генералом в прусско-немецкой военной истории, который, будучи выходцем из буржуазии, достиг столь высокого поста, и его взгляд устремлялся за пределы чисто военно-технических проблем. Политика, писал Людендорф позже, ставя взгляды Клаузевица[47] с ног на голову, всегда война, а мир — иллюзия штатских слабаков. Исходя из этого утверждения, Людендорф полагал, что военное и политическое руководство должно быть единым. Только военный руководитель был, по его мнению, в состоянии так организовать нацию, чтобы она могла вести войну тотально, и для этого нужна была всеобщая мобилизация.
То, что генерал-буржуа Людендорф начал воплощать в жизнь с конца 1916 г., издавна являлось темной стороной буржуазного духа. Вновь была реанимирована идея о том, что война должна быть «очищена» от традиционных сдерживающих начал («Ты — ничто, твой народ — все») идея, которая создавала предпосылку тоталитарной диктатуры. Позже как Ленин, так и Гитлер не без оснований считали организацию военной экономики Германии, осуществленную Людендорфом в последние военные годы, образцовой.
Но ничто не помогало. Социальное и внутриполитическое положение продолжало обостряться. Большевистская Октябрьская революция соединила в Германии движение протеста, вызванное бедственной продовольственной ситуацией, с политическими лозунгами и тем самым заложила основу для формирования революционных настроений среди рабочих военных предприятий, солдат-тыловиков и моряков во флоте. Немецкие фронтовые части были полностью обескровлены, большое германское наступление в марте 1918 г. оказалось кровавым просчетом, а контрнаступление союзников в августе позволило им вклиниться глубоко в расположение немецких войск.
Союзники Германии — Австро-Венгрия и Турция зондировали возможность заключения мира, а 28 октября капитулировала Болгария, выступавшая на стороне Германии. На другой день Людендорф потерял сознание из-за нервного истощения. Опасаясь нового — и уже окончательного — прорыва союзных войск на Западе, он потребовал немедленного перемирия.
Требование Людендорфа само по себе было разумным, равно как и его требование перед передачей германской просьбы о перемирии реорганизовать имперское правительство при решающем участии партий, входивших в «межфракционный комитет». Только правительство, опиравшееся на парламентское большинство, было в состоянии заручиться согласием союзников на заключение в будущем приемлемого мира. Тем не менее развитие событий в тот момент и с такими последствиями было поистине роковым. Во-первых, потому, что германская демократия была рождена не самими партиями и парламентом, а явилась следствием действий пребывавшего в беспомощности Генерального штаба. Во-вторых, потому, что веймарская демократия возникла в худший из возможных моментов, в миг поражения, с которым должны были навсегда остаться связанными ее становление и ее mison d'etre[48]. И наконец, ход развития был роковым потому, что переговоры о перемирии предстояло вести теперь гражданским политикам, а не тем, кто нес прямую ответственность за положение на фронтах, т. е. представителям Верховного командования. Соединив требование о перемирии с требованием о парламентаризации, Людендорф взвалил ответственность на удобного козла отпущения. Уже создавалась легенда об ударе кинжалом в спину, позже отравлявшая общественно-политическую атмосферу Веймарской республики.
Для превращения империи из полуабсолютистского авторитарного государства в парламентскую демократию следовало изменить лишь несколько положений имперской конституции, созданной Бисмарком. Отныне рейхсканцлер нуждался в доверии рейхстага и нес ответственность за политику. Назначение офицеров и чиновников требовало его визы, и рейхстаг должен был впредь одобрять объявление войны и заключение мира. Этого было достаточно для революционного преобразования конституционной системы в Германии.
Немецкий народ не почувствовал значимости изменений. Людей с улицы волновал теперь не текст конституции, а путь к миру. Динамика внутриполитических событий принимала стихийный характер. 29 октября 1918 г. матросы морского флота в Киле и Вильгельмсхафене вышли из повиновения и создали революционные комитеты. Восстание распространялось волнообразно — сначала на другие гарнизоны побережья, потом по всей стране. По-настоящему удивительной была не революция, представлявшая собой, собственно, не более чем настроение совершенно обессиленного населения «без меня», а полная пассивность властвовавших до сих пор сил. Династии, правившие веками, отказывались от своих прав без какого бы то ни было противодействия, и не нашлось ни одного лейтенанта гвардии, который встал бы на их защиту. Едва ли вызвало общественный интерес и отречение Вильгельма II, 9 ноября 1918 г. отправившегося в изгнание в Голландию, — гораздо больше занимал вопрос о том, как справиться с катастрофой военного поражения и предстоявшим новым вариантом русской революции с ее ужасами. Два дня спустя еще занимавший свою должность императорский статс-секретарь и депутат партии Центра Матиас Эрцбергер подписал перемирие в железнодорожном вагоне в лесу под Компьеном. Первая мировая война окончилась. Она стоила около 10 млн. погибших, их них 2 млн. немцев. Но в Германии война продолжалась — на сей раз гражданская.
Ситуация после краха Германии на второй неделе ноября 1918 г. характеризовалась неустойчивым равновесием трех группировок, боровшихся за власть. Наряду с остатками старых государственных структур, армии и управленческого аппарата существовали умеренные силы большинства рейхстага, которое образовалось в 1917 г. Речь идет о социал-демократах, Центре и левых либералах, выступавших за преобразование монархического авторитарного государства в современное демократическое государство при принципиальном сохранении существовавших экономических и социальных структур, т. е. стремившихся в известной степени завершить революцию 1848 г. Этим силам черно-красно-золотой революции противостояли приверженцы революции красной — разнородное объединение левореволюционных групп, прежде всего «Союз Спартака» во главе с Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом. Они, имея в виду русскую Октябрьскую революцию и различные модели Советов, принципиально отвергали парламентаризм и стремились к созданию социалистического государства, к перевороту, который охватывал бы в равной степени экономику и общество.
В принципе же исход борьбы за власть решился уже в первые дни революции в пользу черно-красно-золотого лагеря. «Совет народных уполномоченных» — имперское революционное правительство, созданное социал-демократами и стоявшими левее них независимыми социал-демократами[49] под руководством Фридриха Эберта и Гуго Гаазе, — был действительной государственной верхушкой. Последний императорский рейхсканцлер, принц Макс Баденский, 9 ноября 1918 г. формально передал свой пост председателю СДПГ Фридриху Эберту, хотя это и было сомнительно с точки зрения конституционного права. Верховное командование на основе взаимности заключило союз с «Советом народных уполномоченных». Сдерживающее воздействие на солдатские Советы осуществлял Эберт, а поддержку революционного имперского правительства — новый первый генерал-квартирмейстер Вильгельм Грёнер. Этот союз позволил СДПГ, опираясь на старые войска и добровольческие корпуса, отстоять в ходе боев, напоминавших гражданскую войну, в Берлине и остальной стране свои претензии на власть, вытеснить из правительства более радикального партнера — НСДПГ и 19 января 1919 г. провести выборы в законодательное Национальное собрание, Впервые в немецкой истории мужчины и женщины вместе пришли к избирательным урнам, В то время как мужчины воевали на фронтах, женщины трудились на промышленном производстве, на транспорте и в управлении, и теперь невозможно было отказать им в политическом равноправии. В состав 423 избранных депутатов входила 41 женщина, что составляло 9,6% общего числа депутатов. Как ни один рейхстаг следующих созывов, так и бундестаги не достигали столь высокого процента женщин среди депутатов.
Защитите родину!
Вербовочный плакат добровольческих корпусов. Люциан Бернхард, 1919 г.
С конца 1918 г. формировались добровольческие соединения из солдат-фронтовиков с высокой долей офицеров, так называемые добровольческие корпуса, которые направлялись в горячие точки гражданских столкновений, на восточную границу против Польши, а в Прибалтику против большевистских войск. Они оказались единственными соединениями, хорошо зарекомендовавшими себя в боях, в то время, как ни войска старой армии, ни спешно сформированные республиканские подразделения не были пригодны для боевых действий. Добровольцы сражались отчаянно и боялись только одного — возвращения в гражданскую жизнь. Они не были послушным инструментом в руках демократического правительства, как выяснилось позднее, в момент Капповского путча.
Результат выборов дополнительно подтвердил и легитимировал претензию черно-красно-золотой коалиции на власть: социал-демократия, Центр и лево-либеральная Немецкая демократическая партия получили вместе 76% голосов. Первое в немецкой истории демократически избранное имперское правительство, образованное на такой широкой основе, возглавил канцлер Филипп Шейдеман (СДПГ), президентом Национальное собрание избрало Фридриха Эберта (СДПГ). Это правительство должно было решить две первоочередные задачи — консолидировать новую республику, отстояв ее от претензий на власть со стороны противников слева, что удалось сделать с помощью старой армии и добровольческих корпусов, и заключить мирный договор с победителями-союзниками. Имперское правительство считалось с приемлемыми условиями мира, во всяком случае с определенными территориальными уступками и финансовыми жертвами, подобными тем, которые в 1871 г. пришлось принести Франции, не испытав особых трудностей.
Иллюзия, однако, рассеялась, когда 7 мая 1919 г. стали известны союзнические условия договора. Территориальные уступки, которых требовали союзники, превзошли самые пессимистические предсказания, а в результате разоружения армия оказалась пригодной лишь для выполнения полицейских функций. Германия лишалась какого бы то ни было шанса на военную защиту. Экономические и финансовые требования были пока неопределенны, но тональность документа оправдывала плохие предчувствия. Неприятие со стороны немцев было почти единодушным. Шейдеман публично заявил, что не подпишет договор, если не будут осуществлены серьезные изменения. Однако союзники продолжали настаивать почти на всех своих требованиях. Под давлением сохранявшейся блокады, которая сопровождалась голодом, и под угрозой возобновления войны, если Германия не примет договор без каких бы то ни было условий, большинство Национального собрания в конце концов заявило о готовности подписать договор. 28 июня 1919 г. двое немецких уполномоченных — министр иностранных дел Герман Мюллер (СДПГ) и министр почты Иоханнес Белл (Центр) — появились в Версале, чтобы сделать последний и самый тяжелый шаг в результате проигранной войны. Наступил La joumee de Versailles[50]. Церемония подписания состоялась в Зеркальном зале замка Людовика XIV, там же, где менее полувека назад была провозглашена Германская империя, а Вильгельм I объявлен германским императором. Теперь, как и тогда, церемония символизировала триумф победителя и унижение противника, которому приходилось не только платить, но и раболепствовать.
При всей тяжести экономических последствий Версальского договора на дальнейшую судьбу республики влияли все-таки не столько они, сколько доминировавшее в Германии ощущение подчинения несправедливому насилию без какой-либо возможности защититься. Английский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж довольно быстро осознал опасности, порождавшиеся договором. «Усталые и обескровленные нации подчинятся любому миру. Но трудно будет обеспечить продолжительный мир, когда подрастают поколения, не видевшие смерти». Вместо разделения Германии на множество мелких немецких государств, чего требовал французский генералитет, или признания Веймарской республики, в сообществе западных государств без всяких «но» и «если» было принято решение в пользу разрушительного среднего пути. Версальский договор поставил Германию, разоруженную в военном отношении, экономически разрушенную и политически униженную, под особую юрисдикцию. С немецкой точки зрения, «версальский диктат», как тогда говорили, представлялся инструментом произвола со стороны Запада. Европейский мирный порядок 1919 г. казался таким же неприемлемым, как и демократия, теперь из-за поражения ставшая внутриполитическим устройством разгромленной Германии. Это было решающей причиной того, что для большинства немцев борьба против Версальского договора, против европейского мирного порядка и против демократии означала одно и то же. На тех, кто отныне на политической арене призывал к умеренности и разумному компромиссу с противниками в войне, с самого начала ложилось позорное пятно слабости или даже предательства. Такова была питательная почва, на которой в конце концов смог вырасти тоталитарный и агрессивный режим Гитлера.
Что мы должны потерять!
Плакат по поводу условий Версальского договора. Луи Оппенхайм, 1919 г.
Территория Германии по Версальскому мирному договору.
Однако на протяжении второй половины 1919 г. республика, казалось, консолидировалась. Восстания, включая Советскую республику в Мюнхене, были подавлены, а с провозглашением Веймарской конституции 14 августа 1919 г. государственное устройство стало более прочным. Тем самым эпоха революции закончилась. Опасность республике, угрожавшая прежде слева, проявилась теперь с другой, противоположной стороны. Разочарование в мирном договоре, по-прежнему существующие экономические проблемы, лишенная блеска и угнетающая повседневность — все это вело к такому изменению настроения общественности, которое было благоприятной почвой для пропаганды националистических и монархических сил. Ко всему добавлялась необходимость существенно сократить армию в соответствии с Версальским договором. Это затронуло прежде всего добровольческие корпуса, участвовавшие в гражданской войне и защищавшие восточную границу от Польши и Советской России. Теперь добровольцы испытывали чувство, что их предало имперское правительство, которое они и без того презирали. 13 марта 1920 г. соединения добровольческих корпусов заняли Берлин, и под их защитой было сформировано аграрно-консервативное правительство путчистов во главе с крупным чиновником лесного ведомства из Восточной Пруссии Вольфгангом Каппом. Законному имперскому правительству во главе с рейхсканцлером Густавом Бауэром удалось бежать в Штутгарт, откуда оно призвало к сопротивлению путчистам и вместе с профсоюзами — к всеобщей забастовке. Уже через пять дней путч потерпел поражение, и в первую очередь не из-за всеобщей забастовки, а из-за позиции берлинской бюрократии и командования рейхсвера[51], отказавших Каппу в повиновении.
Выборы в рейхстаг б июня 1920 г. обернулись катастрофой для республики. Черно-красно-золотая коалиция, единственный партийный блок, который мог стать опорой демократического конституционного устройства, потеряла две трети большинства, которое имела в Национальном собрании, и располагала в новом рейхстаге всего лишь 43% мест. Отныне СДПГ, Центру и НДП[52], которые были республиканскими партиями без всяких «но» и «если», никогда больше не удавалось в рейхстаге добиться преобладания и создать правящее большинство. Правительства, формируемые парламентом, были возможны только при двух отягчающих обстоятельствах; в форме коалиции истинно демократического лагеря с принципиально или скрыто антидемократическими партиями или посредством создания кабинетов меньшинства, зависимых от терпимого отношения к ним со стороны их противников. В таких условиях решительная и рассчитанная на длительную перспективу демократическая политика исключалась, как и нормальный срок жизни кабинета. Республика пережила шестнадцать имперских правительств, в среднем каждые восемь с половиной месяцев формировалось новое. Так возник заколдованный круг, ибо чем слабее казалось правительство, тем легче склонялись избиратели к правым или левым альтернативам, которые в каждом случае обещали авторитарное осуществление власти. Крах, в конце концов постигший Веймарскую республику, не должен удивлять. Удивительно скорее то, что, испытывая столь тяжелую нагрузку, она все же продержалась четырнадцать лет.
Пока же ряд партий объединились под лозунгом «Буржуазный блок». В результате созданной коалиции Центра, НДП, бывшей Национал-либеральной, а теперь Немецкой народной партии (ННП) Густава Штреземана, в принципе все еще монархической, республика обрела нормальное внутреннее состояние. СДПГ, настоящая мать республики, распрощалась с правительственной ответственностью, не став, однако, безвластной. Социал-демократом был не только президент Фридрих Эберт, но прежде всего министр-президент Пруссии Отто Браун, который вместе с прусским министром внутренних дел Карлом Зеверингом эффективно и в течение длительного времени управлял тремя пятыми германской территории, представлявшими собой смешение социалистической и традиционной прусской правительственной практики. Поэтому демократы в Веймарской республике считали Пруссию своим бастионом.
Правда, политический кризис не был устранен, он лишь переместился из области внутренней политики в сферу внешней. Следующие три года характеризовались прежде всего борьбой между немецкой стороной и союзниками вокруг выполнения мирного договора. Постоянные поражения имперского правительства в случае конфликтов решающим образом способствовали ослаблению его авторитета среди населения и тем самым подрыву легитимности Веймарской республики вообще. Так было и после того, как в 1921 г. распространилась информация о размере репарационных требований союзников. Репарационная комиссия держав Антанты в своих расчетах исходила из суммы всех военных долгов, включая рентные платежи всем государствам — участникам войны со стороны союзников. Результатом стала чудовищная сумма. События развивались таким же образом, как и при заключении Версальского договора. Правительство возмущенно отклонило требования противной стороны, что вызвало ликование немецкого населения, но в конце концов оно вынуждено было их выполнить. Речь шла об уплате 132 млрд. золотых марок при шестипроцентных ежегодных выплатах и погашении долга. Немецкая «политика выполнения» стала неизбежной, ибо только таким способом можно было смягчить упрек со стороны Франции в том, что немцы уклоняются от выполнения своих договорных обязательств. Лишь очевидность немецкой неплатежеспособности могла привести к пересмотру репарационных требований. С другой стороны, подобная политика порождала правооппозиционные лозунги, которые оказывали влияние на националистических фанатиков, прибегавших к кровавым расправам. То были годы праворадикальных заговоров с целью убийства, жертвами которых пали Матиас Эрцбергер, подписавший перемирие, и Вальтер Ратенау[53].
В условиях таких постоянно повторявшихся поражений и унижений, связанных с немецкой внешней политикой, было только одно светлое пятно — Рапалльский договор, заключенный 16 апреля 1922 г. между Германией и Советским Союзом[54]. Договор не содержал ничего, кроме положений о взаимном отказе от возмещения военного ущерба, а также об установлении торговых отношений. Но «восточная политика», к проведению которой стремились рейхсканцлер Йозеф Вирт и главнокомандующий рейхсвером Ханс фон Сект, т. е. союз между двумя проигравшими в Первой мировой войне, никогда не была реализована. Стало очевидно, что с ее помощью не удастся добиться пересмотра Версальского договора.
Попытки немцев добиться от союзников уступок в репарационном вопросе привели французское правительство Жюля Анри Пуанкаре к убеждению в необходимости взять силой то, что немцы не хотели отдавать добровольно. 11 января 1923 г. бельгийские и французские войска заняли Рурскую область, чтобы иметь возможность эксплуатировать ее природные богатства. Имперское правительство решилось на пассивное сопротивление и вместе с партиями и профсоюзами Рура призвало к забастовке против оккупантов. Оккупация Рура стоила Франции больше той прибыли, которую она имела, так как добыча угля сразу же снизилась. Но для Германии эти расходы оказались куда выше. Приходилось поддерживать миллионы людей в оккупированных областях. Уголь, который больше не поступал из Рурской области, пришлось закупать за границей, а так как к этому прибавилась недостача налоговых и таможенных платежей, принявшая огромные размеры, образовался весьма значительный дефицит государственного бюджета, который можно было компенсировать только с помощью печатного станка. Тем самым инфляция, неудержимо нараставшая с конца войны, получила дополнительный толчок и стала неуправляемой. Германия вступила в травмирующий период высокой инфляции, когда выплаченное жалованье приходилось сразу же переводить в товары, потому что деньги за несколько часов теряли какую-либо ценность. В конце концов теплотворная способность пачки банкнот оказывалась выше теплотворной способности угля, который можно было купить на эти деньги. В итоге денежное обращение рухнуло, и произошло возвращение к элементарному меновому хозяйству.
Тринадцатого августа 1923 г. председатель ННП Густав Штреземан вступил на пост канцлера большой коалиции, возглавив кабинет из представителей всех партий — от СДПГ до ННП, чтобы справиться с катастрофической ситуацией. Это удалось сделать вопреки всем ожиданиям. Штреземану потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что капитуляция снова становилась единственным путем выживания. Двадцать шестого сентября правительство объявило о прекращении пассивного сопротивления в Руре. В тот же день стоимость американского доллара составила 240 млн. марок. Никогда с 1871 г. государство не было так близко к распаду, как теперь. В оккупированных областях рейнские сепаратисты пользовались благожелательной поддержкой со стороны Франции, в то время как в Саксонии и Тюрингии правительства Народного фронта начали создавать собственную армию для ведения гражданской войны — «пролетарские сотни». Штреземан не колеблясь применял войска против мятежных земельных правительств, которые ушли в отставку.
Еще опаснее было положение в Баварии: там в повиновении правительству в Берлине отказал сам рейхсвер, принеся присягу баварскому правительству во главе с генеральным государственным комиссаром Густавом Риттером фон Каром. Он намеревался из «ячейки порядка» — Баварии — распространить порядок на остальную территорию государства, прежде всего на «марксистское болото» Берлина. Его союзниками были командующий баварским военным округом генерал Отто фон Лоссов и Адольф Гитлер, которому удалось объединить многочисленные националистические движения Баварии под руководством своей Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП). Гитлер планировал оттеснить Кара и Лоссова, чтобы самому захватить власть, Однако он раскрыл свои карты слишком рано. Девятого ноября 1923 г. демонстрация, которую возглавляли Гитлер и Людендорф, была рассеяна огнем баварской земельной полиции, а Гитлер и его ближайшие сторонники арестованы. Баварская дивизия рейхсвера снова подчинилась верховному главнокомандующему генералу Хансу фон Секту, который от имени имперского правительства принял на себя исполнительную власть в Германии. Тем самым была устранена наиболее острая опасность для республики. Стабилизация валюты благодаря остановке печатного станка и введение рентной марки 16 ноября способствовали успокоению внутриполитической ситуации,
В условиях тяжелых кризисов осени 1923 г., с которыми удалось справиться только с помощью неординарных и непопулярных мер правительства Штреземана, была исчерпана общность интересов партий, входивших в большую коалицию. Двадцать третьего ноября Штреземан лишился своего поста в результате принятия рейхстагом вотума недоверия, за который голосовал и прежний правительственный партнер — СДПГ. Он остался, однако, министром иностранных дел и в этой должности достиг ряда внешнеполитических успехов, которые открыли относительно счастливую пору золотых лет Веймарской республики, сопровождавшихся спокойствием во внешне- и внутриполитическом отношении. Эти перемены были связаны прежде всего с изменениями внешнеполитической ситуации, Как в Англии, так и во Франции к власти пришли новые правительства, более открытые в отношении желаний и бедствий немцев, нежели их предшественники. В качестве первого результата этой перемены 9 апреля 1924 г. появился план Дауэса[55], впервые связывавший с пересмотром репарационной политики отмену союзнических претензий. Франция оставила Оффенбург и Дортмунд и обещала в течение года вывести свои войска из Рурской области.
* * *
ЦЕНА 1 КГ ХЛЕБАВ 1919–1924 гг., (в марках)
Декабрь 1919 г. … 0,80
Декабрь 1920 г. … 2,37
Декабрь 1921 г. … 3,90
Декабрь 1922 г. … 163,15
Январь 1923 г. … 250
Апрель 1923 г. … 474
Июль 1923 г. … 3 465
Август 1923 г. … 69000
Сентябрь 1923 г. … 151 200
Октябрь 1923 г. … 1 743 000 000
Ноябрь 1923 г. … 201 000 000 000
Декабрь 1923 г. … 399 000 000 000
Январь 1924 г. … 0,30
Тем самым закончилось долгое, мрачное послевоенное время, в действительности представлявшее собой отзвук мировой войны. Эпоха катастроф продолжалась с 1914 по 1923 г. Современникам казалось, что теперь и Германия, и Европа в целом оставили темную пору позади и движутся к длительному миру и экономическому росту. Известный кильский экономист Бернхард Хармс закончил одну из своих лекций такими словами: «Если мы не можем снять звезды с неба, то давайте хотя бы устремимся к ним».
X. Блеск и падение Веймара (1924–1933)
На первый взгляд наступившее время было периодом внутриполитического затишья. Правили буржуазные кабинеты во главе с буржуазными рейхсканцлерами Вильгельмом Марксом и Хансом Лютером. Кабинеты время от времени распадались, но вскоре восстанавливались в чуть измененном составе. Преемственность политики воплощалась прежде всего в фигуре министра иностранных дел Густава Штреземана. Он не только символизировал умеренную и в известных пределах успешную внешнюю политику, но и благодаря занимаемому им посту председателя индустриальной и национал-либеральной Немецкой народной партии (ННП) выступал гарантом вовлечения играющих ведущую роль умеренно националистических сил в конституционную и правительственную систему. СДПГ, изнуренная неблагодарной правительственной ответственностью в начальные кризисные годы, оказалась в парламенте на оппозиционных скамьях. Причем, как правило, она поддерживала внешнюю политику Штреземана, которая подверглась нападкам справа. В остальном СДПГ участвовала в государственной власти, доминируя в прусском правительстве во главе с Отто Брауном, стабильном и сознававшем власть, которой оно обладало. Единственный раз на протяжении своего существования рейхстаг проработал период легислатуры целиком с 1924 по 1928 г.
Внешняя политика Штреземана основывалась на плане, имевшем целью пересмотр Версальского договора, возвращение в состав держав и обретение Германией гегемонии в Европе. Это означало, что следовало избегать слишком тесной связи и союзов как с Востоком, так и с Западом, чтобы получить пространство для маневра. Как говорил Штреземан, надо «действовать хитростью и избегать принятия очень серьезных решений». Следующие годы были временем больших успехов в политике по отношению к Западу. После принятия плана Дауэса последовали договоры в Локарно (1925), германо-франко-бельгийский пакт безопасности с гарантией общих границ, за соблюдением которого следили Великобритания и Италия. Важным шагом, призванным вернуть Германии полную внешнеполитическую свободу действий, стало вступление в Лигу Наций. Это произошло 9 сентября 1926 г. Затем в 1930 г. последовал план Юнга, новый пересмотр немецких репарационных обязательств. В 1926 г. Штреземан заключил с Советским Союзом Берлинский договор, гарантировавший взаимный нейтралитет и избавлявший Москву от кошмарной мысли о том, что Германия, вступившая в союз с западными державами, может предоставить свою территорию для англо-французского наступления против Советского Союза. Наряду с этим на случай польского нападения на Восточную Пруссию или Украину существовало секретное соглашение о взаимопомощи между рейхсвером и Красной армией, причем неясно, насколько немецкое правительство было о нем информировано. В целом сложилась ситуация, не столь уж далекая от игры с пятью шарами, как определял подобное положение в свое время Бисмарк. Со времени русской революции восток и запад Европы далеко разошлись, и Германия оказалась в середине как «дитя всего мира». В этом крылись шанс и искушение германской политики.
Во всяком случае, это было трюком на канате, и кое у кого появилось чувство страха. Такое ощущение испытывал, например, обербургомистр Кёльна Конрад Аденауэр. Хотя он и был президентом Прусского государственного совета, традиции прусской континентальной политики между Санкт-Петербургом/Москвой и Лондоном/Парижем оставались ему чужды. Уже довольно рано Аденауэр указывал на то, что мир в Европе на длительную перспективу зависит от отношений между Германией и Францией. Это понимал и Штреземан, но он пытался найти хотя бы какую-то общность интересов между обоими национальными государствами с их различными позициями. Аденауэр же всецело ставил на французскую карту и требовал реального политического и экономического взаимодействия по обе стороны Рейна, чтобы бесповоротно связать друг с другом национальные интересы Франции и Германии. Должно было прийти время и для осуществления планов Аденауэра, но в 20-е годы они еще сталкивались с принципами немецкой «реальной политики» между Востоком и Западом, с тем «непостоянным и колеблющимся», что обер-бургомистр Кёльна порицал в политике Штреземана. Но при этом последний постоянно враждовал с «национальными» силами, включая определенные круги собственной партии, которые усматривали предательство даже в ограниченных уступках Франции. Его французскому партнеру Аристиду Бриану, вместе с которым Штреземан в 1926 г. получил Нобелевскую премию мира, дома приходилось не лучше. Изнуренный постоянной борьбой скорее против своих внутриполитических, нежели внешних противников, Штреземан умер 3 октября 1929 г. от паралича сердца. Его оплакивала вся Европа.
ВВП НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ В ГЕРМАНИИ И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГРАНИЦАХ 1850–1975 гг. (В ЦЕНАХ 1913 г.)
Для периодов 1914–1923 и 1939–1949 гг. достоверных данных не существует. Между 1850 и 1913 гг. наблюдался непрерывный экономический рост, который после 1949 г. остался достаточно стабильным. Для периода 1924–1939 гг. характерна на первый взгляд аномалия кривой роста. Равным образом очевидны обрушения экономики в период кризиса 1929–1932 гг. и восстановление долговременной тенденции только с началом Второй мировой войны. Становится очевидным также, что кризису не предшествовало серьезное движение в направлении роста — кривая «золотых двадцатых годов» остается неизменной, и ВВП на душу населения достиг уровня 1913 г, только в 1928 г., чтобы сразу же снизиться снова. (Для характеристики средних показателей развития немецкого экономического роста между 1850 и 1975 гг., в подъемы и спады кривой была заложена линейная кривая, обозначающая тенденцию).
Стабилизация означала и экономическое оздоровление. Индустрия устояла в условиях инфляции, использовав для инвестиций шанс, вызванный обесценением денег и притоком иностранного капитала, поступавшего в Германию вследствие принятого плана Дауэса и связанного с ним первого крупного займа на Уолл-стрите. Таким образом, снова заработала финансовая система, несколько лет поддерживавшая в рабочем состоянии трансатлантическую экономику. Теперь Германия могла выплачивать репарационные долги государствам Антанты. Те платили свои военные долги США, а оттуда деньги в форме кредитов опять текли в Германию. Эта удивительная система необычайно быстро оживила немецкую экономику. С 1924 по 1929 г. объем производства в Германии возрос на 50%, и во многих областях удалось отвоевать прежнее лидирующее положение на мировом рынке.
Однако подъем охватил в основном только немецкую экспортную промышленность. Конъюнктура внутреннего рынка оставалась скромной. Только в 1927 г. был достигнут уровень валового внутреннего продукта (ВВП) 1913 г., и вскоре кривая снова пошла вниз. Готовность к получению инвестиций продолжала отставать от уровня инвестиций 1913 г. Показатели производительности труда оставались в состоянии стагнации и ни разу не достигли довоенного уровня. Такова была обратная сторона величайшего социального завоевания Веймарской республики — восьмичасового рабочего дня. И тот, кто вспоминал о довоенном времени, делал вывод, что численность безработных даже в 1927 г., лучшем году конъюнктуры Веймарской республики, достигала гораздо более высокого уровня, чем в худшие предвоенные годы. Экономика была в корне нездоровой, что объяснялось в значительной степени концентрацией производства, картелированием, подавлявшим более гибкое поведение предприятий на рынке, а отчасти тем, что субсидии и кредиты направлялись прежде всего не в перспективные отрасли промышленности, а в сельское хозяйство и тяжелую промышленность. Не в последнюю очередь причина заключалась в чрезмерно высокой доле заработной платы, Так как издержки производства из-за иностранной конкуренции нельзя было возместить за счет потребителей, они снижали инвестиционную деятельность предприятий и, следовательно, численность занятых.
Не политическая устойчивость и не мнимая экономическая стабильность сделали средний период истории Веймарской республики «золотыми двадцатыми годами», а взлет культуры, до сих пор сохраняющий легендарные черты. Это было время невероятного духовного напряжения и творческого художественного подъема: от «Баухауза»[56] Вальтера Гропиуса до «Волшебной горы» Томаса Манна, от «Кардильяка» Пауля Хиндемита до принципа неопределенности Вернера Гейзенберга, от «Заката Европы» Освальда Шпенглера до «Лица господствующего класса» Георга Гросса, от волновой механики Эрвина Шрёдингера до «Голубого ангела» Йозефа фон Штернберга, от «Рабочего» Эрнста Юнгера до «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка. Все это и многое другое клубилось на протяжении десятилетия, образуя мерцающий, сверкающий калейдоскоп неслыханных форм, цветов и тем.
Тем не менее «культура Веймара» была также мифом, рожденным в пражских и парижских кафе, колониях эмигрантов в Нью-Йорке и Калифорнии после бегства и лишения гражданства многих интеллектуалов, придававших особую форму и цвет 20-м годам. То, что казалось экзотическим цветком республики, растоптанным в 1933 г. сапогами штурмовиков, в действительности зацвело гораздо раньше.
Культура веймарского периода уходила своими настоящими корнями в авангард вильгельмовской Германии, в беспокойство, охватившее буржуазную интеллигенцию на рубеже веков. Двадцатые годы не породили, собственно, ничего нового. Новое заключалось лишь в том, что официальный буржуазный академизм очистил поле, уступив место прежним аутсайдерам. Это произошло с утратой равновесия буржуазным обществом как формирующим стиль «класс для себя», с потерей буржуазного чувства собственного достоинства в результате проигранной войны и экономической катастрофы, вызванной инфляцией. Таким образом, новое искусство вовсе не было народным. Из 34 названий немецких книг, продававшихся с 1918 по 1934 г. миллионными тиражами, только три можно в определенной степени приписать «веймарским» литераторам: «Эмиль и сыщики» Эриха Кёстнера, «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка, а также «Будденброки» Томаса Манна, вышедшие, правда, в 1901 г. Массовая аудитория читала совсем других писателей: Германа Лёнса, Ханса Кароссу, Вальтера Флекса, Ханса Гримма или Клару Фибих, а тривиальные романы Карла Мая или Хедвиг Куртс-Малер имели самый большой успех у публики. Художественный подъем веймарской Германии был, как и все остальные культурно-исторические взлеты, чисто элитарным явлением. Все происходило в узком кругу литераторов, художников, музыкантов, мыслителей, меценатов, потребителей культуры, принадлежавших к более высоким социальным слоям, находившимся между образованной буржуазией и богемой.
* * *
«МЕТРОПОЛИС»
На волне настоящей «киноэпидемии» все более широкие масштабы приобретала немецкая кинопромышленность. Германия произвела в 20-е годы больше фильмов, чем все остальные европейские страны, вместе взятые. Наряду с большим количеством низкопробной продукции были созданы и некоторые выдающиеся художественные произведения, как, например, показанный впервые в 1927 г. утопический немой фильм Фрица Ланга «Метрополис», премьера которого состоялась в 1927 г. Это был пример фильма, осмыслявшего современный мир труда, не принесшего, однако, кассового успеха.
Это была в высшей степени буржуазная культура, зараженная, однако, антибуржуазными настроениями и сформировавшаяся под воздействием мировой войны. «Левые» сделали вывод, что всякое убийство, все военное и любая униформа злы и бессмысленны, социализм же, напротив, добр. Такой человек, как Карл фон Осецкий, издатель журнала «Вельтбюне», боролся за республику во имя морали и прав человека, хотя и не за существовавшую Веймарскую республику, которая ему, как и многим другим интеллектуалам эпохи, казалась компромиссной, незавершенной, скучной и буржуазной. Он выступал за грезившуюся ему социалистическо-пацифистскую республику, ради осуществления которой был готов призвать к избранию президентом руководителя КПГ Эрнста Тельмана.
В другой части культурного спектра находились «правые», взгляды которых также стали следствием военных переживаний, правда вызвавших противоположное осмысление. Правые рассматривали войну не как арену, где совершались бесчеловечные жестокости, а как огненную грозу, в которой из крови и железа выковывался новый человек. Правые интеллектуалы вроде Эрнста Юнгера также атаковали республику, используя любые возможности во имя остававшегося неясным солдатско-национального, а часто и социалистического идеала. Неясность цели вела к тому, что многие из них оказывались в фарватере Гитлера, который, во всяком случае, понимал, что следовало подразумевать под «национальным», а что под «социалистическим». Только немногие, в том числе Юнгер, оставались одиночками.
К крайне левым и крайне правым относилось значительное большинство веймарской культурной сцены — в программном отношении враждебные, диаметрально противостоявшие друг другу и все же единые, если речь шла о том, чтобы издеваться над существовавшим парламентско-демократическим государством и клеветать на него во имя различных политических идеалов и идеологий. Мало кто был готов стать на защиту республики, например Томас Манн, в прошлом ненавистник «буржуазной» демократии, В 1922 г,, выступая перед студентами Берлинского университета, он призвал их к поддержке нынешнего демократического государства, но безуспешно. То был глас вопиющего в пустыне.
Республика едва ли могла рассчитывать на поддержку среди интеллектуалов, и это проявлялось в других областях. Конечно, существовали выдающиеся либеральные газеты, например «Фоссише цайтунг», «Берлинер тагеблагг» или «Франкфуртер цайтунг», до сих пор служащие политическим и журналистским примером не только в политических корреспонденциях и комментариях, но и в отделах литературной публицистики, которыми часто руководили мастера своего дела. Но массовую прессу представляло нечто другое — националистический концерн «Шерль», которому было суждено позже войти в империю газет и кино немецко-националистического короля прессы Альфреда Гутенберга, а главное — местная печать вроде газеты «Генеральанцайгер», ежедневно освещавшая положение в республике с националистически-монархической позиции и с этой позиции нападавшая на нее, Преподавание националистически настроенных старших учителей в гимназиях было нормальным явлением, как и монархически настроенных профессоров в университетах, или проповеди пасторов, придерживавшихся антидемократических убеждений, на церковных кафедрах. Реакционные политические позиции ученых существовали наряду с прогрессивной наукой и техникой. В то время как большинство исследователей обращали взгляд в прошлое, быстроходное судно «Бремен» компании «Северогерманский Ллойд» завоевало «Голубую ленту» за самое быстрое пересечение Атлантики. Реактивный автомобиль Фрица фон Опеля мчался по берлинскому «Авусу»[57], стартовали «Юнкерс» G38, самый большой самолет наземного базирования, и Do X, самая большая в мире летающая лодка. В Берлине было передано первое телевизионное изображение, обер-бургомистр Кёльна Конрад Аденауэр открыл первую европейскую автостраду — скоростную трассу Кёльн — Бонн, рельсовый дирижабль (айровагон) Круккенберга менее чем за два часа преодолел расстояние от Берлина до Гамбурга.
Но не только у интеллектуалов были трудности в отношениях с государством. Веймарское сообщество не могло быть уверено даже в лояльности своих собственных служителей. Для большой части чиновничества монархизм и консервативное представление о государстве были само собой разумевшимися знаками принадлежности к сословию. Правда, их самосознание предполагало также, что формальная легальность осуществления власти была важнее программы политического господства. Так как пост рейхсканцлера был передан последним кайзеровским канцлером принцем Максом Баденским революционному социалисту Фридриху Эберту, то видимость легальности, а тем самым и лояльность государственного аппарата новым властителям была обеспечена. Поскольку существовало законное правительство, бюрократия во время Капповского путча, несмотря на политические симпатии многих чиновников к режиму путчистов, действовала против Каппа и на стороне Эберта. По той же самой причине административному аппарату суждено было позже остаться в распоряжении рейхсканцлера Гитлера. В остальном чиновничество сохраняло партийно-политический нейтралитет, что не означало его аполитичность. В целом оно имело тенденцию, пусть и неявно выраженную, к авторитарно-этатистскому представлению о государстве. Правительство Генриха Брюнинга (1885–1970) должно было стать весьма близким к этому идеалу. Да и почему должно было быть иначе? Никто не мог ожидать от бюрократии, что она поведет себя в политическом отношении совершенно по-иному, нежели значительная часть населения, которая все больше отворачивалась от республики. Кроме того, создатели конституции отказались от установки жестких норм, на которые должны были ориентироваться государственные служащие. Не чиновничество подорвало фундамент немецкого государственного устройства — там и без него мало что оставалось подрывать. Но оно и пальцем о палец не ударило, чтобы укрепить и спасти этот фундамент.
Что же касается армии, небольшого стотысячного рейхсвера, то, возглавляемая командующим генералом Хансом фон Сектом, она высокомерно дистанцировалась от демократических институтов и партий, проводила собственную тайную политику вооружения за спиной гражданских политических организаций и пыталась держаться в стороне от повседневной политики, следуя максиме Секта; «Армия служит государству, и только государству, ибо она и есть государство». Только после свержения Секта в 1927 г., с возвышением нового сильного военачальника, генерала Курта фон Шлейхера, ситуация изменилась. Отныне руководство рейхсвера живо интересовалось внутриполитическими событиями, пыталось воздействовать на формирование правительств и добиваться правительственных решений в соответствии с интересами военных и общественных слоев, стоявших за офицерским корпусом, — дворянства и консервативной крупной буржуазии. В конечном счете это возымело катастрофические политические последствия, как показал крах, который потерпел генерал фон Шлейхер в качестве рейхсканцлера в январе 1933 г.
Общественные группы также дистанцировались от новой государственной формы и ее институтов. Рабочих, ориентированных на социал-демократию или католический Центр, вполне можно было мобилизовать на защиту республики, как выяснилось после убийства Ратенау и еще раньше — в ходе отпора Капповскому путчу. В условиях кризиса республики в 30-е годы оказалось, однако, что готовность к защите демократического государства была связана с социальными услугами, распределявшимися государством. В годы падения реальных доходов и высокой безработицы с демократической лояльностью было покончено. Об этом свидетельствовало увеличение количества избирателей, голосовавших за коммунистов, и членов национал-социалистической партии — выходцев из пролетариата.
Буржуазия — среднее сословие — жила в состоянии непрерывного кризиса. Ощущалась опасность из-за быстрого изменения социальной и экономической среды. Рост доходов буржуазии отставал от роста доходов почти всех остальных слоев, а в результате инфляции деньги, если они не были вложены в дома или земельные владения, таяли как снег под солнцем. За эту экономическую катастрофу, затронувшую целый социальный слой, ответственность возлагалась, как правило, на демократию и республику, а политический успех среди его представителей должен был достаться тому, кто связывал социальный и политический протест с обещанием создать сообщество без внутренних напряжений, которое тем не менее сохраняло бы традиционные социальные различия. Для имущих, — предпринимателей и землевладельцев — Веймарская республика оставалась подозрительной, ибо ее социальная и финансовая политика означала решительное перераспределение в пользу социально слабых. Несмотря на серьезные государственные субсидии тяжелой промышленности и аграриям, эти круги были настроены к республике враждебно.
В годы существования относительного свободного пространства, открытого для экономического распределения, эти глубокие общественные и экономические разломы возможно было компенсировать, и какое-то время могло даже показаться, что и монархический консерватизм примирился с новой реальностью. Ирония истории проявилась в данной связи после смерти первого президента республики Фридриха Эберта, которого националистически тупой судья обвинил в измене родине. Причиной приговора было участие Эберта в 1918 г. в руководстве забастовкой рабочих берлинских военных предприятий. Президент, удрученный этим позорящим и неправовым приговором, затянул с лечением аппендицита. Незначительным большинством голосов новым президентом республики был избран начальник третьего Верховного командования в годы Первой мировой войны королевско-прусский генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург. К большому удивлению своего окружения, Гинденбург не думал о том, чтобы осуществить монархический поворот, как надеялись те, кто стоял за ним. Вместо этого он был полон решимости стать хорошим президентом республики без всяких «но» и «если». Общественность неправильно оценила отношение Гинденбурга к присяге. В данном случае он поступил вполне в старопрусских традициях и, принеся присягу на конституции республики, дорожил ею так же, как прусским полевым уставом. Примирение Гинденбурга с новым государственным устройством облегчило многим умеренным консерваторам нахождение общего языка с демократией.
Правда, в адрес нового президента выдвигался один упрек: при всем своем желании он не имел политических знаний и нуждался в советниках. Это усугублялось преклонным возрастом и связанным с ним снижением интеллекта, что также усиливало зависимость Гинденбурга от помощников. Окружение же было вовсе не таким, которое приличествовало бы президенту республики. Оно состояло из старых товарищей по прусской армии, «сливок» остэльбского землевладельческого дворянства. В основном это были люди, чей и без того низкий уровень политической культуры дополнялся ненавистью к республике.
Эра кабинетов буржуазного блока закончилась с выборами в рейхстаг 20 мая 1928 г. СДПГ, которая смогла записать на свой счет серьезную победу, получила пост рейхсканцлера, которым стал ее председатель Герман Мюллер, а также ряд влиятельных министерств. Широкий спектр правящих партий составлял теперь большую коалицию вплоть до Немецкой народной партии Штреземана. Но то, что на первый взгляд казалось проявлением внутриполитической прочности, в действительности было неустойчивым и хрупким. «Кабинет, в который вмонтирован длительный кризис», — писала по этому поводу «Берлинер тагеблатт» в день формирования правительства. И действительно, возможности единства действий демократических партий оказались в достаточно короткий срок исчерпаны. Коалиция едва не рухнула уже из-за плана строительства тяжелого крейсера взамен устаревшего военного корабля. И когда социал-демократические министры в конце концов ради сохранения коалиционного мира согласились с желанием своих буржуазных коллег, собственная фракция социал-демократов в рейхстаге не преминула подвергнуть их унижению, высказавшись во время решающего голосования против собственных товарищей, занимавших министерские посты. Драматический рост безработицы, подъем забастовочного движения, уличные столкновения — все это подтачивало деятельность кабинета и усиливало давление партий на «своих» министров, с тем чтобы они наконец сбросили с себя становившуюся все более неудобной ответственность. В итоге способность Германа Мюллера осуществлять правительственные решения оказалась на исходе, Из-за представлявшегося малозначительным коалиционного конфликта — а речь шла об увеличении взносов в фонды страхования по безработице — рейхсканцлер 27 марта 1930 г. ушел в отставку, и с ним последнее парламентское правительство республики. Депутат от СДПГ Юлиус Лебер отмечал: «Не особенно размышляя, социал-демократическое партийное руководство двинулось назад по спокойным водам прежнего доброго оппозиционного величия. Лишь немногим пришло в голову, что так называемое президиальное[58] правительство было, очевидно, последней формой конституционного правительства. Хотя об угрозе демократии, о фашистской опасности говорили много и часто, но это были слова, брошенные на ветер, для агитации и пропаганды. СДПГ была в оппозиции, и этого хватало…»
Некролог по президенту Эберту.
Газета «Иллюстрирте райхсбаннерцайтунг», 7 марта 1925 г.
Выбирайте Гинденбурга!
Плакат к президентским выборам 1925 г.
Крах республиканских партий был симптомом политического коллапса республики, ее распада на воюющие друг с другом стороны в гражданской войне. Первого мая 1929 г. на улицах Берлина впервые с 1920 г. снова стреляли, дело дошло до кровавых столкновений между полицией, руководимой социал-демократами, и демонстрантами-коммунистами. С ростом безработицы увеличивалось количество приверженцев КПГ, но сама партия оказалась в изоляции, по указанию Москвы отмежевываясь от «социал-фашистской»[59] социал-демократии. В другой части политического спектра занимавшая все более радикально-националистические позиции Немецкая национальная народная партия во главе с королем прессы Альфредом Гугенбергом и консервативная организация фронтовиков «Стальной шлем» объединялись с радикально-националистическими силами — Национал-социалистической рабочей партией Германии Адольфа Гитлера.
НСДАП возникла в родовых схватках Мюнхенской советской республики. Ее появлению также способствовала создавшаяся впоследствии атмосфера гражданской войны. Эта партия была целиком и полностью творением своего фюрера Адольфа Гитлера и зависела от его демагогических и харизматических талантов. Гитлер был, собственно говоря, создателем секты, Он делал ставку на веру своих приверженцев, и только он один провозглашал истину. При этом то, что говорил Гитлер, представляло собой неудобоваримую смесь идей и идеологий, воздействующих на массы и «бродивших» в духовном климате послевоенного времени, Лозунг «национального социализма», уже в довоенные времена возникший в качестве связующего средства, которым пользовались националистические организации в борьбе против «интернационального» социализма, был нацелен на рабочих и представлял собой, кроме того, средство для определения настроений социального романтизма, распространенных среди молодежи средних и высших слоев, Образ «народного сообщества», порождение католическо-романтического учения о сословном государстве, казалось, обещал решение социальных трудностей современных индустриальных обществ. Антисемитская расовая доктрина служила средством формирования агрессивного сознания о миссии Германии в мире, доведенной до крайности мечты о великогерманской империи в сердце Европы, Оба компонента, нация и раса, формировались, основываясь друг на друге. Сначала следовало добиться освобождения нации от пут Версаля — таково было требование, популярное во всех социальных и политических лагерях. Следующим шагом должно стать расширение в восточном направлении, завоевание «жизненного пространства» для якобы особо ценной германской расы за счет «неполноценных» рас.
Но изречения и программы имели в публичных выступлениях Гитлера второстепенное значение. Самое главное заключалось в воздействии на людей в качестве оратора, ибо Гитлеру удавалось распознать, как под увеличительным стеклом, чаяния и надежды внимавших ему слушателей, озвучить их проблемы в завораживающей и убедительной манере и спроецировать их обратно — на народ. Вот в этом и заключался успех национал-социализма: он выводил страхи и предрассудки людей из подсознательной, иррациональной глубины на свет и формулировал их в соответствии со своим мировоззрением. В этом партия Гитлера проявила себя более современной, чем все ее конкуренты в партийном спектре, которые полагали, что для того, чтобы убедить людей, необходимо просто познакомить их с трезво сформулированными программами. Напротив, Гитлер учитывал эмоциональный дефицит масс, который традиционные партии оставляли без внимания.
Таким образом, НСДАП была народной партией в гораздо большей степени, чем любая другая партия веймарского периода. Она не зависела, как другие партии, от прочной клиентелы, от социального, экономического или конфессионального характера, а располагала приверженцами во всех социальных слоях и среди представителей различных профессий. Рабочие и крестьяне составляли относительное меньшинство, даже в условиях, когда происходил постоянный рост доли рабочих. Напротив, доля представителей профессий, относящихся к среднему сословию, оказывалась существенно выше. Становилось ясно также, где партия достигала меньшего успеха, — там, где еще существовали старые творческие институты и идеи. В значительной степени сохранило иммунитет ядро социал-демократического рабочего движения (в то время как переход членов из НСДАП в КПГ и наоборот был активным), а также протестантская крупная и средняя буржуазия, но прежде всего — традиционная католическая среда в Западной и Южной Германии и в Силезии. Но гитлеровской партии удалось прорваться и здесь. Сыновья и дочери приверженцев традиционных партий во множестве собирались под эгидой НСДАП. Эта партия была не только олицетворением веры, народной партией; она представляла молодежное движение.
НСДАП обрела свой шанс со времен великого экономического кризиса, который вслед за «черной пятницей» 25 октября 1929 г. на Нью-Йоркской бирже охватил всю мировую экономику. В Германии же из-за давно сложившегося здесь общеэкономического положения последствия кризиса были особенно тяжелы. То, что выглядело сначала только как временный спад конъюнктуры, разрослось до небывалой катастрофы, в которой экономическая разруха и политическая радикализация взаимно раскачивали друг друга. Такое развитие событий совпало с выборами в рейхстаг 14 сентября 1930 г., на которых национал-социалисты, получившие 130 мандатов, добились сенсационного успеха. В свою очередь это настолько подорвало доверие зарубежных вкладчиков к стабильности в Германии, что уход капитала из страны приобрел формы бегства. К тому же — как всегда бывает во время экономических кризисов — в мире росли таможенные барьеры. У немецкой экономики отсутствовали не только кредиты, от которых она зависела из-за недостатка собственного капитала, но и прибыли от экспорта, а при высокой зависимости немецкой экономики от экспорта это имело катастрофические последствия как для производства, так и для занятости.
На протяжении года безработица подскочила с 9 до 16%, но это была только первая ступень Великой депрессии. В середине 1931 г. ввиду недостаточной ликвидности произошли первые банковские банкротства, вовлекшие крупные предприятия в вихрь событий. Экономический кризис превратился в финансовый и кредитный. В 1932 г. уровень промышленного производства Германии сократился в два раза по сравнению с 1928 г. Индекс курсов акций упал за то же время на треть, тогда как численность безработных возросла более чем вчетверо — с 7% в 1928 г, до 30,8% в 1932 г.
Экономический кризис охватил все европейские страны, но в Германии он оказался особенно тяжелым. Данное обстоятельство объяснялось прежде всего тем, что демократическая Веймарская республика с момента своего рождения была слабым государством, пытавшимся избежать гражданской войны и купить симпатии избирателей посредством превращения в государство субсидирующее и перераспределяющее. Желания, которые высказывали в адрес государства организованные по самым разным интересам группы, удовлетворялись в гораздо большей степени, чем это имело место до войны, что видно по скачкообразному росту государственных расходов, прежде всего в социальной сфере. Если в 1929 г. доля налогового бремени была вдвое выше процентной ставки 1913 г., т. е. 18 вместо 9% накануне Первой мировой войны, то за тот же период социальные расходы государства, земель и общин возросли с 337 млн. до 4 млрд. 751 млн. марок в год, т. е. произошло их увеличение не менее чем в тринадцать раз. Таким образом, нелюбимое государство, Веймарская республика, обеспечило себе лояльность групп, представлявших общественные интересы, оказывая поддержку и помощь, и в случае кризиса приходилось выполнять все соответствующие обязательства.
Когда начался кризис, экономики промышленно развитых государств рухнули после «черной пятницы», оказавшись в условиях самого тяжелого испытания, которое только выпадало на их долю за весь период новой экономической истории. Когда разорялись банки, когда объем промышленного производства в Европе упал за три года наполовину, а треть самодеятельного населения Германии стала безработной, когда все социальные обязательства, которые взяло на себя государство, были одновременно предъявлены к оплате, выяснилось, что германское государство оказалось не в состоянии справиться с проблемами. В Англии, где падение экономики было не менее драматичным, решение общественных проблем было возложено на многочисленные «плечи» — различные административные и общественные органы. Таким образом государство пережило экономический кризис, не понеся ущерба. Напротив, в Германии государство буквально пало на колени под тяжестью завязавшихся в тугой узел ожиданий различных общественных групп. А так как лояльность немецкого народа государству зависела от способности государства и его институтов разрешать социальные конфликты путем распределения, то при крахе социального государства под вопросом оказались и его конституционные основы. Так парламентская демократия в Германии в своем стремлении быть сильным государством сама лишала себя почвы под ногами.
Парламентские силы оказались в этих условиях беспомощными. Когда большинство рейхстага отвергло в июле 1930 г. непопулярные меры по оздоровлению бюджета, новый рейхсканцлер — депутат от партии Центра Генрих Брюнинг прибег к крайнему средству, которое предоставляла Конституция в соответствии со статьей 48. Он издал необходимые законы в виде чрезвычайных декретов, которые президент мог вводить в действие без участия парламента. Тем самым была открыта новая — или скорее старая — страница конституционной истории. Самоустранение парламента и правительства, которое пользовалось только доверием главы государства, означало, собственно, возвращение к монархическому конституционализму XIX в. во главе с президентом Гинденбургом в качестве «эрзац-кайзера». И действительно, некоторое время статья 48 Веймарской «эрзац-конституции» функционировала очень неплохо, когда речь шла о принятии безотлагательных мер в бюджетной, финансовой сферах и о защите государственного авторитета от растущего на улицах политического преступного насилия как справа, так и слева.
Решительная политика никогда не может быть популярной в период кризиса. Менее популярной она была во времена Брюнинга, ибо его «политика дефляции», т. е. радикального сокращения государственных расходов, дополнительно подстегивала безработицу. Канцлер мирился с огромными социальными расходами, так как они представляли собой неопровержимый аргумент в его усилиях по окончательному устранению репараций, показывая разрыв между волей немцев к выполнению требований и их возможностями. В этом смысле экономическая политика Брюнинга была только функцией его внешней политики, и здесь он добился успеха. В конце 1931 г. союзническая комиссия констатировала неплатежеспособность страны, что означало конец репарационных платежей. Соответствующее решение было принято Лозаннской конференцией в июле 1932 г. К тому же Международная конференция по разоружению, работавшая с февраля 1932 г. в Женеве, в принципе признала равноправие Германии в вопросе о вооружениях. У Брюнинга складывалось впечатление, что он, по его словам, находится «в ста метрах от цели», когда 30 мая 1932 г. президент отправил рейхсканцлера в отставку.
* * *
ЖЕЛЕЗНЫЙ ФРОНТ
В ответ на создание союза Гитлера с Гутенбергом конституировался «Железный фронт», представлявший собой союз социал-демократической партии с близкими ей организациями. Правда, он получил демонстративный отпор со стороны почти всех несоциалистических групп и оставался красной оборонительной организацией вместо черно-красно-золотой. Распад Веймарской коалиции нельзя было остановить и в кризисные времена. Но «Железный фронт» отнюдь не бездействовал, и его «боевые демонстрации» по мощи и пышности с использованием музыкальных элементов не уступали мероприятиям противников республики.
Для смещения Брюнинга имелись многочисленные причины. Им были недовольны аграрии, которые, как они считали, не получали поддержки в условиях глубокого долгового кризиса, охватившего крупное остэльбское землевладение, Недоволен был рейхсвер, полагавший, что ему необходима поддержка «превосходного человеческого материала», сосредоточенного в НСДАП, для реализации его планов вооружения и создания милиции, а также считавший, что запрет СА[60] противоречит его интересам. К этому добавлялось верное предположение Гинденбурга о непопулярности канцлера. Преемник Брюнинга, малоизвестный общественности консервативный заднескамеечник партии Центра Франц фон Папен (1879–1969), чей аристократически-аграрный «кабинет баронов» был представлен 1 июня 1932 г., располагал еще меньшей общественной поддержкой. Чтобы обеспечить себе парламентскую опору со стороны НСДАП, Папен выполнил требования Гитлера об отмене запрета СА и роспуске рейхстага. Прусское черно-красно-золотое правительство, несмотря на тяжелые потери на выборах, оставалось кабинетом, ведущим дела, и с равной жесткостью выступало как против национал-социалистических, так и против коммунистических уличных бесчинств. Поэтому Папен 20 июля 1932 г. чрезвычайным декретом президента назначил самого себя имперским комиссаром Пруссии и изгнал прусского премьера и остальных министров с их постов, Теперь прусский административный аппарат и полиция, важные с точки зрения соотношения политических сил, были подчинены имперской исполнительной власти.
Смысл гитлеровского приветствия.
Титульный лист «Рабочей иллюстрированной газеты». Джон Хартфильд, 16 октября 1932 г.
Антимарксистское и одновременно «революционное» массовое движение не предусматривалось в сценарии мировой истории, созданном Марксом и Лениным. Поэтому для ортодоксальных левых феномен национал-социализма оставался необъяснимым. В действительности же заговор «монополистического капитала» и Гитлера, о котором свидетельствует фотомонтаж, был химерой. «Капитал» Гитлера скрывался не в кошельках промышленных магнатов, а в головах людей.
Результаты выборов в рейхстаг, состоявшихся 31 июля 1932 г., соответствовали возбужденному состоянию общества, НСДАП почти удвоила свою и без того высокую долю голосов, численность же депутатов буржуазного блока драматически сократилась. КПГ и НСДАП получили абсолютное парламентское большинство. Они охотно использовали эту ситуацию, чтобы рука об руку саботировать государственные мероприятия, но, естественно, не были в состоянии взять на себя правительственную ответственность. Чтобы избежать опасности свержения Папена в результате вотума недоверия вновь избранного рейхстага, парламент был распущен в день первого же заседания. Страну захлестнула не имевшая себе равных волна политического насилия. И так как новые выборы в рейхстаг б ноября 1932 г. не принесли существенных изменений — впрочем, численность голосов, поданных за НСДАП, снизилась, что дало повод надеяться на изменение ситуации, — Гинденбург в конце концов назначил рейхсканцлером обладателя фактической власти в государстве, министра рейхсвера Курта фон Шлейхера (1882–1934).
Мы выбираем Гинденбурга! — Мы выбираем Гитлера!
Плакат НСДАП к президентским выборам 1932 г.
Весной 1932 г. истекал срок пребывания Гинденбурга на посту президента. При выдвижении кандидатур возникли курьезные союзы. В то время как «Стальной шлем», почетным председателем которого был Гинденбург, выдвинул своего председателя Дюстерберга, Гинденбург оказался вынужденным опереться на партии Веймарской коалиции, от которых он хотел отмежеваться с 1930 г. Только второй тур, состоявшийся 10 апреля 1932 г., в котором против Гинденбурга выступали Гитлер и Тельман, принес ему победу — за президента было отдано 53% голосов. Гитлер все же получил 37% голосов. Ядовитое антисемитское варево, которым Гитлер поливал политиков республики, возымело действие.
Шлейхер стремился осуществить сомнительный план создания «альтернативного фронта» из профсоюзного крыла всех партий для поддержки своей политики и раскола НСДАП с помощью заигрывания с сильнейшим внутрипартийным конкурентом Гитлера, руководителем организационного отдела НСДАП Грегором Штрассером. Но план Шлейхера потерпел неудачу. Правление СДПГ запретило руководству свободных профсоюзов идти на контакты со Шлейхером, а мятеж Штрассера быстро провалился. Теперь Шлейхер пытался побудить Гинденбурга на новый роспуск рейхстага, но президент устал править с помощью статьи 48. Он снова уполномочил Папена создать правительство, работающее при парламентской поддержке. Папен провел переговоры сначала с председателем НННП[61] Гугенбергом, а затем с Гитлером, который согласился участвовать в правительстве при условии, что получит пост рейхсканцлера. С тем, что в кабинете останутся консервативные сторонники Гинденбурга и Папена, он был согласен. Гитлер, требовавший до сих пор «все или ничего», казался теперь скромным и умеренным в своих запросах, так что Папен и Гинденбург согласились на его условия.
Президент до последнего противился назначению Гитлера канцлером, но был не в состоянии противостоять в течение длительного времени своим советникам, которые все без исключения выступали за создание правительства «национальной концентрации» во главе с Гитлером. Последний не требовал также, в отличие от предшествовавших кандидатов на пост канцлера, правления с помощью чрезвычайных декретов, а объявил выборы в рейхстаг — последние (о чем он приказал известить со скрытым двойным смыслом). После них кабинет Гитлера — Гутенберга должен будет опираться на широкое парламентское большинство из НСДАП и НННП. Эти заявления подействовали на Гинденбурга успокаивающе. Гитлер, считал президент, будет окружен его доверенными лицами, и бремя ответственности за режим чрезвычайных декретов, а также за длительное балансирование на грани нарушения конституции будет снято с него, Гинденбурга. Тем не менее президент колебался. Но целенаправленно сфабрикованные и недостоверные слухи о том, что Шлейхер планирует путч против президента, оказались для Гинденбурга последней каплей. Теперь, полагал он, Гитлеру больше нет альтернативы. Тридцатого января 1933 г. Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером. Пробил смертный час Веймарской республики.
XI. Великогерманское безумие (1933–1942)
Вечером 30 января 1933 г. никто не сомневался в том, что Веймарская республика уже мертва, но о будущем существовали самые разные представления. Этот день сохранил в памяти воспоминания лишь у приверженцев НСДАП, которые отмечали его, словно явление мессии. Однако определенная часть общества не была склонна считать сладостной музыкой быстро заполняющий все вокруг пропагандистский шум, издаваемый новой правительственной машиной. Британский посол сообщал из Берлина, что пресса «восприняла назначение Гитлера рейхсканцлером с философским спокойствием», и добавлял: «Население отреагировало на это равнодушно». Прежние парламентские силы даже не думали о том, чтобы объединиться для отражения опасности. В руководящих кругах социал-демократии новое положение сравнивали с Исключительным законом против социалистов времен Бисмарка — казалось, что хуже быть не может. Консервативным помощникам Гитлера будущее представлялось радостным. Считалось, что Гитлер «окружен» консервативными министрами. Папен уверял своего знакомого: «Чего же вы еще хотите — Гинденбург доверяет мне. Через два месяца мы так прижмем Гитлера в угол, что он завизжит».
Чтобы объяснить такой тон, следует иметь в виду, что пока не был приобретен опыт, на который современники в 1933 г. могли бы опереться в своей оценке национал-социалистического режима. Вторая мировая война и Освенцим еще скрывались во мраке будущего, а те немногие люди, которые читали программную книгу Гитлера «Майн кампф», не были склонны воспринимать ее серьезно: жизненная практика подтверждала, что идеологические заявления — это одно, а фактические политические действия — совсем другое. В остальном же в повороте к авторитарному режиму не было ничего необычного. С 1930 г. немцы уже привыкли к тому, что парламентский контроль за политикой почти отсутствовал, — взирая на Европу, они чаще всего видели то же самое. В большинстве европейских стран правили диктаторы. Там же, где этого не было, например во Франции, царила внутриполитическая неуверенность, отнюдь не способствовавшая демократии. Создавалось впечатление, что во время большого экономического кризиса демократии обанкротились, что пришло время сильных людей — у каждого перед глазами маячил образ Муссолини, которым открыто восхищались даже такие либералы, как главный редактор газеты «Берлинер тагеблатт» Теодор Вольф, и социалисты, например Курт Гиллер. Общественность совершенно неверно оценила Гитлера именно потому, что он был не политиком, а идеологом и революционером, что ему были чужды основополагающие положения европейской политики: они были ему попросту безразличны. Гитлер хотел лишь одного: установления мирового господства «высшей» расы на костях «низших». Он всегда фанатично шел к этой цели, хотя зачастую и скрывал ее под завесой тактических маневров.
Чтобы достичь желаемого, сначала следовало установить прочное господство национал-социалистов. Партия Гитлера должна была полностью «пронизать» собой Германию. То, что обычно называлось «захватом власти», на самом деле было процессом, длившимся полтора года. Первый шаг состоял в устранении из германской политики партикулярных элементов, т. е. партий и земель. Вероятно, поджог рейхстага 27 февраля 1933 г. не был запланированной национал-социалистами провокацией, а явился делом рук анархиста-одиночки, но данный факт не имел никакого значения для последствий. Изданное по этому поводу «Распоряжение о защите народа и государства» отменило основные права, предоставленные формально продолжавшей действовать Веймарской конституцией, и обосновало существование перманентного чрезвычайного положения, которое облегчило режиму соединение охоты на своих противников с видимостью существования прав. Штурмовые отряды (СА) с конца января действовали более или менее самостоятельно. Они были объявлены вспомогательной полицией, терроризировали всех инакомыслящих, отправляли их в «дикие» концлагеря, пытали и убивали. В обстановке запугивания 5 марта 1933 г. прошли последние многопартийные выборы, но и в этих условиях НСДАП получила лишь 43,9% голосов избирателей. Эта партия никогда не избиралась большинством немецкого народа. Последующие плебисциты с результатами более 90% проводились в особых условиях тоталитарной диктатуры, для которой такие цифры — обычное дело.
В новый рейхстаг больше не входили депутаты-коммунисты: после поджога рейхстага КПГ была запрещена. Двадцать третьего марта 1933 г. Гитлер представил «Закон о чрезвычайных полномочиях»[62], в результате которого парламент и конституционные органы контроля окончательно «исключались», а правительство получало право осуществлять законодательную деятельность без рейхстага и рейхсрата. Перед партиями встал вопрос, должны ли они лишиться своих полномочий. В конце концов, движимые принуждением и соблазном, они одобрили этот закон. Но было одно похвальное исключение: фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ), несмотря на жесточайший террор, выступила против «Закона о чрезвычайных полномочиях», и ее председатель Отто Вельс, несмотря на распоясавшихся штурмовиков, не мог себе отказать в чтении мужественной надгробной речи над мертвой демократией.
Через месяц после запрещенного 2 мая того же года социал-демократического объединения свободных профсоюзов, вопреки их попыткам сотрудничать с новым режимом, была ликвидирована СДПГ, многие ее функционеры отправлены в концлагерь, а некоторые из них убиты. Буржуазные партии предпочли добровольно, как это называлось в то время, «самораспуститься». К середине 1933 г, в Германии оставалась лишь одна партия — партия Адольфа Гитлера. Самостоятельность земель, это древнее наследие немецкой истории, также была в течение нескольких месяцев жестко и противоправно ликвидирована. На смену премьер-министрам пришли представители имперской власти (рейхсштатгальтеры) — революционное единое государство стало действительностью.
Однако захват власти означал не только устранение мешающих конкурентов, но и овладение инструментами государственной власти. Двумя ее опорами были бюрократия и военщина. По «Закону о восстановлении профессионального чиновничества» от 7 апреля 1933 г. произвольно увольнялись неугодные чиновники, прежде всего демократы, либералы и евреи; их сменили сторонники НСДАП. С рейхсвером дело обстояло сложнее: рейхсвер, за исключением некоторых молодых офицеров, выступал против Гитлера и его партии. По отношению к режиму вооруженные силы были настроены скептически, почти враждебно, пролетарски-хвастливые манеры национал-социалистов не нравились многим офицерам старой гвардии. В первую очередь это относилось к СА — партийной армии, которая все громче требовала второй революции, «ночи длинных ножей», направленной против бастионов буржуазии и консервативного госаппарата, и которая претендовала на то, чтобы стать армией национал-социалистического государства. Для рейхсвера, считавшего себя единственным гарантом государственности, это было дерзким незаконным притязанием.
В данном вопросе проявились в первую очередь интересы руководства рейхсвера и интересы Гитлера, который был в достаточной степени реалистом, чтобы увидеть, что рейхсвер как инструмент власти был для него полезнее, чем СА. Гитлер начинал опасаться тщеславия и революционного подстрекательства начальника штаба СА Эрнста Рема. Так случилось, что рейхсвер участвовал в устранении и подавлении СА в рамках так называемого путча Рема 30 июня 1934 г. и тем самым стал соучастником убийств, жертвами которых пали многие противники Гитлера. То, что рейхсвер оставался спокойным, когда убивали его генералов Шлейхера и Бредова, сделало руководителей рейхсвера сообщниками неправового государства. После волны убийств специалист по государственному праву Карл Шмитт употребил формулировку: «Фюрер защищает право». Тем самым произвол диктатора был возведен в степень высшего закона.
Но речь шла не только о том, чтобы овладеть инструментами государства. Тоталитарная диктатура укрепляется лишь тогда, когда овладевает сознанием людей. Деятели в сфере духовной культуры: либералы, демократы, социалисты — преследовались, и если не исчезали в концлагерях, то принуждались к эмиграции. Их книги публично сжигались, картины, музыка клеймились как «ненемецкие» и «дегенеративные». С сентября 1933 г. культурная жизнь Германии управлялась министром пропаганды Йозефом Геббельсом через вновь созданную Имперскую палату культуры и была поставлена на службу национал-социалистическому государству, хотя до начала войны продолжали существовать резервации для «неподходящих» писателей и художников.
Стремление к «духовности» шло еще дальше. Из университетов увольняли неугодных профессоров и доцентов, зачастую заставляли эмигрировать. Однако немало их коллег поспешили положить к ногам коричневых властителей учебные заведения, когда-то далекие от государства. Аналогичная ситуация складывалась и в церкви. В евангелической церкви ширилось движение «немецких христиан», ориентированных на идеологию народности и принцип фюрерства. Против них на Бармском синоде в мае 1934 г. сформировалась так называемая «исповедальная церковь», которая, несмотря на государственные притеснения и аресты ее членов, противостояла национал-социализму. Новый режим вызывал симпатии среди католического духовенства, прежде всего после заключения 20 июля 1933 г. имперского конкордата; но и здесь, в особенности когда стали известны национал-социалистические планы относительно эвтаназии[63], ширилось сопротивление, достигшее кульминации в папской энциклике «С крайней озабоченностью» от 1937 г.
Там, где было недостаточно «духовности», применялся государственный террор, который ассоциировался с именами Генриха Гиммлера, Рейнхарда Гейдриха и знаком СС — небольшого элитного национал-социалистического формирования, ставшего в Третьем рейхе полицейской властью и тем самым превратившегося во всесильный инструмент террора, «чисток» и воспитания. От центрального здания с его административными помещениями и подвалами для пыток, главной квартирой гестапо и верховного управления имперской безопасности на берлинской улице Принц-Альбрехтштрассе государственная сеть СС тянулась к полицейским властям, к мрачному миру концлагерей, к воинским частям, находившимся в распоряжении СС, к «главному управлению по делам расы и поселений», призванному осуществлять гитлеровскую расовую доктрину. Отсюда велась борьба против врагов режима — политических и идеологических, а также расовых, что означало прежде всего борьбу против евреев.
Дуалистическая манихейская[64] расовая доктрина национал-социализма нуждалась в качестве антипода «святости» и «лучезарного арийства» в социальной группе, которая вследствие объективной принадлежности к определенной расе олицетворяла бы все злое, плохое и извращенное. Согласно особой традиции, насчитывавшей в Европе уже тысячу лет, отыскать исполнителя на роль сатаны и аутсайдера было нетрудно: эта роль отводилась евреям. Однако последовательного долговременного планирования преследования евреев не было: оно зависело от внешне- и внутриполитических обстоятельств, но всегда отвечало к конечным идеологическим целям режима. Террористические и пропагандистские акции партии «снизу» — от инсценированного Геббельсом бойкота евреев 1 апреля 1933 г. до «имперской хрустальной ночи» 9 ноября 1938 г. — сменились государственно узаконенными мероприятиями «сверху». К ним относился «Закон о восстановлении профессионального чиновничества», по которому подлежали увольнению чиновники-евреи; затем последовал «Закон об обороне» от 21 мая 1935 г., исключавший евреев из «почетной службы немецкому народу». По «Нюрнбергским законам» от 15 сентября 1935 г, обладание политическими правами и должностями ставилось в зависимость от доказательства «арийского происхождения». Немецкие евреи окончательно стали людьми второго сорта, лишились гражданских прав, заключение браков между евреями и неевреями запрещалось. По этим законам основы правового государства извращались и деформировались. Притеснение и дискриминация немецких евреев получили юридическую базу.
Таблица немецких рас.
Плакат, 1935 г.
В иерархии рас выше всех стояли «арийцы», ниже всех — евреи. Не совсем ясно, как должен был выглядеть «ариец». Однако считалось признанным» что кроме скандинавов и англичан лишь немцы имеют характерные для высшего «расового сообщества» черты, наличие которых должно было обосновать притязание немцев на мировое господство. Знатоком «немецкого расового сообщества» считал себя бывший специалист по выведению новых пород птиц рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (главный проводник массового террора в Германии и на оккупированных территориях), объявивший свои одетые в черную униформу войска «орденом чистоты германской расы», члены которого могли вступать в брак строго по расовым родословным.
Преследование и насилие были одной стороной режима, а другой — совращение, ослепление и обольщение. Едва ли существовали социальные группы, чьи политические интересы и коллективные надежды национал-социализм не поддерживал бы и не подпитывал. На рабочий класс оказало большое впечатление предоставление работы (например, строительство автобанов), снижение уровня безработицы, улучшение социальных показателей на предприятиях и массовые акции под девизом «сила через радость». Ремесленники и мелкие торговцы выигрывали от увеличения налогообложения ненавистных им универмагов и от ужесточения практики выдачи разрешений на открытие мастерских, крестьяне — от протекционистских пошлин на сельхозпродукцию и повышения внутренних цен на сельскохозяйственные товары, промышленники — от прекращения участия рабочих в управлении предприятиями, от отсутствия конфликтов из-за тарифов и роста госзаказов, прежде всего в военной промышленности. Так же дела обстояли и в отношении других профессий, сословий и организаций: в какой-то мере выиграл почти каждый соотечественник — член народного сообщества, причем не только материально, но, что еще важнее, морально.
Собственно, это и было основой внутренних успехов национал-социалистов: в отличие от расчетливой и рациональной демократии диктатура реагировала на чувства и эмоции. Большую роль играло обращение к традициям. Отныне на Дне Потсдама[65], на котором, взывая к духу Фридриха Великого, был создан правящий союз революционных национал-социалистов с прусскими консерваторами — немецкими националистами, или на ежегодных праздниках урожая в Бюккебурге произносившиеся возвышенные клятвы верности крестьянским обычаям служили тому, чтобы привязать аграрное среднее сословие к новому государству. Политические инсценировки, роскошная театрализация лозунгов, соединение повседневности с символами, полными смысла, — никакой другой режим столь великолепно не владел этой техникой, как национал-социалистический. Олимпийскими играми 1936 г. в Берлине, ежегодными имперскими партсъездами в Нюрнберге с их потрясающе точной хореографией массовых маршей, похожими на церковные службы культовыми действами, магическими ритуалами спасения укрепляли чувство превосходства нации и неразрывного народного единства. Это чувство глубоко проникало в сознание участников и зрителей этих представлений и полностью овладевало ими. Даже британский посол Артур Гендерсон в сообщениях из Нюрнберга восхищался «красотой представления» и куполами из света: «как будто находишься в соборе изо льда».
Молодежь служит фюреру.
Плакат, около 1939 г.
Текст плаката: «Молодежь служит фюреру. Все десятилетки — в “Гитлерюгенд”».
С помощью нацистской молодежной организации «Гитлерюгенд» (молодежь Гитлера) и с 1936 г. на основе закона «О молодежи в государстве» национал-социалистическое государство сознательно эксплуатировало стремление молодежи собираться вместе, поощряло романтику лагерных костров. С 1940 г. членство в «Гитлерюгенд» или «Союзе немецких девушек» было обязательным для всех молодых людей. Задачи «Гитлерюгенда» Гитлер объяснил на имперском партсъезде НСДАП в 1935 г.: «Мальчик идет в “Юнгфольк” (молодой народ), подросток — в “Гитлерюгенд”, затем он вступает в СА, в СС или другие формирования, члены СА и СС затем призываются на трудовую службу, в этих организациях молодой человек становится солдатом народа…».
Купол собора, созданный из света, брошенного ввысь лучами десятков мощнейших прожекторов противовоздушной обороны, — этот символ больше, чем какой-либо другой, подходил для выражения двойственного характера обращения национал-социалистов к чувствам; последние достижения техники в паре с глубочайшим архаизмом, Такой контраст стал типичен для самоощущения Третьего рейха: с одной стороны, автобаны, серебристые эмблемы «мерседеса», народный радиоприемник, народный автомобиль «фольксваген», первый в мире дизельный самолет, а с другой — германские мифы, рыцарские замки и праздники солнцеворота. Самая современная техника и заклинание смерти срослись воедино.
Членство в НСДАП в 1919–1945 гг.
Не только по своему социальному составу, но и по числу членов партии НСДАП превращалась в народную партию. Кривая отражает поворотные пункты истории: падение влияния партии после гитлеровского путча 1923 г., постепенный подъем партии в годы кризиса с 1928 г., взлет — после прихода нацистов к власти, аннексии Австрии в 1938 г. и военных побед до 1942 г., а также в определенной степени и после этого. В 1945 г, каждый пятый взрослый немец был членом НСДАП.
Бесспорному одобрению гитлеровского режима большинством населения способствовало и то, что этот режим шел от одного внешнеполитического успеха к другому, а это представляло собой резкий контраст с его менее удачливыми демократическими предшественниками. При этом общественность не замечала того, что на самом деле стояло за внешнеполитической активностью Третьего рейха: Гитлер с первого дня своего пребывания в кресле рейхсканцлера жаждал большой войны, с помощью которой хотел не только пересмотреть Версальскую систему, но и завоевать «национальное жизненное пространство» и установить мировое господство «арийской расы». Уже через четыре дня после своего назначения рейхсканцлером он, выступая перед командующими силами рейхсвера, совершенно открыто призвал к «завоеванию нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадной германизации». К сожалению, нам неизвестна реакция генералов. Действуя тактически грамотно, Гитлер сигнализировал о готовности Германии к достижению внешнеполитического взаимопонимания, что смягчило критическую и враждебную реакцию западных демократий на «захват власти». Но в то же самое время он форсировал подготовку к войне.
Голосование в Саарской области 13 января 1935 г. о ее присоединении к рейху, а еще больше — германо-британское морское соглашение от 18 июня того же года показали успехи Гитлера-политика и готовность западных держав к уступкам.
Шестнадцатого марта 1935 г., Гитлер провозгласил разрыв Версальского договора и восстановление в Германии всеобщей воинской повинности. Через год вермахт[66] занял демилитаризованную Рейнскую область, не обращая внимания на формальные протесты Англии и Франции. В 1936 г. была создана «ось Берлин — Рим» и заключен Антикоминтерновский пакт с Японией, т. е. союзы с ярко выраженной антисоветской направленностью.
Однако желаемого Гитлером сближения Германии с Англией не получилось, во-первых, потому, что немецкий посол в Лондоне, а в дальнейшем министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп проводили неприкрытую антианглийскую политику; во-вторых, потому, что германо-японский союз угрожал британским интересам на Дальнем Востоке. Вмешательство Германии в гражданскую войну в Испании, во время которой шла проверка военно-воздушных сил рейха на их готовность к войне, способствовало охлаждению германо-британских отношений. С другой стороны, в Министерстве иностранных дел Германии с интересом отмечали, что британские политики опасались втягивания в европейские конфликты, и Гитлер имел повод полагать, что он сохранит свободу рук при подготовке дальнейших шагов, направленных на расширение германских границ.
С 1936 г. широко развернулись приготовления к войне. Гитлер в памятной записке о четырехлетнем плане обосновывал его необходимость тем, что германская экономика за четыре года должна подготовиться к войне. С этого момента экономическое планирование и производство были сконцентрированы на осуществлении этой цели. Пятого ноября 1937 г., выступая с изложенным в «Хоссбахском протоколе» обращением к рейхсминистру иностранных дел и командующим родами войск, Гитлер встретил противодействие своим экспансионистским планам в отношении Восточной Европы. Рейхсминистр иностранных дел барон Константин фон Нейрат указал на внешнеполитический риск, а главнокомандующий сухопутными войсками барон Вернер фон Фрич усомнился в экономической и военной способности Германии к крупномасштабным эффективным военным действиям. Годом позже оба критика были заменены более сговорчивыми преемниками.
Имперские автострады Германии.
В последние годы Веймарской республики было запланировано строительство автострад (автобанов) по американскому примеру. Однако сооружение автобана Гамбург — Франкфурт-на-Майне — Базель совпало с мировым экономическим кризисом. Национал-социализм возобновил и развил эти планы и превратил строительство автострад в шумную пропагандистскую кампанию по созданию рабочих мест, В 1936 г, на строительстве автобанов было занято 120 тыс. рабочих. Для того чтобы занять на стройке как можно больше людей, нацисты сознательно экономили на механизации работ. Военно-стратегическое значение автобанов было не столь велико и с 1936 г. работы по их сооружению постепенно сворачивались, так как для подготовки к войне требовались рабочие руки.
Двенадцатого марта 1938 г., после того как выяснилось, что Англия и Италия не станут вмешиваться в действия Гитлера, германский вермахт вошел в Австрию. Присоединение к Германии (аншлюс) немцы и большая часть населения Австрии встретили с восторгом. Раздел 1866 г. был преодолен. Великая Германия, приверженцами которой были и либералы из собора Св. Павла, в 1848 г.[67], и социал-демократы веймарского Национального собрания 1919 г., стала реальностью — упоительной действительностью, которую весьма ощутимо почувствовали прежде всего меньшинства: австрийские евреи, либералы, католики и социалисты. Их арестовывали под покровом ночи, если они не успевали своевременно эмигрировать.
Успех Гитлера показал, что ему не следует опасаться западных держав. Уже 28 марта 1938 г. он принял решение аннексировать Чехословакию. Через два дня вермахт получил приказ готовить захват этой страны. Ввод немецких войск в Чехословакию официально назначался на 1 октября того же года. Западные державы вновь оказали слабое сопротивление и ограничились лишь дипломатическими мерами. На Мюнхенской конференции 29 сентября 1938 г. Англия, Франция и Италия, чтобы предотвратить войну, согласились на аннексию Германией Судетской области. Подписанный на следующий день английским премьер-министром Чемберленом и Гитлером германо-британский пакт о ненападении должен был убедить общественность Запада, что Гитлер пойдет на компромисс и удовлетворится предложенной ему «политикой умиротворения».
Но Гитлер и не думал об этом. «План Зет» (направленный против Англии план строительства флота) осуществлялся в то же самое время, когда Гитлер говорил Невиллу Чемберлену о мире. Пятнадцатого марта 1939 г. вермахт занял оставшуюся часть Чехии, тем самым показав истинную цену дипломатических соглашений между гитлеровской диктатурой и западными демократиями. Лишь после этого британское правительство прибегло к ответным мерам, гарантировав независимость Польши и пытаясь при этом оживить старый предвоенный союз с Россией. Но и здесь Гитлер опередил Чемберлена. Двадцать третьего августа 1939 г. рейхсминистр иностранных дел Риббентроп заключил соглашение со Сталиным, которое превратило германо-советский пакт о ненападении в реальность. В секретном дополнительном протоколе к этому пакту оба диктатора разделили сферы влияния в Центральной и Восточной Европе. Разграничительная линия между ними проходила по середине польского государства. Гитлер почти достиг цели. Он и представить не мог, что западные державы помешают ему провести новый раздел Польши. О своих намерениях Гитлер без всякого стеснения сообщил комиссару Лиги Наций в Данциге Карлу Якобу Буркхардту. По сообщению последнего, 11 августа 1939 г. Гитлер сказал, что все, к чему он стремится, — это подчинить Россию. Но если Запад настолько слеп, что не хочет ему в этом помочь, то он договорится с Россией, разобьет Запад, а затем выступит против СССР.
Первого сентября 1939 г. германские войска вошли в Польшу, а через семнадцать дней Красная армия перешла польскую восточную границу. В Германии настроение людей на улицах было иным, чем в 1914 г.; даже одетые в коричневую униформу депутаты рейхстага выглядели подавленными: мало кто верил, что эта военная авантюра будет иметь успех. Вопреки ожиданиям Гитлера западные державы не отступили, а объявили Германии войну. Так началась Вторая мировая война, которую сознательно развязал Гитлер, которая стала возможной при непосредственном соучастии Сталина и которая не была предотвращена Западом, оказавшим запоздалое сопротивление военной политике Германии. При всех ужасах и военных преступлениях, совершенных в дальнейшем участниками этой войны, нужно всегда помнить о том, что главная вина за ее развязывание лежит на немцах, в намного меньшей степени — на советском руководстве, в то время как западные державы вели справедливую оборонительную войну.
Победа Германии над Польшей, которую облегчило советское вторжение в страну, была достигнута через пять недель. По реке Буг прошло разграничение территорий, завоеванных Германией и СССР. После того как в западной части Польши установилась власть СС и гестапо, а в восточной — господство НКВД, военная машина рейха повернула в Западную Европу. Чтобы упредить соответствующие намерения Англии и Франции по обеспечению стратегической безопасности северного фланга, Германия для получения выхода в Атлантику ввела 9 апреля 1940 г. свои войска в Данию и Норвегию, а 10 мая 1940 г. началось германское вторжение в Нидерланды, Бельгию и во Францию. Вопреки ожиданиям военных экспертов, включая и специалистов из командования вермахта, поход на Запад стал триумфом военного руководства Гитлера. Теперь он не только достиг вершины популярности в Германии, но и стал непререкаемым военным авторитетом, заставив замолчать оппозиционно настроенных немецких офицеров. Еще существовавшие в Германии силы сопротивления лишились мужества.
Великобритания стала следующей целью Гитлера. Он по-прежнему надеялся на уступку со стороны Лондона и с большой неохотой отдал в августе 1940 г. приказ о начале воздушных налетов на Англию. Для германских военно-воздушных сил (люфтваффе) она оказалась намного менее успешной, чем обещал фюреру командующий люфтваффе Герман Геринг. Однако главной целью Гитлера была война против России, о чем он заявил представителям Верховного главнокомандования вермахта уже 31 июля 1940 г. Так как Великобритания не была побеждена и не думала капитулировать, Гитлер изменил свои стратегические планы. Если вначале он хотел принудить строптивицу к миру и лишь потом напасть на Советский Союз, то затем объяснял, что для того, чтобы выбить из рук Англии «континентальную шпагу» и принудить ее к миру, нужно сначала победить СССР. Это была та же самая роковая ошибка, которую в 1812 г. допустил Наполеон, надеявшийся разбить Англию в Москве. Стратегическую ситуацию дополнительно осложнял самостоятельный поход Муссолини против Греции; этот поход вскоре провалился, и в помощь Италии в район Средиземноморья понадобилось вводить крупные части вермахта.
Двенадцатого ноября 1940 г. в Берлин прибыл министр иностранных дел СССР В.М. Молотов, чтобы объявить о дальнейших советских территориальных притязаниях, простиравшихся от Финляндии до Турции. Поэтому Гитлер счел необходимым еще раз подтвердить свой долго вынашиваемый план нападения на Советский Союз; теперь он чувствовал себя связанным намеченными сроками. Восемнадцатого декабря того же года он подписал «Директиву № 21» о плане «Барбаросса» по поводу подготовки нападения на СССР. Гитлер рассчитывал на вступление в войну США в 1942 г. и хотел до этого завершить другие военные операции. После победных военных кампаний против Польши и Франции он верил в то, что за несколько недель сможет победить и Россию. Гитлер как хозяин колониальной империи, которая должна была простираться до «восточного вала», задумал оградить свою великую континентальную империю бастионами против англосаксов, сооруженными по линии Архангельск — Каспийское море, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Северо-западной Африке. После создания на основе автаркии[68] застрахованной от блокады континентальной Европы под немецким господством, должна была последовать «мировая молниеносная война» — как ее назвал немецкий историк Андреас Хильгрубер — против США. Японскому союзнику в этом плане отводилась особая роль, причем расовые предрассудки были отринуты в силу стратегической необходимости.
Если ты увидишь этот знак…
Листовка, 1941 г.
«На рю Рояль я в первый раз в жизни увидел желтые звезды на одежде трех молодых девушек, прошедших рядом со мной плечо к плечу. Эти знаки выдали вчера.., Я считаю подобное событие глубоко личным, датой, которая остается в памяти, Эта встреча оказала на меня большое воздействие — я даже стал стесняться того, что на мне надета униформа» (Эрнст Юнгер. «Штралунген», 7.6.1942).
* * *
КАК ФУНКЦИОНИРОВАЛА НСДАП
В национал-социалистической Германии государство, партия и народ мыслили как единое целое. Партия вышла далеко за пределы рядов «товарищей по партии», внедрилась в народ. В 1939 г. 36 землям и провинциям государства на уровне партийных структур соответствовали 40 партийно-территориальных образований — «гау». За «гау» шли округа, затем местные партгруппы, ячейки и внизу, самой основе, — блоки, объединявшие примерно 50 дворов или домов. Староста блока и руководитель ячейки в зоне своей ответственности держали под контролем частную жизнь каждого отдельного члена «народного сообщества», они контролировали степень верности населения режиму и докладывали о каждом отклонении от «единственно правильной партийно-государственной линии», т.е. были и партийными функционерами и полицейскими органами одновременно.
Двадцать второго июня 1941 г. началась операция «Барбаросса» война против Советского Союза. Красная армия, хотя и эшелонированная для наступления, была захвачена врасплох, целые армейские корпуса попали в плен. Невероятные первоначальные успехи укрепили уверенность Гитлера и командования вермахта в скором победном окончании похода на Восток; уже началась подготовка к грядущей борьбе против англо-американцев: тяжелое вооружение перемещалось с места расположения сухопутных сил на корабли военно-морского флота. Но осенью немецкое наступление на Востоке замедлилось, чтобы зимой остановиться совсем. Стратегическая концепция Гитлера вновь была перечеркнута.
Одиннадцатого декабря 1941 г., через несколько дней после нападения японцев на Пёрл-Харбор, фюрер, несмотря на то, что его «бронированный кулак» натолкнулся на решительное сопротивление под Москвой, объявил войну США. Причиной служило стремление поддержать Японию в войне и не допустить японо-американского примирения. Сначала вступление США в войну почти не повлияло на ее ход. В первой половине 1942 г. в ставке Гитлера еще сохранялась надежда на победу. На юге России и в Африке германские армии неудержимо рвались вперед. В это же время японцы взяли Сингапур. В середине года немецкие войска достигли хребтов Кавказа и находились в нескольких километрах от Александрии; морской флот союзников нес огромные потери от атак немецких подводных лодок. Германское могущество достигло высшей точки.
Для оккупированной Европы это означало господство вермахта и СС. Если в Западной Европе германская военная оккупация в основном носила обычные для нее черты, хотя и там, прежде всего в ходе борьбы с партизанами, тайная государственная полиция (гестапо) и служба безопасности (СД) осуществляли противоправные и жестокие акции против гражданского населения, а также против евреев и цыган, то действия СС на Востоке не оставляло никаких сомнений в том, чту ждет здесь население в случае победы Германии. В Польше у нацистов была возможность претворить расовую идеологию в жизнь: польские элиты систематически уничтожались, миллионы евреев изгонялись из своих местечек, чтобы освободить место для «фольксдойчен» — этнических немцев из Восточной Европы. Началось чудовищное перемещение народов, предшествовавшее переселениям 1945 г. Аналогичная картина складывалась в оккупированной части СССР. В тылу вермахта, который здесь чаще, чем на Западе, прибегал к противоправным методам борьбы, действовали подразделения СД, не только без лишних церемоний уничтожавшие советских функционеров — «комиссаров», но и с самого начала осуществлявшие систематическую охоту на евреев. Лагеря для военнопленных красноармейцев напоминали загоны для скота, где сознательно создавались такие условия, при которых большая часть пленных не имела никаких шансов на выживание.
Для населения Германии военные будни, в отличие от Первой мировой войны, не стали синонимом голода. До 1944 г. серьезных проблем со снабжением не существовало: для его обеспечения беззастенчиво грабились оккупированные страны. Война усиливала присущие тоталитарным государствам тенденции: милитаризацию общественной жизни, заорганизованность, социальную «уравниловку». Под «рационализацией» режим понимал использование социальной зависти и классовых противоречий в своих интересах. Призыв к общенациональной солидарности, включение каждого соотечественника — «члена народного сообщества» в какую-либо партийно-государственную организацию, растущий контроль со стороны соглядатаев — старших по дому и соседей-недоброжелателей, а после учащения бомбовых налетов объединение в «сообщество обитателей бомбоубежищ» — все это формировало нивелированное, становящееся все более единой массой население. Это «единство» формировалось и «народными радиоприемниками», по которым можно было слушать лишь одно общее для всех геббельсовское радио, миллионы раз повторявшее призывы к рационированию продовольствия, и общей для всех «развлекательной культурой» — культурой «Лили Марлен», Марики Рёкк и Отто Гебюра. Все, что оставалось несогласным, — это уйти в личную жизнь, отгородиться от внешнего мира и ограничиться решением насущных проблем, чтобы обеспечить выживание.
В то же время режим строил планы на будущее. В разгар войны началась полная реконструкция имперской столицы. На месте старого Берлина после окончательной победы предполагалось создание столицы мира — Германия. Началось сооружение сети ширококолейных железных дорог, которая должна была протянуться через всю Европу вплоть до Урала; рядом с этими гигантами прежние железные дороги казались детскими игрушками. Архитекторы из СС строили планы «тотенбургов»[69] — мегаполисов в Африке и на Днепре.
Однако прежде всего планировалось систематическое уничтожение «изначального врага». Уже 30 января 1939 г. Гитлер сказал, выступая в рейхстаге, что результатом мировой войны станет «уничтожение в Европе еврейской расы». Война Гитлера не была войной за гегемонию обычной войной, какие испокон веков велись в Европе. Гитлеровская война была расовой. Лишь «высшие в расовом отношении и гомогенные» народы были, по мнению Гитлера, способны на длительное господство. Но этому мешал всемирно-исторический противник «арийской расы» — еврейство, его «разлагающее» влияние на «арийскую природу». По мнению Гитлера, и Веймарская республика, и западные демократии стали жертвой «тлетворного еврейского влияния», а СССР — это первое полностью и окончательно попавшее под «еврейское влияние» государство, источник заражения для остального мира. Из гитлеровской логики неизбежно следовало, что необходимо избавить немецкий народ от «гнета» еврейства и обеспечить немцам принадлежащее им жизненное пространство на территории Восточной Европы, где им принадлежит роль господ над якобы расово неполноценными славянами, низведенными до положения колониальных народов. Мировую войну следовало вести по этой извращенной логике; конечная цель — уничтожение еврейства.
Развязав Вторую мировую войну, германское руководство не стремилось прежде всего к ревизии результатов Первой мировой воины, как считали многие консервативные помощники Гитлера и как некоторые думают и сегодня. Речь не шла об установлении господства в классическом смысле европейской политики, т. е. о завоевании экономического пространства и о разрядке внутреннего напряжения с помощью военной силы. Ни одна из причин войны, известных ранее в истории Европы, не объясняла действий Германии во Второй мировой войне; по словам Гитлера, эта война обосновывалась главным образом «вступлением в решающую схватку с еврейско-большевистским смертельным врагом» на завоеванном национал-социалистами великом евразийском пространстве.
Все события, происшедшие до начала войны против СССР, разворачивались лишь на тактическом предполье. Нападение на Польшу освобождало пространство для наступления вермахта на Востоке. Победа над Францией, как и попытки достижения компромисса с Великобританией на основе раздела мира, должна была развязать руки также для действий на Востоке. Сразу после победы над Польшей миллионы евреев были депортированы и согнаны в гетто в крупных польских городах. В то же время отделение от общества и «маркировка» желтой звездой немецких евреев в итоге стали подготовкой в прямой связи с операцией «Барбаросса» к войне против СССР, — подготовкой к целенаправленному и беспощадному уничтожению еврейства как предпосылки к достижению германского мирового господства.
Опыт массовых убийств уже существовал: с октября 1939 г. началось выполнение программы эвтаназии — «легкой смерти», при осуществлении которой были расстреляны, умерщвлены газом или убиты с помощью инъекций почти 80 тыс. душевнобольных. Нацисты стремились распространить этот опыт на уничтожение евреев. Предположительно летом 1941 г. Гитлер издал приказ об «окончательном решении» еврейского вопроса. Точная дата появления приказа дискуссионна: Гитлер стремился отдавать криминальные приказы устно, не оставляя в документах подписи, которая могла свидетельствовать о его преступлениях.
После почти полугодовой технической и административной подготовки руководители учреждений, участвовавших в «окончательном решении», собрались 20 января 1942 г. на вилле на берегу берлинского озера Ванзее, чтобы согласовать последние организационные вопросы. Но организованное массовое убийство уже давно шло полным ходом. В России айнзацгруппы (оперативные группы) СД с самого начала войны проводили массовые расстрелы, а осенью 1941 г. в польский концентрационный лагерь Хелмно прибыли первые специалисты по эвтаназии, чтобы уничтожить здесь 100 тыс. нетрудоспособных евреев — подвергнуть их «особому обращению». С осени 1941 г. начались массовые убийства в Бельжеце, а с января следующего года заработали газовые камеры в Освенциме.
Вся индустрия массового уничтожения была скрыта от посторонних глаз; со времени протестов католической церкви против эвтаназии режим осуществлял свои самые страшные преступления тайно.
Однако уничтожение европейского еврейства как нации было бы невозможно без прямого или косвенного соучастия многих властей, организаций, служб, большого числа людей. Если во время войны оставались неизвестными масштабы и подробности уничтожения евреев, то, что касается немецкого населения, оно имело достаточно доказательств злодеяний нацистов, а также информации об очевидных фактах истребления евреев. Депортации проходили открыто, отправка евреев на Восток была всем известна, сотни тысяч солдат-отпускников, приезжавших из России, сообщали о массовых расстрелах. Большая часть населения не могла оставаться в полном неведении и, возможно, предполагала, что происходит на самом деле, но применявшиеся «механизмы вытеснения» и видимость оправдания были сильнее признания вины и ужаса от содеянного.
XII. Конец Германии и новое начало (1942–1949)
Большинству немцев, как и многим иностранным наблюдателям, эпоха с 1933 по 1942 г. представлялась временем расцвета германского рейха под руководством Гитлера. Германия увеличилась, подобно сверхновой звезде, возникшей в результате гигантского взрыва. Однако вскоре энергия была выработана, и звезда превратилась в холодную, сжавшуюся черную дыру. С рубежа 1942–1943 гг. военная инициатива Германии была ограничена: немецкие войска отступали. На самом деле перелом в войне начался уже в 1941 г.(когда армии вермахта завязли под Москвой, хотя это и не сразу стало ясно участникам событий. После капитуляции 6-й германской армии под Сталинградом 2 февраля 1943 г. населению Германии постепенно становилось ясно, что победа отдаляется все больше и больше. С этих пор поражения следовали одно за другим. Выдвинутая немецким командованием концепция «крепость Европа» появилась слишком поздно, если вообще имела шансы на успех. Национал-социалистическая пропаганда стремилась — теперь, правда, без особого успеха, — вербовать добровольцев со всей Европы для совместной борьбы против Советского Союза. Европейским народам, и прежде всего нерусскому населению СССР, которые надеялись на то, что немецкие войска принесут им освобождение, давно уже стало ясно, что новые хозяева правят не менее жестоко, чем прислужники Сталина. И в войне коалиций немецкая армия терпела поражение. Сателлиты Третьего рейха один за другим покидали своего главного союзника, выходили из ведущейся Германией войны, переходили на сторону противника. Это заставляло Гитлера распространять свое господство на новые территории: в сентябре 1943 г. — на Италию, а в марте 1944 г. — на Венгрию.
«Крепость Европа» не имела крыши. С сентября 1942 г. англичане начали ковровые бомбардировки немецких городов и промышленных объектов. Через год англо-американские военно-воздушные силы завоевали господство в небе Германии. После бомбардировки города Ростока в апреле 1942 г. германская пропаганда стала писать о «террористических нападениях», подготовленных англо-американскими стратегами воздушной войны, так как этими нападениями прежде всего хотели не разрушать германский военный потенциал, а морально сломить немецкое население. Этой цели в определенной степени удалось добиться, да и материальный ущерб от воздушной войны был опустошителен. От воздушных налетов погибло более 500 тыс. гражданских лиц, около 4 млн. квартир оказались разрушены, население крупных городов было эвакуировано. Соборы, замки, центральные кварталы старых городов, а значит существенная часть немецкого культурного достояния погибли в огне пожаров. Повседневная жизнь немцев драматическим образом изменилась.
Чего хотели союзники? В то время как их военно-воздушные силы превращали немецкие города в груды развалин и пепла, тем самым с лихвой возвращая Германии тот долг, что возник в результате налетов бомбардировщиков люфтваффе во время «Западного похода» и «Воздушной битвы за Англию», на конференциях союзников формировалась концепция послевоенного мироустройства в Европе. Прежде всего союзники хотели, как сказал британский премьер Уинстон Черчилль, «помешать Германии, и прежде всего Пруссии, в третий раз напасть на нас». В январе 1943 г. на конференции в Касабланке Черчилль и президент США Франклин Рузвельт достигли согласия по формуле безусловной капитуляции Германии. На Тегеранской конференции «большой тройки» в ноябре 1943 г. Сталин, Рузвельт и Черчилль одобрили выгодное СССР решение об установлении западных границ Польши по реке Одер и о передаче северной части Восточной Пруссии Советскому Союзу. Через несколько недель после Тегеранской конференции были определены демаркационные линии будущих зон оккупации Германии войсками союзников. В феврале 1945 г. в Ялте главные силы антигитлеровской коалиции открыто высказались за разделение Германии и Австрии на зоны оккупации, раздел особой территории Большого Берлина и допуск Франции в союзническую коалицию в качестве четвертой оккупационной державы. Как Германия была поделена на оккупационные зоны, так и вся Восточная и Центральная Европа — на зоны влияния — сферы интересов, хотя союзники, разумеется, избегали употреблять эти слова. Конец войны должен был стать и концом старой Европы, отныне предназначенной главным образом на роль буферной зоны между мировыми державами.
Путь в Ялту был полон глубоких противоречий между западными державами и СССР, но исходившая от Германии опасность побуждала союзников снова и снова идти на уступки советскому диктатору ради достижения общей победы. Политики Запада еще помнили о старой, исторически обоснованной опасности соглашения между Россией и Германией, которая с очевидностью подтвердилась накануне войны благодаря пакту между Гитлером и Сталиным. Эти опасения имели мало общего с желаниями Гитлера — фюрер надеялся на распад антигитлеровской коалиции. До самых последних дней, до самоубийства в берлинском бункере, он тешил себя сумасшедшей идеей: совместно с Великобританией разгромить СССР.
Чем чаще становились военные поражения, тем больше Германия испытывала на себе гнет режима. Для противодействия пораженческим настроениям, распространившимся среди немецкого населения после разгрома вермахта под Сталинградом, Геббельс в своей речи, произнесенной во Дворце спорта 18 февраля 1943 г., пытался разжечь в народе фанатизм и укрепить волю к продолжению борьбы. Кульминацией речи стал заданный рейхсминистром пропаганды вопрос: «Вы хотите тотальной войны?» На что специально подобранная публика ответила криками одобрения и бурными овациями. Ужесточилась не только пропаганда, но и террор. Акция «Гроза»[70] от 22 августа 1944 г., например, была направлена против около 5 тыс. бывших политиков и чиновников от политики времен Веймарской республики. Среди них — Конрад Аденауэр и Курт Шумахер, которых арестовали и бросили в концлагерь. С введением в армии института «оперативного соединения офицеров по вопросам национал-социализма» — копии института политкомиссаров Красной армии — в вермахте были устранены остатки внутриполитической оппозиции. Когда гауляйтеры[71] были произведены в «комиссары по защите рейха», четко проявилось предпочтение партии, а не вермахту. В октябре 1944 г. «тотальная война» достигла своей кульминации: был создан «немецкий фольксштурм» (народное ополчение), включавший мужчин от 16 до 60 лет, которые были в состоянии держать в руках оружие.
Режим чувствовал угрозу своему существованию, исходившую не только извне, но и изнутри. Конечно, единого, сплоченного сопротивления национал-социализму в Германии не существовало. По этой причине непросто ретроспективно определить, что собой представляло движение Сопротивления, где и в каких формах оно началось. Не было определенной грани между частным нонконформизмом, оппозиционными настроениями, активным сопротивлением и прямым заговором с целью свержения Гитлера. Не каждый человек, отклонявший деятельность в партийных структурах НСДАП, принадлежал к Сопротивлению. В то же время некоторые члены нацистской партии находились в оппозиции, если и не вышли из партии по этой причине. Простой, «черно-белый» подход едва ли может быть успешным для оценки поведения людей в условиях диктатуры.
Изначально наиболее активно против режима боролись коммунисты, разумеется приостановившие свою деятельность во время действия пакта Гитлера — Сталина; к самым известным их сторонникам принадлежала «Красная капелла», руководимая старшим правительственным советником Арвидом Харнаком и старшим лейтенантом Харро Шульце-Бойзеном, казненными после их разоблачения в августе 1942 г. Социал-демократическое сопротивление было, как и сама партия в годы эмиграции, раздроблено и тем самым в общем-то малоэффективно; имена Юлиуса Лебера и Адольфа Рейхвейна стоят, как и многие другие, в ряду тех, кто отдал жизнь в борьбе против диктатуры.
Природа тоталитарных режимов такова, что их можно свергнуть не с помощью народа, а силами выходцев из самого же аппарата власти. Видные германские чиновники и военные, руководствовавшиеся в основном консервативной государственной этикой и христианской моралью, объединялись вокруг бывшего обер-бургомистра Лейпцига Карла Гёрделера, посла Ульриха фон Хасселя и бывшего начальника штаба сухопутных сил Людвига Бека. К этой группе примыкали представители христианско-социалистического Крайзауэрского кружка граф Хельмут Джеймс фон Мольтке и граф Петер Йорк фон Вартенбург. Подготовленные данными группировками планы будущего Германии могут показаться некоторым наблюдателям, рассматривающим их в свете основных ценностей боннского основного закона, документами реставраторскими, если не реакционными по своему содержанию. Их авторы, когда речь шла о внешнеполитических целях, стояли ближе к государственным традициям времен Бисмарка, чем к веймарской демократии, и казались союзникам не менее опасными, чем представители правившего в Германии режима. Конечно, подобная сомнительная точка зрения была вызвана недоразумением, но это недоразумение привело к тому, что единственная дееспособная немецкая оппозиция не могла рассчитывать на поддержку союзников. Решающим условием в оценке оппозиции является не ее политическая программа, а готовность пожертвовать всем для борьбы против Гитлера и его политического режима, но не по соображениям целесообразности, а по этическим мотивам. Как сформулировал эту мысль один из ведущих деятелей военного Сопротивления генерал Ханс Хенинг фон Тресков, «покушение должно произойти, coute que coute[72]… Так как дело уже не только в достижении практической цели, а в том, что немецкое движение Сопротивления отважилось на решающий бросок. По сравнению с этим все остальное значения не имеет».
Покушение 20 июля 1944 г. окончилось неудачей. Гитлер был лишь легко ранен бомбой, заложенной полковником Клаусом фон Штауфенбергом в восточнопрусском «Волчьем логове». В Берлине заговорщикам не удалось завоевать ключевые позиции в аппарате власти до того, когда пришла новость о том, что диктатор остался жив. Ответный удар режима был страшен. Не только заговорщики, но и их близкие, не участвовавшие в заговоре, заплатили за покушение на фюрера самой высокой ценой — своей кровью. Прусские консерваторы сначала помогли Гитлеру прийти к власти. Теперь же они пытались исправить роковую ошибку своих сограждан, совершенную в 1933 г. Участников покушения казнили с нечеловеческой жестокостью, лишали жизни в изощренно зверской манере. Лишь скорый конец войны предотвратил расправу над семьями 158 казненных непосредственных участников покушения. Прусские аристократы для достижения победы над национал-социализмом сотрудничали не только с буржуазией, но и с рабочими, профсоюзами, социалистами, т. е. с представителями тех социальных слоев, против которых они ранее боролись. Это обстоятельство дало политическим и общественным силам Германии общее мерило ценностей, которое после 1945 г. позволило немцам считать соблюдение прав человека, сохранение человеческого достоинства высшей ценностью любого сообщества. Создание такого сообщества, объединяющего все слои и классы Федеративной Республики Германии, и составляло завещание деятелей 20 июля 1944 г.
Тем временем западные союзники, высадившись в Нормандии 6 июня 1944 г., открыли свой третий — после Сицилии и Италии — фронт. Таким образом война, которая велась сразу на многих фронтах и истощала ресурсы рейха, война, которая предопределила поражение Германии, окончательно стала реальностью. Но в отличие от Людендорфа, в конце октября 1918 г. признавшего поражение и тем самым сохранившего территориальную государственную сущность рейха, Гитлер был полон решимости продолжать борьбу даже ценой полного уничтожения Германии. По его извращенной логике, немецкий народ в случае поражения продемонстрирует слабость и таким образом сам заслужит свою гибель. На Западе «чудо-оружие» Фау-1 и Фау-2 еще поддерживало туманную иллюзию победы, а на Востоке истекавшее кровью немецкое воинство под натиском советской военной машины оставляло свои позиции по линии, протянувшейся от Мемеля до Карпат. Отступавшие войска поднимали перед собой разраставшуюся, подобно лавине, волну беженцев и достигли восточных границ Германии. А Гитлер и его приспешники с помощью полевых судов, приказов и расстрелов вели войну против собственного народа: «Мы оставим американцам, англичанам и русским лишь выжженную пустыню». К счастью, многие бургомистры и командиры вермахта, рискуя жизнью и зачастую погибая, предотвращали выполнение приказов «неро» — на полное уничтожение. Таким образом, оккупация войсками союзников территории Германии принесла освобождение не только узникам концлагерей, но и немецкому народу в целом, хотя, конечно, далеко не каждый человек в конце войны мог осознать это в связи со своей личной судьбой.
Внимание! Силезцы!
Рукописный поисковый плакат, около 1945 г.
Текст плаката: «Внимание! Силезцы! Я ищу своих близких: господина Теодора Камеко (отца), госпожу Иду Камеко (мать), девушку Ольгу Камеко (сестру), последнее место жительства в Цобтене, округ Бреслау, Штреленерштрассе, 29, а также девушку Эльфриду Хоффман и ее мать из Франкенталя при Ноймарк-те. Кто что-нибудь знает, сообщите Вальтеру Камеко, Лейпциг, В-31, Янштрассе 45 у Хилле»,
Летом 1945 г. в Германии так много людей находилось в пути, как никогда раньше в истории. Люди, чьи дома были разрушены бомбардировками, стремились из города в деревню, чтобы найти пропитание и кров. За большими потоками беженцев, спасавшихся от Красной армии, последовали изгнанные из Польши и Чехословакии. Сотни тысяч солдат искали путь домой и стремились не попасть в лагеря для интернированных. К ним прибавились люди, освобожденные от террористического режима, — около 700 тыс., выживших бывших узников нацистских концлагерей, а также 4,2 млн. принудительных рабочих со всей Европы, Транспортных средств почти не было — 90% железнодорожной сети в конце войны было разрушено. Война, плен, бегство, изгнание разрушили семьи. Людей ждало будущее, полное неизвестности.
Поражение Германии в войне, закрепленное 7 мая 1945 г. в Реймсе в подписанном договоре о безоговорочной капитуляции немецких вооруженных сил и вступившем в силу 8 мая, явилось также крахом немецкого национального государства. Об этом «глубоком парадоксе» известный историк Ханс Ротфельс писал: «Были такие немецкие патриоты, которые, молясь о наступлении дня капитуляции, не тешили себя иллюзиями в отношении того, что она с собой принесет».
Наступающая новая жизнь явила миру страшные последствия закончившейся войны. Человеческие потери Германии оказались втрое больше, чем во время Первой мировой войны: примерно 5,5 млн. убитых. Но эта ужасающая цифра была меньше по сравнению с теми потерями, которые понесли противники Германии. Польша потеряла б млн. человек, СССР — 20 млн.; из 5,7 млн. русских военнопленных в немецких лагерях выжили менее 2 млн. Страна немецкого народа была почти полностью разрушена, крупные города на западе Германии, а также Берлин лежали в руинах. Люди как могли обустраивались среди развалин и в подвалах. Царил массовый голод. Не хватало предметов первой необходимости, одежды, но прежде всего продуктов питания. Среднестатистическое обеспечение продовольствием, принимая во внимание региональные особенности, составляло от одной трети до двух третей того минимума, который избавляет человека от постоянного чувства голода. Начались эпидемии. Другим следствием голода стал рост преступности: когда речь идет о том, чтобы просто выжить, границы, существующие в повседневной жизни между дозволенным и недозволенным, становятся едва заметны.
Вместе с тем произошло полное изменение условий жизни вследствие массового бегства и изгнания немецкого населения. Сначала немцы бежали от наступления Советской армии, затем последовало их насильственное выселение из переданных под польское управление восточных областей. Немцев изгнали также из большинства районов Центральной и Восточной Европы. Наконец, следствием раскола Германии стало бегство или изгнание в конце войны и в первые послевоенные годы более 12 млн. человек, не считая тех 2 млн. убитых, которые стали жертвой этого великого переселения, равного которому история человечества не знала. Немцы оказались отброшены к границам их расселения в эпоху позднего Средневековья. Очаг германской культуры на Востоке, горевший пять веков, был потушен. Социальная структура в оставшихся областях предстала запутанной и низведенной к первичному уровню, изначальная общественная среда разрушена. Не меньшим было и моральное разрушение, которое привнесли в коллективное сознание немцев господство насилия, война и правда об ужасах нацистских лагерей смерти, лишь теперь ставшая предметом массового осознания во всей ее страшной полноте.
Разрушенный Дрезден. Фотография, 1946 г.
Существует ли еще Германия как государство? Этот вопрос был тогда безразличен большинству немцев: смысл их жизни состоял в том, чтобы выжить. Конец состоянию политического и правового вакуума положило публичное заявление четырех держав-победительниц от 5 июня 1945 г. Верховную власть в Германии брали в свои руки представители четырех держав; эта власть осуществлялась ими совместно. «Берлинская декларация», опубликованная на трех языках оккупационных государств, а затем и по-немецки, чтобы население смогло ее понять, подтверждала то, что уже решили союзники на своих конференциях. На смену правительству германского государства пришел Союзный контрольный совет в Германии (СКС), состоявший из главнокомандующих четырех оккупационных держав. Резиденция СКС находилась в столице германского государства Берлине. Он отвечал за Германию в целом, а четыре оккупационные державы управляли в своих оккупационных зонах по своему усмотрению. Особый статус Берлина подчеркивался тем, что этот город был объявлен особой зоной, разделен на четыре сектора оккупации и передан под совместное управление командующих войсками союзников, находившихся в Берлине.
Другие вопросы более подробно рассматривались на Потсдамской конференции «большой тройки» стран — членов антигитлеровской коалиции. Конференция открылась 17 июля 1945 г. во дворце Цецилиенхоф. Президент США Гарри Трумэн, британский премьер Уинстон Черчилль и советский диктатор Иосиф Сталин определили в качестве предварительной границы между переданными под управление полякам немецкими областями на востоке и советской оккупационной зоной линию по Одеру — Нейсе. Тем самым они легализовали изгнание немцев из областей восточнее этой линии, которое шло полным ходом, а также из Чехословакии и Венгрии. Относительно Германии «большая тройка» была едина в том, что «германский милитаризм и нацизм следовало искоренить», для того «чтобы Германия никогда больше не могла представлять угрозу для своих соседей или для сохранения мира во всем мире». С этой целью Германия подлежала полному разоружению и демилитаризации, а всю промышленность, которую можно было бы использовать для военного производства, следовало уничтожить. Национал-социалистов необходимо было уволить из всех учреждений и организаций; политическую жизнь страны надлежало коренным образом обновить на демократических основах. Экономическое единство Германии, и это было подчеркнуто, следовало сохранить. Но так как каждая оккупационная держава стремилась удовлетворить свои репарационные потребности на относящейся к ней зоне, то этот основной принцип с самого начала не соблюдался, как и понятие «политическая жизнь на демократических основах» совершенно по-разному понималось на востоке и на западе страны. В дальнейшем это позволило по-разному толковать Потсдамские соглашения в соответствии с интересами той или иной страны-победительницы.
Двадцатого ноября 1945 г. в Нюрнберге — городе, где нацисты устраивали свои партийные съезды, военный трибунал союзников начал судебный процесс над главными немецкими нацистскими преступниками. Даже если юридические основы этого судопроизводства были и до сих пор остаются спорными, следует обратить внимание на тот факт, что для осуждения большей части тех, кто сидел на скамье подсудимых, было бы вполне достаточно обычных норм немецкого уголовного права. Нюрнбергский трибунал сделал достоянием широкой общественности преступления, которые совершались немцами во время войны и в лагерях смерти. На этот раз, что и стало долговременным целительным последствием Нюрнбергского процесса, путь к бегству от правды с помощью легенд о «предательстве» и «ударе кинжалом в спину», как это произошло после Первой мировой войны, был немцам отрезан.
Каждый оставался один на один со своей совестью. «Денацификация» в соответствии с решениями Потсдамской конференции, проходившая в разных оккупационных зонах в различных формах, коснулась каждого взрослого немца. Самой суровой она была в американской зоне, ибо, имея развитое демократическое сознание, американцы проявляли особую настойчивость. Но принудительно проводимый на основе 131 вопроса анкеты экзамен на убеждения приводил к бесчисленным ошибочным приговорам. Зачастую произвольная практика комиссий по денацификации вызывала протест даже испытанных, проверенных антифашистов. Большой объем следственной работы привел к тому, что сначала рассматривались наиболее простые дела. Когда во время ужесточавшейся «холодной войны» интерес к продолжению денацификации ослаб, обвиняемые в наиболее тяжелых преступлениях отделались лишь легким испугом. Ясно, что таким образом была оказана медвежья услуга процессу демократизации Германии. Как и в случае с зачастую сурово проводившейся политикой репараций и демонтажа предприятий, которая воспринималась населением, озлобленным тяжелым экономическим положением, как уничтожение рабочих мест.
С другой стороны, политическая жизнь, прежде всего на самом низком, локальном уровне, снова оживилась. Немецкие политики, действовавшие сначала на основе приказов оккупационных властей, а с 1946–1947 гг. и в дальнейшем получившие законные права с помощью выборов бургомистров и органов земельного управления, вышли большей частью из среды политиков Веймарской республики, которые теперь представляли старые, но вновь основанные на зональном уровне политические партии. Это были: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), созданная в Ганновере под руководством Курта Шумахера (1895–1952); Свободная демократическая партия (СвДП), которая использовала ресурс бывших либеральных партий веймаровских времен — Немецкой демократической партии Германии (НДПГ) и Немецкой народной партии (ННП), сложилась в основном в Юго-западной Германии под руководством Теодора Хейса (1884–1963) и Рейнхольда Майера (1881–1971). Напротив, совершенно новое образование представлял собой Христианско-демократический союз (ХДС), объединивший христиан и буржуазию и создавший движение, стремившееся на основе опыта сопротивления национал-социализму преодолеть конфессиональную ограниченность старой партийной системы. ХДС соединил в своих рядах весь спектр — от христианских профсоюзов до либералов и умеренных консерваторов; в нем доминировала рейнско-вестфальская группа во главе с обербургомистром Кёльна Конрадом Аденауэром. Его претензии на лидерство оспаривал прежде всего берлинский ХДС под руководством Якоба Кайзера. Аналогично дела обстояли с большинством других партий — центральное руководство
* * *
«УБИЙЦЫ СРЕДИ НАС»
Это первый послевоенный немецкий фильм режиссера Вольфганга Штаудте был создан на получившей советскую лицензию киностудии ДЕФА. Фильм ставил этические вопросы обхождения с военными преступниками и рассказывал далеко не все. На самом деле в трех западных зонах, включая и осужденных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, было осуждено 5025 человек за военные преступления и преступления против человечности. Было приведено в исполнение 486 смертных приговоров. В советской оккупационной зоне число осужденных, наказание которых зачастую выходило за пределы правового пространства, оценивается в 45 тыс. Общее число осужденных за границей за нацистские преступления составило около 60 тыс.
СДПГ в Ганновере явно соперничало с берлинским руководством СДПГ, возглавляемым Отто Гротеволем, а на роль авангарда либералов претендовала влиятельная в Берлине Либерально-демократическая партия Германии (ЛДПГ), руководимая бывшим министром внутренних дел Веймарской республики Вильгельмом Кюльцем. С одной стороны, это было связано с символическим значением Берлина как столицы, а с другой — с быстрой и целеустремленной политикой Советского Союза, спешившего создавать в своей оккупационной зоне партийные организации прежде всего, разумеется, Коммунистической партии Германии (КПГ). Вождь КПГ Вальтер Ульбрихт (1893–1973) за несколько дней до конца войны прибыл из Москвы в Германию, для создания гражданского политического руководства в общегерманском масштабе, сначала без выдвижения односторонних социалистических или коммунистических требований.
Но эта концепция Народного фронта провалилась. Советская оккупационная власть вынуждена была примириться с тем фактом, что число сторонников КПГ, в отличие от числа сторонников СДПГ и буржуазных партий, было намного меньшим. Поэтому КПГ изменила свою политику по отношению к другим партиям. С октября 1945 г. КПГ требовала объединения с СДПГ; Руководимый Отто Гротеволем (1894–1964) берлинский ЦК СДПГ находился под большим давлением советской стороны. Возражавшие социал-демократические функционеры навсегда растворялись в вечерних сумерках, другие вернулись из сибирских лагерей или же из приспособленного к новым условиям концлагеря Бухенвальд значительно позже. Несмотря на то что на единственном предварительном голосовании по объединению обеих партий, состоявшемся в западных секторах Берлина, 82% голосов членов СДПГ было подано против советского требования, слияние КПГ и СДПГ в советской зоне под давлением оккупационных властей состоялось на объединительном съезде 22 апреля 1946 г. Созданная таким образом Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ) быстро превратилась в подчиненную СССР партию ленинского типа.
Раскол между тремя западными оккупационными зонами, с одной стороны, и советской зоной — с другой, проявлялся еще в одном отношении. Частью конфронтации было взаимное обвинение в разделе Германии (бессмысленный диспут, так как развитие трех западных зон и советской зоны шло разными путями), ставшее прямым следствием усиливающегося противостояния на мировой арене между СССР и Западом. На самом деле противостояние началось еще в 1917 г., лишь на время совместной борьбы против общего врага — гитлеровской Германии. К этому добавилась политика Советского Союза в Восточной Европе, где СССР использовал свое военное господство, для того чтобы создать геостратегическое предполье и окружить себя поясом государств-сателлитов. В Восточной Европе советские экспансионистские устремления не имели предела. В Иране, Турции и Греции дело дошло до прямого конфликта между советскими и англо-американскими интересами и тем самым до конфронтации между советским блоком и странами Запада по всему миру.
Объединительный партийный съезд СДПГ и КПГ
Плакат, 21–22 апреля 1946 г.
Берлинское руководство СДПГ под руководством Отто Гротеволя после окончания войны полагало, что тесное сотрудничество с КПГ будет способствовать «единству рабочего класса» и что именно этот опыт необходимо было извлечь из истории. Однако вожди КПГ Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт колебались: они считали, что большинство населения и без того идет за ними. Катастрофические для коммунистов итоги выборов в Венгрии и Австрии в ноябре 1945 г, дали повод советским оккупационным властям оказать на обе партии давление с целью их объединения. На объединительном партийном съезде 21–22 апреля 1946 г. была основана Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ), в то время как тысячи социал-демократов, которые выступили против этого союза, были заключены оккупационными властями в бывшие концлагеря и в большинстве своем там погибли.
Нигде в мире «холодная война» не имела такого непосредственного влияния на судьбы людей, как в оккупированной Германии. Когда США в июле 1946 г. на основе Потсдамских решений потребовали от СКС сохранения экономического единства четырех зон оккупации в целях улучшения снабжения населения, Советский Союз отклонил эти требования и определил такую политику Запада как экономическое наступление, осуществляемое в империалистических целях США. И наоборот, советская политика в германском вопросе понималась в Вашингтоне как попытка превратить всю Германию в советскую сферу влияния. В результате американское руководство решилось на то, чтобы ускорить процесс объединения западных зон, невзирая на угрозу раскола всей Германии. Поворот в американской, а также британской политике по германскому вопросу нашел свое отражение в штутгартской речи госсекретаря США Дж.Ф. Бирнса 6 сентября 1946 г., в которой он призвал немцев создать в ближайшем будущем некоммунистическое, демократическое германское государство. Первого января 1947 г. американская и британская оккупационные зоны объединились в единую экономическую зону — «Бизонию». Французская зона присоединилась к ним лишь 8 апреля 1949 г. Так возникла «Тризония» — экономический и политический предшественник Федеративной Республики Германии. Чтобы предотвратить угрозу раскола, земельное правительство Баварии 6 июня 1947 г. пригласило глав всех земельных правительств в Мюнхен на общегерманскую конференцию. Она сорвалась еще до официального открытия: сразу же возникли острые разногласия по повестке дня.
Но это касалось политиков. Обычных немцев на улицах — «простых потребителей по имени Отто» — волновали совсем иные заботы. На первый план выдвинулись экономические проблемы: нужда, забота о хлебе насущном. Так как предложение товаров было очень ограничено, в то время как следствием военной экономики стало обилие обесцененной денежной массы, пышным цветом расцвел черный рынок. Чтобы выжить, на этот рынок устремилась значительная часть населения. За большие деньги или в обмен на что-либо здесь продавалось почти все. При этом важную роль играли «сигареты в качестве валюты»: кто имел американские сигареты, мог выменять на них хлеб и масло в неограниченном количестве. У кого ничего этого не было, вынужден был ездить за продовольствием в деревню, выживал при поддержке состоятельных друзей или за счет американских благотворительных организаций, «пакетная помощь» которых с 1946 г. спасла сотни тысяч людей от голода.
Американское правительство с озабоченностью взирало на экономическую разруху, царившую тогда по всей Европе. В этой связи в Государственном департаменте США опасались возникновения благоприятных условий для распространения коммунизма. Поэтому новый госсекретарь США Дж. Маршалл 5 июня 1947 г. предложил всем европейским народам программу помощи, включавшую кредиты, поставки продовольствия и сырья. Эта программа помощи (план Маршалла) была сразу же отклонена Советским Союзом и странами, входившими в сферу его влияния. Однако для экономического возрождения Западной Европы, включая и западные зоны Германии, она оказалась в высшей степени полезной. Для включения западных зон Германии в план Маршалла прежде всего потребовалось коренное изменение валютно-денежного обращения: необходимо было нормализовать соотношение товарной и денежной массы. В западных зонах 20–21 июня 1948 г. была проведена денежная реформа[73]; одновременно экономический директор «Бизоний» Людвиг Эрхард (1891–1977) единолично объявил об отмене бюрократического распределения товарных запасов и регулирования цен. Черный рынок исчез за одну ночь. В то время как полки в магазинах наполнялись товарами, ранее придерживавшимися под прилавком, руководство советской зоны, как бы вдогонку, провело свою денежную реформу, которая должна была распространяться также на весь Берлин. Западные державы, напротив, ввели в своих секторах Берлина новую немецкую марку. На этот шаг Запада СССР ответил введением 24 июня 1948 г. тотальной блокады Берлина.
«Сдача Берлина означала бы потерю Европы» — это признание британского министра иностранных дел Эрнеста Бевина определило берлинскую политику Запада. Неожиданно для Москвы державы Запада ответили на блокаду Берлина созданием такого большого воздушного моста, которого история до сих пор еще не знала. Уникальные организационные и человеческие усилия позволили во время одиннадцатимесячной блокады совершить почти 200 тыс. полетов и доставить по воздуху в Берлин почти 1,5 млн. тонн продовольствия, угля, стройматериалов. Каждые две-три минуты на одном из трех западноберлинских аэродромов приземлялся самолет. Между тем раскол города завершился. Коммунистический путч осенью 1948 г. изгнал из резиденции в берлинской ратуше свободно избранный магистрат Берлина, который нашел новое прибежище в здании западноберлинской ратуши Шёнеберг. В то время как возглавляемый Эрнстом Рейтером (СДПГ) городской магистрат Западного Берлина успешно противостояло советской блокаде, советские оккупационные власти создали в Восточном Берлине свой собственный магистрат под руководством Фридриха Эберта (СЕПГ) — сына бывшего рейхспрезидента. Тем самым политический раскол столицы Германии завершился.
Общественность в значительной степени недооценила тогда человеческую и политическую драму берлинских событий, конечным результатом которой стала разделенная Германия. Первого июля 1948 г. военные губернаторы трех западных оккупационных зон передали главам правительств западногерманских земель «Франкфуртские документы», в которых ставилась задача созыва конституционного Национального собрания. В этих документах содержался также Оккупационный статут, призванный регулировать отношения между западными союзниками и будущим германским правительством. Как уже не раз бывало в немецкой истории, германские земли вновь создавали общую государственность. Поэтому собравшиеся в баварском дворце Херренхимзее представители глав западногерманских земельных правительств выработали конституционный проект, который они предъявили Парламентскому совету, состоявшему из представителей земельных парламентов. Совет собрался 1 сентября 1948 г. под стеклянными взглядами двух чучел жирафов в зоологическом музее Бонна, чтобы в дальнейшем продолжать под руководством председателя ХДС Конрада Аденауэра обсуждать в расположенной поблизости педагогической академии боннский Основной закон, провозглашенный с разрешения военных губернаторов трех западных союзников 23 мая 1949 г.
То, что с основанием Федеративной Республики Германии путь, ведший к долговременному расколу страны, был почти пройден, в те дни осознавали лишь немногие. На последнем обсуждении в Парламентском совете 8 мая 1949 г. процесс раскола ускорило замечание Аденауэра: «Мы здесь должны принять решение не по десяти заповедям Господним, а по закону, который призван действовать лишь в переходный период». С тех пор Боннская республика осознавала себя в качестве временного управляющего «провизориума» — переходного государства на пути назад, к национальной германской государственности.
Так же обстояло дело с конституционным проектом, формально одобренным 22 октября 1948 г. в Восточном Берлине Немецким народным советом, в котором доминировала СЕПГ. Конституция должна была распространяться на всю Германию. И в Германской Демократической Республике, которая начала существовать с 7 октября 1949 г. на основе этой конституции, создание германского национального государства также на первых порах считалось непременной и ближайшей целью.
XIII. Разделенная нация (1949–1990)
Два германских государства в залах ожидания мировой политики — таково было серьезное изменение «германского вопроса». Вместо одной Германии в центре Европы в 1949 г. появилось две Германии, обе оказавшиеся в опасном пространстве глобальных силовых систем и поэтому пользовавшиеся покровительством держав-гегемонов — США и Советского Союза. То, что сильнее всего бросалось в глаза в отношении двух германских государств, под знаком «холодной войны» в большей или меньшей степени касалось всей Европы. Хор европейских государств смолк. Давление каждой из противостоящих сторон на Восточную и Западную Германию ослабляло стремление к национально-государственной исключительности. К тому же после взрыва атомной бомбы над Хиросимой б августа 1945 г. и первой советской атомной бомбы в августе 1949 г. государственный суверенитет был определен заново. Казалось, что свободой действий в серьезных ситуациях обладали отныне только ядерные державы, в то время как суверенитет государств Европы в каждом случае соотносился с положением соответствующей лидирующей державы. Каждая из них раскрывала над своей сферой интересов ядерный зонтик и диктовала требуемые условия в политике, экономике, а также в идеологии. Они должны были господствовать под этим прикрытием. Традиционное притязание национальных государств на самоопределение связывалось с биполярной политикой, доминировавшей в военном, идеологическом и экономическом смыслах. Сталин внес на сей счет ясность уже весной 1945 г., заявив в беседе с югославскими коммунистами: «Эта война не такая, как в прошлом; тот, кто занимает территорию, устанавливает там свою общественную систему. Каждый вводит свою систему, насколько сможет продвинуться его армия. По-другому не может быть».
Так раскол Европы стал предпосылкой для международного мирного порядка, порожденного Второй мировой войной. Только при взаимном признании существовавших границ и сфер влияния мог сохраняться неустойчивый баланс сверхдержав. «Двойная» Германия являлась несущей колонной, а Берлин — замковым камнем всемирной архитектуры безопасности, крах которой развязал бы третью мировую войну. Поэтому Германия странным образом была одновременно и разделена и едина. Она оказалась разорванной на два государства, которые входили в противостоявшие друг другу блоки. С другой стороны, четыре державы, победившие во Второй мировой войне, придавали самое большое значение своим суверенным правам относительно Германии в целом, поэтому даже советские оккупационные войска, к большому недовольству правительства ГДР до 80-х годов, сохраняли название «Группа советских войск в Германии». Во всех вопросах германской политики, как и в вопросах размещения войск на немецкой земле, последнее слово оставалось за союзниками по войне и суверенитет обоих германских государств должен был оставаться ограниченным. Чем больше менялась ситуация, тем неизменнее она оставалась. В поле напряженности между великими державами Германия представляла собой территорию для развертывания войск, принятия военных решений в случае войны, а также стратегическое предполье, на котором осуществлялось дипломатическое согласование интересов во избежание войны. С конца Тридцатилетней войны Германия в центре Европы играла старую роль, хотя теперь и в новом варианте.
Двадцать первого сентября 1949 г. три верховных комиссара западных оккупационных держав вызвали к себе канцлера Федеративной Республики Германии, чтобы торжественно передать главе правительства новой страны Оккупационный статут. В этом документе закреплялись суверенные права оккупационных держав, ограничивавшие боннский Основной закон. Чтобы внести полную ясность в ситуацию, три представителя союзных держав хотели стоять во время церемонии на красном ковре, в то время как немецкой делегации было указано место рядом с ковром. За несколько дней до этого только что избранный первый германский бундестаг крайне незначительным большинством избрал Конрада Аденауэра федеральным канцлером. В его кабинет входили политики из Христианско-демократического союза, Свободной демократической партии, а также Немецкой партии, Крестьянской консервативной партии из Ганноверского округа, вошедшей позже в ХДС Социал-демократическая партия под руководством Курта Шумахера оказалась пока на оппозиционных скамьях, Легитимированный таким демократическим способом новый федеральный канцлер и мысли не допускал, что верховные комиссары могут смотреть на него свысока, и ступил, будто бы это само собой разумелось, на ковер, не предназначенный для него. Шаг Аденауэра был с кисло-сладкими минами принят к сведению, германский федеральный канцлер продемонстрировал, что намерен действовать, используя данные ему возможности.
Правда, Аденауэр знал, что с внешнеполитической точки зрения пространство для его маневра было сильно ограничено. Как он подчеркнул уже в своем первом правительственном заявлении от 20 сентября 1949 г., его задача заключалась в первую очередь в том, чтобы возможно быстрее интегрировать безвластную, представляемую вовне сообщества державами-победительницами Федеративную Республику в «западноевропейский мир» и обрести суверенитет, военную безопасность и свободу действий. В культурном и духовном отношении часть государства, каковой являлась ФРГ, также надлежало навсегда быть связанной с Западом, чтобы исключить всякую возможность проведения Германией, как ранее, политики качелей между Востоком и Западом, а также и возможность того, чтобы Германия оказалась в тени Советского Союза. Прочная привязанность к Западу, которой добивался Аденауэр, должна была, кроме того, ликвидировать германо-французское противоречие и превратить Германию в постоянного, предсказуемого политического партнера. Только с такого рода прочной позиции — в этом первый федеральный канцлер Федеративной Республики был твердо убежден — возможно решение германского вопроса посредством воссоединения.
Ход мировой политики благоприятствовал реализации целей Аденауэра. «Холодная война» вылилась в «горячую». Двадцать пятого июня 1950 г. коммунистическая Северная Корея напала на Юг страны, и государственным деятелям западного мира казалось, что Кремль начал глобальное наступление, которое может завершиться третьей мировой войной. Одной из важнейших целей союзников во время Второй мировой войны была длительная демилитаризация Германии. Теперь она казалась утратившей свое значение, тем более что в Восточной Германии давно уже существовала армия под маскировочным названием «Народная полиция на казарменном положении». Кто бы мог с уверенностью сказать, что она не готовила планы наступательной войны по северокорейскому образцу? В ответ на это последовало создание Европейского оборонительного сообщества (ЕОС), наднациональной западноевропейской военной организации с интегрированными в нее воинскими контингентами Франции, Италии, Бенилюкса, а также Федеративной Республики. Уже в мае 1950 г. в Бонне начались секретные работы, связанные с формированием западногерманской армии. Переговоры были затяжными и наталкивались на сопротивление всех участвующих стран. К этому добавилась упорная приверженность Аденауэра «германскому договору», цель которого заключалась в достижении равноправия Германии в рамках союза.
Однако все хотели следовать по пути безусловной интеграции в западное сообщество. В крупных партиях, от правящего ХДС до оппозиционной СДПГ, были политики, которые стремились покончить с привязкой к блокам и ценой уменьшения суверенитета обрести объединенную, не входящую в блоки, нейтральную Германию, находящуюся между противниками в «холодной войне». Весной 1952 г. такой шанс казался осязаемо близким. В многочисленных нотах западным державам и федеральному правительству Сталин предлагал объединить два германских государства в единую нейтральную Германию под союзническим контролем, со слабыми собственными вооруженными силами и государственностью, которая должна была основываться исключительно на деятельности «демократических и миролюбивых партий». Что бы это ни означало с советской точки зрения, западные державы отклонили предложение Сталина, и федеральное правительство присоединилось к этой позиции без всяких «но» и «если». Оно сделало это, будучи убежденным, что интеграция ФРГ в западное сообщество была важнее создания слабой единой Германии, колеблющейся между Востоком и Западом. Но, будь федеральное правительство другого мнения, это ничего бы не изменило в важнейшем решении Вашингтона, Лондона и Парижа.
Была ли тогда упущена возможность достижения германского единства? Дискуссии об этом не прекратились и по сей день и не затихнут до тех пор, пока не будут окончательно открыты советские архивы и выяснены истинные намерения Советского Союза. Вероятно, союзническое решение основывалось на верных предположениях. Советская кампания рассылки нот развернулась в решающие месяцы перед вступлением ФРГ в западные оборонительные и экономические сообщества. И почти все говорит в пользу того, что задачей Сталина являлся срыв в последний момент интеграции Федеративной Республики с Западом и создания Европейского оборонительного сообщества. В своей политической деятельности ФРГ, следовательно, не имела возможности установить германское единство посредством нейтрализации Германии.
Договор о создании ЕОС был подписан 26 мая 1952 г., но провалился два года спустя из-за отказа Национального собрания Франции ратифицировать его. По мнению большинства депутатов, Франция слишком далеко заходила в отказе от суверенитета. Однако интеграцию Западной Германии в систему западных союзов уже нельзя было повернуть вспять. Пятого марта 1955 г. в силу вступили Парижские соглашения, важнейшее из которых регулировало присоединение ФРГ к Организации Североатлантического договора (НАТО). НАТО была создана на основе подписанной 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне Североатлантического договора как военный союз Канады, Великобритании, Франции, Исландии, Норвегии, Дании, Италии, Португалии, а также стран Бенилюкса под руководством США, чтобы рассматривать «любое вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке как нападение на них в целом» и оказывать друг другу военную помощь. В 1952 г. к организации присоединились Греция и Турция. С немецкой точки зрения, членство в НАТО[74] означало не только безопасность, но и возвращение к суверенитету, который западные державы обеспечивали посредством одновременно вступившего в силу «Германского договора». Правда, это был ограниченный суверенитет, так как во всех вопросах германской политики державы — победительницы во Второй мировой войне оставляли за собой свои преимущественные права, как и в вопросе о размещении своих войск на немецкой земле. Кроме того, Федеративная Республика Германия отказывалась от целого ряда систем стратегических вооружений, включая атомное. С точки зрения союзников, вступление ФРГ в НАТО рассматривалось несколько по-другому. Генеральный секретарь НАТО лорд Истмэй полагал, что задача союза заключается в том, чтобы «американцев держать внутри, русских вовне, а немцев внизу» — т. е. американцев в Европе, русских на расстоянии от нее, а немцев подавлять.
Урок, извлеченный из истории XX столетия, заключался в том, чтобы усмирить Германию и сделать ее предсказуемой. Труднопредсказуемую державу в центре Европы не следовало обособлять от сообщества наций и унижать. Именно в этом и заключалась роковая ошибка в 1919 г. Теперь задача состояла в том, чтобы как можно надежнее присоединить Германию — а значит, до поры до времени ФРГ — к западному сообществу, чтобы эти связи нельзя было ликвидировать в меняющихся политических условиях. Это имело значение не только с военной точки зрения, но в равной мере с экономической и политической. Понимание необходимости сплочения Западной Европы вытекало из катастрофического опыта, приобретенного европейцами в XX столетии, и также из понимания того, что экономическое, военное и политическое переплетение требует отказа от проведения изолированной национально-государственной политики.
Когда Уинстон Черчилль в своей Цюрихской речи 16 декабря 1946 г. потребовал создания «Соединенных Штатов Европы», он говорил тогда о шокирующем возможном партнерстве между Францией и Германией, Великобританию он до поры до времени оставил за скобками. Британский премьер еще мыслил в духе классической британской политики balance of power[75], призванной успокоить беспокойную Европу у ворот Англии с помощью системы пактов, с тем чтобы Англия могла посвятить себя реализации собственных трансокеанских интересов. Но крах как британской, так и французской колониальных империй показал в 50-е годы, что время европейского мирового господства навсегда прошло. Европа была отброшена к собственным границам и могла сохранить свой вес в союзе с Соединенными Штатами Америки только в том случае, если сумеет объединить и сконцентрировать свои оставшиеся силы. Первым шагом к экономическому объединению Европы было создание Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) в 1951 г., в результате чего добыча угля и производство стали во Франции, в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге были подчинены общему ведомству. Затем последовало объединение шести названных государств в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и Европейское сообщество по мирному использованию атомной энергии (Евратом) 25 марта 1957 г. Пока что завершением объединения Западной Европы является сегодня Европейский союз (ЕС) с мощной надстройкой в виде комиссий, советов, генеральных директоров и бюрократов, а также Европейского парламента в Страсбурге. От взора современного наблюдателя уже давно скрылся мир отцов-основателей объединенной Европы. Преисполненный надежд пафос, которым сопровождались первые шаги европейского объединения, кажется сегодня едва ли менее удивительным, чем само собой разумевшаяся готовность всех тогдашних участников отказаться от национальной самостоятельности ради достижения объединения континента. Насколько сильно изменился мир, стало очевидно, когда федеральный канцлер Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль (1890–1970) после подписания договора о немецко-французском сотрудничестве 22 января 1963 г. приняли совместный парад французских и немецких войск на полях Шампани, политых в свое время кровью в беспрерывных битвах между немцами и французами. Понадобились годы, чтобы от наследственной вражды страны пришли к общности судьбы. После столетий тяжелых конфликтов между Германией и Францией наступил серьезнейший поворот в европейской истории.
Принятие Федеративной Республики в сообщество западных государств после Второй мировой войны имело далеко идущие последствия. С самого начала американская поддержка внутренней политики правительства Аденауэра способствовал большому престижу молодой демократии. Впервые в немецкой истории быть демократом означало иметь успех. Кто знает, как развивалась бы первая немецкая демократия, Веймарская республика, если бы Эберт, Штреземан, даже Брюнинг располагали такой же благосклонностью союзников, какой пользовался после войны Конрад Аденауэр. Отчасти в этом крылась история успеха западногерманской демократии. Правда, к данному обстоятельству добавлялось «экономическое чудо».
Сначала мало что говорило об экономическом буме. Зимой 1949/50 г, господствовала массовая безработица, напоминавшая о худших годах Веймарской республики, и только в марте 1950 г. удалось отменить рационирование продуктов питания. Но затем, в ходе войны в Корее, во всем мире начался экономический подъем, давший серьезный толчок росту немецкой экономики. Спрос на потребительские товары, вызванный отставанием производства, был огромен. Промышленность, пришедшая в упадок после военных разрушений и демонтажа, инвестировала значительные средства в современное производственное оборудование. План Маршалла обеспечил необходимую помощь и указал путь интеграции немецкой экономики в западный мир. В то время как в ходе корейской войны (1950–1953) важнейшим экономическим конкурентам, США и западноевропейским демократиям, пришлось ориентировать свои экономические мощности на военное производство, немецкий экспорт мог проникать на мировые рынки. В конце концов, оправдалась сдержанность профсоюзов, которую они проявили в выдвижении требований о повышении заработной платы в первые годы Федеративной Республики, так что темпы прироста заработной платы были несколько ниже темпов прироста общественного продукта; тем не менее заработная плата лиц наемного труда увеличивалась ежегодно в среднем на 5%. После величайшего в своей истории поражения на долю немцев выпал самый большой экономический расцвет.
Федеральное правительство использовало возможности маневра в распределительной сфере, чтобы действовать в области социальной политики почти по-революционному. Федеральный закон о снабжении от 1950 г. помог 3 млн. человек, потерпевшим ущерб от войны. Принятый в 1952 г. закон о возмещении ущерба начал беспримерную до тех пор передачу имущества населению в виде компенсации тем, кто понес материальные потери из-за войны, изгнания и экспроприации в Восточной и Центральной Германии.
Федеральный закон об изгнанных, закон об организации предприятия, федеральный закон о компенсации, пенсионная реформа, продолжение выплаты заработной платы в случае болезни, детские пособия — иначе говоря, социальное государство, существующее сегодня, возникло в эру Аденауэра, в то время, когда верили в безграничный рост экономики и возможность финансирования социального государства на все времена.
Внутренняя стабильность немецкой демократии была тесно связана с «экономическим чудом» и социальной политикой 50-х годов. Западногерманское население насчитывало 47 млн. человек. Десять миллионов изгнанных из восточных областей, Чехословакии и Венгрии были интегрированы, так же как позже — еще 3 млн. беженцев из ГДР. Хотя и существовали как лево-, так и правоэкстремистские партии, они не имели серьезных шансов в условиях сильного влияния процессов демократизации в Федеративной Республике, вызванной экономическими причинами. Лозунг «Бонн не Веймар» стал формулой успеха народа, претерпевшего просто-таки загадочные изменения на протяжении полувека. Страсти, фанатизм, эпилептические судороги Веймарской республики, 22 млн. голосов, которые смогли собрать коммунисты и национал-социалисты еще на мартовских выборах 1933 г., — все это, казалось, провалилось в тартарары. На месте прошлого возникла Боннская республика — без страстей, разумная, довольно скучная и на диво стабильная. Два лозунга, под которыми христианско-демократический канцлер Конрад Аденауэр и его успешный министр экономики Людвиг Эрхард выигрывали одни выборы за другими, гласили: «Благосостояние для всех» и «Никаких экспериментов». Граждане были сыты политикой — «скептическое поколение», диагностировали социологи, — и уходили в свое вполне заслуженное частное счастье, вкладывали средства в покупку собственных домов, автомобилей «фольксваген» и путешествия на Майорку, а государство предоставили патриарху из дворца Шаумбург[76]. Представители культуры Западной Германии, от литературного объединения «Группа 47» до издателей таких определявших общественное мнение журналов, как «Шпигель» или «Цайт», в своем значительном большинстве ощущали себя духовной оппозицией государству, которое казалось им тупо материалистическим и проникнутым тенденциями к реставрации. В этом, собственно, не было ничего нового — культурная сцена Веймарской республики, как и авангард эпохи империи, чувствовала себя точно так же. Да и вообще, противоречие между «духом» и «властью» кажется основным мотивом европейского модерна. Но при ретроспективном взгляде ошеломляет, насколько бессильными и эпигонскими предстают культурные явления Федеративной Республики по сравнению с Веймарской республикой. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что литераторы, например поэт Пауль Целан или романист Гюнтер Грасс, слишком часто эмигрировали из восточной части Европы.
Другое германское государство — Германская Демократическая Республика мало что могла противопоставить устойчивой модели успеха Федеративной Республики. ГДР была внешним форпостом советской сферы влияния, и как Сталин, так и его преемники рассматривали ее в качестве стратегической опоры своей системы. Появление ГДР в 1949 г. было, видимо, лишь реакцией на создание ФРГ. Президентом ГДР стал коммунист Вильгельм Пик (1876–1960), председателем Совета министров — бывший социал-демократ Отто Гротеволь, оба входившие в СЕПГ. Настоящим же правителем, если не считать советских «друзей», был первый заместитель председателя Совета министров Вальтер Ульбрихт, постепенно занявший все ключевые позиции в партии и государстве. Легитимность ГДР была слабой с самого начала. С помощью обещаний построить социализм если и удалось поначалу активизировать еще имеющийся потенциал идеализма, то на деле, однако, свободные выборы не проводились и экономического успеха не было. Советский прообраз проступал везде — ив общественной, и в политической жизни. СЕПГ, верхушку которой представляло Политбюро Центрального комитета (ЦК), контролировала государство и общество и направляла экономику, планировавшуюся государством. Созданное в 1950 г. по московской модели и по военному образцу Министерство государственной безопасности пыталось в зародыше задушить всякую оппозицию, покрыв страну густой шпионской сетью и арестовывая «врагов государства», прибегая при этом к туманным правовым обоснованиям, а часто обходясь совсем без них. Милитаризация общественной жизни перекрывала потребности Национальной народной армии и служила, как и ритуалы выходившего из берегов культа государства, политической унификации населения. Несмотря на постоянные усилия граждан ГДР, уровень жизни и качество продукции оставались значительно ниже западного уровня. Производство «народных» предприятий, как и продуктивность сельского хозяйства между Эльбой и Одером, упало гораздо ниже довоенных показателей, причем экономика Восточной Германии считалась наиболее успешной среди стран — членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), восточной альтернативы Европейскому экономическому сообществу.
* * *
КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ВОЙНОЙ
Закон о компенсации ущерба и убытков, понесенных во время войны и в послевоенный период, принятый германским Бундестагом 16 мая 1952 г. вопреки СДПГ и КПГ, проголосовавших против, стал рубежом начала крупнейшего в германской истории перераспределения собственности. Все имущество, стоимость которого к моменту проведения валютной реформы превышала 5 тыс. марок, было обложено пятипроцентным сбором, уплачивавшимся 30 годовыми взносами. Сумма, составившая до 1983 г. около 126 млрд. марок, выплачивалась в качестве компенсации за потери беженцам и изгнанным, что стало решающим вкладом в деле их интеграции в общество.
Вторая партийная конференция СЕПГ в июле 1952 г. провозгласила строительство социализма в условиях «закономерно обостряющейся классовой борьбы». Мрачные тюрьмы переполнялись жертвами произвольных судебных приговоров; насильственная коллективизация сельского хозяйства, ликвидация буржуазных средних слоев, одностороннее развитие тяжелой промышленности шли рука об руку с резким повышением цен и десятипроцентным повышением норм для работающих в промышленности. Радикальный курс Ульбрихта показался в Москве рискованным. В июне 1953 г. по советскому указанию пришлось поспешно отменять принудительные меры, и «руководство рабочего класса» думало обо всем, но только не о рабочих, повышение норм для которых не было отменено. Семнадцатого июня забастовали сначала рабочие, строившие здания на берлинской Сталин-аллее, одном из престижных объектов ГДР. Забастовочное движение молниеносно перекинулось на другие промышленные районы ГДР. Вначале преобладали экономические и социальные требования, но настроение быстро изменилось в сторону общей враждебности к режиму СЕПГ. Звучали требования о разрешении деятельности западногерманских партий и в Восточной Германии, об устранении зональной границы, о проведении свободных и тайных выборов. Забастовочное движение превратилось в национальное восстание, и режим СЕПГ смог удержаться только при поддержке советских танков, подавивших выступления. Несмотря на всю горечь разочарования результатами движения, восстание не было таким уж безуспешным. Как население, так и режим поняли свои слабости и свою силу. Правящая СЕПГ знала теперь пределы власти, которой она обладала, и знала, сколь важно было для выживания партийной диктатуры материальное обеспечение населения. Всему миру стало очевидным, что коммунистический режим в ГДР взорвется, если в критической ситуации снова не вмешаются советские танки.
Теперь стало ясно также, что ГДР не имела никаких шансов в прямом соревновании за легитимность с Федеративной Республикой. Когда обнаружилось к тому же, что включение ФРГ в западную систему безопасности необратимо, Советский Союз уже в 1955 г. переориентировался на теорию, в соответствии с которой «германский вопрос» решен как следствие существования двух германских государств с различным общественно-политическим строем. Тем самым воссоединение Германии с помощью интеграции с Западом исключалось. Этому соответствовало изменение в политике Германской Демократической Республики, которая, ясно осознавая свою слабость в политико-экономическом соревновании с Западной Германией, отвергала воссоединение вопреки существовавшим перспективам. Поэтому последовательным в ее политике оказалось лишь официальное провозглашение ГДР в 1974 г. «социалистической нацией» в «социалистическом германском государстве» и тем самым категорическое исключение национальной общности с западными немцами — по меньшей мере до тех пор, пока и в Федеративной Республике не установятся социалистические отношения.
В действительности же огни Западного Берлина едва ли не магически притягивали людей из ГДР, поэтому поток беженцев через секторальную границу постоянно нарастал, достигнув в 1961 г. 1 млн. 650 тыс. человек. Это соответствовало численности всего населения Восточного Берлина. Советский Союз не мог в длительной перспективе соглашаться с этим «голосованием ногами» (выражение, часто использовавшееся Лениным). Опаснее потери людей и рабочей силы была утрата престижа, с которой «реально существующий социализм» сталкивался изо дня в день. В октябре 1958 г. новый кремлевский властитель Никита Хрущев потребовал вывода войск западных союзников из Берлина и контроля подъездных путей, проходивших через ГДР. Берлин в соответствии с этими требованиями должен был стать «вольным городом». В противовес американская администрация во главе с президентом Джоном Кеннеди сформулировала три неотъемлемых принципа (essentials) для Берлина: свобода населения, присутствие западных войск и свободный доступ в город по воздуху, водным путям, железной дороге и автострадам. Война нервов вокруг города нарастала до тех пор, пока в течение ночи 13 августа 1961 г. солдаты армии ГДР и одетые в военную форму участники полувоенных формирований не поставили проволочные заграждения и вырыли траншеи вокруг свободной части Берлина. На протяжении следующих недель вокруг западной части Берлина выросла прочная бетонная стена. Тот, кто теперь еще пытался бежать в Западный Берлин, ставил на карту жизнь, рискуя попасть под свинцовый град пуль пограничников.
Стена не только обескураживала, у стены не только убивали: ее возведение стало моментом истины. Это было односторонним нарушением статуса Берлина, чему западные союзники могли воспрепятствовать разве только ценой войны. Кубинский кризис 1962 г., в ходе которого мир стоял на грани ядерной войны, сделал ситуацию более ясной — ценой мира стала неприкосновенность обеих сфер влияния. Теперь у мировых держав на повестке дня оказалась разрядка вместо конфронтации. В таких условиях Федеративная Республика Германия, до сих пор вернейший союзник США против Советского Союза, оказывалась со своим притязанием на воссоединение и единоличное представительство всех немцев препятствием для достижения договоренности между великими державами. «Доктрина Хальштейна», согласно которой Федеративная Республика карала разрывом дипломатических отношений любую страну, посылавшую дипломатов в Восточный Берлин, оказалась теперь тупиком. Склонность к признанию ГДР и разрыву с ФРГ особенно сильно проявлялась в арабском мире, который временами ожидал для себя большего от поддержки Советского Союза, нежели от подарков из Бонна.
С внутриполитической точки зрения многое также свидетельствовало об изменениях. Эра Аденауэра закончилась в октябре 1963 г. с отставкой «старика». Его преемник, популярный «отец экономического чуда» Людвиг Эрхард, выиграл парламентские выборы 19 сентября 1965 г. ХДС со своей баварской партией-сестрой ХСС не хватило лишь четырех голосов до абсолютного большинства. Правда, доля голосов коалиционного партнера СвДП снизилась на четверть, в то время как СДПГ под руководством харизматического кандидата в канцлеры Вилли Брандта (1913–1992) смогла добиться существенного прироста голосов. Эрхарду не удалось, однако, превратить свой успех на выборах в долговременную политику. Он выиграл выборы, помимо всего прочего, с помощью щедрых социально-политических подарков избирателям. Государственные расходы росли быстрее, чем национальный доход, экономический спад увеличивал бюджетные трудности, и Эрхард, который когда-то сделал своим избирательным лозунгом «решительность потребления», должен был теперь проповедовать умеренность. В конце концов он был смещен, так как СвДП не хотела нести ответственность за бюджетный дефицит и 27 октября 1966 г. вышла из правительства.
Пришедшая затем к власти большая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ во главе с христианско-демократическим канцлером Куртом Георгом Кизингером (1904–1994) представляла собой лишь переходное правительство. Правда, экономическая политика правительства являлась успешной, рецессия была преодолена, и новые механизмы экономического регулирования способствовали подъему и приданию этому подъему долговременного характера. Но союз оказался слишком разнородным, чтобы стать долговечным. В германской и восточной политике как СДПГ, так и СвДП были готовы воспринять сигналы разрядки, шедшие из Москвы, Вашингтона и Парижа, и признать «реальности», смириться с разделом континента, а тем самым и Германии, прийти к компромиссу, «урегулированному сосуществованию» с ГДР. Правительство Кизингера сделало несколько шагов в этом направлении, сдало в архив «доктрину Хальштейна», установив дипломатические отношения с Румынией и Югославией и стремясь к прямому диалогу с Москвой. Кроме того, федеральное правительство решило в мае 1967 г. принять письмо правительства ГДР и ответить на него. Но этот новый реализм заходил, по мнению многочисленных политиков Христианского союза, особенно его верхушки, слишком далеко. Федеральный канцлер Кизингер до поры до времени удерживал находившихся на разных позициях членов своего кабинета, упражняясь в искусстве «вынесения проблем за скобки».
Казалось, с мертвой точки сдвинулась не только восточная и германская политика, но и государственный корабль вообще. С начала 60-х годов политический и культурный климат в Западной Германии изменился коренным образом. Ценности родителей казались подраставшему поколению устаревшими и подозрительными. Это был период типичного для немецкой истории конфликта поколений, повторявшегося каждые пятьдесят лет — накануне революции 1848 г., в конце века или в годы Веймарской республики. Молодое поколение снова сочло, что оно не в состоянии примириться с образом мышления отцов и матерей с их деловитой просвещенностью, отсутствием иллюзий, готовностью к компромиссам, ориентацией на пределы осуществимого. Прагматизм эры Аденауэра; характерные для ранних лет Федеративной Республики реставраторские тенденции, составляющие ее основы; возможность для некоторых чиновников, судей и дипломатов времен национал-социализма продолжать карьеру в этой стране; культурная стагнация как оборотная сторона экономического успеха; десятилетиями существовавшие табу на левые и радикальные идеи, и проклятия, которым эти идеи подвергались; безудержный материализм эпохи, в которой лишения военного и послевоенного времени компенсировались настоящим потребительским опьянением, — все это столкнулось теперь с фундаментальной и беспощадной критикой. Подобно тому как в начале XX в. наступил запоздалый шок от индустриализации Европы, приведший к появлению радикальных жизненных проектов, так и в 60-е годы, поколение спустя, была осознана чудовищность национал-социалистической эры и ее преступлений. Мощное и глубокое движение, апеллирующее к принципам морали, охватило западногерманское общество, и прежде всего интеллигенцию, учащуюся молодежь, интеллектуальных лидеров, формирующих общественное мнение, учителей, профессоров, журналистов. Все они требовали оказать сопротивление, которое не оказали их матери и отцы, чтобы задним числом освободиться от вины за события новейшей истории Германии.
Штутгартский конгресс писателей.
Фотография, 1970 г.
Никогда прежде главу германского правительства не видели рядом с писателями. На фотографии — федеральный канцлер Вилли Брандт среди писателей. Рядом с Брандтом — Гюнтер Грасс, Генрих Бёлль и Бернт Энгельманн. В начале 70-х годов осознание немногочисленной литературной элитой своей моральной миссии совпало с изменением политического климата и было нацелено на осуществление нового единства духа и власти, которое очень многим казалось воплощенным в личности Вилли Брандта.
Во время демонстрации 2 июня 1967 г. против визита иранского шаха в Западный Берлин полицейским по недоразумению был застрелен студент. Как реакция общества на гибель юноши по Германии прокатилась волна протеста под антифашистскими лозунгами, проникнутыми высокими моральными требованиями. «Заскорузлые структуры» должны были быть взорваны, институты либеральной демократии разоблачены как бастионы «повседневного фашизма», истеблишмент с его «характерными масками» заменен просвещенной «контрэлитой». Многие годы и в университетах, и за пределами университетов происходили напоминающие гражданскую войну выступления «внепарламентской оппозиции» (ВПО). Маркс и Ленин, давно низведенные в Восточной Европе до уровня цинично используемых идолов, пережили на либеральном Западе вторую короткую молодость. Но искры ничего не воспламенили, ибо рабочему классу — в соответствии с марксистской надеждой носителю нового, социалистического общества — было что терять, во всяком случае гораздо больше своих цепей, а также потому, что мечта о культурной революции в Федеративной Республике по образцу маоистского Китая была гротескной, далекой от жизни причудой. ВПО быстро распалась на многочисленные политические секты, ставшие частично представлять «движение за мир» конца 70-х годов, а частично террористические подпольные группы.
Однако глубинное настроение в стране изменилось, о чем свидетельствовали результаты выборов в бундестаг 28 сентября 1969 г. СДПГ, представлявшая себя в качестве партии перемен в противоположность господствовавшему ХДС, впервые на протяжении своей истории перешла 40-процентный рубеж. Председатели СДПГ и СвДП Вилли Брандт и Вальтер Шеель договорились о правительственном союзе.
Олицетворением эры социал-либеральной коалиции, продолжавшейся с 1969 по 1982 г., стали имена федеральных канцлеров Вилли Брандта и Хельмута Шмидта. Они достойно дополнили то, что относилось к эре Аденауэра. За осуществленной Аденауэром интеграцией в западное сообщество последовала восточная политика Брандта, нацеленная на смягчение напряженности отношений между ФРГ и государствами Восточного блока и их нормализацию, чтобы в условиях продолжающегося раздела континента включить Федеративную Республику в систему соглашений, обеспечивающих мир. Во внутренней политике Брандт противопоставил позиции Аденауэра «никаких экспериментов» прагматическое заявление о необходимости «отважиться на большую демократию», приверженность реформам и культурной открытости. Сколь сомнительны и отягощены идеологическими соображениями были некоторые решения, принятые в эту эпоху в сфере образования, столь же велики оказались все-таки успехи политики, благодаря которой критически настроенные левые и леволиберальные умы, до тех пор скорее чуждавшиеся «реставрационной» республики Аденауэра, были приближены к боннскому государству и добились в изменившемся интеллектуальном климате 70-х годов духовного доминирования. Имена Аденауэра и Брандта неразрывно связаны в истории Западной Германии. Их деятельность была взаимодополняющей. Они «отчеканили» обе стороны одной и той же медали.
У истоков «новой восточной политики» стояли, однако, не немцы, а великие державы. Президент США Ричард Никсон и советский министр иностранных дел Андрей Громыко заявили, что напряженность вокруг Берлина должна быть урегулирована с помощью переговоров, и 26 марта 1970 г. представители четырех держав — победительниц во Второй мировой войне встретились в берлинском здании Союзного контрольного совета, чтобы договориться о соглашении по Берлину. В конце концов оно было заключено 3 сентября 1971 г. и существенно облегчило положение «острова» под названием Западный Берлин. Эту новую фазу политики разрядки не могло бы игнорировать и федеральное правительство во главе с христианскими демократами, но у правительства Брандта было гораздо меньше препятствий, для того чтобы последовать примеру великого союзника и пойти на заключение договоров с Москвой и Варшавой об отказе от применения силы. Подобно тому как Аденауэр, будучи глубоко убежденным в правильности этого шага, когда-то согласился с интеграцией Германии в западное сообщество — чего так желали западные союзники, — теперь Брандт осуществлял быстрое урегулирование отношений с государствами Восточного блока и ГДР — чего так желали США, — потому что сам считал это настоятельно необходимым.
Дебаты об этих «восточных договорах» в немецком бундестаге достигли кульминации 22 марта 1972 г., превратившись в звездный час истории германского парламентаризма, вполне сравнимый с большими словесными баталиями вокруг германского вопроса, разыгрывавшимися в парламенте в соборе Св. Павла в 1848–1849 гг. Вновь завязался спор о том, чем, собственно, является Германия и каким должно быть ее будущее. Ораторы правительственных фракций превозносили шансы, открывавшиеся в результате «нормализации отношений» между Востоком и Западом для Германии, а представители христианско-демократической оппозиции предостерегали от опасностей. В центре дискуссий стояли не вопросы обмена послами и развития связей Западной Германии с Восточной Европой, а проблемы будущего Германии в Европе. Шла ли речь о приоритете воссоединения Германии «в границах 1937 года», как того требовала христианско-демократическая оппозиция, что в результате заключения договоров становилось менее вероятным, или прежде всего о мире и разрядке во всей Европе, как хотела правительственная коалиция, пусть даже ценой немецких надежд на воссоединение? Возродилась ли идея германского единства или эта цель устарела?
Проговаривались многочисленные варианты будущего Германии, а потому циркулировали различные взгляды на прошлое. Дебаты проходили под знаком четырех совершенно различных представлений о немецкой истории. Представитель оппозиции Рихард фон Вайцзеккер считал, что вся немецкая политика должна быть направлена на то, чтобы восстановить германское национальное государство в таком виде, как его создал Бисмарк в 1871 г. «Я полагаю, — заявил он, опираясь на знаменитое определение, данное Эрнестом Ренаном[77], — что нация является воплощением общего прошлого и будущего, языка и культуры, сознания и воли, государства и территории. Со всеми ошибками, всеми заблуждениями, порожденными духом времени, и все же с общей волей и общим сознанием — такое воплощение и определяло наше понимание нации. Поэтому, и только поэтому, мы, живущие сегодня, знаем, что мы ощущаем себя немцами. До сих пор это не было заменено чем-либо другим».
Резкие возражения слышались изо всех лагерей. Один из представителей СДПГ указывал на различие между государством и нацией и заявил, что в государстве Бисмарка большая часть нации была угнетена. Тот, кто хочет ссылаться на немецкую историю, чтобы формировать будущее, должен опираться на свободолюбивые традиции крестьянских войн, Просвещения, рабочего движения и на сопротивление Гитлеру.
Многие ораторы из Южной Германии обращались к иным историческим контекстам. Германия, по их мнению, является не чем иным, как объединением многочисленных государств, регионов и городов: Пруссии, Баварии, Вюртемберга, Саксен-Кобург-Готы, Гамбурга и многих других, которые поздно и лишь на краткое время объединились в национальное государство. Социал-демократ Карло Шмид назвал германское государство исторически существовавшей, но почти преодоленной формой сообщества, предварительной ступенью на пути к европейской нации.
Поначалу это казалось последним словом. Но за «восточными договорами» последовал Договор об основах германо-германских отношений от 21 декабря 1972 г., который исходил из существования двух германских государств и фиксировал «добрососедские отношения» между обеими сторонами и неприкосновенность германо-германской границы. Вскоре вслед за этим оба германских государства на равноправной основе были приняты в ООН. Хотя в договоре об основах отношений обе стороны подчеркивали различные воззрения на «принципиальные вопросы, в том числе на национальный вопрос», он казался практически решенным в долгосрочной перспективе.
Но решен он не был. Политики, ученые и публицисты с редким единодушием состязались, описывая существование двух германских государств в Европе и проведенной между ними границы как нечто нормальное, исторически обычное, как цену за лицемерие национал-социалистической эпохи и, во всяком случае, как неизбежную жертву ради сохранения мира во всем мире. Люди же по-прежнему истекали кровью у стены, гибли под градом пуль пограничников ГДР или при взрывах мин. Тот, кто пытался воспользоваться своим правом на свободный выезд, зафиксированный в Конвенции ООН по правам человека, которую только что ратифицировала ГДР, должен был быть готов ко всякого рода преследованиям, притеснениям, чинимым родственникам, и к тюремному заключению. Существование в ГДР оппозиции, которая с момента подписания Договора об основах отношений и Заключительного акта ОБСЕ почувствовала себя ободренной, чтобы потребовать осуществления прав человека, включая право на свободу передвижения, мешало новому, прагматическому взаимопониманию обоих германских государств. Рецепт, предложенный еще в 1963 г. советником Вилли Брандта по германской политике Эгоном Баром, был назван «изменением через сближение». В соответствии с данной концепцией коммунистические режимы могли быть не устранены, а только изменены. Поэтому в отношениях с ГДР ставилась задача стабилизации режима СЕПГ. Таким образом, считали социал-демократические политики, правительство Восточной Германии утратит боязнь за свое существование и будет готово предоставить населению больше свободы.
Склонность к пренебрежению либеральными и свободолюбивыми принципами в отношениях с ГДР и проведению «реальной политики» с налетом макиавеллизма имела определенные резоны. Таким способом все же оказывалось возможным выкупить из восточногерманских тюрем десятки тысяч заключенных и путем торгов добиться некоторых небольших послаблений в передвижении людей. Даже сенсационная отставка Вилли Брандта 6 мая 1974 г., вызванная непостижимо глупой операцией Министерства государственной безопасности ГДР с использованием агента в окружении федерального канцлера, ничего не изменила в официальных германо-германских отношениях. «Поворот» 17 сентября 1982 г., когда развалилась социал-либеральная коалиция, уступив место черно-желтому союзу партий во главе с христианско-демократическим канцлером Хельмутом Колем, также не изменил отношение к германскому вопросу и его оценке в западногерманских официальных кабинетах и редакциях газет. В 1987 г. председатель Государственного совета ГДР и генеральный секретарь ЦК СЕПГ Эрих Хонеккер посетил Федеративную Республику с официальным визитом. Фотографии в прессе, продемонстрировавшие всему миру кислосладкие мины Коля и Хонеккера при обходе почетного караула бундесвера, стали сигналом нормализации и укрепления отношений, существовавших в центре Европы.
В политике и истории нет ничего столь длительного, как временная мера, и, напротив, нет ничего столь непрочного, как состояние, которое должно быть длительным. Германское единство было уже не за горами, когда федеральный канцлер и председатель Государственного совета еще пожимали друг другу руки. Установить со всей ясностью, где началось это единение, не удается, но, вероятно, оно берет начало где-то в лесах Белоруссии. Находясь именно над этой территорией, американские спутники-шпионы сообщали с 1976 г. о появлении советских современнейших мобильных ракет средней дальности. В этих сообщениях вызывала беспокойство возможная угроза Европе и Азии, но не Америке. Тогдашний федеральный канцлер Хельмут Шмидт, в отличие от своего склонного к пророческому мышлению предшественника трезвый и точно просчитывающий каждый свой ход прагматик, одним из первых среди западных политиков понял, какие перспективы открываются благодаря этим ракетам. С их помощью мог быть пробит американский ядерный зонтик и стала бы возможной война в Европе без угрозы американскому континенту. Могло бы последовать стратегическое отделение Европы от США, а Европа — подвергнута политическому и военному шантажу. Советский государственный и партийный руководитель Леонид Брежнев, как казалось, следовал двойной стратегии, в соответствии с которой под прикрытием дипломатического дружелюбия возникала новая угроза стратегическому равновесию. Советское вторжение в Афганистан в канун Рождества 1979 г. усилило подозрения со стороны Запада. «Двойное решение»[78] НАТО было ответом, свидетельствовавшим о готовности разместить в Западной Европе соответствующие ракеты средней дальности, чтобы под американским атомным зонтиком раскрыть зонтик меньшего размера — европейский.
Борьба вокруг осуществления «двойного решения» бушевала в рядах европейской общественности, особенно немецкой. К «движению за мир», которое выступало резко против размещения западных ракет в Германии и при этом смогло мобилизовать сотни тысяч пацифистски настроенных граждан, присоединилась часть правящих партий. Это была одна из основных причин, по которой реалисту Хельмуту Шмидту, потерявшему уверенность в собственной партии, пришлось уйти с поста канцлера. Его сменил председатель ХДС Хельмут Коль. Одна из заслуг Коля на посту федерального канцлера заключается в том, что он осуществил «довооружение» вопреки сопротивлению значительной части немецкой общественности. Другим его вкладом в «движение за мир» было то, что Германию не удалось пригвоздить к позорному столбу как страну, жаждущую войны. Обе позиции — и довооружение, и демонстративная готовность к миру действительно соответствовали друг другу и давали недвусмысленный сигнал Москве.
К сложившейся ситуации добавилось нежелание западной сверхдержавы — США с момента вступления Рональда Рейгана на пост президента ограничиваться ракетным покером. Соединенные Штаты оповестили мир о новом раунде гонки вооружений. На этот раз речь шла о создании противоракетной системы, которая должна была сделать Америку неуязвимой для атомных ударов. Совершенно ясное намерение Рейгана заключалось в том, чтобы заставить СССР «довооружаться до смерти», и в кругах западной интеллигенции стало обычным делом возмущаться на сей счет и считать бывшего киноактера, обосновавшегося в Белом доме, смешным. Но конфронтационная политика Рейгана привела к неожиданному успеху: Советский Союз все поставил на одну карту, безмерно наращивая вооружение и тем самым толкая страну к экономической разрухе. Советская война в Афганистане, конца которой не предвиделось и которая требовала огромных расходов, довершила кризис в экономике.
Новый и, по советским меркам, молодой лидер КПСС Михаил Горбачев, пришедший к власти в 1985 г., проявив мужество и дальновидность, сделал выводы из сложившегося катастрофического положения. Мир узнал два русских слова — «перестройка» и «гласность». Речь шла об обновлении и совершенствовании принципов управления, о том, чтобы сделать экономику СССР эффективной, политику популярной, а государство современным, готовым достойно вступить в XXI век. В некоторых отношениях Генеральный секретарь добился успеха. Но с ним случилось то же, что и со многими другими реформаторами прошлого, которые ослабляли узду абсолютистского и авторитарного господства с целью модернизации системы. Они оказывались неспособными справиться с динамикой общественного развития, вызванной этими действиями. Подобно французскому министру Жаку Неккеру, который в 1789 г. хотел оздоровить государственные финансы, вызвав тем самым Французскую революцию, Горбачев пытался реформировать СССР, что повлекло за собой гибель советской власти.
Изменение климата в Советском Союзе стало ощущаться во всем Восточном блоке. Оппозиционные группы вроде «Хартии 77» в Чехословакии или «Солидарности» в Польше осмелились выступить открыто и увидели, что государственный репрессивный аппарат стал осторожнее. В других странах, например в Венгрии, правившие коммунисты или по меньшей мере некоторые из них обнаружили свои либеральные, плюралистические убеждения и начали копировать реформы Горбачева. Европейские государства Восточного блока одно за другим отпадали от СССР, причем начало этому процессу положила Польша. Скорость, с которой это произошло, была связана со средствами массовой информации, моментально реагировавшими на события в Восточной Европе. Впервые революция происходила не на улице, а на телеэкране. Кадры демонстрации в Праге во всем походили на те же, что в Дрездене или Варшаве. Пражане выходили на улицы под впечатлением от увиденных на экране событий в Дрездене, подобно тому как дрезденские демонстранты действовали по варшавскому образцу. События давали материал, изображение создавало предмет, революция разыгрывалась на телевизионном экране, а все остальное было предсказуемым финалом. Поэтому-то перемены происходили с такой стремительностью и оказались — еще один новый момент в истории — совершенно бескровными. Демонстранты занимали не только здания, где находились власти, но и студии теле- и радиовещания.
Несколько месяцев казалось, что ГДР представляет собой незыблемую скалу среди набегающих волн, несмотря на все недовольство населения. Так думала не только правившая там группа функционеров во главе с Эрихом Хонеккером, который показал себя совершенно слепым, не замечая краха советской системы («Социализм, раз процесс пошел, не остановит ни вол, ни осел»), и считал, что в Москве действуют бесхребетные политики, а то и предатели. В Западной же Германии следили за нараставшим беспокойством населения ГДР скорее озабоченно, нежели с надеждой. Едва ли кто-то мог себе представить, что Советский Союз откажется от своего западного форпоста. Все еще помнили события 17 июня 1953 г., и было известно также, что Эгон Кренц, член Политбюро ЦК СЕПГ, совсем недавно посетил Китай и поздравил руководство партии и государства с кровавым подавлением либеральных демонстрантов на «площади небесного мира». Нечто подобное могло случиться теперь в Лейпциге или Берлине.
Те, кто так думал, вовсе не ошибались в оценке руководства СЕПГ, но ошибочными оказались предположения относительно советских интересов. Горбачев отдавал себе отчет в том, что СЕПГ сама рыла себе могилу своим типично немецким доктринерским упрямством. Кроме того, связи между Советским Союзом и Западной группой советских войск в ГДР прервались, с тех пор как Польша перестала быть союзником СССР. Советскому руководству не оставалось ничего другого, как выравнивать линии фронта. Советский Союз готовился уйти из своей святая святых, чтобы справиться с разрушительными противоречиями у себя дома и отпустить государства своего западного предполья в Европу, полагая, что богатый Запад возьмет на себя ответственность за экономическое выживание Восточной Европы, а советский уход будет вознагражден.
Когда осенью 1989 г. в Дрездене, Берлине и Лейпциге раздался тысячеустый клич «Мы — народ», из которого быстро родился лозунг «Мы — один народ», растерянные руководители ведомств безопасности обратились к советскому послу в Восточной Германии, требуя военной помощи в случае выступления против демонстрантов. Произошло немыслимое — советские представители отказали, и судьба власти СЕПГ была решена. Режим ГДР получил смертельный удар от венгерских товарищей, открывших границу на Запад для все нараставшего потока восточногерманских беженцев. Что еще оставалось делать соратникам Хонеккера? Вечером 9 ноября 1989 г. были открыты пограничные переходы в Берлинской стене. Объединение двух германских государств стало неизбежным и было осуществлено менее года спустя.
XIV. Эпилог. Что такое отечество немцев?
Тот, кто после падения стены решал прогуляться по центру Берлина от рейхстага до прусского ландтага, должен был испытать странное ощущение. До сих пор существовала узкая, но четко обозначенная тропка: все время вдоль стены, чего же проще. А вот теперь стены больше нет и можно перемещаться, как по сюрреалистическому сказочному ландшафту, от одной площади к другой — от Паризерплац к Потсдамерплац, а оттуда к Ляйпцигерплац. Вокруг пустыри, сохранившиеся то там, то здесь дома, развалины, строительный мусор, где-то под ногами попадаются наподобие кротовых ходы старого бункера фюрера. Армада строительных машин, которая должна засыпать новый центр столицы песком из Бранденбурга, только усиливает впечатление. Перед глазами совершенно открытое пространство, ни одной пешеходной тропинки, ни один указатель пока не подсказывает, куда идти.
Эта открытость в центре Берлина походила на тот духовный ландшафт, в котором совершенно неожиданно оказалась Германия. Только теперь стало понятно, как удобно можно было устроиться в послевоенном мнимо стабильном мире. Интеллектуальные дискуссии о прошлом и будущем Германии и Европы велись на фоне политической конъюнктуры, в условиях которой действительные изменения были связаны с Третьим миром, в то время как обе гегемонистские мировые системы Северного полушария, как два скорпиона в бутылке, взаимно заблокировали друг друга, сцепившись в длительной неподвижности. Между ними находились две Германии, забетонированные двояким образом — с одной стороны, из-за их фронтового положения в «холодной войне», с другой — из-за их особой исторической ответственности за ставший возможным послевоенный порядок.
Исходя из этого, открывались особые перспективы как для понимания немецкого прошлого, так и для будущего. История германского национального государства завершилась в ужасе и позоре. Будущее заключалось, по мнению одних, в идеалистически вымышленной Европе, которая часто имела мало что общего с действительным Европейским сообществом. Другие видели это будущее в романтической идиллии регионов и малой родины. Конституционный патриотизм германской федерации, который должен был заменить традиционные национальные связи, оставался еще некоей конструкцией в головах немногих умных людей. На протяжении сорока лет в диспутах о немецком прошлом существовало широкое согласие в одном пункте. Национальное государство немцев считалось проверенным историей проектом, отвергнутым за непригодностью.
Обстоятельства изменились быстро, радикально, неожиданно и так, что случившееся до сих пор едва понято. В связи с изменениями, происходившими в Европе, немцы получили шанс второй раз основать свое национальное государство. Вопреки практиковавшемуся на протяжении многих десятилетий официальному пафосу воссоединения никто в действительности не думал о новом германском государстве и редко кто стремился к его созданию. Теперь немцы оказались снова в открытом поле, как и гуляющие над бункером фюрера в центре Берлина. В этой ситуации появляется необходимость обратиться к историческому опыту. Напрямую возникает историческая параллель как с открытостью европейского будущего, так и с новым объединением «немецких земель», les Allemagnes[79], как говорят французы, в новую Германию в центре Европы. Представляется, что на повестке дня стоит возвращение XIX столетия, точнее, возвращение той ситуации, которая существовала непосредственно после краха наполеоновской империи, перед новым укреплением европейского равновесия в результате Венского конгресса.
Тогда идея немецкой нации в ходе конфронтации с французским национализмом распространилась в немецкоязычной Центральной Европе. На гребне массового воодушевления, порожденного освободительными войнами, она превратилась в чувственно воспринимаемую действительность. До создания современного национального государства, которое уже было у французов или англичан, казалось, оставался всего лишь шаг. Однако создание этого государства заставило себя ждать. Оно вновь и вновь казалось осязаемо близким, чтобы затем вновь и вновь — в соперничестве между Пруссией и Австрией, в проявлении эгоизма отдельными государствами и их властителями, но прежде всего под давлением остальных европейских государств — улетучиваться в сферу иллюзорного. К сказанному следует добавить то, что было названо «германским вопросом»: каким должно быть устройство этой Германии, какие границы она должна иметь, каковы ее задачи и какую роль в Европе она должна играть — все это оставалось совершенно неясным. Основание государства на малогерманской основе с помощью прусских штыков и в виде союза германских князей произошло в 1871 г. почти случайно, став прежде всего следствием того, что европейский концерт временно замолк, а между фланговыми державами Англией и Россией в результате Крымской войны существовали расхождения. О предопределенном пути к германскому единству не могло быть и речи.
Так что же, в общем и целом крут замкнулся? Мы снова стоим там же, где стояли когда-то? Позади нас — крах дуалистической системы гегемонии, перед нами — нечеткая перспектива новой и более высокой роли немцев в перестраиваемой Европе? Сложилась ли опять ситуация, в которой национальные амбиции немцев могут быть удовлетворены только за счет европейских соседей? И не берутся ли снова мыслители нации, философы, но прежде всего историки за то, чтобы исходя из исторического опыта, обосновывать национальный путь, который следует совершать в одиночку, и тем самым создавать мифы, способствуя формированию нового и рокового немецкого самосознания? Является ли немецкая история всегда возвращением к одному и тому же?
Если бы дело обстояло таким образом, то были бы правы те, кто склоняется сейчас к тому, чтобы проецировать на наше будущее надежды, тщетности и крушения немецкой истории прошедшего столетия и, обращаясь к катастрофическому пути первого германского национального государства, делать мрачные прогнозы на будущее. Мы знаем его, давний страх перед вечной подверженностью немцев чрезмерному, агрессивному национализму, якобы непоколебимой части национального характера.
Но этот страх необоснован. С немецким особым путем, немецким особым сознанием покончено. Во многих отношениях совершилось, как уже не впервые в немецкой истории, резкое прерывание мощной исторической преемственности. Одновременно прекратили существовать и решающие предпосылки той угрозы немецкой политической культуре, которые в XIX — первой половине XX в. привели к возникновению невротически чрезмерного, взрывающего систему национализма.
По крайней мере в четырех отношениях немецкое настоящее коренным образом отличается от немецкого прошлого.
1. Впервые в истории германское национальное государство является «насытившимся настоящим», как сказал Эрнест Ренан при взгляде на французское государство. До тех пор имело силу изречение Ницше: «Немцы — народ позавчерашний и послезавтрашний, у них еще нет сегодня». Это объяснялось тем, что со времени возникновения идеи национального государства в Германии в начале XIX столетия нация и государство всегда расходились друг с другом. Первые приверженцы национального движения мечтали о возвращении средневекового государства под германским руководством, но с включением Богемии и Северной Италии, Малогерманскую империю Бисмарка многие считали лишь предварительным взносом для реализации идеи великогерманской империи. Веймарская республика оказалась перемолотой в борьбе за пересмотр Версальского договора и восточной границы. Государство Федеративная Республика Германия возвело восстановление границ 1937 г. в ранг политического императива. Никогда государственная оболочка не была достаточно прочной, всегда представляя собой только временное решение, промежуточную стадию на пути к утопии, которую можно осуществить лишь силой или вообще никак. Отсюда особенно невротические формы выражения немецкого национализма и поиска немецкой идентичности. С этим теперь покончено. С 3 октября 1990 г. ФРГ является единственной мыслимой государственной оболочкой немецкой нации, без какой бы то ни было легитимной конкуренции в умах граждан. На вопрос Эрнста Морица Арндта «Что такое отечество немцев?» впервые в немецкой истории был дан недвусмысленный ответ, рассчитанный на долгосрочную перспективу.
Федеративная Республика Германия в 1990 г.
2. Впервые в своей истории немцы смогли полностью обрести как единое целое и единство, и свободу. С начала Нового времени казалось, что это невозможно. Считалось, что немцы из двух категорий — свободы и единства — могут получить в полном виде лишь что-то одно, а другое — по крайней мере в искаженном виде. В соответствии с Договором о германском единстве, подписанным в 1990 г., преамбула к основному закону должна быть изменена. Место призыва к немецкому народу осуществить единство и свободу в Германии в будущем займут слова: «Настоящий Основной закон имеет силу для всего немецкого народа».
Это значит, что старая дискуссия о том, определяется ли идентичность немцев национальной традицией или рамками конституции, — дискуссия, длившаяся с кануна революции 1848 г. до так называемого спора историков, исчерпана. Отныне германское национальное государство будет формообразованием для институтов Основного закона, базирующихся на принципах свободы. Отныне и свобода, и единство сливаются воедино.
3. Впервые в своей истории немцы объединились не против соседей, а с их согласия. Объединенная Германия не рассматривается больше как нарушитель спокойствия в Европе. При всех исторически обоснованных и понятных реминисценциях, при всех опасениях экономической и демографической концентрации в центре континента Германия воспринимается как необходимая составная часть европейской системы, а также и в качестве будущей великой державы. Причина ясна: Германия включена в многочисленные экономические, военные и политические системы договоров, и это включение — необратимый процесс. Вывод очевиден: в интересах как Германии, так и Европы следует продвигать европейское объединение, чтобы никогда больше не возникла такая ситуация, в которой мощь Германии стала бы непредсказуемой для сообщества наций.
Впервые в своей истории германское национальное государство оказалось необратимо связано с Западом. Именно переворот в ГДР показал всему миру, что люди в Восточной Германии хотят принадлежать не только к экономической системе, но и к политической культуре Запада. Это ново. До сих пор для политической культуры Германии было характерно то, что страна, находившаяся по обе стороны пограничной полосы, проходившей по Майну и Эльбе, принадлежала как к латинскому Западу с его Возрождением и Просвещением, так и к более молодому германо-славянскому Востоку. Политические достижения Нового времени: суверенитет народа, парламентаризм, права человека — принадлежали Западу. Запад же в образе Наполеона появился в Германии как враг, и это имело самые тяжелые последствия. Германия формировала свою национальную идентичность в борьбе против «корсиканского чудовища», против Франции, а значит, и Запада. Такое развитие событий привело к тому, что во всех кризисах, которые переживала Германия и в ходе которых национальное сознание оказывалось устойчивым, оживлялась массовая неприязнь к Западу. Это возымело в высшей степени роковые политические последствия в виде отклонения западной политической культуры с ее институтами и нормами.
Лишь история успешной интеграции Германии в западные союзы после Второй мировой войны, связанная с «экономическим чудом», позволила, собственно, Германии стать частью Запада. Об этом свидетельствует не одна только существенная стабильность демократических институтов, но и та очевидность, с которой немцы усвоили североатлантическую культуру вплоть до ее самых тривиальных аспектов. В наши дни в Германии те, кто враждебно противостоит таким институтам, как культура западной парламентской демократии, и предается мечтам об особых политических, культурных и экономических путях, представляют собой меньшинство, бесперспективное с политической точки зрения.
Все это говорит в пользу предположения о том, что мы находимся в ситуации, совершенно новой для немецкой истории, в ситуации, которая не только позволяет вновь размышлять о нации и ее значении в немецкой и европейской истории и в будущем, но и требует осмысления. Сейчас становится более понятно, что современное национальное государство, возникавшее с конца XVIII столетия как результат американской и французской революций, с позиции послевоенной Федеративной Республики, как правило, оценивалось ошибочно. Это и неудивительно после того катастрофического провала, который потерпел эксперимент с созданием первого германского национального государства со времен Бисмарка до разгрома Гитлера. В остальном же самоуважение Федеративной Республики, заключавшееся в том, чтобы национальное государство оставить в архиве и по пути в Европу несколько опережать других европейцев, напоминает, пожалуй, историю о лисе и винограде.
Теперь у нас снова есть государство немецкой нации, даже если для его внутренней консолидации и потребуется еще много времени и терпения. Но именно сейчас очевидно, насколько необходимо это государство. Только при условии национальной солидарности можно будет в обозримый период выровнять тяжелые внутренние перекосы, имеющиеся в Германии. И разве взгляд на западных и восточных соседей не доказывает, что с начала XIX в. национальное государство, и только оно, смогло быть стабильной оболочкой для прочных демократических институтов? Отпевание национального государства оказалось делом преждевременным. До тех пор пока на европейском уровне отсутствуют соответствующие демократические легитимированные институты, национальному государству нет отчетливой альтернативы, да и после создания европейской государственности целый ряд государственных задач по-прежнему должны будут решаться на национальном уровне. Западные национальные государства изменились на протяжении последних 150 лет, они утратили часть суверенитета и автономии в той же мере, в какой утратили исключительность претензий на лояльность к своим гражданам. Национальное государство стало менее важным, но отнюдь не излишним.
Тот факт, что второе основание государства немцев происходит под более счастливым знаком, чем первое, вселяет уверенность в том, что Германия на сей раз в рамках своих европейских связей займет подобающее положение как часть Запада. Это не означает, что нас не ожидают экономические и политические кризисы, в ходе которых могут возникнуть глубокие противоречия и конфликты. Многие признаки, однако, указывают на то, что эти конфликты будут менее мучительными и не столь напряженными, как прежние. Антидемократические силы могут теперь рассчитывать на гораздо меньшую поддержку, чем раньше. Там, где исчезли самые важные причины политико-культурной болезни европейского центра на протяжении последних 150 лет или где они стали менее важными, появляется перспектива не только длительной стабильности демократических институтов, но и более спокойного рассмотрения общественных дел германского национального государства — такого же государства на Западе, как и другие. На «германский вопрос», так долго беспокоивший как немцев, так и всех остальных европейцев, получен ответ. Теперь мы знаем, что такое Германия, чем она может и должна быть.
Список карт[80]
1. Схема расселения германских племен
2. Раздел империи Карла Великого по Верденскому договору 843 г.
3. Объединение Германии 1866–1871 гг.
4. Территория Германии по Версальскому мирному договору …
5. Германия в 1946 г.
6. Федеративная Республика Германия в 1990 г.
Избранная библиография
Тот, кто хотел бы больше узнать о германской истории, может испытать определенные трудности, поскольку существует огромное количество соответствующей литературы. Ниже заинтересованный читатель найдет некоторые библиографические указания, которые должны помочь проложить путь в книжной чащобе. Приведенные издания не охватывают всю проблематику и не могут представить все направления исследований. Они, конечно, субъективны, как и любая выборка.
Все поиски источников и литературы по германской истории следует начинать с труда: Winfried Baumgart. Bücherverzeichnis zur deutschen Geschichte: Hilfsmittel, Handbücher, Quellen. Neuaufl. München 1994.
Что касается вводных справочников, то следует назвать прежде всего: Gebhard. Handbuch der deutschen Geschichte, hrsg. v. Herbert Grundmann, 4. Bde., 9., neu bearb. Aufl. Stuttgart (Klett-Cotta) 1970–1973. В ближайшем будущем должно выйти десятое полностью переработанное издание. Краткое изложение событий, состояние уровня исследований, а также обширную библиографию предлагает серия: Grundriß der Geschichte, hrsg. v. Jochen Bleicken u.a., 20. Bde., München/Wien (Oldenbourg) 1984 ff. Подобным же образом построено, хотя и разбито не по хронологическому, а по тематическому принципу, издание: Enzyklopädie deutscher Geschichte, hrsg. v. Lothar Gail u.a., München/Wien (Oldenbourg) 1990 ff.; серия включает уже около 40 томов, но предполагается, что их будет существенно больше.
Нет недостатка в многотомных, подробных, большей частью хорошо изложенных общих курсов германской истории, включая работы, ставшие классическими. Среди них следует выделить: Deutsche Geschichte, 12. Bde., erw. u. verb. Neuauflage Berlin (Siedler) 1994; Propyläen Geschichte Deutschlands, 9. Bde., Berlin 1983–1995; Neue Deutsche Geschichte, hrsg. v. Peter Moraw u. a., 10 Bde., München (C.H. Beck) 1989; Deutsche Geschichte, hrsg. v. Joachim Leuschner, 10 Bde., Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1982–1994; о германской истории за последние 200 лет см.: Deutsche Geschichte der neuesten Zeit, hrsg. v. Martin Broszat u. a., 30 Bde., München (dtv) 1984 ff.
Все вышеперечисленные издания позволят читателю получить достаточно полное представление о ходе событий и взаимосвязях в германской истории; они снабжены хорошей библиографией. По отдельным аспектам германской истории следует привести названия книг, которые вышли вне больших серий.
Средние века
Hartmut Boockmann, Einführung in die Geschichte des Mittelalters, München3[81] 1985.
Ders., Die Stadt im späten Mittelalter, München 1986.
Arno Borst, Lebensformen im Mittelalter, Frankfurt/M., Neuausgabe 1984.
Philipp Dollinger, Die Hanse, Stuttgart4 1989.
Frantisek Graus, Pest, Geissler, Judenmorde: Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit, Göttingen 1987.
Franz Hubmann, Deutsche Könige, Römische Kaiser. Der Traum vom Heiligen römischen Reich deutscher Nation, 800–1806, Wien 1987.
Hans K. Schulze, Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter, 2 Bde., Stuttgart 1985.
Раннее Новое время
Ilja Mieck, Europäische Geschichte der Frühen Neuzeit, Stuttgart 2 1977.
Ernst Hinrichs, Einführung in die Geschichte der Frühen Neuzeit, München 1980.
Geoffrey R. Elton, Europa im Zeitalter der Reformation 1517–1559, München 21982.
Johannes Kunisch, Absolutismus. Europäische Geschichte vom Westfälischen Frieden bis zur Krise des Anden Regime, Göttingen 1986.
Paul Hazard, Die Krise des europäischen Geistes 1618–1715, Hamburg 1939.
Horst Möller, Vernunft und Kritik. Deutsche Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1986.
Heinz Duchhardt, Gleichgewicht der Kräfte, Convenance, Europäisches Konzert, Darmstadt 1976.
Karl Otmar v. Aretin, Das Reich. Friedensgarantie und europäisches Gleichgewicht 1689–1806, Stuttgart 1986.
Reinhart Koselleck, Preußen zwischen Reform und Revolution, Stuttgart 31987.
XIX век
Gerhard Ritter, Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des «Militarismus» in Deutschland, 4 Bde.r München 1964 ff.
Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800–1866. Bürgerwelt und starker Staat, München 1983.
Ders., Deutsche Geschichte 1866–1918, Bd.I: Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1990.
Ders., Deutsche Geschichte 1866–1918, Bd. II: Machtstaat vor der Demokratie, München 1992.
Klaus Hildebrand, Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler, 1871–1945, Stuttgart 1995.
Gordon A. Craig, Deutsche Geschichte 1866–1945. Vom Norddeutschen Bund bis zum Ende des Dritten Reiches, München 1980.
XX век
Paul M. Kennedy, The Rise of Anglo-German Antagonism 1860–1914, London 1980.
Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914–1918, Düsseldorf 1961.
Heinrich August Winkler, Weimar 1918–1933, München 2 1993.
Francis L, Carsten, Reichswehr und Politik 1918–1933, Köln/Berlin 1966.
Karl Dietrich Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik, Villingen5 1971.
Henry A.Turner, Die Großunternehmen und der Aufstieg Hitlers, Berlin 1985.
Emst Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche, Köln 1963.
Peter Hoffmann, Widerstand — Staatsstreich — Attentat. Der Kampf der Opposition gegen Hitler, Berlin 1974.
Andreas Hillgruber, Deutsche Geschichte 1945–1982. Die «deutsche Frage» in der Weltpolitik, Stuttgart5 1985.
Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen, 2 Bde., München 2000.
Экономические и социальные науки
Wilhelm Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Europa. Versuch einer Synopsis, Berlin/Hamburg 1974.
Fernand Braudel, Sozialgeschichte des 15, — 18. Jahrhunderts, 3 Bde., München 1986.
Otto Brunner, Sozialgeschichte Europas im Mittelalter, Göttingen 1978 Edith Ennen, Frauen im Mittelalter, München 51994.
David S. Landes, Der entfesselte Prometheus, Köln 1973.
Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 4 Bde. (davon bisher 3 erschienen), München 1987 ff.
Knut Borchardt, Die Industrielle Revolution in Deutschland, München 1972.
Harold James, Deutschland in der Weltwirtschaftskrise 1924–1936, Stuttgart 1988.
Eric Lionel Jones, Das Wunder Europa, Tübingen 1991.
Биографии
Heiko A. Oberman, Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel, Berlin 1981.
Karl Brandi, Kaiser Karl V., Frankfurt/M. 81986.
Theodor Schieder, Friedrich der Große. Ein Königtum der Widersprüche, Frankfurt/M. u. a. 1983.
Karl Gutkas, Joseph II., Wien 1989.
Jean Tulard, Napoleon oder der Mythos des Retters, Tübingen 1978. Heinz Gollwitzer, Ludwig I. von Bayern. Eine politische Biographie, München 1986.
Lothar Gail, Bismarck. Der weiße Revolutionär, Frankfurt/M./ Berlin/Wien 1980.
Hagen Schulze, Otto Braun oder Preußens demokratische Sendung. Eine Biographie, Frankfurt/M./Berlin/Wien 1977.
Joachim C. Fest, Hitler. Eine Biographie, Frankfurt/M./Berlin/Wien 1973.
Ian Kershaw, Hitler, 2 Bde., Stuttgart 1998, 2000.
Иллюстрации
Папа, император и Рим.
Фреска в церкви Санто-Кватро Коронати. Рим, около 1250 г.
Рим был центром западного христианства, Из Рима распространялась власть как императора, так и папы. Но там, где император мог отстоять свои притязания мечом, папе оставалось только ссылаться на старое право. В Средние века такая практика была распространена достаточно широко, Стоит вспомнить о «Константиновом даре», грамоте императора Константина Великого, согласно которой монарх передал папе владычество над Римом и Западной Римской империей. Грамота стала решающей юридической основой папского притязания на первенство по сравнению с императором, о чем красноречиво свидетельствует фреска XIII в. Император ведет под уздцы коня папы. Таков был символический жест подчинения. Императоры, начиная с Оттона III, утверждали, что «Константинов дар» — фальшивка. Только в XV в, ученые-гуманисты сумели это доказать.
Хроника Констанцского собора.
Аугсбург, 1483 г.
Папа Иоанн XXIII (1415–1419), изображенный в Хронике, был противником пап, находившихся в Авиньоне, а также короля (впоследствии императора) Сигизмунда (1410–1437), пригласившего папу на Констанцский собор (1414–1418). Иоанн XXIII был низложен в Констанце, как и его авиньонские конкуренты, что положило конец Великой схизме — позднейшему отголоску многовековой борьбы между императором и папой, которые при всей враждебности не могли существовать друг без друга.
Хроника Констанцского собора, позднейшее издание.
Аугсбург, 1536 г.
Богемский реформатор Ян Гус (около 1370–1415) приехал в Констанц, чтобы отстоять свое учение. Несмотря на то что король Сигизмунд обещал ему свободный проезд, он был арестован, обвинен в ереси и сожжен. Хроника запечатлела, как два архиепископа лишают Гуса духовного сана, затем облаченного в черную одежду еретика проводят через город, сжигают на костре в присутствии герцога Людвига Баварского и бросают его пепел в Рейн.
Император Максимилиан I.
Бернхард Штригель, 1495 г.
Император Карл V.
Школа Пауля Рубенса после Тициана, первая четверть XVII в.
«Мы, Карл Пятый, Милостью Божьей римский император, во все времена умножитель империи, король Германии, Кастилии, Арагона, Леона, обеих Сицилии, Иерусалима, Венгрии, Далмации, Хорватии, Наварры, Гранады, Толедо, Валенсии, Галисии, Мальорки, Севильи, Сардинии, Кордовы, Корсики, Мурсии, Хаэна, Алгарве, Алхесираса, Гибралтара, Канарских и Индийских островов и материков Океанического моря и т.д., эрцгерцог австрийский, герцог бургундский, лотарингский, брабантский, штирийский, каринтийский, краинский, лимбургский, люксембургский, гельдернский, калабрийский, афинский, неаполитанский и вюртембергский и т.д. …» Эта формулировка с 1521 г. предваряла все имперские акты, имперские законы и другие документы. Она дает определенное представление об империи Карла V, которая состояла из многочисленных стран, очень различных в историческом и правовом отношении. Основой ее существования было исключительно династическое наследственное право, позволяющее государю объединять ее своим единоличным правлением. Однако император не имел обоснованных притязаний на какую-то отдельно взятую территорию.
Титульный лист Библии Мартина Лютера.
Аугсбург, 1535 г.
На протяжении Средних веков имело хождение не менее 4 тыс. рукописных Библий на немецком языке, из них 43 — с полным текстом, но ни одна из них не получила всеобщего признания. Перевод Библии, выполненный Мартином Лютером, оказался успешен не только благодаря образному языку, который он «выхватил» из уст народа, а также из-за точности в критике текста, к которой стремился Лютер — университетский ученый-гуманист. Лютер закончил перевод в 1534 г., и уже год спустя в Аугсбурге появилась Библия, предназначенная для князей, покровителей и знати. Это было роскошное издание с большими гравюрами на дереве таких мастеров, как Гольбейн и Кранах. Первый обладатель изображенного экземпляра, граф Казимир фон Ортенбург, будучи строгим кальвинистом, сделал лик Божий на титульном листе неузнаваемым.
Снятие осады Вены в 1683 г.
Около 1700 г.
В июле 1683 г. 250-тысячное войско под командованием великого визиря Кара-Мустафы подошло к Вене. После девятидневной осады город, которому угрожала величайшая опасность, был спасен объединенной христианской армией под командованием польского короля Яна III Собеского и императорского фельдмаршала Карла Лотарингского. Эта осада стала кульминацией турецкой экспансии. Последующие войны против Турции надолго направили взор Габсбургов на юго-восток Европы.
Фридрих II в образе полководца.
Антуан Пен, около 1745 г.
Гренадер Джеймс Киркленд из гвардии великанов Фридриха Вильгельма I.
Иоганн Кристоф Мерк около 1714 г.
Прекращение Пруссии в европейскую державу было связано с особенностью» которую граф Мирабо выразил в многократно цитировавшихся словах: «Прусская монархии — это не страна, у которой есть армия, а армия, владеющая страной, в которой она, так сказать, расквартирована». Хотя Фридрих Вильгельм I (1713–1740) и создал самую большую в соотношении с численностью населения армию Европы, он никогда не вел войн. Вместо этого он собирал по всей Европе самых рослых солдат для своего лейб-гвардейского полка в Потсдаме и, будучи во всем остальном экономным, в этом случае не стеснялся в расходах. «Потсдамский развод» высмеивался по всей Европе как причуда Фридриха Вильгельма I, а прусскую армию не воспринимали всерьез.
Музицирование.
Германия, середина XVIII в. Перерыв, во время которого семья пила кофе, закончился, родители уже играют прелюдию на спинете и лютне, а дети ждут, когда им надо будет начинать петь. Домашнее музицирование было чем-то большим, нежели просто семейное развлечение. Оно представляло собой культурную привилегию бюргерства, которое таким образом делало себя независимым от придворных опер и концертов и с присущим ему стилем обрело собственные формы выражения.
«Этапы жизни» Наполеона.
Иоганн Михаэль Фольц, 1814 г.
Карикатура на Наполеона после его свержения: «корсиканский юнец» поднимается со ступени на ступень к своему успеху, и вот он на самом верху рядом с Жозефиной в качестве первого консула и императора французов. Затем начинается путь вниз: ему пришлось убраться из Испании, из Москвы, а потом из Германии; государи Австрии, Пруссии и России сталкивают его по лестнице успеха, В итоге он сидит перед Хроносом, который вырезает для него из карты остров Эльба, и вздыхает: «Ах, как мало мое владение».
Отто фон Бисмарк.
Отто фон Аенбах, 1879 г.
Кабинет для чтения.
Л. Арното (?), около 1840 г.
Около 1770 г. примерно 15% взрослых немцев умели читать и писать, а в 1840 г. их было приблизительно 40%. Произошла настоящая революция в чтении. Этому соответствовало огромное расширение книжного и газетного рынка, что позволяло знакомить с политическими аргументами и предоставляло читателям возможность выбора своих позиций между партиями. Так возникла критическая и готовая к дискуссии общественность, которая все чаще и все успешнее могла с помощью печати влиять на правительство.
Рабочее Евангелие.
Йене Биркхольм, 1900 г.
Агитационное собрание социал-демократов в конце 90-х годов XIX в. В углу сияет бюст социалистического пророка Карла Маркса. В непосредственной близости от него расположились полицейские чиновники, которые при малейшем незаконном высказывании распустят собрание. Перед публикой, прислушивающейся в напряженном внимании, стоит оратор, возглашающий слово. Его голова полностью соответствует традиции иконографии Христа, а правая рука поднята, точно благословляя. Благая весть социализма доходила в основном до протестантских промышленных рабочих; в 1871 г. на выборах в рейхстаг 3,2% избирателей отдали свои голоса социал-демократии, а в 1912 г. их было уже 34,8%.
На этот раз дойдем до Берлина.
Американский плакат, Франция, лето 1944 г.
Для союзников Вторая мировая война была прямо связана с Первой мировой войной и предшествовавшими ей войнами с Германией или с Пруссией. Национал-социализм рассматривался в этой связи как последовательная эскалация «прусского духа» и «германского духа». Поэтому было необходимо «на этот раз дойти до Берлина». Германию следовало не освободить, а как вражеское государство оккупировать на долгое время. Директива JCS 1067 американского комитета начальников штабов оккупационным войскам США, действовавшая до 1947 г., в качестве главной цели союзников определяла «принуждение Германии к тому, чтобы от нее никогда больше не могла исходить угроза миру во всем мире».
Вручение партийного документа.
Ханс Мроцински, 1953 г.
В 1952 г. политические структуры в ГДР укрепились настолько, что Вальтер Ульбрихт смог на Второй партийной конференции провозгласить «планомерное построение социализма». На практике это означало не осуществление новых идей, а приспособление к отсталой системе советского сталинизма. В соответствии с решениями конференции «изучение произведений товарища Сталина» следовало осуществлять «еще тщательнее». Наряду с формированием культа личности, проникнутого подобострастием, партийное руководство акцентировало внимание на кадровой политике; критика, самокритика, а также контроль со стороны вышестоящих органов считались гарантами сохранения власти.
Учиться у советских людей — значит, учиться побеждать!
Лейпциг, 1951 г.
Западная политика интеграции ускорилась во время войны в Корее. Пропаганда ГДР реагировала на это по-своему. Метафорично изображение корабля на плакате. Слева — пиратское судно Запада, давшее течь. Его разорванный парус означает план Маршалла, Североатлантический пакт и Западный блок. Черчилль, де Голль, Франко и французский министр иностранных дел Шуман напрасно вычерпывают воду из корпуса, Аденауэр в нацистской форме уже оказался за бортом. Дно этой жалкой ореховой скорлупки пробито мощным советским пароходом под знаменем мира. На его борту изображены героические советские люди.
Мы — один народ!
Раскрашенный картон, осень 1989 г.
В начале ноября 1989 г. сотни тысяч людей вышли на улицы Лейпцига, Дрездена и Восточного Берлина. Первоначальный призыв «Никакого насилия» был уже вскоре заглушён кличем «Мы — народ!». Этот призыв, связанный с устранением диктатуры СЕПГ и реформой ГДР, с открытием границы 9 ноября 1989 г. превратился в лозунг «Мы — один народ!». Значительное большинство населения ГДР желало теперь уже не «другой» ГДР, а немецкого единства. Многие надеялись на воссоединение, ожидая быстрого выравнивания уровня жизни в сравнении с западным, другие боялись, что появившийся шанс на объединение мог быть упущен в результате изменений в Советском Союзе. Порожденное ожиданиями давление, которое оказывало восточногерманское население, существенно ускорило объединение Германии.
* * *
Об авторе
Хаген Шульце (1943) — крупнейший современный немецкий историк. Профессор Берлинского свободного университета и директор Немецкого исторического института в Лондоне, Автор книг по истории Веймарской республики, истории Пруссии, проблемам нации и национализма в немецкой и европейской истории, а также многочисленных статей о немецкой и европейской культурной и политической жизни в XVIII–XIX вв. В 1994 г. вышло шестое издание книги «Веймар. Германия 1917–1933» («Weimar. Deutschland 1917–1933»), в 1995 г, — второе издание книги «Государство и нация в европейской истории» («Staat und Nation in der europäischen Geschichte»), Работы Хагена Шульце получили широкое признание не только в Германии, но и далеко за ее пределами, они переведены на многие языки.
«История — это не то, что произошло, а то, что происходит».
* * *
На первой сторонке обложки — Бранденбургские ворота, Берлин. На четвертой сторонке обложки — Собор Св. Петра и Марии, Кёльн; портрет Мартина Лютера (Лукас Кранах Старший. Музео Пальди Пеццоли, Милан).
Примечания
1
Берном называлась Верона в эпоху, когда она была частью Остготского королевства в Италии.
(обратно)2
Кифхойзер — пещера, где, по преданию, спят Фридрих Барбаросса и его внук Фридрих II.
(обратно)3
Автор явно вызывает у читателя ассоциацию с первой строкой известного стихотворения Эрнста-Морица Арндта «Что такое отечество немцев?» («Was ist das Deutschen Vaterland?»).
(обратно)4
От этого латинского слова, означающего «вождь», произошло французское слово duc — «герцог».
(обратно)5
Немецкое слово «герцог» означает «военачальник», будучи составленным из слов Heer — войско и ziehen — вести.
(обратно)6
Посланцы государя (лат.).
(обратно)7
Инвеститура — средневековая католическая церемония утверждения духовного лица в должности и сане епископа или аббата. — Здесь и далее примеч. ред.
(обратно)8
Перевод Е. Колесова.
(обратно)9
Вельфы — немецкий княжеский род (IX–XIII вв.), предшественники Брауншвейгского дома.
(обратно)10
Хофтаг — собрание князей; позже из него возникли более широкие общеимперские сословные представительства — рейхсхофтаги, впоследствии рейхстага.
(обратно)11
Князь-избиратель — Kurfürst (нем.).
(обратно)12
Ныне Эльблонг, находящийся в Польше.
(обратно)13
«Нациями» в средневековых университетах назывались земляческие объединения студентов, которые по составу могли не ограничиваться носителями только одного языка.
(обратно)14
Действовала до 1806 г.
(обратно)15
Прага возникла из двух частей, расположенных по берегам Влтавы, — Града и Вышеграда.
(обратно)16
Аппенцель — кантон в Швейцарии.
(обратно)17
«История Германии». Полное название «Epitomiae rerum Germanicarum usque ad nostra tempora» («Краткая история Германии до наших дней»),
(обратно)18
Гугенот (от нем. Eidgenosse) — гражданин Швейцарии.
(обратно)19
Виттельсбахи — южногерманский род, правивший в 1180–1918 гг. в Баварии.
(обратно)20
Два мирных договора, заключенные в городах Вестфалии.
(обратно)21
Имеется в виду популярная тогда песня «Prinz Eugen, der edle Ritter…» (нем. «Храбрый рыцарь, принц Евгений…»).
(обратно)22
Ю. Мезёр (1725–1794) — немецкий писатель и историк.
(обратно)23
Ф.Г. Клопшток (1724–1803) — немецкий поэт, представитель Просвещения.
(обратно)24
Перевод Е. Колесова.
(обратно)25
Намек на звучавшее фамильярно, но на самом деле уважительное прозвище короля Фридриха II — Старый Фриц.
(обратно)26
К.М. Виланд (1733–1813) — немецкий писатель, представитель Просвещения.
(обратно)27
Генриху фон Офтердингену, герою одноименного романа Новалиса, является во сне голубой цветок, символизирующий добро. С того времени жизнь Генриха посвящена его поиску.
(обратно)28
Ныне Братислава.
(обратно)29
«Союз добродетели» (нем.).
(обратно)30
Объединение немецких государств, созданное под гегемонией австрийской династии Габсбургов на Венском конгрессе в 1815 г. Ликвидирован в 1866 г.
(обратно)31
Бидермайер (нем. Biedermeier, Biedermaier) — стилевое направление в немецком и австрийском искусстве 1815–1840 гг. В бидермайере отразились вкусы бюргерской среды.
(обратно)32
Имя, ставшее нарицательным для характеристики недалекого и консервативного немецкого бюргера.
(обратно)33
Район Потсдама.
(обратно)34
Ирредента (от um. Italia irredenta — неосвобожденная Италия) — политические движения, направленные на воссоединение территорий, населенных национальными меньшинствами, со своей родиной.
(обратно)35
Выступление масс (фр.).
(обратно)36
Речь идет о берлинской резиденции прусских королей и германских императоров.
(обратно)37
Система антикатолических мероприятий Бисмарка, проведенных в 1872–1875 гг., в буквальном переводе — «борьба за культуру».
(обратно)38
Медиатизация — подчинение мелких имперских князей соответственно более крупным вместо их непосредственного подчинения императору. Именно это осуществил Наполеон в германских государствах в начале XIX в. Здесь, стремление государства освободиться от влияния католицизма.
(обратно)39
Будучи смертельно больным, скончался в 1888 г. после 100 дней правления.
(обратно)40
Здравый смысл (англ.).
(обратно)41
Прекрасная эпоха (фр.).
(обратно)42
«Перелетные птицы» — молодежное туристское движение в Германии перед Первой мировой войной и в годы Веймарской республики. Движения немецкой молодежи, получившие распространение в 1900–1930 гг., стремились создать новый стиль жизни, особенно с помощью туризма, любительского искусства, народной музыки и танца.
(обратно)43
Ворпсведе — поселок на Северном море, где много лет жил художник Генрих Фогелер (1872–1942), один из видных представителей экспрессионизма.
(обратно)44
Большая наука (англ.).
(обратно)45
Сердечное согласие (фр.).
(обратно)46
Имеется в виду окружение и уничтожение неприятельских войск, гораздо более грандиозное, чем поражение, которое Ганнибал нанес римлянам в битве при Каннах в 216 г. до н.э.
(обратно)47
Карл фон Клаузевиц (1780–1831) — немецкий военный теоретик и историк, генерал-майор прусской армии. В работе «О войне» сформулировал положение о войне как продолжении политики.
(обратно)48
Разумное основание (фр.).
(обратно)49
Независимая социал-демократическая партия Германии была создана в апреле 1917 г. в результате раскола СДПГ. В 1920 г. ее левое крыло объединилось с КПГ, небольшая часть партии в 1922 г. вернулась в СДПГ.
(обратно)50
День Версаля (фр.).
(обратно)51
Название вооруженных сил Германии в 1919–1935 гг.
(обратно)52
Немецкая демократическая партия.
(обратно)53
Вальтер Ратенау (1867–1922) — крупный немецкий промышленник и политический деятель. В 1921–1922 гг. министр иностранных дел Германии. Убит членами монархической организации «Консул».
(обратно)54
Договор был заключен между Германией и РСФСР. СССР был создан 30 декабря 1922 г.
(обратно)55
Чарлз Гейтс Дауэс (1865–1951) — вице-президент США (1925–1929). Возглавлял международный комитет экспертов, выработавший так называемый план Дауэса. Получил за него Нобелевскую премию (1925).
(обратно)56
Высшая школа строительства и художественного конструирования, основанная в Веймаре в 1919 г., одним из ее руководителей был архитектор, дизайнер и теоретик архитектуры В. Гропиус.
(обратно)57
Знаменитая гоночная автотрасса в Берлине, существовавшая в 1920—1970-е годы.
(обратно)58
Так назывались правительства, начиная с кабинета Брюнинга, опиравшиеся не на большинство в рейхстаге, а на поддержку президента и правившие с помощью чрезвычайных декретов.
(обратно)59
Термин, которым Коминтерн, проводя ультралевый курс, с конца 20-х годов характеризовал социал-демократию.
(обратно)60
Сокращенное название штурмовых отрядов (Sturmabteilungen), военизированных формирований НСДАП.
(обратно)61
Немецкая национальная народная партия (НННП) — правая партия Веймарской республики являлась наследницей монархически-националистической партии времен монархии.
(обратно)62
Официальное название — «Закон об устранении бедственного положения народа и государства».
(обратно)63
Эвтаназия (от греч. ей — хорошо и thdnatos — смерть) — намеренное лишение жизни с целью прекращения страданий неизлечимо больного. В годы национал-социализма этот термин лицемерно прикрывал массовое уничтожение душевнобольных, инвалидов и других «нежелательных элементов».
(обратно)64
Манихейство — религиозное учение, основано в III в. Мани, который, по преданию, проповедовал в Персии, Центральной Азии, Индии. В основе манихейства дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы как изначальных и равноправных принципов бытия. Оказало влияние на средневековые дуалистические ереси.
(обратно)65
День Потсдама отмечался 21 марта 1933 г.
(обратно)66
Вооруженные силы, созданные в Германии после разрыва Версальского договора и пришедшие на смену рейхсверу.
(обратно)67
В 1848 г. во Франкфурте-на-Майне в соборе Св. Павла заседало Национальное собрание.
(обратно)68
Автаркия (от греч. autarkeia — самоудовлетворение) — создание замкнутого хозяйства в отдельной стране. Официальная доктрина германского фашизма, предполагавшая самообеспечение для ведения войны в условиях экономической блокады.
(обратно)69
«Тотенбурги» — гигантские мемориальные и культовые сооружения, которые нацисты собирались воздвигнуть в память о солдатах, погибших за победу «арийской расы».
(обратно)70
Акция «Гроза» стала ответом на покушение на Гитлера 20 июля 1944 г.
(обратно)71
Гауляйтер — нацистский руководитель области в фашистской Германии и на оккупированных во время войны территориях.
(обратно)72
Во что бы то ни стало (фр.).
(обратно)73
Вместо рейхсмарки была введена в обращение новая валюта — немецкая марка (DM). Каждый житель западных зон мог обменять 60 рейхсмарок на 40 немецких марок (еще 20 подлежали выплате позже). Юридические лица получали 60 немецких марок на каждого работающего. Цены и зарплаты сохраняли свои номинальные размеры.
(обратно)74
ФРГ присоединилась к НАТО в 1955 г.
(обратно)75
Баланс сил (англ.).
(обратно)76
Резиденция канцлера в Бонне.
(обратно)77
Жозеф Эрнест Ренан (1832–1882) — французский историк и писатель.
(обратно)78
Речь идет о принятом в декабре 1979 г. решении Совета НАТО, предусматривавшем размещение в Западной Европе американских ракет средней дальности и одновременное начало переговоров с СССР об их сокращении и о последующей ликвидации.
(обратно)79
Производное от названия древнегерманского племени алеманнов.
(обратно)80
Карты взяты из издания: Патрушев А.К «Германская история», М. (Издательство «Весь Мир», 2003.
(обратно)81
Здесь и далее верхний индекс обозначает порядковый номер издания.
(обратно)
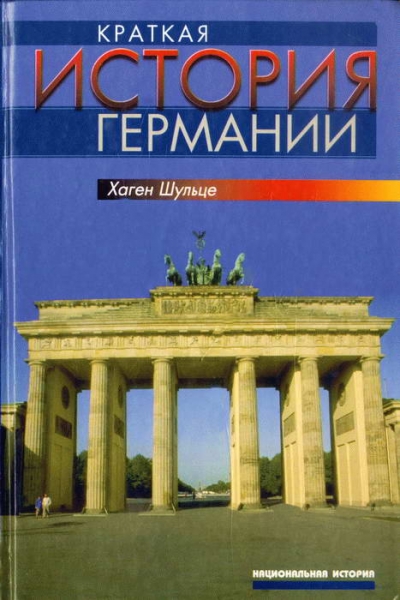



Комментарии к книге «Краткая история Германии», Хаген Шульце
Всего 0 комментариев