Алексей Афанасьевич Дмитриевский Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандрита Макария (Сушкина)
© Издательство «Индрик», 2010
* * *
От редакции
Величие христианства прежде всего в том, что оно дает душе настоящую свободу. Эта свобода непредставима, а лучше сказать, неприемлема для плотского человека. Поэтому реальная история Христианской Церкви часто весьма далеко отстояла от идеального, желаемого. Так, национальный вопрос уже в древней Церкви становится одной из важнейших проблем: «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей…» (Деян. 6: 1). Это происшествие оказывается настолько серьезным, что апостолы вынуждены ввести в Церкви новый институт – диаконов.
Ни для кого не секрет, что в течение всей истории Церкви национальные разделения народов подрывали мистическое единство христиан. Так было и на Афоне – единственном в своем роде интернациональном христианском государстве. Сама многонациональность Святой Горы делала ее уникальнейшим местом на земле, и в то же время – ареной ожесточенной борьбы за христианские идеалы сил добра и зла. Тем не менее, если говорить о конкретных исторических ситуациях, то следует признать, что на Афоне национальные различия де-факто почти всегда оказывались решающими.
Архим. Макарий (Сушкин) – один из легендарных деятелей Русского Афона в XIX веке. В середине XIX века число русских монахов на Афоне превосходило численность греков, а у русских все еще не было своего монастыря. Историческая ситуация взывала к появлению сильной личности, обладающей авторитетом как среди русских, так и среди греков, для того чтобы духовно остановить «ропот Еллинистов» (Деян. 6: 1), ставящих национальное выше христианского. И вот, греческий Пантелеимонов монастырь в середине XIX века становится первой на Афоне русской обителью, и русское монашество получает официальный статус на Святой Горе. В 1875 году игуменом монастыря был избран русский монах. Этот жребий достался священно-архимандриту Макарию (Сушкину).
В настоящее время в архиве г. Тулы найдены новые материалы, позволяющие исправить ряд неточностей, которые встречаются в очерке, и дополнить историческую правду. Прежде всего, удалось найти документы о рождении и крещении отца Макария, что позволило уточнить дату его рождения. До сего дня считалось, что он родился в 1821 году, точной даты не было известно, но теперь точно установлено, что это случилось 17 октября 1820 года в Туле. Итак, архимандрит Макарий (Сушкин) родился 17 октября 1820 года в семье тульского купца первой гильдии, почетного гражданина города Ивана Денисовича Сушкина и его супруги Феодосия Петровны. В метрической книге тульской церкви Успения Пресвятой Богородицы, что в Павшинской слободе, сохранилась запись о его рождении и крещении. «17 октября 1820 года у купца Ивана Денисова Сушкина родился сын Михаил. Молитвословие родильнице читал и младенца имя рек священник Баженов. Крещен младенец 18 октября. Крещение совершали: священник Василий Баженов, дьякон Емельян Гастев, дьячок Терентий Феодоров, пономарь Павел Лукин. Восприемниками были мещанин Петр Петров Сушкин и мещанская вдова Авдотья Яковлева Сушкина»[1].
Тульские архивы содержат более подробные сведения о семье отца Макария. Его отец, Иван Денисович Сушкин, родился в Туле 22 января 1786 года, венчался с дочерью умершего купца Петра Степановича Сушкина девицей Феодосией (родилась 8 мая 1788 года) 9 июня 1810 года в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Павшинской слободе Тулы. Поручителями при венчании были купец Иван Петрович Сушкин (брат Феодосии) и дяди Ивана Денисовича по отцу – Егор Осипович Сушкин и Николай Осипович Сушкин[2].
У Ивана Денисовича Сушкина было трое детей. Первый сын Василий родился в 1814 году (скорее всего, родился не в Туле, данных о его рождении в приходской книге нет), был женат на Ольге Ивановне, имел трех детей: Василия 1839 г. р., Ивана 1847 г. р., Елизавету 1849 г. р.
Второй сын Иван родился 17 апреля 1816 года в Туле, крещен в приходской церкви, жена Вера Федоровна.
Третий сын Петр родился в 1826 году (как и Василий, родился, скорее всего, не в Туле, так как сведений о нем нет в приходской метрической книге).
Семья Михаила Ивановича относилась к числу самых зажиточных в Туле. Его дед Денис Осипович Сушкин владел крупной щетинной фабрикой – предприятием по производству сортированной щетины, которая шла только на экспорт, в санкт-петербургский порт, и приносила владельцу десятки тысяч рублей чистой прибыли в год. Помимо этого, семье принадлежал еще и воскобельный завод. По сохранившимся историко-статистическим исследованиям того времени известно, что здесь ежегодно выбеливалось воска на 150 тысяч рублей. Патоку и вощину Сушкины скупали в Курской и Тамбовской губерниях, чистый мед продавали в Москву, а выбеленный воск в санкт-петербургскому порту. В начале 1830-х годов Денис Осипович вместе с сыновьями Иваном и Кондратом открыли Торговый дом, который вел все торговые операции тульских купцов в Санкт-Петербурге, совершая сделок на 10 миллионов рублей в год. Все это состояние по наследству перешло к старшему сыну, Ивану Денисовичу Сушкину[3].
Вся большая семья Сушкиных жила в доме на ул. Ново-Павшинской в Туле (теперь ул. Коминтерна, 4), этот дом сохранился и признан памятником истории и культуры регионального значения. В квартале от дома размещалась церковь Успения Пресвятой Богородицы, прихожанами которой были родители Михаила Ивановича. Иван Денисович Сушкин много лет служил здесь церковным старостой. В 1811 году благодаря его пожертвованиям удалось преобразить храмовый придел во имя святителя Николая Чудотворца, в 1812 году на его средства был построен новый придел во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости». В 1814–1816 годах Иван Денисович Сушкин финансировал строительство многоярусной колокольни. На ней имелось 7 колоколов, самый большой – весом в 218 пудов. В 1845 году Иван Денисович Сушкин открыл при храме приют для одиноких стариков. Строительство обошлось ему в полторы тысячи рублей серебром, но для сравнения: только на покупку серебряной церковной утвари он пожертвовал 7 тысяч, а на нужды бедных прихожан – 17 тысяч рублей[4].
Но при этом глава семьи – Денис Осипович Сушкин – оставался в стороне от этих богоугодных дел, так как сам относился к числу раскольников. Как свидетельствуют биографы отца Макария, между его православными родителями и дедом-раскольником был серьезный разлад в отношениях, и сыновьям Ивана Денисовича пришлось в свое время сделать непростой выбор.
Кроме записи в метрической книге о мирском периоде жизни отца Макария в Туле сохранился еще один архивный документ, где упоминается его имя. Это церковное свидетельство, которое 12 марта 1850 года И. Д. Сушкину выдал приходской священник о составе его семьи. В декабре 1849 года И. Д. Сушкин победил на местных общественных выборах и стал тульским городским головой и председателем Тульской городской Думы, то есть занял высший пост в местном самоуправлении, еще более упрочив положение своей семьи в тульском обществе. Из этого документа известно, что у Михаила Ивановича было три брата: старшие Василий и Иван и младший Петр. Наиболее близкие отношения его связывали с Иваном и Петром, причем эти связи поддерживались и в период, когда Михаил Иванович принял монашеский постриг[5].
Из воспоминаний биографов Сушкина известно, что в 1851 году Михаил упросил отца отпустить его в паломничество по святым местам, он мечтал попасть на Афон. Иван Денисович сына отпустил, но с условием, что тот вернется домой. Безусловно, глава семьи рассчитывал, что Михаил вместе с братьями продолжит семейное дело, но был вынужден согласиться с выбором сына. Как известно, молодой Сушкин приехал на Св. Афон 3 ноября 1851 года, а 27 ноября был пострижен в схиму. Стремительное развитие событий объясняется смертельным недугом, который сразил молодого паломника. Его состояние казалось настолько безнадежным, что умирающего послушника постригли в схимонашество немедленно, не ожидая никак, что он не только скоро окрепнет и встанет на ноги, но и принесет много пользы принявшей его обители.
22 февраля 1853 года отца Макария рукоположили во диакона, через два года с небольшим, 3 июня 1856 года, – во иеромонаха. А 20 июля 1875 года отец Макарий был торжественно избран игуменом Пантелеимонова монастыря. При этом присутствовали экзархи Константинопольского Патриарха: высокопреосвященный митрополит Никейский Иоанникий и митрополит Деркийский Иоаким. Отец Макарий стал первым русским настоятелем православной обители на Святой Горе.
Тульская родня приняла выбор Михаила Ивановича и оказывала большое содействие его деятельности по укреплению русской общины в Греции и в строительстве московского подворья монастыря. По завещанию И. Д. Сушкина часть его многомиллионного состояния была завещана монастырю. Щедрые пожертвования делали в пользу монастыря и родные братья отца Макария – Иван и Петр.
Их отношения были не только родственными, но и деловыми. Часть финансовых средств монастыря лежала на счетах Тульского городского общественного И. Д. Сушкина банка, которым управляли братья Иван и Петр Сушкины. 24 июня 1886 года Тульский окружной суд по предложению особенной канцелярии по кредитной части министерства финансов признал этот банк банкротом. До разорения крупнейшее кредитное учреждение Тулы довели махинации братьев Сушкиных. Убытки кредиторов измерялись в 1 847 000 рублей, в число обманутых вкладчиков попал и Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь, потерявший при крахе банка 70 тысяч рублей. По приговору Московской судебной палаты Иван и Петр Сушкины получили по 6 лет сибирской ссылки и, смеем предположить, даже не смогли проводить в последний путь родного брата[6]. Отец Макарий преставился ко Господу 19 июня 1889 года.
Мы уверены, что архимандрит Макарий (Сушкин) как историческая фигура еще не оценен по достоинству. Такой человек подобен высокой горе: стоя у подножия, невозможно видеть вершину, и только отойдя достаточно далеко, человек может охватить взглядом всю гору целиком. Должно пройти достаточно времени, чтобы потомки могли оценить по достоинству таких личностей, как архимандрит Макарий. Настоящая книга – первый опыт возвращения к истокам русского национального самосознания.
Василий Гирин, Ирина ПарамоноваВведение
Архимандрит о. Макарий (Сушкин), игумен Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне
Неоднократное путешествие на Святую Афонскую Гору, долговременное пребывание там, жизнь среди своих соотечественников-монахов, как в обителях Св. Горы, так и на их гостеприимных подворьях в Одессе и Константинополе, – все это весьма тесно сблизило нас с насельниками Св. Горы, дало возможность нам основательно познакомиться не только с отдельными выдающимися представителями их в данное время, но, насколько это было возможно для нас, и изучить характер, быт и состояние современного русского афонского монашества вообще. Плодом этих наблюдений является предлагаемый читателям историко-биографический очерк жизни и деятельности приснопамятного старца игумена Русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне о. Макария (Сушкина), неожиданно скончавшегося 19 июня 1889 года. Светлая личность покойного о. Макария, пользовавшаяся большой известностью и глубоким уважением не только на Святой Горе Афонской и в пределах своего отечества по самым отдаленным его окраинам, но и за пределами их, в странах иноверных, уже по этому самому заслуживает со стороны русских людей, которых он горячо любил и для которых он в своей жизни жертвовал всем, что ему было дорого, особенного к себе внимания и признательности, слабым выражением которых имеет быть настоящий очерк его высоко-подвижнической и истинно-патриотической деятельности. Но личность о. Макария дорога нам и потому еще, что она является живым олицетворением высокого идеала афонского иночества.
Но так как личность покойного игумена Русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне, наделенная от природы богатыми сокровищами ума и сердца, слегка лишь раскрытыми религиозным воспитанием своей матери, создалась и всецело образовалась на афонской почве, под сильным влиянием гениальной личности не менее известного в летописи русского афонского монашества покойного духовника того же монастыря о. Иеронима, то отсюда явилась настоятельная необходимость дать место характеристике и этой замечательной личности. Призванный в Русский Пантелеимоновский монастырь покойным игуменом греком Герасимом и греческой братией в 1840 году со скромным званием «духовника» русских иноков этого монастыря, о. Иероним так искусно повел свое дело, что в короткое время устроил крайне расстроенные монастырские финансовые дела; привлек в монастырь много русских иноков и дал им все необходимые средства к прочному их существованию в этой обители на Святой Горе. Мудрый духовник достиг этого не столько тем, что он обеспечил материально своих соотечественников, но более всего тем, что он воспитал для них беззаветно преданного делу и себе самому вождя-игумена и подготовил ему нужных деятелей, сотрудников, с которыми можно было отстоять для себя право существования на Афонской Горе и принести своему отечеству ту посильную пользу, какую оно вправе ожидать от афонских иноков, живущих трудовыми грошами его сынов. Настоящий наш очерк жизни и деятельности о. Макария был бы поэтому не полон и односторонен, если бы мы не отвели в нем видного места характеристике покойного духовника о. Иеронима, первого организатора русского монашества на Афоне, его главного руководителя и если не первого деятеля, то, во всяком случае, инициатора всякого важного дела, касающегося этой общины. Вся деятельность о. Макария, за исключением последних четырех лет, прошла под сильным влиянием о. Иеронима, который был советником и руководителем покойного игумена. Деятельность эта так сливается с деятельностию о. Иеронима, что трудно указать, что принадлежит одному и где начинается деятельность другого. Эти две великие личности афонского иночества, совершенно не сходные по характеру, в жизни и деятельности были так единодушны и согласны, как бы у них была «одна душа и одно сердце».
Кроме этой характеристики, для понимания нашего рассказа о судьбе русского иночества на Афоне в истекающем столетии мы считаем необходимым дать хотя и краткие, но живые очерки главных деятелей и сотрудников о. Макария. Будучи важными деятелями в судьбе русской иноческой общины Пантелеимоновского монастыря на Афоне, эти сотрудники и споспешники о. Макария являются в то же время живыми выразителями то этой, то иной стороны высокого идеала афонского иночества, причем эти стороны раскрываются в них с большею подробностью и рельефностью, чем в лице одного человека, хотя бы это была и такая выдающаяся личность, как покойный о. Макарий. В этих конкретных образах, как мы полагаем, высокий идеал афонского иночества напечатлеется глубже, цельнее и живее в представлении наших читателей.
Так как жизнь великих подвижников старцев о. Макария и о. Иеронима с их главнейшими сотрудниками была посвящена всецело и беззаветно на служение русской общине в Пантелеимоновском монастыре на Афоне, ее водворению в монастыре, внутренней организации, ограждению от нападок и козней ее недоброжелателей, приобретению его прочного положения на Афоне и в пределах своего отечества, процветанию в ней истинного монашеского духа и братской любви, как по отношению к своим соотечественникам и единоплеменникам, так и по отношению к иноплеменникам единоверцам и т. д., то посему настоящий биографический очерк жизни и деятельности о. Макария является вместе с тем и историческим очерком образования, развития и жизни этой самой общины за весь период с 1840 года по день кончины этого игумена. Потребность в таком цельном и правдивом очерке кажется нам тем более настоятельной, что в нашей русской литературе, сравнительно довольно богатой солидными в научном отношении дневниками и путешествиями по Афону (например, Плаки-Григорьевича-Барского, преосвященного Порфирия Успенского, архимандрита Антонина и др.), доселе не имеется подобного очерка и для большинства русских людей Афон и судьба на нем соотечественников иноков остаются еще и доселе terra incognita[7].
Принимая на себя нелегкую задачу составления настоящего историко-биографического очерка, мы не ограничивались своими личными наблюдениями и впечатлениями, которые как таковые всегда субъективны, односторонни и неполны, еще менее мы были доверчивы к устным рассказам очевидцев и современников, к которым мы обращались в весьма редких и исключительных случаях, когда у нас под руками не было более надежных источников, а старались проверять наши наблюдения наблюдениями людей компетентных, ближе нас стоявших к описываемым личностям и событиям и уже печатно высказавшихся по тому или иному случаю. Но пред всеми этими источниками всегда отдавалось нами предпочтение документам (в оригинале или копии), какие случайно[8] попадались нам под руки, письмам, запискам, дневникам, автобиографиям и другим рукописным материалам, которые считаются источниками первой руки. Таким образом, наши источники, кроме нашего личного непосредственного наблюдения над жизнью современного русского афонского иночества, делятся на печатные письменные, причем последние в качественном и количественном отношении весьма значительно превосходят первые. К источникам первого рода мы относим следующие печатные книги и статьи:
Инок Парфений. Сказание о странствовании и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле. М., 1855. Ч. I–IV.
Письма святогорца о святой Горе афонской. М., 1883. Изд. 3. Ч. I–III.
Леонтьев К. Панславизм на Афоне (Русск. вестн. 1873. Кн. IV).
Его же. Воспоминание об архимандрите Макарии, игумене русского монастыря Св. Пантелеймона на горе Афонской // Гражданин. 1889. № 191, 192, 196, 207, 211, 243 и 246).
Красковский И. Ф. Макарий афонский, игумен и священно-архимандрит афонского св. Пантелеимоновского монастыря. М., 1889.
Известия и корреспонденции газет, русских и иностранных.
Из указанных источников первые два дают нам материал собственно для характеристики личности о. Иеронима и быта русских иноков на Афоне до поселения и сейчас после поселения их в Русском Пантелеимоновском монастыре. Превосходные статьи К. Леонтьева представляют ценный материал для характеристики главным образом о. Макария, но немало в них можно находить данных и для биографии о. Иеронима. Что же касается книги Н. Ф. Красковского, то, несмотря на всю искренность ее тона и чувства глубокого почтения и уважения ее автора к личности почившего игумена – архимандрита, книга эта не лишена в суждениях односторонности (см. статью К. Леонтьева в «Гражданине») и даже прямых весьма важных ошибок.
Из многочисленных рукописных источников, бывших у нас под руками, на первом месте мы должны, по всей справедливости, поставить сборник покойного иеромонаха Русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне о. Мины под заглавием: «Описание достопамятных событий». Любознательный от природы, большой начетчик и усердный писака, о. Мина долгое время состоял при покойном игумене о. Макарии в качестве личного его секретаря. По своей любознательности, он переписывал каждую исходящую и входящую бумагу к о. игумену в особую для себя заведенную книгу, куда кроме того попадали и другие бумаги, письма и даже выдержки из газет, так или иначе относящиеся к истории монастыря. Таким образом и составился обширный полулистовой сборник того весьма любопытного, даже интимного материала, который, при другом к нему отношении, навсегда был бы утрачен для истории монастыря. (От того же о. Мины осталось около 30 подобных томов с самым разнообразным содержанием.) Вот какие статьи этого сборника нам оказали несомненно важную услугу при составлении настоящего очерка:
«Газетные клеветы на русских в 1877 году в Константинополе (несколько статей)».
«Происшествие на келлии Одоида и последствия его. События 1877 года в Русском монастыре».
«Серайское дело о распре между настоятелем Андреевского скита архимандритом Феодоритом и братством скита. Переписка с антипросопом».
«Письма по делу Ильинского скита в 1873 году».
«Воспоминание (о. Мины) о военном времени в 1877 году».
«Дневник собственноручный архимандрита о. Макария».
Это – копия с первой тетради собственноручного дневника о. Макария, веденного им во время его путешествия по Востоку. Отрывок этот содержит в себе некоторые биографические черты о. Макария, его сборы в путешествие, дорогу до Киева и пребывание в нем до выезда в Одессу. В наших руках кроме этого имелись уже в подлиннике две следующие тетради, обнимающие жизнь и пребывание о. Макария и его спутников в Одессе, путешествие в Константинополь и описание его достопримечательностей. Последующие тетрадки этого любопытного дневника утрачены.
«Письмо к игумену о. Макарию от иеродиакона (ныне иеромонаха) Алексия о событии в городе Солуни, бывшем с ним 29 августа 1877 года».
«Воспоминания о. игумена Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря священно-архимандрита Макария, в миру потомственного почетного гражданина, Тульского 1-й гильдии купеческого сына Михаила Ивановича Сушкина, записанные с его слов в 1877 году иеродиаконом Миною».
«Воспоминания эти относятся только к семье о. Макария и к его воспитанию школьному и домашнему».
«Переписка о. Макария с русским генеральным консульством в Солуни и с петербургскими благодетелями перед Русско-турецкою войною 1877–1878 годов».
Из другого не менее по объему сборника того же о. Мины для настоящего очерка мы воспользовались «Дневником происшествий в Пантелеимоновском монастыре, начиная с 1853 года и кончая 1884 годом». Впрочем, этот дневник краткий и в нем отмечены лишь важнейшие события, произошедшие в монастыре, а посему для нашей цели мало пригоден. Более важную услугу оказал нам второй подобный дневник с 1840 по 1874 год, в котором события монастырские за последние годы в самую бурную эпоху монастыря ведутся обстоятельно день за днем. Этот дневник в связи с книгой «По поводу вопроса об афонском монастыре Св. Пантелеймона. СПб., 1874» анонимного любителя истины сообщает весьма ценные данные для истории той ожесточенной борьбы, какая в 1874 году и несколько раньше велась в Пантелеимоновском монастыре между монахами греческими и русскими из-за прав на этот монастырь. Упомянутый второй дневник дал нам возможность восстановить эту печальную историю в истинном ее свете.
Для характеристики внутренней религиозной настроенности о. Макария, его чаяний и идеалов в первые годы его монашеской афонской жизни, его отношений к родителям и старцам обители в это время неоцененную услугу оказали нам 22 письма за годы с 1851 по 1856 г., любезно сообщенные нам родным братом покойного о. Макария И. В. Сушкиным, которому мы и приносим за это глубокую благодарность.
В наших руках находились, кроме того, письма о. Макария и Иеронима, адресованные на имя покойного профессора киевской духовной Академии Ф. А. Терновского, находившегося в живой переписке с афонскими старцами и исполнявшего многие поручения их, особенно касавшиеся издательской деятельности Русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне. Письма эти переданы нам в собственность покойною матерью профессора Н. Т. Терновскою.
В нашем очерке нередко цитируются и другие письма афонских старцев, писанные ими или собственноручно, или только подписанные их руками и адресованные частным лицам: монахам или мирянам. Письма эти собраны нами на Афоне. Владельцам их мы выражаем нашу сердечную признательность.
Киев. 1892, 18 январяГлава I Детство о. Макария и его во спитание дома и в школе
Михаил Иванович Сушкин
Род потомственных почетных граждан купцов Сушкиных принадлежал к древнейшим и богатейшим купеческим родам города Тулы и пользовался почетом и известностью не только в родном городе, но далеко за пределами его и даже вне отечества, за границею. Эта богатейшая фамилия едва ли не с прошлого столетия вела уже обширную миллионную заграничную торговлю медом, воском, шерстью, щетиной, кожами и другим сырцом. Но несмотря на давность этого рода, воспоминания о выдающихся его представителях удержались в памяти покойного о. Макария не дальше его деда, Дионисия Иосифовича Сушкина, жившего в Павшинской слободе, в приходе церкви Успения Божией Матери.
Прадед покойного о. Макария был человек религиозный, и всех троих своих сыновей, из коих Дионисий Иосифович был старшим, воспитал в духе православия и преданности Церкви Православной, но дед покойного о. Макария не долго оставался сыном Св. Православной Церкви и совратился в раскол. «Дед мой, – рассказывает в своей автобиографии покойный о. Макарий, – бывши около 35 лет от роду, начал заниматься чтением книг Священного Писания и к несчастью не советовался об этом со священниками, и уклонился к толкам разных стариков, которых в то время было очень много и которые толковали Священное Писание, как знали. Пастыри Церкви, как заметно было из слов самого деда, не обращали внимания и не исправляли его ошибок. Таким образом, более и более упражняясь в чтении Св. Писания, он случайно напал на кривотолка, орловского купца, толка перекрещеванцев, приехавшего в Тулу по каким-то делам. Человек чрезвычайно красноречивый и начитанный, хотя и ложно понимавший Св. Писание, он стал отклонять моего деда от Православной Церкви». Красноречивая проповедь орловского апостола произвела глубокое впечатление на Дионисия Иосифовича и в душе он уже перестал быть сыном Православной Церкви. Эта перемена религиозных убеждений скоро же была замечена людьми близко стоящими к Дионисию Иосифовичу, желавшими обратить его в «поповский толк» или в так называемое «старообрядчество австрийского священства». Проповедником идей этого «толка» явился приближенный к Дионисию Иосифовичу доверенный приказчик, который, воспользовавшись частыми отлучками из дому своего хозяина, весьма искусно стал достигать своей заветной цели через супругу хозяина Акилину Васильевну, женщину «неграмотную, но благочестивую». «Своими беседами» приказчик-проповедник успел убедить Акилину Васильевну в превосходстве «поповского толка» пред «толком перекрещеванцев». «Если ты, – говорил приказчик, – не предупредишь своего мужа присоединиться к поповщинскому толку, то он непременно будет перекрещеванец; поповщинский же толк нисколько не имеет разницы с Православною Церковию. Только и разницы, что молятся двоеперстным крестом и порядок соблюдают лучше, чем в церквах мирских. Если не желаешь присоединиться, то хоть посмотри обстановку нашей часовни. Я тебя сам свезу вместо кучера в часовню, где ты можешь взять молитву своему сыну (т. е. сорокадневному Иосифу, последнему сыну) и видеть порядок и благочиние против вашей Церкви». «Бабушка, – по замечанию о. Макария, – поддалась на эту удочку, предполагая, что, взяв молитву в поповской часовне, будет удерживать в этом и своего мужа, что уже нам (т. е. с мужем) нельзя разделяться от своего сына».
Под влиянием этих убеждений своего приказчика, Акилина Васильевна взяла на руки сорокадневного ребенка Иосифа и отправилась в поповскую часовню, где уже с распростертыми объятиями ее принял уже подготовленный приказчиком священник. Стройность и чинность богослужения и богатство обстановки в часовне, в связи с ее личным шатким религиозным убеждением и с мыслью о возможности попасть «в толк перекрещеванцев», все это произвело на благочестивую Акилину Васильевну такое впечатление, что она не только взяла молитву у раскольнического попа и воцерковила здесь своего малютку Иосифа, но тут же выразила священнику свое «благое и непринужденное» желание «исправиться», т. е. перейти совершенно в раскол. Раскольнический священник не заставил просить себя долго и в тот же день ее «исправил», вырвав, как замечает о. Макарий, «добрую овцу из стада» Христова. Все это происходило в отсутствие мужа. Когда возвратился из своей поездки Диоиисий Иосифович, то настояла необходимость передать ему о совершившемся факте. Акилина Васильевна упросила своего сообщника-приказчика предупредить мужа, рассказав ему о поездке ее в старообрядческую часовню для принятия сороковой молитвы и о том глубоком впечатлении, какое на нее произвела часовня, а на себя взяла смелость сообщить уже о самом факте присоединения к расколу. Рассказ приказчика не произвел на Дионисия Иосифовича никакого впечатления, и он не придал этому факту значения, но когда услышал из уст супруги о переходе ее в раскол австрийского священства, то глубоко возмутился и укоризненно прибавил: «Что уж если переходить, то уж лучше переходить к перекрещеванцам, чтобы не вязаться с попами». Дионисий Иосифович даже прямо настаивал, чтобы его супруга снова «переисправилась», но та наотрез отказалась. Между супругами произошло некоторое охлаждение. Сушкины с этого времени перестали посещать православный храм, но не бывали и в раскольнической часовне, которую не любил Дионисий Иосифович. Акилина Васильевна не бывала в часовне, в угоду своему мужу, боясь доставить неприятность ему. Таким образом, старики Сушкины прожили в течение трех лет, ограничиваясь лишь тем, что в дни великих церковных праздников они вычитывали у себя на дому часы, акафисты и т. п. Такое отчуждение от храма более всего было не по сердцу «благочестивой» Акилине Васильевне, которая, наконец, взяла на себя смелость решительным натиском на своего мужа положить предел такому неопределенному их состоянию в смысле выражения их религиозных убеждений.
На третий год «после исправления», перед самой Пасхой, Акилина Васильевна задала своему супругу такой смелый вопрос: «Вот наступает страстная седмица и мы опять будем мурлыкать? – Или пойдем в часовню, или опять в православную церковь, но так я более не буду оставаться». Дионисий Иосифович не дал прямого решительного ответа, и между супругами шли по этому поводу споры. В Великий четверг Акилина Васильевна подошла к мужу и говорит: «Ну прости меня, в чем я согрешила перед тобою; я иду говеть в православную церковь». Эти слова сделали свое дело, и супруги в тот же день молились в старообрядческой часовне австрийского священства. В Пасху посещали часовню, а затем Дионисий Иосифович уже и окончательно «исправился»…
У Д. И. Сушкина кроме упомянутого уже малолетнего сына Иосифа, было еще три старших сына: Михаил, Иоанн и Кондратий и три дочери: Агрипина, Анна и Вера. «Сушкин хотел и всех детей исправить», но этому воспротивилась его супруга. Она заявила, что этого сделать нельзя скоро; нужно выждать время, так как наступала уже пора женить старших сыновей. Старик Сушкин питал крепкую уверенность, что скорее всего перейдет в раскол третий его сын Кондратий, который с 15 лет по торговым делам жил в Орле, где в это время был главный приют разных раскольничьих сект. Здесь, по описанию о. Макария, мужчины стригли себе макушки и на лбу выстригали венчики, женщины ходили в душегрейках и сарафанах с долгорукавками. Отправляясь на молитву, женщины надевали «холодники» и покрывались платком не на угол, а опуская оба конца по сторонам. Кондратий с распростертыми объятиями был принят в среду старообрядцев, посещал их часовню, читал и пел там на клиросе, и все думали, что из него выйдет настоящий уставщик, но по своему характеру живому и веселому, со своими склонностями быть в обществе, «поухаживать за прекрасным полом, попеть, поплясать и покурить» он не мог помириться с воззрениями старообрядцев и оста лся навсегда сыном Пра вославной Церкви. Старшие два сына по торговым делам жили большей частью вне дома, а потому об их «исправлении» и мало думали. Что касается дочерей, то все они были, вопреки их воле, присоединены к старообрядчеству и почти насильно выданы замуж за старообрядцев.
Старший сын Дионисия Ивановича Михаил Дионисьевич был женат на Марье Андреевне Маскатиной, на женщине очень умной и по тому времени даже образованной, а второй сын Иван Дионисьевич, отец покойного отца о. Макария, вступил в брак с Феодосьей Петровной из фамилии тоже Сушкиных. Феодосья Петровна была «небольшого роста и средней красоты», происходила из семейства, «приупавшего вследствие торговых невзгод», а посему Иван Дионисьевич не с особенной охотой брал ее себе в замужество. Трижды ходили «на смотрины» и не оставляли шляпы, что, по тому времени, означало согласие жениха на брак, и только в третий раз Иван Дионисьевич оставил свою шляпу случайно, по забывчивости. Впрочем, Иван Дионисьевич не желал выходить из послушания своему отцу, которому хотелось оженить своих сыновей на девушках «из честнейших домов в городе» и притом скромницах, чтобы потом можно было их легче «исправить». От этого брака родились сыновья Василий, Иван, Петр и 16 февраля 1821 года Михаил, в монашестве Макарий.
На третьем году, после рождения сына Михаила, Иван Дионисьевич по торговым делам из Тулы переехал на жительство в Петербург со всем его семейством, кроме последнего сына. Двухлетний Миша был оставлен в Туле у бабушки и прожил у нее почти до семилетнего возраста. Бабушка Акилина Васильевна, не имея у себя в доме других детей, привязалась всей душой к живому, остроумному внучонку и, по любви к нему, снисходила ко всем его шалостям и прихотям. Ребенок воспитывался под надзором няни Марфы, которая, по сознанию самого о. Макария, «любила его, кажется, больше матери и следила за каждым его шагом». С шести лет его засадили за «букварь» под руководством одной крепостной, весьма начитанной женщины, а затем вскоре же заменили его «Часословом», по которому бойкий мальчик начал читать скоро же быстро и толково. Успехи в грамоте радовали дедушку, который постоянно брал с собою своего любимого внучонка в часовню, в надежде, что в будущем он и его «исправит». В этих видах многое он прощал своему любимцу и всячески его баловал. Так как мальчик был большой охотник до лакомств всякого рода, то его карманы всегда были ими переполнены. Зная эту слабость своего семилетнего внука, дед однажды, возвратившись из старообрядческой часовни, начал вести с ним такую беседу: «Нравится ли тебе в нашей часовне?» Бойкий мальчик смело ответил: «Нет, у нас в церкви лучше». «Чем?» – продолжал допрашивать дедушка. Мальчик ответил: «У нас светлее и отворяются царские двери, а у вас нет». Несколько времени спустя после этого разговора бабушка призывает к себе внука и внушает ему: «Дедушка хочет тебя „исправить“, но ты скажи ему, что я без батюшки не смею». На другой деньдедушка ведет такую речь к своему ребенку-внуку: «Переходи к нам в часовню, мы тебя будем любить больше других». Внук ответил в смысле внушения бабушки и при этом разрыдался на все комнаты. В скором времени от Ивана Дионисьевича из Петербурга было прислано в Тулу письмо приблизительно следующего содержания: «Батюшка, вы пишете ко мне, что желаете присоединить сына моего Михаила к часовне, то я скажу Вам вот что, за что вперед прошу простить меня Христа ради. Вы разрознили нас с собою и с братьями, о чем мы теперь немало скорбим. Вы предполагали поженить нас и тогда обратить в свою веру, но дела торговые изменили Ваш этот план. Мы остались навсегда разделенными с Вами, ибо не предвидится никакой надежды, чтобы семья могла бы когда-нибудь соединиться вместе. При помощи Божией, дела наши расширились. Если и старший брат Михаил Дионисьевич, находясь так близко от Вас, не имеет времени побывать к Вам, то тем более Вы мне это не позволите, а, между тем, время изменяется. Быть может, моим детям, которых у меня четверо, когда-нибудь придется жить вместе: трое пойдут в церковь, а четвертый или останется дома, или пойдет неизвестно куда. Вы сами имели на опыте: когда перешли в часовню, то братья Вас оставили, что неприятно Вам казалось прежде. Когда мы были молоды и бывали дома, Вы с матушкою уедете в часовню, а мы отправимся в церковь, а пришедши домой, опасаемся друг другу сказать что-либо о торжестве праздника, ибо каждый имел свои понятия. Потому, испытав тяжелое впечатление на себе, я не желал бы, чтобы и сын мой испытывал то же. А так как Вы не желаете уже отпустить его к нам и хотите обучить его грамоте и сделать из него себе помощника, как в Вашей ежедневной службе, так и в делах, то он не изучит своих обязанностей к отцу и матери. Прошу оставить его на время, которое указано будет Богом».
Иван Дионисьевич не сочувствовал намерениям своего отца, как это видно по тону письма, и не прочь был сейчас же вырвать своего малютку, на которого, к слову сказать, доселе не обращалось родителями никакого внимания, но дальность расстояния и неудобства путей сообщения заставили его оставить мальчика на руках дедушки до первого удобного случая. Такой случай вскоре представился, и для мальчика безвозвратно миновала пора счастливого детства, пора раздольной жизни под крылом нежно его любившей бабушки и доброй няни. Не зная своих родителей, живя вдали от них, ребенок сжился с окружающими его лицами, которые страстно были привязаны к нему, сроднился с окружающею обстановкой и не с охотою собирался в Петербург к своим родителям и к своим братьям, с которыми его связывало одно лишь кровное родство. «Мне весьма не хотелось» собираться к отъезду, – замечает в своей автобиографии о. Макарий, но не с радостью также расставались с ним бабушка и его няня. Первая «плакала несколько дней», а вторая – «плакала более всех чуть не в голос, обещая навестить ребенка при первом удобном случае».
Из Тулы выехал ребенок вместе с дядею Петром Семеновичем Ложниковым, женатым на Вере Дионисьевне, который ехал в Петербург «для заведения своих дел». Но до Петербурга на сей раз путешественники не доехали. Петр Семенович почему-то раздумал ехать в Петербург и вернулся обратно в Тулу, а мальчик Миша оставлен на время у старшего дяди по отцу Михаила Дионисьевича и прожил здесь в Москве до лета, посещая с своими сверстниками приходское училище у Вознесения, что за Серпуховскими воротами, близ Конной. Летом, после перенесенных потрясений вследствие потери супруги, приехал в Москву Дионисий Иосифович «для исповеди и причащения» вместе с зятем Петром Семеновичем, который на сей раз предполагал привести в осуществление мысль о поездке в Петербург, почему-то, как известно, не состоявшейся почти год тому назад. С этим своим спутником маленький Сушкин и отправился далее в Петербург к родителям.
Холодна и тяжела была встреча сына с родителями, которых он не знал. В своей матери, встретившей гостей на лестнице, он признал лишь «большое сходство с теткою, сестрою матери, девицею Пелагиею, так что почти принял ее за нее». Явившийся в дом отец встретил своего малютку сына официально; поцеловав его, он начал расспрашивать его о здоровье, на что гость отвечал упорным молчанием. Неохотно он отвечал на вопросы своих братьев, облепивших гостя со всех сторон. Его смущение в новой для него семье еще более усилилось, когда он заметил, что братья, слыша частое употребление им слова «энто-то» и видя его неумение держать себя порядочно в обществе, помирали со смеху над ним. Поэтому он долго не мог сойтись с братьями и «дичился» их. Вообще в родной семье он не встретил ни ласк своей покойной бабушки, ни беспредельной любви своей няни, и ему казалось, что он попал «как бы в чужое семейство». Дядя Петр Семенович с которым он приехал, «казался ему роднее всех на свете», а потому весьма естественно на первых порах своей жизни в Петербурге мальчик «одну отраду находит в свидании с дядей, от которого не отступал ни на шаг, когда он бывал дома». Вся обстановка, внешняя и домашняя, чрезвычайно не понравилась новому члену семьи Н. Д. Сушкина: «даже в Москве, по замечанию о. Макария, мне было привольнее, нежели в Петербурге».
Феодосия Петровна, как женщина «набожная» и воспитывавшая своих детей в страхе Божием и в строгом исполнении всех церковных обрядов Православной Церкви, вскоре после первого же свидания с сыном осведомилась у него о его религиозном воспитании в доме дедушки и, к своему огорчению, нашла, что мальчик не имеет никакого понятия о добрых навыках, приличных мальчику христианской благочестивой семьи. Он не знал наизусть ни одной молитвы, а поэтому его как уже «недурно читавшего по-славянски» немедленно засадили за часослов и не ранее позволили оставить его, как он бойко вытвердил начальные листы его до Символа веры включительно.
Через неделю после приезда в Петербург Миша с остальными братьями стал посещать частную школу[9], в которой дети обучались пространному катехизису, священной истории Ветхого и Нового Завета, русской грамматике, арифметике, алгебре, бухгалтерии, умению пользоваться логарифмами, языкам немецкому и французскому и танцам. Провинциализмы, приобретенные мальчиком в Туле, вызывали и здесь насмешки со стороны товарищей по школе, и ему не было легче сравнительно с домом, но на его счастье его полюбили за прилежание и успехи учитель и учительница (муж и жена), содержатели пансиона, которые «для учеников были как отец и мать, смотрящие за своими детьми». Обратив внимание на мягкую душу и нежное сердце мальчика и на его прилежание, они приняли его под особое покровительство, защищали от нападок сверстников, мало-помалу исправили его провинциализмы и научили держаться хорошо в обществе. Михаил Сушкин учился хорошо по всем предметам, но ему давалась с особенною легкостью математика, которую он знал «исправно». Успехи в математике примирили отца с сыном, который стал смотреть на Михаила-сына как на будущего хорошего помощника в его торговых делах. Изучал мальчик и языки, и главным образом немецкий, которым не бойко он владел до самой смерти, но отец находил это знание излишней роскошью и прямо запрещал ему. Но сын плакал и украдкой продолжал учиться. Писать каллиграфически он не мог научиться, несмотря на принуждение и наказание, и до смерти почерк его не отличался ни красотой, ни разборчивостью. Танцы мальчик изучал с полной любовью и впоследствии к ним пристрастился в значительной степени, так что, можно сказать, он был страстным охотником до танцев.
Относительно детства, воспитания вне дома и религиозного воспитания дома под руководством матери Феодосьи Петровны о. Макарием сообщаются самые подробные сведения в его автобиографии.
Это воспитание было обычное в начале истекшего столетия в купеческих благочестивых семействах, к сожалению, ныне редко практикуемое и в этом сословии. Ввиду интереса вообще и в частности из желания уяснить себе, под какими воздействиями шло детское и юношеское воспитание о. Макария, мы остановимся со вниманием на этом моменте его автобиографии и сделаем из нее более или менее подробные извлечения.
«Обычно мы вставали, – рассказывает о. Макарий, – ежедневно в 7 часов, потом нас заставляли молиться по лестовке. Этим заправляла покойная наша матушка. Нас собирали в гостиную, где была ее благословенная икона Владимирской Божией Матери. Там она становилась сзади, а мы все впереди. Каждый должен был сотворить крестное знамение и поклон прилично; рассеянность, невнимание к делу были наказываемы чем-либо или прибавлением какой-нибудь молитвы или отнятием одного сухаря за чаем или целой чашки чаю. По окончании молитвы мы приветствовали родителей с добрым утром, и потом собирались к чаю отец, мать и нас четверо. Нам давалось по две чашки чаю или по три, кто хотел, но не больше, в скоромные дни – три сухаря, а в постные – белый хлеб тоже по три ломтика. Затем отправляли нас в школу, с человеком. Пришедши в школу после приветствия учителя и его жены, исключительно двое мы (т. е. еще брат его Петр Иванович) обязаны были прочитать кафизму Псалтири. Это [делалось] по настоянию отца, чтобы мы, занимаясь другими науками, не забывали и слова Божия. Потом принимались за свой урок, заданный на дом. Таков был обычай. Из арифметики мы должны были подать задачу какому-нибудь старшему ученику, который проверял ее и, если находил верною, докладывал о исправности, за что получали одобрение и затем был выслушиваем заданный у рок из катехизиса и ли грамматики, если же арифметическа я за дача была не исполнена, то над нею продолжали трудиться. Затем приближалось время обеда. В 12 часов мы обедали. Почти все мальчики оставались обедать в школе, хотя некоторые и недалеко жили. Тут мы иногда появлялись с обедом, у кого что есть лишнее. У нас было обычно каждому половина франзали, если день скоромный – мясо: телятина или птичье, весьма редко бифштекс, пузырь молока и еще что-нибудь, или пирожное или фрукты, а в постный день полхлеба, по куску рыбы и икры. Потом нам давалось погулять час. Под нашими окошками был запустелый садик, в котором мы собирались и играли в „гуси-лебеди“… К 2 часам все собирались в класс, и сейчас начиналось чистописание под диктовку… и продолжалось писание 2 часа. Остальной час задавались задачи. Кто учился рисованию, тот что-нибудь чертил. В 5 часов или 5½ мы распускались. Приходя домой с человеком, который тоже за нами приходил, мы должны были отдать отчет о своем учении. На это были даваемы особые записки каждому из нас – одобрительные или нет: конечно, по этим запискам мы и принимались с похвалой или бранью. После того давался нам чай в таких же порциях, как утром, и – после – если было лето – давались ка кие-нибудь ягоды по чайной чашке. Потом принимались за уроки или отделку своей задачи. Если удавалось ее скоро кончить, то мы успевали еще выйти на балкон и погулять. В 10 часов садились кушать. Умеренность соблюдалась всегда, и разговаривать, кроме отца и матери, никто не мог, разве когда спрашивали кого о чем. И если замечалась какая-нибудь шалость, то тотчас же дела лось увольнение из-за стола. Покушав, мы опять отправлялись на молитву, в сопровождении матушки. А батюшка, хотя и с нами молился, но поспешно, от этого у них нередко были перебранки с матушкою: она его упрекала в поспешности, а он ее в медленности.
Квартира наша была на Васильевском острове в первой кадетской линии, между малым и средним проспектами. В доме купца Голубина, в приходе церкви Св. Екатерины, возле самой церкви. Каждое воскресенье летом к всенощному бдению мы обязаны были ходить и становиться вместе с отцом, что нам очень не нравилось. Зимою будили нас к заутрени, к которой в особенности я всегда лениво вставал, за что нередко оставался без утреннего чаю. На ранней литургии мы постоянно бывали, где, по обычаю, подавались две просфоры: одна за здравие, другая за упокой и с громадным поминанием.
Круг лета или года мы проводили следующим образом. Начнем с Великого поста. Первый день нас будили к заутрени. Приходя от оной, мы отправлялись в школу. У часов и вечерни мы не бывали. В этот день мы почему-то приходили домой кушать, но чаю (утром) нам не давали. Вечером, когда мы приходили из школы, в этот день все ощущали головную боль. Когда мы собирались к чаю, то на столе были мед и изюм и смоквы (инжир). Изюм был двух сортов, и мы преусердно подсаживались к нему. В эти дни не давалось заповеди, сколько пить чаю, и мы, пользуясь разговорами, усердно пожирали находящееся на столе… Матушка обычно во всю первую неделю кушала единожды, зато стол довольно сытный, почти вовсе не постный. Сухари с квасом, редька, грибы белые маринованные и черные шармованные и два блюда: горох и щи. Вечером был суп картофельный или рисовый, потом какое-то тесто соложенное и каша сладкая. Фруктов никаких не давалось до самой субботы и ничего сладкого. Субботы мы ожида ли с величайшим нетерпением, в которую пек лись блины и делалась грибовая икра. Мы отправлялись в школу сытые и все время дремали. А если кто дозволит себе за блинами шалость, тому давались блины не с маковым маслом, а с конопляным, отчего прозвали их „зелеными блинами“. Конечно, попавший под опалу не мог есть без привычки, а довольствовался чем успел прежде. Во все воскресные дни Великого поста мы ходили ко всем службам церковным. К вечернему чаю мы собирались все вместе, за которым нам давали орехов грецких, миндальных и простых, а иногда делалось миндальное молоко, которого я ожидал как праздника.
Со второй недели утром рано начинался чай и по обычаю хождение в школу. Обед и ужин всегда с маслом, кроме среды и пятка. Нередко на второй неделе нас заставляли говеть вместе с матушкою и уже тогда мы неопустительно ходили ко всем службам. Из школы к часам ходили в церковь Благовещения, а в среду и пяток в свою приходскую церковь св. Екатерины. В пятницу после обедни в школу не ходили. Когда приходили прощаться с отцом, он давал нам наставление, которое можно назвать скорее бранью: все бывшие шалости вспоминались в подробности. В нашем приходе был священник Иоанн Мелиоранский, наш же туляк, которого мы уважали и любили. Пришедши от исповеди, по окончании всех служб, кушать нам не давали. Чай мы пили с условием в какую-нибудь будущую среду или пятницу не пить чаю, ибо нам казалось, что мы не вытерпим. За исповедь мы давали священнику по рублю серебром. Я обыкновенно старался исповедоваться утром, и священник не тяготился этим.
Приобщались мы все у ранней литургии, причем много ставили свеч к образам, и обычно полагалось бутылка вина и пять просфор в алтарь. Мы все становились на левый клирос, где не было певцов, а только одни причастники. Это делала матушка для того, чтобы лучше выслушивать службу. По приобщении Святых Таин, если была поздняя литургия, матушка оставалась, а мы уходили, чтобы застать отца, когда он не ушел по делам. Пришедши домой и напившись чаю, дожидались матушку. В этот день нам масляного почти ничего не давали, опасаясь, как бы, после недельного поста, не было дурно. В этот день нас заставляли читать что-нибудь из Божественного Писания, и день этот проводился особенно благоговейно.
Затем следовали обычные дни. По какому-то обычаю матушка отгавливала в следующую неделю. Нам только дозволялось приходить в среду и пяток к литургии преждеосвященных. Так как к нам не мало ходило монахов и монахинь и носили просфоры, которые все собирались к посту, (то теперь) и съедались в большом количестве, облитые горячей водой, но никак не чаем. Белого хлеба к утреннему чаю, икры и рыбы не давалось во весь пост, кроме субботы Лазаревой, когда давалась икра, и в день Благовещения и Вербное воскресенье – рыба. Постом хранилась особенно пятница Благовещенская, когда и вечером не давалось хлеба…[10]
Страстная седмица проводилась так: если кто-нибудь говел из нас, то должен был являться к литургии прежде освященных, а кто не говел, то довольствовался утреней, затем ходили в школу. В среду отпускались с разными наставлениями от учителя, который говел всегда на Страстной седмице. Остальные дни: четверток, пятницу и субботу мы ходили ко всем службам неопустительно. Всю неделю мы кушали без масла, а в пятницу – один раз после выноса плащаницы, также и в субботу после литургии. Хотя и бывала тогда ранняя литургия в субботу, но после нее не позволялось кушать. Пришедши от литургии и напившись чаю, мы преспокойно отправлялись с отцом в противолежащую лавку для покупки десерта. Кто был взят в эту лавку, для того составляло верх блаженства, ибо можно было хоть потихоньку полакомиться. Пришедши из лавки и напившись чаю, все погружались в глубокий сон, кроме меня. Я убегал в церковь не Деяния читать, но посмотреть, немножко помолиться и расставить свечи, которые мне поручались. Сим поручением я очень интересовался. Окончивши поручение, я приходил домой. У нас уже начинали подыматься к заутрени.
Одевшись во все новенькое, мы уходили к утрени с отцом, где, пользуясь многолюдством, мы убегали в алтарь и там в числе самых знаменитых прихожан рисовались вперед и. Мое удовольствие было по христосоваться прежде домашних со священнослужителями и видеть всю церемонию: как начиналась утреня, как совершалось каждение и т. п. По окончании утрени мы оставались на раннюю литургию. Все это оканчивалось к трем часам утра. Обычно в то время в Петербурге начиналась утреня к 12 часам, что возвещалось 101 выстрелом в Петропавловской крепости, чего мы ждали с нетерпением, так же как и окончания литургии. И что за неописанный восторг был за этой утренней! Едва ли он повторялся когда-нибудь в возрасте. Это было лет до 15. Пришедши от литургии, мы христосывались со всеми и разговлялись. К этому [времени] были приготовлены и артос, и крещенская святая вода, потом антидор и просфоры и затем разговлялись. При этом давалось наставление всегда есть как можно меньше, но мы все в конце Пасхи всегда делались нездоровы. Пасху проводили почти всегда дома, никуда не выезжали, разве куда-нибудь отправлялись в прогулку, а иногда втихомолку и к качелям на Адмиралтейскую площадь. Всю Пасху мы ходили по всем службам, которые отправлялись весьма скоро. А что нас занимало, то это – крестный ход кругом церкви каждый день с артосом после литургии, а в субботу – после утрени. Тогда уже ранней литургии не бывало, но поздняя, по случаю раздачи артоса, который мы считали за непременное получить, хотя нам присылали его (т. е. на дом). С первых дней отец мой, которому делалось много визитов, и сам ездил, но мы ограничивались одним учителем.
После Пасхи мы отправлялись каждый по своим делам. Так проходило до мая месяца. Мы, кроме школы, никуда не ходили, разве только когда проходил лед по Неве, тогда мы ходили смотреть на оный. С мая нам позволено было ходить па Смоленское кладбище с нянькою.
В один из таковых, чая этой прогулки, мы с братом Петром очень разрезвились. Я нечаянно ударил его няню и при том сказал: „Какая ты толстая!“. Это было донесено отцу, который до того оскорбился моими словами, что не пустил меня на Смоленское кладбище, оставил дома, запер в темный коридор до прихода моей матери от поздней литургии, которая, пришедши и увидав меня в таком положении, пошла к отцу спрашивать и, переговорив там между собою, меня вывели из затвора и посадили на целый день читать Псалтирь, предварив многими наставлениями при горьких моих рыданиях. Известно, как чтится день св. Николая в России, но и на это не обратили никакого внимания. Пришли братья мои, и, увидав меня в таком положении, младшие этим очень поразились. Быть может мне бы и дали обедать, но так как виною был старший брат Василий Иванович, донесший отцу о моих словах, то я не упустил случая высунуть ему язык и сказать: „ябедник“, что было опять донесено и получено за оное две пощечины и совершенное оставление без обеда. Когда покончился обед и все улеглось, до тех пор я читал громко Псалтирь, и когда легли спать, то за мной поставили надзор брата Ивана Ивановича, у которого я попросил что-нибудь покушать. Он мне отказал в этом, боясь преследования Василия Ивановича, да и сам был недоволен, что я позволял себе дерзость в словах, однако [потом] в кухне достал хлеба и отправил меня в темный коридор, где я сидел, [чтобы] там [я] покушал, ибо там никто не ходил. Наскоро поевши, я обратился опять читать Псалтирь, которую продолжал до 4-х часов дня. Когда подали чай, то позвали брата Ивана Ивановича и спросили: сколько кафизм я прочитал? Он отвечал: шестнадцать. Пошло испытание – не пропустил ли я? После многих опять истязаний с разными наказаниями (т. е. наставлениями) я был прощен. Затем дали чаю и кусок хлеба. Всего тяжелее для меня было, как я помню, делать поклон брату Василию Ивановичу. Мне непременно хотелось сделать ему какую-нибудь гримасу, но так как все здесь были собраны, то и не удалось. Так строго смотрели за нами.
В праздники у нас все было изящное. Утром давали кофе, которого я терпеть не мог. В это время я бегал поговорить с приказчиками, которые и собирались только раз в неделю в ожидании кофе. Затем подавался чай. Я отправлялся пить оный, ибо братья были уже сыты. К обеду весною приготовлялась какая-нибудь зелень, соус, напоследок блеманже и пирожное. К вечерни, если никого не бывало из гостей, нам давали что-нибудь из лакомств: летом ягоды, а когда их нет, то орехи.
Я гораздо больше [других] истреблял всевозможные лакомства. Избалованный этим, я не удовольствовался тем, что нам давали, хотя, если бывали гости, нам уделяли всякого десерта по (большой) части, а также и варенья. Но для меня всего этого недоставало. Я прибегал к постыдному ремеслу – красть. Если не находил ничего в шкафах, в таком случае я уже брал сахар и ел. Однажды узнав, что брат Иван Иванович не съедает своего лакомства, а собирает в сундук, стоящий у нас под кроватью и принадлежащий ему, я преспокойно достал его спрятанные гостинцы и ел, пока не опорожнил всего. Когда же брату Ивану Ивановичу захотелось полакомиться, он открывает сундук и не находит ничего. Тогда он с воплем крепким бежит к матушке жаловаться, что опустошен его сундук. Тотчас подозрение пало на меня. И так как я отказывался, то положено было спросить прислугу. Но когда пришел с биржи отец, то преспокойно порешил, что это работа моя. Сколько я ни отказывался, обижаясь на подобные подозрения, но отец порешил привязать меня веревкой к кровати, где стоял сундук. А между тем спросили-таки прислугу, из числа коих один донес на меня, что я ему давал из этих гостинцев. Вследствие этого я был оставлен без чаю и ужина. В другой раз вследствие постового голода на первой неделе поста я наелся пряников, называемых жамками, за что понес много неприятностей в особенности от брата Василия Ивановича, который на подаваемой еженедельно от учителя записке о нашем поведении написал две буквы: „Б. Ж.“, что означало: „блюдечко жамков“. Почему учитель вопрошал: что это написано? После многих изветов я, наконец, признался учителю, который не похвалил распоряжения домашних – морить детей голодом.
В день Святой Троицы, так как не бывает ранних литургий, то мы спали более обыкновенного, а между тем отец посылал покупать березок, рябины, которые покупались в большом количестве для квартиры нашей, и пуки цветов, которые мы все развязывали, отбирая самые лучшие для отца и матери. К этому кто-нибудь приносил [еще] из сада. Мы связывали как себе, так и прислуге и отдавали каждому, а сами расставляли березки по комнатам. Затем в 10 часов начинался благовест. Мы отправлялись в церковь, и при этом нам давалось наставление, чтобы каждый букетик был облить слезами. На вопрос: „зачем?“ отвечали: [затем,] „что Бог дал дожить до весны и что все устроено для человека, как настоящий праздник, так и цветы, которые нас увеселяют“. Конечно, при чтении молитв Пятидесятницы [мы] старались как-нибудь выжать хоть одну слезинку, чтобы, пришедши от литургии, сказать об этом. Церковь тоже убиралась разными деревцами. Эти оба дня мы проводили празднично. Обычно нас ни на какие гулянья не отпускали, то мы довольствовались гуляньем на балконе нашей квартиры, ибо мимо нас обычно ездила публика на острова, как то: Крестовский, Елагин и другие. Иногда мы ходили к кому-нибудь из знакомых наших в гости, где есть сад, но это утешение получалось весьма редко…[11]
29 мая у нас праздновался день именин матери. Иногда приглашались гости к чаю, который оканчивался вечернею закускою. Гости были обычно из окружающей среды, сотоварищи по торговле отца, браковщики и иногда иностранцы. Вечер обычно проходил в том, что они играли в карты, а затем расходились. Курить у нас не дозволялось, а в то время и курили очень мало. Дом наш посещало мало (народу), так как матушка была очень религиозна, публичные гуляния и театры не посещала, а светские женщины привыкли к рассеянности: и только разговору было о том, что происходило в театре или на гулянье. К нам ездили женщины из девяти домов – шести русских и трех иностранцев и то почти не более двух раз в год: один раз 27 января, в день именин отца, а в другой раз когда-либо с визитом только. Нас брали в 4 места, преимущественно туда, где были дети, с которыми виделись мы тоже не более двух раз в год. Летом обычно мы имели утешение отправляться в Колпино, где чудотворная икона образа св. Николая. Там, отстоявши литургию и молебен, мы отправлялись на водопад, откуда старший брат покупал нам „змей“, и мы наслаждались пусканием „змея“. Затем подавалась карета, и мы отправлялись в Царское село, где подъезжали прямо к царскому саду, гуляли там часа три и, так как мы имели там знакомых, отправлялись из сада пить чай и ужинать. В Царском селе посещали дворец, церковь и все достопримечательности, зверинец. Но это я уже мало помню. Помню, что, по нашему возрасту, нас занимал очень слон, которому при нас давали есть и пить, и лебеди, которые находились во множестве в царском саду. По приезде рассказам, как дома, так и в школе, не было конца. Иногда мы ездили в Сергиевскую пустынь, откуда, тоже после литургии и пообедавши, мы, к неописанной нашей радости, отправлялись в Петергоф, где с восторгом обегивали весь сад и особенно всегда старались видеть Царскую Фамилию, которая всегда летом там проживала. Мы имели счастие видеть, как сама Государыня удочкою ловила рыбу в пруде. В это самое время был там настоящий император германский Вильгельм I. Государь Александр Николаевич тогда был не более 16 или 17 лет. При появлении его Государыня приходила в восторг. При звуке колокольчика выходила рыба наверх и попадала на удочку. Государыня потом и вся Царская Фамилия катались в линейках по саду. Где бы она (Фамилия) ни находилась, всегда была преследуема. Так русский народ любит своих царей и их семейства! К 8 часам вечера, когда публика собиралась ко дворцу, для Царской Фамилии поданы были кресла, в которых просидела она до 9 часов. В 9 часов, когда забили зорю и заиграла музыка „Отче наш“, Государыня сотворила на себе крестное знамение, встала, поклонилась публике и отправилась внутрь дворца. Пред дворцом был устроен театр для приехавшего дорогого гостя, нынешнего императора Вильгельма, и весь сад был иллюминован. Пьеса давалась китайская, Киа-Кинг“. В это время с нами случилось странное происшествие. Так как матушка, по данному ею обету, не являлась никуда на гуляния, ни на иллюминации, то попросила, чтобы приказчик проводил ее до кареты. А мы остались с отцом, чтобы видеть, когда пойдет Государь и Царская Фамилия. Приказчик, проводивши матушку и возвращаясь оттуда, так как имел привычку очень скоро ходить, почти стремглав бежал и наткнулся прямо на Государя, который ему сказал: „Что ты, братец, так не осторожен?“. Когда он подошел к нам, то не мог слова выговорить от страха и все оглядывался – не ищут ли его. Иллюминация была превеликолепная, или лучше сказать, редкое зрелище. При многоцветных огнях были пущены все фонтаны, вода которых казалась как бы розовою. Поздно вечером мы возвратились в карету и поехали домой.
Петров пост мы кушали рыбу, не разбирая среды и пятка. Весною в Петербурге особенно хороша рыба – ряпушка, корюшка, а в Петров пост ловится отличная лососина и сиги. С лососиною делали ботвинью, из сигов уху, из ряпушки и корюшки – жаркое и из свежих огурцов – салат. В Успенский пост мы не кушали рыбы, а постное. 1 августа добывался нам отличный сотовый мед. На Преображение разрешалась рыба. В некоторые годы говели в этот пост. На Преображение начинали кушать яблоки. День Успения мы проводили торжественно, ибо это был наш храмовой праздник, и у нас бывали гости самые близкие. После вечерни подавался десерт из всевозможных ягод. В продолжение лета не мало служило в удовольствие варенье, которое матушка варила в большем количестве для годового обихода. Хотя мы и немного пользовались (вареньем), но зато ягоды нами пожирались в изобилии. Осень проводили мы не скучно: в школу мы ходили при свечах и возвращались при свечах. В школе во время сумерек нам было позволено резвиться, а иногда и танцевали между собою. Вечером большею частью мы писали под диктант. Возвращаясь домой к чаю, мы уже уроками не занимались потому, что в это время мы сидели в школе и там оканчивали их. В зимнее время так же у нас проходило. Когда наступал Рождественский пост, кушали постное, а большею частию рыбу. Матушка во все посты не кушала рыбы по средам и пяткам. К Рождеству Христову нам шили обновки, а в школе за неделю учили рацеи, которые мы должны были сказать пред родителями в день Рождества Христова после литургии, за что получали денежную награду. Эти деньги складывались в особый кошелек, который хранился у матери, и не давались нам ни на какие траты. В эти праздники, в отсутствие отца, мы наряжались по-домашнему, преимущественно в женский наряд. Иван Иванович был за парикмахера…»
На этом обрываются автобиографические воспоминания покойного о. Макария, записанные в 1877 году с его слов иеромонахом Миною. Очевидно, после объявления Русско-турецкой войны, когда прекратились сношения Афона с Россией, на досуге о. Макарий хотел воспроизвести в памяти, в общих чертах важнейшие моменты своей жизни и передать их на бумаге, но затем, по окончании войны, за недосугами он оставил эту свою прекрасную мысль невыполненною и свои воспоминания неоконченными. Но для характеристики самого отца Макария, и именно в его детские годы в этом известном отрывке дано нам все, что необходимо. В приведенном нами отрывке симпатичный образ великого будущего аскета обрисовывается со всей привлекательной рельефностью, которой трудно было бы достигнуть, извлекая черты его жизни из устных рассказов его современников и даже родственников.
Глава II Жизнь в миру
Быстро промелькнули детские годы о. Макария, а вместе с тем и годы его воспитания и обучения. Если еще и ныне, при всеобщей воинской повинности, богатое купечество редко проводит своих детей через гимназии и университет и ограничивает их воспитание лишь городскими школами и редко реальными гимназиями, чтобы приобрести некоторые права на льготу при отбывании воинской повинности, то тем с большим правом могли так рассуждать коммерческие люди тридцатых и сороковых годов истекающего столетия. «Рекрутская квитанция» в ту пору вполне гарантировала свободу от военной службы купеческих детей, сколько бы их ни было у отца семейства. Иван Дионисьевич Сушкин не представляет исключения из ряда коммерсантов того времени. Он порешил, имея при этом и свой личный опыт, что пяти лет обучения в частном пансионе достаточно для того, чтобы из мальчика, особенно прилежного, вышел прекрасный «подручный» человек и хороший помощник в торговле, а «в своем глазе» Иван Дионисьевич, при сложности своих торговых операций, крайне нуждался. В частности, в представлении Ивана Дионисьевича его Миша был достаточно выучен и имел уже право считаться образованным коммерсантом. Он «читал хорошо, арифметику знал исправно» и быстро умел переводить денежные иностранные курсы на русские и обратно, что при сделках с иностранцами, с которыми главным образом велась у Сушкиных торговля, было большою находкою для Ивана Дионисьевича. Эти познания своего сына в математике с коммерческой точки зрения отец оценил должным образом и через это даже стал оказывать к нему некоторого рода благоволение.
Итак, на четырнадцатом году своего возраста о. Макарий прямо со школьной скамьи попал в самый кипучий водоворот жизни, т. е. вступил, как он выражается, «в коммерческий круг», доселе ем у знакомый лишь понаслышке. Из мальчика он сразу превратился в юношу, Михаила Ивановича, сделался «подручным» человеком отца, а для посторонних «хозяйским сыном» или даже настоящим хозяином. Резким и в высшей степени тяжелым показался такой переход для Михаила Ивановича. Из его памяти еще не изгладились воспоминания о родительских подзатыльниках и окриках, которыми часто наделял отец, редко появлявшийся в семье, в период детского воспитания, а теперь ежечасно и ежеминутно предстояло быть на глазах требовательного и строгого отца. Поэтому Михаил Иванович на первых порах своей деятельности коммерческой «всего боялся», опасался за каждый свой шаг, за каждое свое неосторожное слово. Не будучи знаком с добротою товаров и с их ценами на бирже, он боялся спросить своего отца о том и другом, чтобы не раздражить его или не обидеть, а обращаться за разъяснениями и справками к приказчикам он не хотел, так как, по юношескому и, пожалуй, по природному гонору, в глазах их он старался соблюсти свое хозяйское реноме, свой авторитет, который, как ему казалось, этим уже подрывался. «В товарах ценность более старался сам узнать, – пишет о. Макарий в своем дневнике, – но спрашивать стыдился и боялся». Вскоре же Михаилу Ивановичу представился случай разыграть роль уже настоящего хозяина.
В 1836 году в ноябре месяце Иван Дионисьевич с супругой отправился в Москву на свадьбу старшего сына Василия Ивановича, который сосватал себе девушку «образованную, с благородной душой, но в высшей степени занятою собой» из фамилии Гжельцевых. Дома хозяином оставлен был Михаил Иванович. Казалось бы, что теперь вне отцовского глаза он мог бы пожить свободнее и в свое даже удовольствие, но на самом деле не так было. К великому огорчению Михаила Ивановича в доме родителей в это время проживал случайно для излечения глаз слепой дядя по отцу Кондратий Дионисьевич, который, по своему болезненно раздражительному характеру, «на каждом шагу обижал, кричал, бесился, сам не зная за что» на своего племянника. Положение в доме скромного и впечатлительного Михаила Ивановича казалось для него невыносимо тяжелым, и он начал «упадать духом». К этому нужно присоединить и то, между прочим, обстоятельство, что в доме он был совершенно одинок и решительно не находил по душе себе человека, которому бы мог поверить скорби своего нежного доброго сердца, потому что единственно симпатичный ему человек брат Иван Иванович, с которым он «жил довольно ладно», оставил родительский дом еще год тому назад, и оплаканный им, уехал в Тулу для помощи деду. Душевные муки впечатлительного до болезненности юноши убились совершенно неожиданным и непонятным образом для него самого. «1836 года декабря 18 числа Зимний дворец сделался жертвою пламени. Я, – замечает о. Макарий, – страдал за потерю царскую не лучше, сам не зная отчего». Среди этих тяжелых душевных мук, едва понятных в мальчике четырнадцати лет, единственным для него развлечением служило «чтение духовных книг», так как, по его собственному выражению, его «мысль более и более распространялась к духовному». За чтением юноша забывал о житейских треволнениях и неприятностях, так рано выпавших на его долю и для борьбы с которыми у него не было ни жизненного опыта, ни собственных еще не раскрывшихся нравственных сил. Мысль его витала в мире идеальном, где жизнь с ее суетою и скорбями была далеко за крепкими монастырскими забралами, где царствует братская любовь и вечная благодатная тишина, где денно и нощно люди подобно ангелам от глубины своих сердец воссылают горячие молитвы к Творцу своему… Большим контрастом для идеалиста юноши казалась, после этих сладостных грез и мечтаний, жизнь, его окружающая, серая действительность с ее постоянными буднями, и невольно для него самого «мысль его озарялась неземным желанием – быть последним рабом какой-нибудь обители». Правда, о. Макарий об этом своем юношеском желании замечает, что оно «посеялось видно на камени», т. е. не перешло в область действительного, не осуществилось тотчас же на деле, так как «солнце – частые посещения гостей дяди и из больницы и других – его развлекали», но на самом деле едва ли не это именно «неземное желание» и заронило в душу будущего аскета ту искру небесного огня, которая до времени лишь тлела, но потом, спустя долгое время, совершенно непонятным также для него самого образом, вдруг вспыхнула ярким пламенем, охватившим все его существо и поднявшим со дна его души полусознательное юношеское желание до такой высоты, что он на деле, самым настоящим образом взялся осуществить свои юношеские мечты и, как показала его жизнь, успел и сумел их осуществить.
Тяжело жилось Михаилу Ивановичу в одиночестве, но мало сулило радостей ему и возвращение из Москвы в Петербург его родителей. Отец по приезде тотчас же потребовал точный отчет во всех деловых оборотах и произвел строгую ревизию кассы, в которой обнаружил, к великому огорчению Михаила Ивановича, недочет 290 рублей ассигнациями. Вина в этом всецело пала на бедного юношу за его недосмотр. «Меня отец бранил и обижал, а я скорбел», – замечает о. Макарий в дневнике, потому что считал себя совершенно неповинным в данном недочете. Несколько позже обнаружилось, что виновником в данном случае был дядя Кондратий Дионисьевич, который, по слепоте своей, выдавал нередко прислуге вместо двугривенного по золотому.
Следующие два года своей жизни о. Макарий прямо называет «самыми неприятными» по случаю тех раздоров, которые шли в доме Ивана Дионисьевича между ним и его братом Кондратом Дионисьевичем вместе с его женою, женщиною «серого характера», доводившей кроткую Феодосью Петровну до положительной «истерики».
В 1840 году, по случаю страшного пожара вследствие поджога неизвестных злоумышленников в Туле, причинившего убытков на 200 тысяч ассигнациями, Иван Дионисьевич оставил Петербург и отправился к своему отцу. Хозяином в доме вторично был оставлен Михаил Иванович. Но после некоторого навыка и практической опытности этот второй дебют в роли ответственного хозяина оказался вполне удачным. Исполняя со всем усердием возложенную на него отцом тяжелую «комиссию», Михаил Иванович «старался заслужить доверие иностранцев и купечества» и по возвращении отца в Петербург все «дела сдал благополучно». Торжествуя свой успех в выполнении возложенной на него «комиссии» отцом, Михаил Иванович вскоре пережил несколько иных счастливых дней, о которых не преминул упомянуть в своем дневнике. 8 сентября он «удостоился видеть въезд в С.-Петербург великой нашей будущей Царицы Марии Александровны – добродетель была написана на ее лице», а затем 6 декабря «удостоился быть во дворце при обручении, видеть торжественный вход в церковь, приложиться к десной руке св. Иоанна Крестителя и видеть во всей славе своего Царя – Отца…».
Концом сорокового года жизнь петербургская Михаила Ивановича оканчивается, и с этого времени он уже никогда не видал нашей невской столицы. В последних числах декабря месяца он, хотя не без горьких слез и скорбей при расставании с родителями, но с сознанием, что «без скорби мы не делаемся людьми», покинул Петербург и вместе со старшим братом Василием Ивановичем через Москву отправился в Казань, где Сушкины закупали сырье. Свой приезд 12 января 1841 года в Казань Михаил Иванович приветствует в своем дневнике следующим интересным восклицанием: «Так началось для меня новое житие, может быть, к лучшему!».
Но увы! Михаил Иванович жестоко ошибся в своих ожиданиях. Жизнь казанская если не была хуже петербургской, то уж во всяком случае не лучше этой последней. Характер брата Василия Ивановича во многом напоминал характер его отца, через суровую школу которого он прошел и от которого успел многое позаимствовать для своей будущей деятельности даже и несимпатичного. К тому же Михаил Иванович далеко не был симпатичен своему старшему брату[12]. Неудивительно поэтому, что жизнь казанская казалась положительно несносной для Михаила Ивановича, так как повторились те же огорчения и приятности, какие он пережил в Петербурге, но с той разницей, что там все это выходило от отца, беспрекословное повиновение которому он считал для себя святою обязанностью, а здесь карающим лицом являлся его родной брат всего несколькими годами старше его. Нетрудно понять разницу и внутреннего душевного состояния в обоих положениях. «Брат меня обижал на каждом шагу, – читаем мы в дневнике, – и даже позволил (т. е. обижать) Александру», племяннику дяди Михаила Дионисьевича, приехавшему вместе с ними из Москвы. «В мае месяце мы, – говорится далее, – переехали на сушильный завод. Там жил грустно. Брат возложил на меня приемку кож и разборку, не показывая (т. е. как это делать). За самую безделицу строго взыскивал. Наконец мы ошиблись планом кожи, но поистине ошибся Александр, а вину свалили на меня. Когда у нас бывали гости, то я подавал им и дожидал, покуда (они) разъедутся». В таком приниженном забитом положении, при полном отсутствии «приятелей и знакомых», чем мог привлекать город «прекрасный и торговый» несчастного юношу? Где у кого мог искать он руку помощи, чтобы скорее настал желанный час» выхода из него. «Я скорбел, – пишет юный страдалец, – и в скорби прибегал к общему Утешителю… В это время, переделывая в Казани собор, нашли часовню, где молился св. Гурий и там образ Спасителя нерукотворный, написанный им самим на стене, и скамейку, которая вся истлела. Туда в моем горе я часто ходил молиться и просил, чтобы мне избавиться от Казани». Молитва его, наконец, была услышана покровителем и просветителем Всея Казанския Земли и «желанный час разлуки с Казанью для Михаила Ивановича настал скорее, чем можно было предполагать. Но, к его огорчению, и этот час не был освобождением навсегда от новых унижений и оскорблений со стороны его «старших». Осыпаемый «часто бранью» со стороны брата в самое «последнее время», пред выездом из Казани, он и не предполагал, что впереди его ожидают новые испытания и новые огорчения.
29 июля Михаил Иванович распростился с горькою по воспоминаниям Казанью и вместе с братом выехал на Нижегородскую ярмарку, куда для главного ведения коммерческих сделок и для надзора за торговлей вообще прибыл из Москвы, между прочим, и дядя Михаил Дионисьевич. Ярмарочное дело было новое для Михаила Ивановича, а потому он нередко делал промахи. Услужливые приказчики «самую малейшую ошибку» доводили до ушей дяди, который, весьма понятно, «сердился» на неопытного юношу племянника и не упускал случая с бранью читать ему наставления. Жизнь ярмарочная для других купеческих детей прошла весело и шумно, а для Михаила Ивановича она была невесела и даже положительно «скучна». После 6 сентября, когда ярмарочная жизнь окончательно замирает, Михаил Иванович выехал с дядею в Москву, где «началась его жизнь, – по дневнику, – с большой неприятностью. Никто не хотел меня предостеречь, всякую ошибку мою видно было я жил как чуждый всех». На его счастье в октябре месяце прибыл в Москву дядя Иосиф Дионисьевич с целью сосватать себе невесту и несколько облегчил сердце бедного юноши, искавшего любви. Михаил Иванович «приютился к нему» и дядя не оттолкнул его, но «приласкал». «Я всюду, – замечает о. Макарий, – с ним ходил». 7 декабря Иосиф Дионисьевич «образовался (т. е. благословлялся образом) на вдове Краюшкиной Анастасии Ивановне», а в январе месяце состоялся брак. По этому поводу Михаил Иванович виделся с отцом, который приезжал из Петербурга в Москву нарочито на свадьбу своего меньшого брата. Приезду отца Михаил Иванович «был так рад, что ездил в контору дилижанса и встретил его там».
Из Москвы, вскоре после свадьбы, Михаил Иванович был отправлен в Тулу к деду, где прошло его счастливое детство. Этой поездке несчастный юноша весьма обрадовался, так как ему предстояло видеть знакомые места, среди которых он счастливо в холе и неге вырос, а также встретить любимого дедушку и еще более любимого брата Ивана Ивановича. В предвкушении этих сладостных для его сердца удовольствий юноша с восторгом мчался на почтовых под дорогой ему кров дедушки, но его мечты быстро разлетались в прах, когда, после первой встречи с родными, ему категорически объявили, что наутро он должен был ехать с братом Иваном Ивановичем на ярмарку в Лебедянь. Усталый от дороги, он молча выслушал наказ деда и наутро был готов к отъезду, так как противоречить деду не полагалось по традиционному порядку, передаваемому из поколения в поколение в роде Сушкиных, к тому же противоречие и не было в характере скромного Михаила Ивановича.
Закончив ярмарку в Лебедяни и расставшись с братом Иваном Ивановичем, который поехал по делам в Харьков, Михаил Иванович непосредственно отправился на другую ярмарку в Михайловскую станицу. Это было в 1842 году. «Ярмарка удалась прекрасная», и Михаил Иванович был на верху счастья от этого своего первого самостоятельного в полном смысле этого слова опыта, который он сам называет в дневнике «первою ступенью на коммерческом поприще». Под свежим впечатлением переживаемого им блестящего успеха в торговле выехал Михаил Иванович из Михайловской станицы на новую ярмарку в Воронеж и вел ее непосредственно один без надзора старших. Светская жизнь в таком большом городе, где проводят зиму местные богатые помещики, куда теперь, по случаю ярмарки, съехалось с разных концов России именитое купечество, в городе земледельческом и торговом, благо и время было предмасленичное, – шла в полном разгаре: балы, семейные вечера, маскарады, театры и подобные места общественных удовольствий раскрыли широко свои гостеприимные двери для ищущих удовольствий. И частная семейная жизнь обывателей ввиду оживления в городе и наплыва приезжих гостей выходила из обычных рамок монотонной будничной жизни: всюду устраивались пикники, домашние танцевальные вечера и т. п. Ввиду такого искуса в молодом 21 года юноше пробуждается жажда к общественным удовольствиям со всей страстью его молодой, кипучей и увлекающейся натуры, еще не ведавшей ее прелестей и лишь в живом воображении рисовавшей эти удовольствия в самом привлекательном и очаровательном виде. Одного желания для молодого Сушкина познакомиться с этой жизнью было достаточно, чтобы гостеприимные двери семейных домов местного купечества раскрылись перед ним совершенно свободно. «Изящно одетый и просто писаный красавчик»[13], благовоспитанный, с приличными манерами, живой и остроумный собеседник, прекрасный танцор, к тому же член известной в купечестве семьи Сушкиных, жених-миллионер – все это вместе взятое рекомендовало его с самой лестной стороны пред местным еще неизвестным ему обществом. Михаил Иванович был дорогим и желанным гостем, где бы он ни появлялся, и все считали за особенную честь принять его у себя в доме. Он «пустился в общества на вечера; танцевал и к себе приглашал». В этом чаду удовольствий, где все льстило его природному самолюбию, он прожил целый месяц, забыв решительно обо всем на свете. Настоящая действительность казалась ему волшебным сном, пробуждения от которого, по-видимому, он не желал. Но всему есть конец на свете; настал конец и его увлечению светскими удовольствиями, и настал совершенно неожиданным для него образом.
Шла пестрая неделя, т. е. неделя перед Масленицей. Михаил Иванович отправился танцевать в клуб. Здесь во время самого разгара танцев вдруг он слышит за своей спиной полузнакомый ему голос: «Михаил Иванович, да ты ли это? Ну, братец мой, вот этого я уже от тебя не ожидал!». Михаил Иванович прерывает оживленный танец, раскланивается с дамой и быстро поворачивается в сторону, откуда раздалось восклицание. Перед ним как бы из земли выросла плотная фигура очень хорошо ему известного тульского купца, который в недоумевающей позе, с разведенными руками, вперив в него свои раскрытые от удивления глаза, стоял сбоку танцевального зала. Появление этого купца до того произвело на Михаила Ивановича удручающее впечатление, что он совершенно растерялся и не знал, что сказать ему в ответ. Из элегантного кавалера и оживленного собеседника, каким он был несколько минут назад, Михаил Иванович превратился в настоящего школьника, захваченного на месте преступления. Для Михаила Ивановича довольно было одного вида знакомого земляка, чтобы он отрезвился, чтобы рассеялся туман, доселе его окутывавший, и пред ним восстала грозная действительность в лице строгих отца и деда и требовательных дядей с нескончаемою бранью и всевозможного рода упреками. С быстротою молнии промелькнула в его голове мысль: а ведь теперь «об этом могут узнать старшие?». Под впечатлением этой мысли и пред страхом за будущую ответственность обескураженный Михаил Иванович быстро стушевался в толпе оживленных посетителей клуба и мрачный уехал домой. Но и дома, как кошмар, его мучила та же неотступная мысль, «повергшая в уныние», и он не находил себе покоя.
Настала русская широкая Масленица, когда русский человек и ест и пьет много и веселится сколько его душе угодно; когда разнузданность человеческих страстей, можно сказать, не признает никакого предела и не только не сдерживается, а как бы даже поощряется и одобряется заветами и обычаями старины глубокой. Воронеж не отстал от других городов матушки Руси Великой и особенно веселился оживленно на этот раз. Молодой Сушкин во время этого всеобщего веселья сидел в своей квартире, держал самый строгий пост в пище и питье и неопустительно посещал все службы монастыря св. Митрофания. «Я, – замечает о. Макарий в своем дневнике, – не выходил [из дома] кроме монастыря св. Митрофания». Суровым постом и горячей молитвой он решился успокоить свою взволнованную совесть и облегчить себя от ее угрызений. Такая резкая перемена в образе жизни и поведении молодого Сушкина не могла не обратить на него внимания всех его знакомых.
Упомянутый выше тульский купец – причина его душевных настоящих мук, – узнав о таком поведении юноши, явился лично к нему и после удивления и убеждений вроде того, что для покаяния довольно и семи недель поста, а теперь время «основательного» приготовления к нему, ушел, приговаривая при этом: «Ну, Михаил Иванович! Ну, право от тебя я этого не ждал». В субботу на сырной неделе Михаил Иванович «приобщился» Св. Таин и, успокоив свою совесть исповедью перед священником, «уехал в Тулу».
Конец 1842 года, весь следующий год и до мая 1844 года Михаил Иванович жил почти безвыездно в Туле и находился под тем же строгим режимом «старших», в каком прошла вся его предыдущая жизнь. «Дедушка взыскивал строго, – пишет в дневнике о. Макарий, – а дядя еще строже; я почти, кроме воскресения к обедни, никуда не выходил». Изредка, впрочем, Михаил Иванович оставлял на короткое время Тулу и ездил «по воловням, где кормились быки. За быками и дома дела было пропасть, я почти не успевал. Верного человека не имел, которому мог бы передать мое, ибо для меня дядя и тетка точно были чужие», а брат Иван Иванович находился постоянно в разъезде. «Наконец, – пишет о. Макарий в дневнике, – заблистала для меня утренняя звезда, – я уехал в ярмарки и был в Лебедяни, Темникове, Тамбове, а потом ильинскую в Ромнах. Отдохнуло мое сердце. Я в Ромнах прилично одевался, был в собрании, театре. Так приятно прожил время, и ярмарка была удачная. Оттуда Бог сподобил меня быть в Киеве. Я приобщился Св. Таин, проживши пять дней. Мне грустно было расставаться с Киевом, но я поехал на Полтаву и в Харьков на ярмарку покупать шерсть… Из Харькова я поехал на Старый Оскол и Ефремов, где нашел восьмидесятилетнего дедушку. Мы с ним, слава Богу, прожили время хорошо. Ни одного выговора я не получил, слава Богу! Из Ефремова [отправился] в Лебедянь, из Лебедяни в Урюпинскую станицу. В Урюпинской станице я одолжил рыльского купца Жижина деньгами 1500 руб., которые [он и] увез, не сказавшись. Я тосковал, передал записку на руки, но денег не получал. Из Урюпинской станицы отправился в Кирсанов и Тамбов, где был уже мой дядя Иосиф Дионисьевич, оттуда мы поехали с ним в Тулу. Пробывши там и сыгравши свадьбу двоюродного брата, я уехал опять с дядею в Ефремов, Лебедянь, Липецк, Козлов и Моршу. В Морше дали мне дело – разливать сало. В это время я уезжал в Михайловскую станицу, и там тоже, надеясь получить деньги с Жижина, не получил. Я писал ему письмо и просил именем его выслать мне деньги, а сам уехал в Моршу для разливки. Целую зиму и все время я жил порядочно. Знакомых имел только два дома – Медведева и Демьянова. В это время мой отец с маменькою приехали в Тулу и я, отделавшись совсем, собирался ехать в Тулу. К величайшей моей радости Жижин деньги прислал, и я с полным удовольствием поехал домой к Святой».
Все последующие страницы дневника о. Макария до выезда за границу переполнены подобного рода деловыми замечаниями, мало или вовсе неинтересными для читателя. Поэтому, не касаясь частностей и опуская из дневника все малоценное для характеристики о. Макария, мы сделаем беглый очерк его жизни в миру до дня выезда его на восток и остановимся ближе подробно лишь на выдающихся фактах.
Начиная с половины 1844 года и вплоть до 1850 года жизнь Михаила Ивановича изменилась к лучшему весьма значительно. Переезжая из города в город, с ярмарки на ярмарку, закупая шерсть, щетину, быков или разливая сало, Михаил Иванович был, как говорится, сам себе господин. В коммерческом деле он уже приобрел некоторый навык и практическую опытность, а поэтому держал в подчинении у себя и в должном повиновении подручных людей. Строгого надзора со стороны «старших» уже над ним не было, и он располагал свою жизнь по собственному благоусмотрению, не опасаясь за то упреков, выговоров и больших неприятностей. Торговлю старался вести «как можно чище», с тем чтобы «не замарать свою честь», которая для молодого и щепетильного в данном отношении юноши была дороже всего на свете. Со счетами, которые подавались «старшим» не менее как на 750 или 900 тысяч, он был всегда аккуратен и точен, дабы не возбуждать с их стороны подозрений и неудовольствий. Свободное от торговли время – вечера одни пра здничные – он проводил «весело» в домах своих знакомы х, «принимавших его везде, как родного». Здесь Михаил Иванович ухаживал за девицами, пользуясь в свою очередь их вниманием и симпатиями, с увлечением танцевал, вел оживленные беседы и т. п. Не чуждался изредка и общества своих сверстников и сотоварищей по торговле, в кругу которых шампанское лилось рекою. После одного из таких куражей Михаил Иванович схватил горячку и был сильно болен. В бытность свою в Урюпинской станице в 1846 году Михаилу Ивановичу пришлось присутствовать там при закладке церкви, а также и на торжестве по этому случаю. «Мы провели время приятно, – говорится в дневнике об этом торжестве. – Был Хомутов, начальник штаба и архиепископ Донской Игнатий. Тут я помирил моих знакомых Веретенникова и Солодовникова и, много выпивши шампанского, вышел раздевшись (на двор), простудился жестоко и был болен горячкою». Во время своих частых переездов по Южной России Михаил Иванович нередко посещал Киев и другие места, в которых находятся или мощи святых, или чудотворные иконы, или известные своей древностью монастыри. Как истинно религиозный человек Михаил Иванович считал для себя христианским долгом посетить эти места, помолиться перед святыней и в Киеве даже непременно всякий раз отговеть. В родную семью в Тулу Михаил Иванович возвращался редко, живя большею частью вне дома. В ней он непременно проводил Пасху, а также время семейных горестей или семейных радостей. Так, например, в Тулу он приезжал 1) по случаю смерти в 1846 году своего деда Дионисия Осиповича, 2) когда, по убеждению местного губернатора, обсуждался оживленно между дядьями вопрос об открытии «фирмы Дениса Сушкина сыновей», 3) по случаю женитьбы «любезного» своего брата Ивана Ивановича на девице В. Ф. Черниковой в 1848 году и т. п.
Из приездов в Тулу на дальнейшую судьбу Михаила Ивановича оказал самое сильное влияние его приезд в 1845 году, в июле месяце, когда в Туле жили уже родители. Из дневника нам лишь известно, что в это время он упросил брата Ивана Ивановича поехать за него в Ильинскую, а «сам остался дома с дедушкой и что жить ему было лучше, потому [что] маменька жила». Можно бы думать, что это улучшение жизни заключалось в том, что его перестали бранить и оскорблять «старшие», но, как мы знаем из других достоверных источников, сам Михаил Иванович имеет в виду улучшение иного и более для него приятного свойства. В это время произошло самое тесное и самое интимное сближение между матерью и сыном, которое потом заочно не прерывалось до конца жизни у обоих. Здесь поистине, можно сказать, мать нашла себе сына, в свою очередь любящий сын нашел нежно любящую кроткую мать с душою ангельской чистоты и с непорочным сердцем. Пунктом сближения послужила редкая общность религиозных убеждений обоих и замечательное сходство их характеров. Михаил Иванович очень немало унаследовал симпатичных черт характера своей матери. Набожная Феодосья Петровна не без материнской гордости смотрела на своего красавца и умника сына. Начитанный в Слове Божием и в душеспасительных книгах, побывавши во многих местах России, замечательных своими святынями, узнавший несколько жизнь на практике, Михаил Иванович был для своей религиозной матери, чуждой житейской суеты и всего, что вне дома, весьма приятным и желательным собеседником. Его одушевленная живая речь действовала на доброе сердце Феодосьи Петровны самым благотворным образом, и она в самое короткое время успела узнать и полюбить Мишу так, как не знала и не любила его в годы детства. В уме счастливой, набожной матери уже промелькнула мысль: «Авось она дождется счастия и увидит одного из своих сыновей молитвенником, монахом!». От этой одной заветной мысли сердце матери наполняется восторгом и ее Миша становится в глазах ее еще милее и любезнее и дороже ее сердцу… Но живой и впечатлительный юноша быстро переходит в своих беседах с одного предмета на другой. После рассказов о киевских святынях, «ангелоподобных» киевских подвижниках и т. п., растрогавших до умиления, до слез набожную Феодосью Петровну, Михаил Иванович быстро переносится своей мыслью, как быстры были его переезды с одного места на другое, в Харьков, Тамбов, Воронеж и т. д., и начинает вести повествование о своих развлечениях, танцах, ухаживаньях за барышнями и т. п., и у бедной Феодосьи Петровны быстро высыхают слезы, сердце ее сжимается от страха за непорочность его души и тела и моментально меняется прежняя мысль на другую, менее для нее симпатичную. «А что ни говори, время и женить парня. Долго ли до греха». Осторожно и любовно она выпытывает и узнает внутреннее состояние души своего сына и как бы к случаю ведет речь о том, как следует молодому человеку «оберегать себя до брака от плотских страстей». «„Когда и жених и невеста оба вступают в брак девственными – ангелы Божии радуются на небесах и невидимо летают над брачным ложем их“, – говорила ему мать, и эти слова ее производили на юношу, по его собственному мне признанию, – пишет К. Леонтьев, – глубокое впечатление. И думал, – говорит он мне с чувством, – что если я согрешу, то не только навлеку на себя гнев Божий, но и мать жестоко обижу, а мне и вспомнить об этом было даже больно“»[14]. И вот, несмотря на свою увлекающуюся молодость, внешнюю красоту, общество женщин, среди которых он проводил большей частью время, круг товарищей, далеко не отличающихся чистотой нравов, и всегдашнее довольство в денежном отношении, Михаил Иванович, под такими убедительными увещаниями своей матери, оставался в миру невредим и «девственность свою строго хранил», а потом впоследствии, в сане уже игумена, как это известно всем знавшим покойника, явился красноречивым и горячим проповедником девственной чистоты и супружеского целомудрия в нашем современном обществе. «И само даже мирское юношеское воздержание его было еще потому особенно ценно, – прибавляет К. Леонтьев, – что он, по всеобщему свидетельству, смолоду был красавец. Много легче тому вести себя скромно, на кого и глядеть никому нет особой охоты, но красота целомудрию великий противник. Может ли не чувствовать молодой человек, живой от природы, что он очень красив и что понравиться женщине ему вовсе не трудно?»[15].
Между матерью и сыном еще более тесное сближение установилось после совместной поездки в Киев в июне месяце 1847 года. После этой поездки Михаил Иванович сделался положительным любимцем своей матери, влияние которой на него с этого времени стало особенно заметно. Михаил Иванович не раз уже бывал в Киеве, и все святыни для него не были новостью, но никогда он не выносил из своей поездки столь сильного, столь разнообразно-глубокого и назидательного впечатления, как в эту поездку. Благочестивая Феодосья Петровна не только усердно молилась у мощей святых киевских угодников, обозревала достопримечательные святыни города, но и обратила должное и серьезное внимание на тех лиц, которые предстоят этой святыне, на их жизнь и подвиги. Она обошла всех известных между монахами духовников, посетила затворников и у каждого из них спрашивала: «Как можно спастись в мире? Как нужно жить, чтобы угодить Богу?» – и т. п. На свои несуетные вопросы из уст печерских старцев она слышала в ответ простую, нехитростную, но любовную, исходящую от глубины души, много уже боровшейся со страстями, речь, которая обаятельно действовала на ее сердце. Юноша сидел безмолвно. С благоговением и священным восторгом издали он внимал этим речам и радовался, что ему, наконец, удалось лицом к лицу видеть ту жизнь, о которой он знал лишь по книжкам и видеть которую он пламенно желал еще в 14-летнем возрасте. Мать и сын[16] уходили от этих старцев взволнованными и долго между собою делились впечатлениями, вынесенными из этих посещений и бесед. Не упускала случая при этом набожная Феодосья Петровна поговорить с сыном и о том любимом предмете на тему, что монашеское житие – ангельское, что в мире человеку спастись трудно, что жизнь мирская – одна суета и целый ряд беспокойств, что спасение только возможно здесь, в монастыре, где царствуют мир и тишина и братская любовь. Эта одушевленная и искренняя речь любящей и любимой матери глубоко действовала на впечатлительную душу Михаила Ивановича, трогала самые живые чувствительные струны его сердца и поднимала со дна его знакомые давнишние тайные желания, и только лишь цветущая молодость, прелесть неизведанной еще манящей впереди своими чарующими прелестями жизни мешали юноше произнести навертывающиеся на язык слова: «маменька, благословите меня идти в монахи»…
От зоркого глаза Ивана Дионисьевича не ускользнуло настоящее сближение жены с сыном, а также и то, какое влияние оказывается на его сына со стороны матери. Как коммерческий человек в полном смысле этого слова, он вовсе не желал лишиться такой нужной ему рабочей силы, какой уже стал Михаил Иванович в описываемое время. Что же касается монашества, то, будучи на самом деле сыном церкви и даже, пожалуй, человеком набожным, к монашескому чину особенного благоволения он не питал, а чтобы кто-нибудь из его сыновей сделался монахом – он и слышать не хотел. Вот поэтому-то Иван Дионисьевич порешил в душе положить предел указанному сближению матери с сыном и отдалить их друг от друга. По принятому обычаю, после объезда ярмарок Михаил Иванович в 1850 году поехал к предстоящей Пасхе домой для свидания с родителями. Здесь в конце Пасхи Иван Дионисьевич предложил сыну подумать о женитьбе. Подобное предложение застало сына врасплох. Он смутился и «просил сроку неделю» на размышление, так как он не имел в виду ни одной подходящей для себя невесты. Говорить, что Михаил Иванович не думал о невестах – нельзя. «Ну и о невестах думал, – признавался покойный о. Макарий К. Леонтьеву, – и были барышни очень красивые, с которыми танцевать приходилось и танцевать я был не прочь»; но остановиться на этих барышнях, прибавим от себя, с более серьезной мыслью он и не думал, так как «мечта о монашестве, – по словам того же К. Леонтьева, – не оставляла его посреди коммерческих хлопот и всяких мирских развлечений»[17]. Не удивительно поэтому, что и после недельного размышления он ни к чему не пришел в своем решении, не приготовил никакого ответа и на вторичный вопрос отца он прямо жениться «отказался еще на год». Может быть, настоящий отказ и не был бы принят в резон, но наступило время ехать на ярмарку в Старый Оскол, и Михаил Иванович, за неимением другого верного человека, должен был отправляться к своей обычной деятельности. Иван Дионисьевич, таким образом, естественно, не мог настаивать на своем предложении. Но поездка в Старый Оскол неожиданным образом решила для Михаила Ивановича бесповоротно существенный вопрос жизни, который не разрешил бы он наверное даже и после года размышлений.
Ко времени приезда Михаила Ивановича в Старый Оскол на ярмарку там уже образовалась из купеческих сыновей целая компания сверстников Михаила Ивановича, которые сговорились вместе все ехать на Восток для поклонения святыням, а некоторые из них даже прямо с целью поступить на Афоне в монашество. Компания эта предложила ехать с ними заодно, чтобы веселее было, и молодому Сушкину, который, однако, отказался на первый раз недосугами, или, как говорится в дневнике, «замешками». Но после, поразмыслив наедине дома, Михаил Иванович порешил, что этого удобного случая и прекрасной компании не следует упускать для поездки на Восток, где бывать втайне он желал давно. Под влиянием такого решения он перед выездом из Старого Оскола в Воронеж написал письмо отцу, прося его благословения на это путешествие. В первом письме на просьбу сына, Иван Дионисьевич ответил прямым отказом, но вторым письмом приглашал сына возвратиться в Тулу. После окончания ярмарки в Воронеже Михаил Иванович отправился к родителям в Тулу и на третий день, по приезде домой, начал вести речь с отцом по поводу задуманного им путешествия на Восток. Разговор между отцом и сыном длился не долго, так как Иван Дионисьевич уже был убежден на согласие своей супругою Феодосьей Петровною, которая, после первого письма сына еще из Старого Оскола, приняла самое живое участие в судьбе своего любимца и стала действовать в его интересах, вполне сочувствуя желанию сына и ожидая, бесспорно, благих результатов от этой поездки в смысле осуществления своей заветной мечты. Иван Дионисьевич указал на неудобство и ущерб в делах торговых, на трудность и дальность пути, на разного рода лишения и возможные опасности в пути и т. п. и закончил свою речь восклицанием: «Трудно, смотри!». Сын еще более усилил свою просьбу, и согласие дано было, но с условием, чтобы он не оставался на Афоне, а возвращался бы домой непременно. Михаил Иванович ответил на предостережение отца уверением, что он исполнит его совет и почтет для себя долгом выполнить настоящее условие…
Дело относительно поездки на Восток уладилось так легко и скоро, как и не ожидал Михаил Иванович, предполагавший встретить в лице отца упорного и сильного противника своему намерению. Под впечатлением этого полученного разрешения и предстоящего «вояжа во святые места», которого он «пламенно желал» и о котором он мечтал с самого раннего детства, сердце его переполнилось радостью, и он, можно сказать, был на верху счастья. С 12 числа июня он начал деятельно приготовляться к предстоящему далекому и трудному путешествию, «не имея, – как он выражается в своем дневнике, – ни скуки, ни скорби, по особой теплоте к отправке как будто в обыкновенное место». Начались хлопоты по выправке паспортов, – как для самого Михаила Ивановича, так и для Евграфа, «любимого его слуги», которого к величайшей радости отпустил вместе с ним Иван Дионисьевич в качестве дядьки и слуги на дороге, приняв на себя расходы по путешествию и назначив двойной оклад против получавшегося им жалованья на службе в роли приказчика, – для его жены, оставшейся в Туле.
Упомянутый Евграф сначала служил у Сушкиных в качестве щетинщика. В 1846 году Михаил Иванович, отправляясь, после смерти дедушки, в Моршу, взял этого Евграфа за кучера и здесь с ним несколько познакомился. В 1847 году в той же роли Евграф ездил с Михаилом Ивановичем и его матерью в Киев на богомолье, а оттуда в Ромны, где Евграф, как «умеющий писать», по поручению Михаила Ивановича «писал накладные» и тем еще более приблизился к нему. В Тамбове Евграф начал вести себя дурно и «лениться» в исполнении возлагавшихся на него поручений, так что Михаил Иванович «хотел его прогнать». «Но мне, – замечается в дневнике, – было жаль его, ибо я любил его, сам не понимая отчего. Он «справился, вел себя чудесно и исправлял уже должность подручного приказчика». В 1850 году, именно незадолго до путешествия на Восток, Евграф сопутствовал в поездке в Коренную пустынь дяде Михаила Ивановича Иосифу Дионисьевичу, который потом хвалил его племяннику за то, что он «во все время показал себя как [в] поведении, так и [в] деятельности хорошим». «Я был рад, – замечает не без удовольствия по этому поводу о. Макарий, – что посеянные мною плоды возросли». Этому-то Евграфу и сдавал Иван Дионисьевич теперь своего сына на руки с наказом, чтобы он слушался его во всем, оберегал бы его, как зеницу ока, и без него не возвращался бы назад домой в Тулу. Давая же в спутники сыну «любимого» им человека, он желал, между прочим, оказать ему благоволение за его труды по торговле, а также избавлял его от возможных случайностей в предстоящем трудном и далеком пути.
День 30 июля, назначенный для отъезда из дома Михаила Ивановича, был не за горами. В хлопотах и суете никто не замечал, как летели последние дни пребывания его под родительским кровом. Сам Михаил Иванович дни проводил в приготовлениях к поездке, а «целые ночи просиживал» с жившей в доме Сушкиных экономкой Анною Васильевною, «говоря более о духовном и мечтая о будущности». Странное нечто происходило в душе Михаила Ивановича в это время. Чем ближе подходило время выезда из родительского дома на Восток, тем заметнее для него терялось и ослабевало то «пламенное желание», каким горело его сердце до получения на него согласия Ивана Дионисьевича. Среди всеобщего внимания, каким его окружили в доме все родные в последние дни его пребывания под родительским кровом, Михаила Ивановича «все привлекало в доме», все ему было мило, дорого, со всем этим ему расставаться было тяжело. Невольно его мысли переносились туда, на Восток, в страну далекую и незнакомую, где не было у него ни единого знакомого лица, где все – чужие для него люди и он для всех чужой; в страну, где все иное, не похожее на то, что он привык видеть около себя каждый день: иной климат, иной образ жизни, иные нравы и обычаи и т. п. Страх пред всем этим неизвестным для него сжимал сердце и парализовал его прежнее «пламенное желание» сомнением. «Могу ли в самом деле я вынести все то? Что меня встретит на чужой стороне?» – спрашивал невольно себя Михаил Иванович и не мог дать положительного ответа на волновавшие его вопросы. В продолжение сего времени приходили такие минуты, что если бы батюшка предложил остаться, – говорит Михаил Иванович в дневнике, – я бы остался. Такое было искушение – сам не понимаю от чего». Но Иван Дионисьевич привык решать всякое дело подумавши и один раз навсегда. Ему уже и в голову не приходила мысль переспрашивать сына о желании или нежелании его ехать на Восток, а сын боялся поведать отцу целый ряд своих сомнений и страхов, волновавших его в данное время, хорошо зная, что уже в другой раз от отца не так легко получить согласие на поездку. Поэтому сомнения и страхи были делом внутреннего состояния души Михаила Ивановича, а на лице в доме шли обычным чередом самые живые приготовления к задуманной и уже решенной поездке.
Накануне выезда из Тулы, т. е. 29 июля, Михаил Иванович отстоял всенощное бдение, а в самый день отъезда – литургию, молебен о путешествующих и пошел «попросить благословения» у Богоматери пред ее иконою, именуемой «Боголюбской», которая особенным образом чтится в Туле. Горячая молитва подкрепила молодого путешественника и прежнее тревожное состояние духа уступило место снова его «пламенному желанию». Воротившись домой спокойным, счастливым и веселым, он не смутился, когда увидел, что на всех окружающих видна была печаль по поводу предстоящей разлуки. Когда приблизился момент «последнего целования» и родители приступили с «образом Спасителя в вызолоченном окладе», чтобы благословить своего сына, все родные громко рыдали, оставался невозмутимо спокоен лишь один Михаил Иванович. «Не знаю, что со мною делалось, – пишет он в дневнике, – я точно ехал на дачу за 20 верст, не выронив слезы, тогда как все плакали». В пять часов поезд тронулся из города. Отец, мать, дяда Кондратий Дионисьевич с женою, брат Иван Иванович с женою и много других родственников поехали провожать путешественника. За заставой Михаил Иванович простился с отцом, «выронив несколько слез» с обеих сторон. Здесь же простились и некоторые родные, но мать и брат с женою и двоюродною сестрою Мариею Кондратьевною провожали до Дедилова. Здесь произошло трогательное расставание между сыном и матерью. Мать и сестра рыдали, прощаясь с Михаилом Ивановичем, но и последний не был в состоянии сдерживать душивших его слез и в свою очередь плакал горько. Усадивши мать его в карету, он «несколько раз возвращался, чтобы их поцеловать и сказать «прости», Бог весть, на сколько времени!» Между братьями, жившими весьма «ладно» с детства до последнего времени, расставание было довольно холодное. «С братом мы прощались, – говорится в дневнике, – холодно. Не знаю, что это значило: или по вражьему завистливому оку, или чрез людей, он ко мне вовсе изменился; в последнее время даже мало говорили, но видно так Богу угодно. Я не мало об этом скорбел, даже плакал». В два часа пополуночи родные «покатили по дороге в Тулу», а Михаил Иванович поехал на Богородицк.
Глава III Путешествие по Востоку с паломнической целью
Целый день после описанной ночи Михаил Иванович плакал и скорбел. Трогательное прощание с матерью, к которой он привязался всеми силами своей души, холодный поцелуй брата и сердечное «прости» родных не выходило из его головы. Теперь, чем дальше от него с каждым часом удалялись родные дорогие ему лица, тем они ему казались дороже и милее. Предчувствие как бы ему подсказывало, что он их уже не увидит больше в этой жизни, и слезы не высыхали на его глазах. От настоящего мысль летела в страну новую, ему неведомую, и невольно сердце его сжималось от страха за будущее, где, увы, он не встретит никого из тех, кто мил и дорог ему, с кем доселе он делил и горе и радости своей двадцатидевятилетней жизни. Быстро промелькнули в его голове воспоминания детства со всеми мелкими шалостями и проступками, его первые годы жизни на коммерческом поприще – во всем этом периоде мало интересного и достойного того, чтобы можно было остановиться мыслию с приятностью на каком-нибудь факте. Но вот его мысль перебирает в прошлом его вступление в общество, его успехи в нем, когда Михаил Иванович стал настоящим молодым человеком, ухаживания за барышнями-красавицами, и эти воспоминания волной нахлынули к нему, овладели всем его молодым существом, полным страсти и огня, и подняли в его душе целую бурю страстных пожеланий, от которых он никак не мог освободиться. «Тут, по несчастию, до того овладела мною страсть и помыслы блудные, – замечает в дневнике о. Макарий, – что я просто страдал. Кажется, все мои бывшие интриги[18] живо представились моему воображению». Овладели молодым человеком тоска и упадок духа настолько, что все усилия победить свои страсти не увенчались успехом. Чтение душеспасительных книг было бессильно против страстных помыслов, которые не только не покидали молодого человека, но росли с неимоверною силою и делали дальнейшую борьбу со страстностью почти невозможной. «В Ромнах до того возросла во мне страсть, что я, – пишет о. Макарий, – кажется, рад бы был удовлетворить, но Евграф заметил мое смущение и часто говорил дерзкие слова, говорил и от Священного Писания. Мне стало легче, но все не проходило».
На пути в Киев, который был первым главным пунктом остановки в его паломнической поездке, он не преминул заехать в Коренную пустынь[19], чтобы помолиться Царице Небесной. В Киев Михаил Иванович прибыл 12 числа августа и остановился в лаврской гостинице, где, однако, по случаю предстоящего праздника, было такое большое стечение народа, что ему едва удалось найти комнату для приюта. Здесь же он встретился с 16 молодыми паломниками из Старого Оскола, несколькими днями раньше его прибывшими в Киев. Комнату для временного помещения нашел Михаилу Ивановичу екклесиарх Мелетий Антимонов.
Все церемониальные службы под праздник Успения в дневнике описываются обстоятельно и произвели на молодого паломника глубокое впечатление, но особенно умилительными показались ему два момента. «При церковной церемонии, многочисленности народа, ничего нет умилительнее, – пишет он о первом из них, – когда начинается 17 кафизма. Будто [бы] Сама Царица Небес снисходит с неба присутствовать с нами, грешными: тихо, тихо опускают святую икону и останавливается на средине царских врат». «Митрополита среди темноты провождали со свещами, – говорится там же о другом моменте. – Как умилительно в глухую полночь митрополит, при освещении свещь, шествует в свой покой после семичасового бдения!».
Прожил Михаил Иванович в Киеве до 24 числа августа, и за это время он успел сделать все, что необходимо было для благочестивого паломника: осмотрел все киевские святыни и помолился им, два раза приобщался Святых Таин, причем однажды «мерзкий и грешный он сподобился принять Их от рук митрополита Филарета, от которого потом получил и благословение на дорогу, исповедывался в Голосеве[20] у схимонаха Парфения[21], «человека решительно живущего за гробом», который говорил Михаилу Ивановичу на прощание, что он «не останется на Афоне и вернется назад домой», и виделся с наместником лавры архимандритом Лаврентием, «ангелоподобным человеком», который благословил его образом Споручницы, дал несколько практических наставлений и снабдил его рекомендательным письмом в Иерусалим к иеромонаху Феофану[22].
1 сентября Михаил Иванович прибыл в Одессу, чтобы выхлопотать здесь заграничный паспорт и отсюда на пароходе ехать в Палестину. Но сверх ожидания ему пришлось прожить в этом городе гораздо дольше, чем он предполагал. Так как, по принятому правилу, в ту пору заграничный паспорт выхлопатывался для каждого отдельно из Петербурга, то сначала ушло много времени на эти хлопоты, а после оказалось, что спутнику Михаила Ивановича Евграфу разрешение на выезд не последовало, потому что в списке желающих выехать за границу имя его было пропущено. Ввиду сего Михаил Иванович с частной квартиры переехал на общую и устроился вместе с прочими 15 спутниками старооскольцами, направлявшимися на Афон.
После осмотра некоторых достопримечательностей города, как то: кафедрального собора, важнейших церквей и монастырей, а также «Панорамы и Музеума, где хранятся древности», странноприимного дома[23], больницы от комитета нищих, кладбищ и т. п., молодые паломники начали вести образ жизни скромный и приличный тому званию, которое приняли они на себя добровольно. В воскресенье, среду и пятницу они неопустительно ходили ко всем церковным службам, а в остальные дни утром и вечером вычитывали обычные молитвы, по кафизме из Псалтири и по одному или по два акафиста. Весьма нередко путники накладывали на себя добровольный пост и приобщались Святых Таин. Совесть и помыслы каждого не составляли тайны для прочих, так как «клятвенно решились друг другу все открывать». Проступки против благоповедения наказывались поклонами.
Свободное время от духовных упражнений паломники проводили в поездках к фонтану, в прогулках по бульвару и на берегу бушующего моря, близ которого они особенно часто любили бродить, «мечтая о всем и за всех, вспоминая прошедшее» и простираясь мысленно к ожидаемому грозному будущему. «Так то придется и нам колыхаться среди моря!» – говорили про себя паломники, вперяя свой взор в бушующую водную стихию, среди которой то появлялось, то скрывалось какое-нибудь огромное судно. Подобные прогулки производили на наших паломников сильное впечатление.
Но между путниками далеко не все были такой высокой религиозной настроенности, какой был проникнут будущий игумен русского Пантелеимоновского монастыря и некоторые другие из его спутников. Между последними были люди, не только не чувствовавшие никакой склонности к подвигам воздержания, непрестанной молитве и к скромной келлейной жизни, но прямо любившие пожить на широкую ногу, предаться удовольствиям, которые были доступны их возрасту, средствам и воспитанию, а посему естественно не легко выносившие и мирившиеся с тем режимом, который установился в товарищеской квартире, благодаря влиянию весьма немногих, из коих первое место принадлежало Михаилу Ивановичу. Неудивительно поэтому, что со стороны этого рода паломников были нарушения и дисциплины, целомудрия[24], супружеской верности и даже резкие протесты против первенствующего значения тех или иных лиц в товариществе. Откровенный дневник дает нам несколько подобных примеров, но мы остановимся лишь на выдающихся.
«28 [ноября] утром, – читаем мы в дневнике о. Макария, – вставши обыкновенно, [так] как не было в церкви службы, мы начали в квартире (т. е. утреннее правило). И между прочим я обращаюсь к певчим, говоря: «пойте ирмос». Они говорят вдруг: «Долго ли будут эти прибавления к молитве? что вы за уставщик и почему вы признаете себя первенствующим лицом у нас?». Это меня оскорбило, ибо это говорит посторонний, а г. С-цов[25] в последнее время вел себя в слабом состоянии и потому завелись такие непорядки, и целый день мы были в неприятности. Через несколько дней после описанного события, а именно 7 декабря в товариществе произошел разлад с хозяином квартиры, и наши паломники вынуждены были переселиться на другую квартиру. Устроиться удобно всем на новой квартире, однако, не удалось. Один из наших сотоварищей, пишет о. Макарий, сердился, что он не имеет комнаты. Я заметил это, отдал ему комнату, сам поместился с ними (т. е. остальными). Правило читали обыкновенное, как и прежде, но хотели, чтобы непременно все были на молитве. Поговоря о сем, мы легли спать». «5 числа (того же месяца), – говорится в дневнике, – мы провели день обыкновенно. Вечером нужно было читать акафисты, но никто не явился; все ушли. Мы послали в одно место одного из наших товарищей». «28 числа (того же месяца на святках), мы стали между собою говорить, что мы очень дурно делаем, но никто не слушал, а начали ходить по гостям и на молитву не являлись».
Эти выдержки из дневника весьма наглядно иллюстрируют нашу мысль и в то же время дают нам ясное понятие о том, чем жил Михаил Иванович в эти годы своей зрелости и какую роль он играл в случайной товарищеской компании. Ему бесспорно принадлежала первенствующая роль в товариществе не потому, что эту роль ему указали остальные его товарищи, а потому что и симпатичным характером, и своими высокоаскетическими наклонностями и знанием строя монашеской жизни, конечно, более теоретически он превосходил всех остальных. Его нравственному влиянию невольно подчинялись остальные более благомыслящие. Если же и были иногда протесты со стороны некоторых, то Михаил Иванович успевал улаживать дела кротостью, снисхождением, уступками и даже личным самоограничением в пользу своих товарищей. Посему и недовольные протестанты в конце концов усмирялись и признавали невольно его авторитет. Все последующие распоряжения, выходившие не без инициативы Михаила Ивановича, принимались остальными и не нарушили до конца их одесской жизни добрых товарищеских отношений. Пятимесячное пребывание в Одессе Михаила Ивановича было для него пробным камнем, на котором отшлифовались высокосимпатичные черты характера будущего подвижника, игумена многолюдной Пантелеимоновской афонской обители, какую провидению угодно было вверить его духовному водительству.
Нельзя не остановить внимания на весьма любопытном факте из жизни Михаила Ивановича во время его пребывания в Одессе, пред выездом за границу, который отмечен тоже в дневнике. Кроме заведения общих утренних и вечерних молитв в товарищеской квартире и установления некоторых правил благоповедения, Михаил Иванович проявил прямое стремление создать из этого кружка своихспутников настоящий общежительный монастырь. «11 числа (декабря месяца) мы, – пишет о. Макарий в дневнике, – собрались все вместе и поговорили, соединившись, чтобы кушанье было вообще; определили на оное 280 руб. и положили правило, чтобы во время трапезы читать и на молитву являлись вообще. Кассиром был я, а Евграф покупал». Этот порядок жизни продержался до конца их пребывания в Одессе, хотя по временам и нарушался некоторыми неприятностями, потому что не всякие требования товарищества удовлетворялись Михаилом Ивановичем. «20 числа мы были у обедни, – замечается в дневнике, – и после обеда товарищи просили, чтобы я купил им вина к празднику, но я не согласился». Отказ, однако, не удовлетворил недовольных и в самый праздник Рождества Христова разыгралась за товарищеской трапезой некрасивая сцена. «25 числа мы пошли рано на утреню, – пишет Михаил Иванович в дневнике. – Певчие пели как на повечерии, так и на утрени очень хорошо. У ранней обедни не были. К поздней пришли и пели очень хорошо. Пришедши и напившись чаю, мы хотели идти к Новикову, но никто не согласился. Я взял Евграфа и поехал. Приехавши туда, он принял ласково. Я закусил и поехал в квартиру. Приезжаю и, Боже мой! Они все навеселе. Я позвал обедать и стал читать. Они, кто во что горазд, и тут пошла катавасия: один другого не слушал. Итак, скучно мы провели день праздника…».
В последние дни одесской жизни Михаила Ивановича было еще одно событие, о котором в дневнике упоминается мельком, но которое, бесспорно, имело громадное значение на дальнейшую судьбу его и едва ли не здесь еще решило его будущность. Я разумею знакомство его с известным святогорцем иеромонахом Серафимом, автором восторженно-поэтических «писем к друзьям своим о Святой Горе Афонской», которые обратили на себя внимание критики и современников и доселе пока служат единственно прекрасным руководством и путеводителем для благочестивых религиозно-настроенных поклонников к их ознакомлению с бытом и строем святогорской жизни и достопримечательностями Афона. Святогорец Серафим был в это время наверху своей литературной славы. Издав в Петербурге, где он прожил около года, первую часть своих «Писем», он был польщен лестным для него вниманием вожака тогдашней литературно-журнальной деятельности Булгарина, который дал прекрасный отзыв[26] об этом труде Святогорца, и успел снискать благоволение таких светил архипастырей наших, как Филарета Московского[27], Иннокентия Одесского, Никанора Петербургского и других. В Москве, в Петербурге и других городах имя Святогорца сделалось хорошо известным, и о. Серафима везде встречали с распростертыми объятиями, как дорогого и желанного гостя[28]. В Одессу о. Серафим прибыл 10 января 1851 года по пути в Афон, где в 1853 году 17 декабря он и окончил дни своей жизни. Его приезду «были рады» все юные паломники, жаждавшие из живых красноречивых уст слышать вдохновенное слово о цели своих юношеских благочестивых стремлений, но более всех, конечно, свидания с о. Серафимом желал Михаил Иванович. Он в тот же день, как узнал о приезде о. Серафима, «ходил к нему и беседовал с ним долго». О чем была беседа этого молодого энтузиаста с опытным и бывалым старцем, догадаться не трудно. Можно с уверенностью сказать, что о. Серафим имел перед собою самого внимательного слушателя, ухо которого не проронило ни единого слова увлекательного старца. Михаил Иванович полюбил о. Серафима всею своею душою, привязался к нему и почти ежедневно, как это видно из дневника, бывал у него на беседах, иногда даже и с прочими своими спутниками. О. Серафим в свою очередь тоже полюбил своих молодых слушателей и дал о них весьма лестный отзыв в одном из своих писем[29] со Святой Горы.
3 января, наконец, было получено разрешение на выезд за границу. Михаил Иванович и его спутники занялись сборами и приготовлением к путешествию. Сборы шли медленно, так как торопливость была излишня ввиду того обстоятельства, что карантинная гавань, покрытая льдом, очистилась от него 22 января. 23 января были упакованы вещи, сделаны все необходимые распоряжения, отслужен в церкви Петра и Павла напутственный молебен, написаны и отправлены письма к родным, причем Михаил Иванович в письмо к родителям[30] вложил и свой дагерротипный портрет, который он сам называет «удачным»[31]. Около четырех часов пополудни все путешественники вступили на палубу морского парохода. Час разлуки с родителями, с родиною для путников, впервые намеревающихся плыть по морю, был тяжел и сопровождался возгласами: «Прости, Россия! Прости, родина святая, родители и родные!», «Быть может уже судьба не столкнет с вами!» Для многих из спутников эти возгласы были пророческими.
Дорога до Константинополя была тяжелая для Михаила Ивановича и его спутников. Пароход долго выбивался из льда, загромоздившего гавань, а когда вышел в открытое море, то попал в страшную бурю, причинившую неопытным путешественникам невыносимо тяжелые страдания, посреди которых они готовились к смерти и давали обещания, взывая ко всем святым о помощи. Но как только пароход вошел в Константинопольский пролив и опасность смерти миновала, то в путниках снова воскресли надежды благополучно достигнуть желанного конца, и они с жадностью упивались прелестями и очаровательными видами пролива и самого Константинополя, вперив свой взор в шпицы минаретов Св. Софии. Действительность и знакомство с внутренностью города несколько разочаровало наших паломников в его прелестях, но душа молодых энтузиастов была переполнена сильным желанием видеть святыни этого многострадального города, чтобы им поклониться и в достаточной мере насладиться их личным созерцанием. В новом семихолмном Риме поэтому не осталось ни одной, можно сказать, пяди земли, которую бы они не исходили своими ногами, не было ни одного более или менее замечательного в религиозном или археологическом отношении здания, которое бы они не осмотрели, в котором бы они не побывали и нередко даже по два раза.
О святынях паломники собирали подробные сведения, как из письменных источников, так едва ли не более из устных рассказов простодушных проводников – афонских иноков. Дневник пребывания Михаила Ивановича в Константинополе переполнен подобного рода легендами и устными рассказами, из которых некоторые ныне паломники и не слышат и не могут прочесть в путеводителях по Цареграду. Все эти легенды в большинстве случаев Михаил Иванович, без всяких со своей стороны замечаний, заносит в свой дневник. Изредка лишь он задает себе вопросы, на которые тут же дает и посильные решения на них. Рассказывая, например, о своем путешествии на Мучной базар, Михаил Иванович пишет следующее: «Там пошли внутрь крепости на источник, где явилась икона Благовещения, св. Николая и св. Василия Великого, но действительная икона уже затеряна. Здесь служили молебен. И еще там же, должно быть, кто-либо бросил или опустил икону на меди св. Николая и Богоматери, только она русской выделки. Оттуда поехали в мечеть, Агимасар (?), где гроб св. Василия и о. … (т. е. проводник не знал, кто был этот Василий), но я полагаю, что новый Василий, у которого жила Феодора, явившаяся Григорию, ученику св. Василия, ибо и ученик погребен тут же, но только не внутри мечети, а снаружи. И место в крепости, где жил Василий. Посмотревши, заплатили бакшиш или магарыч. Нас турки спрашивали: „Зачем вы смотрите эти места и платите деньги?“. Мы отвечали: „Это для нас воспоминание древних святых мужей священных“… Оттуда (т. е. из церкви Целительницы Божией Матери) пошли ко гробу несчастного Константина Палеолога[32]. Бедный палисад и два стоячих камня с турецкою надписью. Грустно развевается над ним кипарис, уже почти увядший. Место почти застроено. Грустно видеть обладателя города и народа, так смиренно покоившегося. По другую сторону [покоится] араб, который убил его. Могила его завалена камнями… Оттуда (из Патриархии) пошли в Иерусалимскую Патриархию, где будто бы находился св. образ Убруса, присланный Спасителем Авгарю, но требует удостоверения, хотя архиерей и клятву дал. За верное не выдаю, но чудное изображение и жив… Оттуда (т. е. из пещеры св. Андрея Юродивого) поехали к цепи Соломоновой, которая находится на кипарисном дереве, пред которым будто бы во времена еще греческие она была как бы судьею, именно: если кто-либо возьмет деньги и отдаст, но чрез время заимодавец или отдатчик скажет: „ты мне не отдал“ или наоборот, не отдавая, скажет: „отдал“, тогда оба идут к этой цепи, и если кто прав, тому цепь, по прочтении молитвы, какой – уже мне не передали, – сходит в руки правому и тогда обличенный пред народом обвиняется. Однажды один паломник, проходя в Иерусалим и имевши много денег, опасаясь взять с собою, находит небогатого человека и говорит: „Если я возвращусь, то тебе дам за труды, а между тем, ты пользуйся деньгами, а умру, то [пусть] остаются у тебя. Поклонник возвратился и требует деньги, он отвечает: „Чрез несколько времени приходи“. Поклонник приходит. Он говорит: „А разве ты забыл, что я тебе отдал в первый раз твоего прихода“. Наконец, сколько ни убеждал поклонник оного человека, ничто не уверило, решили на том, что идти к этой цепи. Приходят. Взявший деньги убирает всю монету в палку или трость, и когда приходят, [то] он отдает трость поклоннику, говорит: „Подержи!“. И когда тот держал, а этот читал молитву, что клялся, что он отдал деньги, цепь сошла к нему в руки, то поклонник ужаснулся неправде и похулил имя Божие, не зная, что палка, отданная ему, есть сумма, взятая у него и которую [т. е. палку], по окончании клятвы, он отдал опять тому человеку. В то самое время цепь, взвившись с визгом на вершину дерева, раскидалась по ветвям и дерево в то же время засохло, а взявший деньги тут же раскаялся». Иногда Михаил Иванович потому не дает объяснений описываемым им грустным событиям и явлениям, его поражавшим, что, по его воззрению, «смертный не должен входить в подобное», т. е. в рассмотрение всех причин, кои все находятся в воле Божией.
Описывая достопримечательности и святыни Константинополя, Михаил Иванович отмечает в своем дневнике особенности церковно-богослужебной практики, облачений, устройства и украшения храмов, как в приходских греческих церквях, так и в Патриархии. С особенным вниманием он останавливается на поразительном для русского человека неблагочинии и непорядках при церковном богослужении, как со стороны священнослужителей, так и мирян, и притом когда священнодействует сам архиерей. «28 число (января). Утро, воскресенье. Мы были в церкви св. Николая (в Галате), – читаем мы в дневнике, – во время службы греков. Служил архиерей, но на эту службу должно смотреть с грустью на душе. Представьте себе: после благословения Божия, где даже вольные умы поддаются общему обряду, здесь, взойдя в церковь, вы увидите в шляпах, фесках (феска – красный шерстяной колпак с кисточкой). Я пробрался к царским вратам, где усмотрел плачевное состояние упадка в православной религии. Архиерей служил, но служащие ни благоговения, ни почтения никакого не имели, обыкновенным образом разговаривая, не опасаясь. Архиерей, вышедши на заупокойную литию и севши в кресло, удивил меня своим вольным обращением взора во все стороны. Прислуживающие и сослужащие что нужно говорили между собою, нисколько не остерегаясь своего начальника…»
На описание достопримечательностей города светского характера Михаил Иванович уделяет немного места в своем дневнике, хотя не оставляет без внимания ни одного из них. В дневнике об этого рода памятниках и достопримечательностях имеются иногда лишь одни простые упоминания, так как описания их не входили в прямые цели паломника.
8 февраля Михаил Иванович, покинув своих старооскольских спутников, направлявшихся прямо на Афон, в Константинополе, вместе с Евграфом сели на английский пароход и, при легкой погоде, отправились в путь, чтобы посетить святые места Палестины, Египта и Аравии. Путешествие это было скучным, так как Михаил Иванович не знал английского языка, а его спутниками были турки, греки и армяне, говорившие на еще менее понятном языке. Из русских на пароходе оказалась лишь одна женщина. Как окончилось это великое плавание, какие труды и лишения перенес Михаил Иванович на других более тяжелых путях, как, например, к Синаю[33], какие думы, мысли и чувства волновали его при посещении им желанных мест, освященных стопами Господа и Его учеников, что видел и что слышал он за это почти полуторагодичное далекое путешествие – обо всем этом достоверных документальных данных нет. Обстоятельный и во многих отношениях интересный дневник Михаила Ивановича, которым мы доселе пользовались для характеристики его, обрывается выездом из Константинополя и, кажется, нет никаких надежд, чтобы продолжение его было когда-нибудь отыскано. По свидетельству лиц весьма почтенных из монастырской братии, дневник этот был уничтожен пламенем во время пожара, бывшего в Пантелеимоновском монастыре в 1887 году, в августе месяце.
Наши старания отыскать письма Михаила Ивановича к родителям или родственникам за время его путешествия по Востоку не увенчались успехом: мы не имеем за это время даже ни единой записки, писанной с Востока рукою путешественника. Вот почему здесь нам приходится оживить в своей памяти полузабытые воспоминания об этом путешествии самого покойника о. Макария, рассказывавшего нам кое-что пред нашею поездкою на Восток к нашему назиданию и одобрению – это с одной стороны, а с другой – довериться словам его спутника, еще доселе здравствующего на Афоне о. Пахомия, который в сане иеромонаха, по договорному соглашению, скрепленному письменно, за известное вознаграждение, как знаток многих восточных языков и бывалый человек, обязался сопровождать молодого Сушкина на Синай и в Египет.
По всем этого рода данным, а также судя по увлекающемуся характеру, живому темпераменту и высокому религиозному воодушевлению и настроенности путешествие в Палестину и другие места православного востока производит на душу молодого Сушкина чарующее глубокое впечатление. Его восхищениям и восторгам не было предела, так как мечта его детства осуществилась; эти для всякого верующего человека драгоценные места, политые кровью и потом Божественного Учителя и Его учеников, он теперь видел своими глазами, дышал их воздухом, согревался их солнцем, попирал своими грешными ногами их священный прах. Каждый камешек для него был святынею, каждая былинка, всякий кустик чахлого деревца – предмет восхищения и обожания, и с этими дорогими для него предметами он не мог расстаться равнодушно. Его паломнические сумки, кипарисные сундуки незаметно для него самого переполнялись подобного рода палестинскими реликвиями, которые имели назначение, во-первых, видом своим возбуждать в нем самом священные восторги и переносить его мысль к этим святым местам, а с другой – служить дорогим подарком для тех присных его сердцу, которых он покинул далеко на своей родине[34]. Этими восторгами бесспорно был переполнен его, к глубокому сожалению, несохранившийся дневник; ими он делился и в письмах к родным. По словам Ивана Ивановича, любимейшего брата о. Макария, его первое письмо из Иерусалима начиналось таким знаменательным восклицанием: «Наконец-то осуществилась мечта моего детства, лелеянная с тринадцатилетнего моего возраста!».
Нечего и прибавлять, что в Палестине, на Синае, как и в других местах Востока, как и в Константинополе, не было ни одного более или менее замечательного места, которое бы Михаил Иванович не видел своими глазами. Начитанный с детства, он желал оживить теперь в своей памяти те воспоминания и впечатления, какие он вынес из книг, и личным обозрением святых мест и предметов навсегда запечатлеть о них воспоминания. Поэтому-то он совершал свои переезды с места на место медленно, не торопясь, с остановками на такое время, которое обычаем и не полагается для простых паломников. Так, например, Михаил Иванович прожил в Синайском монастыре более месяца, тогда как, по установившемуся обычаю, простые поклонники живут в нем не более восьми дней. Препятствий и ограничений ему не только здесь, но и в других святых местах Палестины и Египта не делали высшие представители духовной иерархии, конечно, в тех видах, что надеялись от богатого паломника, в благодарность за свое гостеприимство и предупредительность, получить щедрый вклад на нужды святых мест, вверенных их попечению. И действительно, Михаил Иванович не скупился на вклады, за что восточными Патриархами был наделен не только высокоценными для поклонника предметами, в виде частиц от животворящего древа Господня[35], обыкновенно не попадающими в руки простых поклонников, но еще неоднократно был приглашаем ими на трапезу.
На основании простодушных рассказов духовника о. Пахомия[36], весьма критически относившегося к личности о. Макария в светском звании, мы можем отметить и другую сторону личной духовной жизни Михаила Ивановича в период его путешествия по Востоку. Вечерние и утренние общие молитвы, с чтением многих акафистов, заведенные Михаилом Ивановичем в товарищеской квартире в Одессе, не только не были им оставлены, а напротив, все более и более усложнялись введением новых и новых акафистов или молитв, когда его товарищами были только о. Пахомий и дворовый человек Евграф. Не нравились эти продолжительные общие молитвы товарищам Михаила Ивановича в Одессе, не пришлись они по душе и его синайским спутникам, не только легкомысленному Евграфу, но даже самому о. Пахомию. «Сначала перебрался в другую комнату Евграф, а потом и я стал просить отцов, чтобы мне дали отдельную келлию, так как не было сил вычитывать все его акафисты и исполнять налагаемые им каноны», – прибавлял добродушно о. Пахомий, не замечая сам, что он дает в руки его биографу весьма любопытную черту для характеристики своего спутника. Посещение храма Божия было неопустительное и каждодневное, по правилу Михаила Ивановича. На Синае, по просьбе Михаила Ивановича и с разрешения старцев, о. Пахомий совершал ежедневно литургию на славянском языке в церквице Неопалимой Купины; где, по принятому на Синае порядку, служится литургия только один раз в неделю по субботам. За этой литургией Михаил Иванович исполнял роль чтеца и певца.
Суровая жизнь немногочисленных отцов Синайской обители, отдаленнейшей от цивилизованных центров, производила на Михаила Ивановича глубокое впечатление. Заброшенные в дикую каменистую пустыню, сдавленные величавыми исполинами окружающих гранитных гор, иноки Синайской обители ведут суровый аскетический образ жизни, исполненный нередко лишений в самом насущном: убого одеваются, стол имеют зачастую из хлеба и разного рода злаков, возделываемых с изумительною энергиею в небольшом садике близ монастыря, и делят все свое время между тяжелым трудом и молитвою в храме. Особого рода аскетические подвиги, как например, ношение вериг на теле и лишение себя необходимой одежды для прикрытия своей наготы и т. п., производили и прежде на Михаила Ивановича сильное впечатление, а теперь, благодаря высокорелигиозной настроенности, обаяние от подобного рода подвигов было положительно неотразимое. Наблюдая простоту в костюме синайских иноков вообще, а в некоторых случаях даже полное лишение его, как например, в лице синайского монаха, который по временам или не надевал никакой одежды, или же рвал имевшуюся на нем одежду и в монастыре и в пустыне ходил нагой, Михаил Иванович стал задумываться над своей страстью к щегольству. Под влиянием этих дум он переменил свой франтовской костюм на простой нанковый халат, сшитый ему искусной рукой вышеназванного подвижника о. Николая, и в таком виде не постеснялся даже предстать перед нашим консулом в Каире. О. Пахомий рассказывает об о. Макарии такой эпизод. Когда Михаил Иванович вернулся в Каир с Синая, то немедленно отправился к консулу, чтобы получить там сведения о деньгах и письмах, присланных на его имя из России. «Есть письма на имя Сушкина из России?» – робко осведомился скромный Михаил Иванович консула. «Да, есть письма на имя почетного гражданина М. И. Сушкина, а вы кто такие?» – спросил тот в недоумении, вглядываясь в странный костюм незнакомца. «Я почетный гражданин Сушкин», – конфузливо удостоверил свою личность Михаил Иванович. Изумление на лице консула было заключительным актом этой любопытной сцены, причем Михаил Иванович, по словам о. Пахомия, получил из рук консула целый мешочек адресованных на его имя писем.
Не оставлял в это время без внимания Михаил Иванович и других особенностей своего живого и впечатлительного темперамента, а старался и их урегулировать, дать им целесообразное направление и даже прямо боролся с ними. Впечатлительный от природы, он сильно волновался, видя нерасторопность своего слуги Евграфа, и нередко даже бранил его, но затем, когда проходил его гнев, он прощал вину своего любимца и был к нему весьма любезен и снисходителен. Заметив эту черту характера в своем хозяине, Евграф положительно злоупотреблял ею, особенно во время возвращения с Синая. По словам того же о. Пахомия, на остановках, утомленный зноем пустыни и тяжелой ездой на верблюде, Михаил Иванович должен был руками расставлять себе палатку и даже готовить чай, тогда как его Евграф, распластавшись по земле, спал сном праведника, не отказываясь в то же время ни от шатровой тени, ни от живительного стакана чая, который в безводной знойной пустыни является для путешественника истинным благодеянием. «Смешно было смотреть, – говорит о. Пахомий, – на это превращение господина в слугу и слуги в господина». Но Михаил Иванович, поволновавшись несколько, через минуту все забывал и ехал снова как ни в чем не бывало, мирно и спокойно, любя всей душой своего легкомысленного Евграфа[37].
Но все духовно-аскетические упражнения, которым доселе предавался молодой энтузиаст, были плодом его внутренней религиозной настроенности и отчасти его знакомства с аскетическими сочинениями святых отцов, которые он любил читать еще в детстве. Все они вытекали хотя просто и естественно, без всякого внешнего стороннего побуждения, были чисты и искренни, но им предавался Михаил Иванович без соблюдения меры и даже благоразумной постепенности. Вот почем у не на ходил он себе единомышленников ни в Одессе среди своих товарищей, из коих многие потом сделались прекрасными монахами, ни тем более среди своих синайских спутников. Михаил Иванович, сталкиваясь ежедневно с людьми, посвятившими себя аскетизму, который во многом не походил на его представление об этом подвиге, инстинктивно чувствовал потребность найти опытного «старца-учителя», который бы мог указать настоящий истинный путь к аскетизму, идя по которому он бы не изнемогал и не отчаивался в достижении цели, а постепенно, хотя и не без труда, совершенствовался бы и приближался бы к ней. Такого именно опытного старца учителя он и нашел в лице отца Иеронима, духовника русского Пантелеимоновского монастыря, когда прибыл на Афон.
Из А лександрии на Афон Михаил Иванович ехал через Смирну и Солунь на пароходе, а оттуда на Святую Гору сухопутно. В Пантелеимоновский монастырь он прибыл вечером 3 ноября 1851 года и был весьма ласково встречен игуменом – архимандритом Герасимом и духовником Иеронимом, которые уже заранее были извещены о приезде к ним столь дорогого для них паломника.
Глава IV Краткий исторический очерк русского Пантелеимоновского монастыря ко времени пострижения в нем о. Макария
Трудные и тяжелые времена переживала русская Афоно-Пантелеимоновская обитель, когда переступил порог ее порты скромный молодой энтузиаст-паломник, будущий знаменитый ее игумен.
С 1735 года греческий элемент в этой обители взял окончательный перевес над русским, который мало-помалу совершенно был вытеснен из нее[38]. Новые насельники монастыря греки оставили прежний строгий киновиальный образ жизни и учредили идиоритм[39].
Многоначалие, вызываемое самым строем новой монастырской жизни, в виде соборного управления представительными старцами монастыря (проэстосами), которые погодно и по очереди передают свою власть из рук в руки, как в наше время, так и в прошлом столетии не способствовало процветанию монастырей, а вело всегда и ведет ныне к упадку материального благосостояния, строгой монашеской дисциплины, к водворению в них внутренних беспорядков и неустройств, мешавших правильному и мирному развитию обителей. Русская Пантелеимоновская обитель не явила собою счастливого исключения, а пошла обычною дорогою, которая привела ее к обнищанию и полнейшему разорению. В 1803 году афонский Протат[40], принимая во внимание крайне бедственное состояние русского монастыря, которому на Карее[41] не было доверия даже на 20 пиастров (около 1 р. 50 к. сер.), порешил уже было исключить этот монастырь из списка святогорских монастырей, земли, ему принадлежащие, продать для уплаты тяжелых долгов, лежавших на этом монастыре, а оставшийся денежный избыток употребить на общественные нужды прочих афонских монастырей. Но этому тяжелому приговору карейского Протата не суждено было осуществиться. Русский Пантелеимоновский монастырь неожиданно нашел себе заступника и покровителя в лице Вселенского Патриарха Калинника, всегда не сочувствовавшего идиоритмам. Он стал на сторону св. Пантелеимоновского монастыря и старался доказать киноту Святой Горы, что нетактично и неполитично уничтожать русскую обитель в то время, когда Россия своими последними войнами с Турциею приобрела решающее значение на судьбу восточных христиан. Устройство и приведение в надлежащий порядок расстроенных монастырских дел в Руссике было возложено Святейшим Патриархом на благочестивого, уже преклонных лет, но энергичного и опытного старца, иеромонаха Ксенофской обители Савву, который, желая оправдать оказанное ему доверие со стороны Вселенского Патриарха, ревностно принялся было за порученное ему дело и много даже сделал добра обители но, за смертью, не успел довести до конца всех своих благих намерений. Наступившие вслед за тем волнения на Святой Горе, по случаю греческого восстания за свою независимость в 1820–1821 годах, понудили многих мирных святогорцев покинуть свои монастыри и искать приюта за чертою Святой Горы. После заключения мира в 1830 году собравшаяся малочисленная и бедная братия русского Пантелеимоновского монастыря во главе с своим игуменом Герасимом[42], преемником Саввы, по совету мудрого старца иеродиакона Венедикта, решилась пригласить в монастырь русских иноков, чтобы с их помощью устроить обитель.
На этот призыв греков охотно откликнулся известный в ту пору иеромонах Аникита (в миру князь С. А. Шихматов-Ширинский)[43], 9 июня 1835 года прибывший на Святую Афонскую Гору и временно поселившийся в малороссийском Ильинском скиту[44]. Набожный и сердобольный о. Аникита, собрав около себя до 15 «желающих» переселиться в Руссик, по словам о. Парфения, «не знавши, – кто какого свойства и разума», 2 июля того же года отправился с ними пешком в Пантелеимоновский монастырь, неся на руках икону святителя Митрофания Воронежского. В Руссике он был встречен греческою братиею весьма радушно. Русским дали церковь св. Иоанна Предтечи[45]. Сам о. Аникита, согласно данному им обещанию, 4 июля отправился в Солунь, чтобы оттуда ехать в Иерусалим, а русскую братию Пантелеимоновского монастыря поручил ведению духовника Прокопия, человека «хотя и доброго сердцем, как его характеризует о. Серафим Святогорец[46], но неопытного и слабого на то, чтобы удержать свое общество в границах безусловного послушания и подчиненности строгим правилам киновии или общежития». Старцам обители о. Аникита вручил 3 000 левов на довершение готовой вчерне церкви[47] во имя св. Митрофания.
«Русские греков уважать и слушаться не стали, – описывает начавшиеся с отъездом о. Аникиты в Пантелеимоновском монастыре беспорядки инок Парфений, – но всегда стали противоречить, еще к тому же и стращать, что монастырь – наш, русский, а начальник у нас князь; мы вас выгоним. Отчего греки, вся братия смутились… и стали говорить игумену Герасиму и старцу Венедикту, что мы с русскими жить не можем и богатства их не хотим; лучше сухари с водою будем есть, да одни; русские расстроили всю нашу жизнь»[48]. То правда, что русские вели себя в монастыре нетактично, но не без вины по отношению к русским были и греки. «Если я не ошибаюсь в моих замечаниях, – пишет об этом времени наш русский путешественник по Афону В. Давыдов, – то русские монахи терпят в своем монастыре много притеснений, не только в хозяйственном отношении, но и в управлении монастырским имением и даже в церковной службе, которую не дозволяется им отправлять на славянском языке»[49]. Тот же о. Парфений, отнесшийся с суровою критикою к ильинским выходцам, не скрывает, однако, и того, что доля вины за эти беспорядки падает на греков вообще. «Греков русского монастыря, – говорит он, – более побудили на изгнание князя греки прочих монастырей, потому что они предусматривали, что ежели русские вселятся в русский монастырь, то у всех монастырей свою землю отберут, а наипаче, ежели будет жить князь»[50]. Как бы там ни было, но факт налицо, когда о. Аникита 9 мая 1836 г. воротился из Иерусалима на Афон[51] и прибыл в русский Пантелеимоновский монастырь, то сразу же попал в самый разгар расходившихся человеческих страстей: «Русские стали жаловаться на греков, а греки на русских»[52]. «Попущением Божиим свыше, – замечает по этому поводу о. Аникита в своем дневнике, – сатана возбранил делу благому, возмутив старцев монастырских страшиться там, иде же не бе страх, так что, не смотря на обещание свое и на увещание мое, отреклись они совершенно от своих слов и отказались вовсе от устроения в монастыре своем престола во имя великого святителя Митрофана»[53], церковь которого «оставалась без окончания до его возвращения»[54]. Кроткому и миролюбивому о. Аниките ничего не оставалось делать, как покинуть негостеприимный монастырь и искать себе и своей братии приюта опять в малороссийском скиту св. пророка Илии. 8 числа июня месяца, после литургии и молебна угоднику Митрофанию, русские иноки икону его «понесли из монастыря в русский Ильинский скит». На пути, «проезжая мимо, – читаем мы в дневнике о. Аникиты, – древний наш русский монастырь, в котором братия наша, до 30 человек от греческих своих собратий, в том же монастыре иночествовавших, побиени быша, остановился в развалинах сей опустевшей обители и с сопутниками своими, поставив икону св. Митрофана в параклисе Божией Матери, довольно еще уцелевшем, отслужил по усопшим панихиду и потом продолжал путь в скит св. Илии, куда вскоре и прибыл благополучно, и принят был любезно старцами и братией»[55]. Так окончилась полною неудачею первая попытка русских иноков поселиться в своем древнем достоянии в русском Пантелеимоновском монастыре. О. Аникита, получивший назначение, еще в бытность свою в Иерусалиме, состоять иеромонахом при нашем посольстве в Афинах, в скором времени покинул Афон[56] и отправился к месту своего служения, где и скончался 7 июня 1837 года[57].
В 1839 году была сделана новая попытка привлечь в русский Пантелеимоновский монастырь русских монахов. По приглашению монастырских властей в обители поселился иеросхимонах духовник Павел[58] с несколькими русскими монахами, которые вышли из состава братии Ильинского малороссийского скита, по случаю происходивших в нем беспорядков. Но о. Павел прожил в монастыре всего только восемь месяцев и скончался, оставив монастырю весьма почтенную сумму денег в 70 000 (около 7 тысяч рубл.) пиастров, которая дала возможность хотя несколько поправить расстроенные финансы монастыря. Оставшаяся братия из русских после кончины своего духовника, с благословенья о. игумена Герасима, обратилась к о. Арсению[59], знаменитому в ту пору подвижнику и опытнейшему духовнику всех русских, рассеянных еще по многочисленным калибам и келлиям Святой Горы, с просьбою, чтобы он перешел с своими учениками на постоянное житье в русский Пантелеимоновский монастырь и собрал бы около себя братию из русских. Старец Арсений отказался принять на себя непосильный уже для его преклонного возраста труд и предложил старцам обители, не без их желания, выбор свой остановить на его ученике о. Иоанникии, проживавшем тогда на келлии св. пророка Илии, близ Ставроникитского монастыря, с двумя своими учениками. О. Иоанникий сначала решительно отказывался, так как поселение его в Руссике было связано с необходимостью принять рукоположение в иеромонаха, чего он всегда страшился, но, убежденный своим старцем Арсением, перед авторитетом которого он благоговел, он, наконец, согласился, продал свою келлию, раздал свое имущество сиромахам русским и 20 октября 1840 года переселился со своими учениками в Пантелеимоновский монастырь. 18 числа ноября месяца о. Иоанникий (в схиме Иероним) был рукоположен Григорием, митрополитом Адрианопольским, в иеродиакона, а 21 того же месяца в иеромонаха и благословлен[60] быть духовником для русской братии[61].
Какова же личность этого организатора русского Пантелеимоновского монастыря, дух и направление которого еще живы в монастыре и до наших дней, и этого могучего борца за русское дело на Святой Горе? Мы лично не были знакомы с о. Иеронимом, скончавшимся в 1885 году 14 ноября, а поэтому принуждены обрисовать его высоконравственный образ словами лиц, хорошо его знавших. Вот какой отзыв дает о нем ученик о. Иоанникия и даже сожитель его по Ильинской келье инок Парфений, служивший при нем некоторое время за повара и за пекаря, и за чтеца и за канонарха.
Гравюра с видом Святой Афонской Горы и обителей на ней. Изднание Пантелеимоного монастыря 1843 г.
«Отца же Иоанникия (Иеронима тож) рассмотрел, – пишет о. Парфений, – и нашел в нем великого и ученого мужа, во внешней и в духовной премудрости искусного и в Божественном и отеческом Писании много начитанного и сведущего. Хотя и аз много читал книг, но против его – как капля против моря: и по вся часы от него пользовался; что бы аз от него ни спросил, – скорый давал мне ответ. И весьма был кроток и снисходителен; мог все немощи наши нести так, что аз во всю жизнь мою такого кроткого и терпеливого не видал, и во всех добродетелях совершен был; не словом учил, но во всем делом показывал, и во всем образ был нам – и словом был сладкоглаголив, тверд и рассудителен и такую имел силу в слове, что хотя бы был каменный сердцем, и то мог всякого уговорить и в слезы привести, и всякого мог увещать и наставить на истинный путь… Росту был высокосреднего, волосы длинные светло-русые, борода длинная и широкая русая, лицом чист и бел и всегда весел, взгляд самый приятный, но весьма бледен и худощав от великих подвигов и от слабого здоровья, часто с нами занимался в духовных разговорах и часто проводили до самой утрени без сна. За счастие почитали, когда он с нами займется такою беседою: мы забывали свое естество и сон. И столько прилепилось сердце мое к нему и возлюбила душа моя его, что за великую потерю считал, аще который час его не мог видеть и слышать от него полезное слово; когда увидим его лице – забываем сами себя. И положил я намерение никогда от него не разлучаться даже до смерти. А когда он случался болен[62], то мы те дни плакали и просили Бога да подаст ему здравие»[63]. Нарисованный портрет о. Иоанникия хотя принадлежит перу его страстного поклонника и писан в период начальной поры его аскетической жизни, тем не менее нельзя ему отказать в правдивости и в замечательном сходстве с оригиналом. Сохранившиеся живые воспоминания об этом старце в Пантелеимоновском монастыре до настоящего времени служат тому самым убедительным доказательством. Это с одной стороны, с другой – мы имеем перед собою более художественный портрет сего великого старца, нарисованный более опытною рукою и уже в период физической и моральной его зрелости, портрет, который не только не противоречит первому, а напротив, указывает нам ту нравственную высоту, до которой поднялся, идя прямою дорогою от молодых лет до старости, покойный о. Иероним. Этот второй отзыв сделан недавно покойным о. К. Леонтьевым, бывшим солунским консулом, более года в 1871 году прожившим на Афоне, как для целей дипломатического характера, так и для удовлетворения своей всегда ему присущей наклонности к созерцательной жизни. К. Леонтьев[64] стоял в очень близких отношениях к обоим старцам русского Пантелеимоновского монастыря: к о. Иоанникию и о. Макарию, и на его правдивый отзыв мы можем вполне положиться. «О. Иероним, – пишет К. Леонтьев, – стал духовником и старцем еще немногочисленной тогда русской братии в монастыре св. Пантелеймона. Это был не только инок высокой жизни, это был человек более чем замечательный. Не мне признавать его святым – это право церкви, а не частного лица, но я назову его прямо великим: человеком с великой душою и необычайным умом. Родом из не особенно важных старооскольских купцов[65], не получивши почти никакого образования, он чтением развил свой сильный природный ум и до способности понимать прекрасно самые отвлеченные богословскиея сочинения, и до уменья проникаться в удалении своем всеми самыми живыми современными интересами. Твердый, непоколебимый, бесстрашный, предприимчивый; смелый и осторожный в одно и то же время; глубокий идеалист и деловой донельзя: физически столь же сильный (?), как душевно; собою и в преклонных годах еще поразительно красивый. Отец Иероним без труда подчинял себе людей, и даже замечал, что на тех, которые сами были выше умственно и нравственно, он влиял еще сильнее, чем на людей обыкновенных. Оно и понятно. Эти последние, быть может, только боялись его; люди умные, самобытные, умеющие разбирать характеры, отдавались ему с изумлением и любовью». «Я, – говорит К. Леонтьев, – на самом себе, в 40 лет испытал эту непонятную даже его притягательную силу. Видел это действие и на других»[66]. «Отец Иероним был человек железной воли по преимуществу. Его внутреннее „самование“[67], вероятно, имело целью прежде всего смягчить свое сердце, сломать, смирить свою по природе гордую волю. Возможно также, что именно с намерением отстранить от себя все искушения власти над чем бы то ни было он так упорно и долго отказывался от иеромонашества и в России и на Афонской Горе, и только самое строгое повеление его святогорского наставника, старца Арсения, вынудило его принять хиротонию… Отец Иероним был до того всегда покоен и невозмутим, что я, – замечает К. Леонтьев, – имевший с ним частые сношения в течение года с лишком – ни разу не видал – ни чтобы он гневался, ни чтобы он смеялся, как смеются другие. Едва-едва улыбнется изредка, никогда не возвысит голоса, никогда не покажет ни радости особой, ни печали. Иногда только он немного посветлее, иногда немного мрачнее и суровее. А между тем он все чувства в других понимал, самые буйные, самые непозволительные и самые малодушные. Понимал их тонко, глубоко и снисходительно. Все боялись его и все стремились к нему сердцем»[68].
Вид русского монастыря св. великомученника Пантелеимона на Святой Афонской Горе с южной стороны снятый с натуры. Издание в пользу монастыря. 1858 г.
Вот в руки такого-то опытного духовника-старца, человека с сильным характером и редкою жизненною выдержкою, таланта-самородка, стоявшего целой головою выше всех его окружающих, вверило Провидение судьбы русского Пантелеимоновского монастыря, доведенного до крайнего убожества и едва не вычеркнутого из списка святогорских обителей. Вера в лучшее будущее русского монастыря, обаяние личности духовника и глубокого старца игумена Герасима, окруженных ореолом высоких качеств ума и сердца среди тогдашних насельников Святой Горы, а главное безотрадное положение русских людей среди иноков других национальностей – все это, вместе взятое, было достаточным побуждением для этих последних, оставив свои бедные калибки и естественные пещеры, искать себе приюта в бедной, но гостеприимно открывшей свои двери русской Пантелеимоновской обители. В непродолжительное время около о. Иеронима обра зова лась довольно значительная кучка русских людей, отдавших себя в безусловное подчинение беззаветно любимому ими опытному духовнику и игумену монастыря, искренно желавших все силы свои посвятить на благо обители. Нелегкая задача предстояла о. Иерониму, если не слить два разноплеменные и разнохарактерные элемента в одно целое, то благоразумными внушениями примирить их, так как предыдущий опыт при о. Аниките показал, что без взаимных уступок жизнь совместная греков и русских под одною кровлею была немыслима. Отдавая предпочтение грекам в обители, как некоторого рода хозяевам, он постоянно внушал русской братии, чтобы они не входили в споры и разногласия с греками, а стремились бы к той цели, ради которой пришли в монастырь, т. е. к спасению своей души, для чего необходимы мир и братская любовь. Строгий киновиальный образ жизни монахов русского Пантелеимоновского монастыря[69], ежовая обстановка и крайне скудная непривычная для русского человека пища, с чем греки-монахи легко уживались, – все это для русских иноков казалось тяжелым и трудно выносимым подвигом. В этом отношении невеселую картину жизни русских иноков Пантелеимоновского монастыря рисует даже и такой восторженный певец афонских красот и афонской иноческой жизни, как о. Серафим Святогорец. «Надобно, впрочем, сознаться, – пишет он, – что бдение не столько утомляет мою болезненную плоть, сколько здешняя трапеза: боб, и фасоль, чечевица и ревит – все эти и подобные им произведения святогорских нив сами по себе очень вкусны и питательны, – но тяжелы, так тяжелы для слабого желудка, что я нередко чрезвычайно страдаю от них, и мои жизненные силы истощаются… Исправить трапезу, судя по стеснительному положению Руссика в настоящее время, почти нет возможности… Я вижу многих из братий в одинаковом со мною изнеможении от влияния трапезы… В то время, как Руссик имел рыбные ловли на Дунае[70], некоторые из нашего братства чрезвычайно скорбели и жаловались на боб и фасоль, исключительно составлявшие нашу трапезу, и просили духовника озаботиться улучшением стола, – тем более, что тогда Дунай мог лакомить нас прекрасною рыбою. Частые жалобы изнемогающей братии слишком озабочивали духовника, так что он решился, наконец, передать их геронте (т. е. игумену). Мы это знали, надеялись на добросердечие геронты, и одна мысль о близкой измене трапезы из неудобоваримой в легкую питательную, в русском вкусе, утешала нас, была часто предметом братских бесед»[71]… Заботливый о. Иероним, конечно, сознавал справедливость этих жалоб, болел душою, но удовлетворить желание братии не было у него сил. Как во многих других случаях, так и в настоящем опытный духовник успокоил взволнованные умы, благодаря своей находчивости, рассказом о чудном видении, бывшем одному из братий, более других недовольному трапезою. Рассказ, изложенный о. Серафимом в его письмах к друзьям, произвел глубокое впечатление на всю братию, которая, по словам Святогорца, «оставила плотоугодные жалобы на трапезу, довольствуясь тем, что поставят»[72].
Забота о духовном воспитании вверенной его попечению братии была для о. Иеронима делом первой необходимости, но не забывал он ни на минуту и о той гнетущей нищете, какую он застал в монастыре, и о тех первых его потребностях, которые так настойчиво и красноречиво заявляла суровая действительность. Братия монастыря просила, как мы видели, кусок насущного хлеба, который бы можно было есть, искала теплого угла и в то же время ощущала настоятельную потребность в устройстве особого и вместительного храма, где бы имела возможность удовлетворять своей первой потребности – молиться на славянском языке. Увеличивающееся постоянно количество братии из русских делало непригодным для этой цели небольшой храм св. Митрофания. Удовлетворить всем этим насущным потребностям своей братии монастырь не мог, так как, кроме долговых обязательств, по которым требовалось уплачивать ежегодно большие проценты, в кассе монастырской ничего не было. Чтобы выйти из этой гнетущей нужды, о. Иерониму оставался один исход – обратиться с воззванием к благочестивым соотечественникам и почитателям Святой Горы, чтобы они посильною лептою помогли русскому монастырю, и послать в пределы России сборщиков милостыни[73]. Обращение к доброму русскому сердцу, любившему издавна не щадить своих средств на благоукрашение святочтимых обителей, нашло себе полное сочувствие, и из России потекли в русский афонский монастырь пожертвования деньгами и вещами. О. Иерониму удалось расположить в русской обители двух именитых вятских купцов, Г. Чернова и И. И. Стахеева, на средства которых была и начата постройка большого русского Покровского собора, оконченного и освященного 10 января в 1853 году. Иконостас для этого храма был пожертвован игуменом Антонием Бочковым[74].
Вид русского монастыря св. великомученика Пантелеимона на Святой Афонской горе. 1860 г.
Ближайшим помощником и сотрудником из русских о. Иерониму в данных обстоятельствах был некто о. Симеон Веснин[75], священник вятской губернии, более у нас известный под именем о. Серафима Святогорца. Своими поэтическими письмами о Святой Горе, изданными обителью в 1850 году, он ознакомил русских людей с Святой Горою, расположил их к пожертвованиям[76] и затем лично собрал немалую милостыню от своих друзей и благодетелей в пользу обители. Русская Пантелеимоновская обитель с благодарностью вспоминает имя о. Серафима, как одного из своих приснопамятных ктиторов, потрудившегося немало и талантливым пером и увлекательным словом на пользу обители.
Старец игумен Герасим и его образованнейший и гуманнейший наместник иеродиакон Иларион[77] старались всячески оказывать содействие о. Иерониму в его трудах, так как ясно видели, что они действительно направлены ко благу их обедневшей обители.
Все пожертвования, приходившие из России, о. Иероним старался делить поровну, причем, чтобы расположить греков к русским, старался даже отдавать им лучшие вещи, а для русской братии оставлял худшие, кроме тех случаев, когда пожертвования направлялись прямо в русский собор или на русскую братию. Видя эту самоотверженную деятельность, старцы игумен Герасим и о. Иларион всеми силами старались поддержать согласие и единодушие между греками и русскими и устранять всякого рода недоразумения, возникавшие с той или другой стороны, так как этим только и обусловливалось дальнейшее процветание монастыря.
В эти-то тяжелые годы для русской Пантелеимоновской обители, начинавшей мало-помалу обновляться и становиться на тот путь, идя по которому, она достигла своего высокого значения на Афоне в настоящее время, прибыл на Святую Гору молодой Сушкин. Раскрывая перед молодым поклонником гостеприимные двери обители, о. Иероним и прочие старцы смотрели на него, и это едва ли можно отрицать, как на такого поклонника, расположить которого в пользу обители было для них делом желательным и естественным. Им уже было известно об его происхождении из богатейшего дома тульских именитых купцов Сушкиных, как от о. Серафима, так и от прежде него прибывших на Афон его сверстников и спутников старооскольцев. Но вскоре же обстоятельства показали, что они имеют дело не со случайным мимолетным паломником, а с горячим энтузиастом, готовым навсегда делить с ними суровую аскетическую жизнь.
Строгий дисциплинарный порядок, заведенный в монастыре, благолепное денно-нощное богослужение и простой образ жизни отцов произвели на душу Михаила Ивановича глубокое впечатление. Необыкновенно симпатичный образ умного аскета духовника Иеронима показался тем давно знакомым ему образом, который он так долго и тщетно искал. Душой чистой он уже полюбил о. духовника, успел мысленно отдаться ему и не мог утаить от него своей заветной мысли, что «он не просто только поклонник и богомолец у святых мест, но человек, жаждущий идти по стопам его аскетизма»[78]. Это признание молодого человека любви и сердечных увлечений, который тоже в свою очередь произвел хорошее впечатление на о. Иеронима, весьма понравилось последнему и в его проницательном уме быстро пронеслась уже радостная мысль из этого молодого энтузиаста сделать себе преданнейшего помощника и с его именем связать судьбу вверенной ему обители. Но сдержанный о. духовник, не привыкший к проявлению восторгов вовне, на это горячее признание увлекающегося молодого поклонника спокойно и даже несколько сурово ответил: «Пусть поживет, погостит, поучится, пусть просит у отца разрешения постричься… Тогда увидим»[79]. С горестью выслушал такой себе приговор пылкий Михаил Иванович, и мысль уже о возврате в дом родителей, которой он боялся, начала посещать его голову нередко. Но о. Иероним не только не пугал молодого Сушкина мыслию о возврате на родину, а как увидим ниже, поселял в нем уверенность в возможности осуществления его желания, только необходимо было выждать время. «Сушкины – люди очень богатые и сильные, мы, – признавался о. Иероним К. Леонтьеву, – опасались постричь его: отец мог обвинять нас в том, что мы кое-как поспешили постричь сына в надежде на богатый вклад. Мы не желали иметь в России такую худую славу и повредить тем обители. Человека попроще можно было бы в без таких колебаний постричь»[80].
Но мысль встать в ряды «ангелоподобных людей», высказанная о. духовнику и не встретившая по-видимому с его стороны сочувствия, не покидала Михаила Ивановича ни на минуту. Ему хотелось, по совету духовника, заручиться согласием родителей на свое пострижение в монашество, чтобы потом можно было осуществить свое желание беспрепятственно. Однако же, на благословение своего строгого отца он лично не рассчитывал и поэтому решился действовать через свою мать Феодосью Петровну, от которой он «ничего не скрывал» и которая втайне «желала того же. В письме к ней с Афона от 9 ноября 1851 года, т. е. через шесть дней после прибытия, он просит мать «уговорить батюшку» не препятствовать ему вступить в число братии русской Пантелеимоновской обители. Вот это письмо, любопытное во многих отношениях и устраняющее всякие кривотолки[81] по поводу пострижения о. Макария в монашество:
«Любезнейшая и бесценнейшая матушка Феодосья Петровна! Из Смирны[82] я писал к вам, моя родная, а теперь я приехал во Святую Гору, где и хочу просить вашего благословенья. Матушка, благословите! При помощи Божией и моей Покровительницы, за твоими молитвами, быть может, и помещу себя здесь. Припадаю к стопам ног ваших и прошу: не оскорбляйся, не огорчайся, помни слова Спасителя: верующему все возможно. Уговори батюшку: лучше нам молиться друг о друге, чем иметь свидание. Скажу вам: Бога ради не скорби… Матушка, быть может, если Господу Богу угодно, и утвердит. Вы то же желали. Помолитесь о мне. Прочтите житие Пимена, 27 августа: „что он отвечал матери?“. Это лишь бы утвердил Господь. Здесь рай, а особо, если этот духовник будет жив. Быть может, Царица Небесная и пошлет свою милость. Матушка, если любишь Христа, возблагодари Его и утешайся этою мыслию: что я, – если приеду, – жениться? Сохрани, Господь! Разве Богу угодно будет допустить врагу посмеяться, но у него милосердия более. Если я теперь приеду, то мне надобно жить еще сколько? А кто поручится, что я не буду иметь искушений? Я уже и то не имею горячности, как прежде; все холодно. Я уже так положился на волю Матушки Божией: что Она возвестит устами духовника? И мне духовник никак не советует ехать, а его здесь считают из русских первым в монашеском опыте. Я уверен, что вы меня не будете отводить, а уговаривайте батюшку: вот здесь строится церковь, и я хочу просить вас. Если бы милостию Царицы Небесной я остался здесь, то вместо свидания вы бы распорядились свою икону Тихвинской (Божией Матери) сюда отдать, но с тем, [так] как здесь приделы отделываются, и, быть может, духовника упрошу, даже я уже намекнул, во имя Тихвинской, а у нас у всех благословенная икона в путь. Теперь я не смею и просить батюшку, а повремени, чтобы для здешней постройки дать что-нибудь, ибо, хотя и я здесь не буду, все хорошо для души. А особо мне хотелось отделать на свой счет придел общей Заступницы. Вы простите, я так только осмелился вам, моя радость, написать: ничего от вас не скрываю, потому и пишу. Особо, матушка, благослови же меня, не скорби, а молись и отслужи Боголюбской Богородице молебен. Меня и тебя Господь утешит. Целую тебя и кланяюсь до земли. Прости и благослови! Батюшку поощрите, чтобы благословил. И вперед отслужите молебен, а потом и пишите благословение. Остаюсь любящий сын ваш, Михаил Сушкин».
Вид русского на Святой Горе Афонской св. великомученика Пантелеимона монастыря с юго-восточной стороны. 1866 г.
После отправки приведенного письма обстоятельства так изменились резко в жизни Михаила Ивановича, что желание его сердца исполнилось гораздо скорее, чем это он и его окружающие могли предполагать. Как новичок на Святой Горе, Михаил Иванович после праздника 8 ноября решился объехать св. Гору с целью осмотреть ее монастыри и поклониться святыням, находящимся в них. Но не успел он осуществить свою мысль и наполовину, как схватил, по неосторожности, жестокую местную лихорадку, которая нередко укладывает свои жертвы, не привычные к климату Святой Горы, и на вечный покой. С трудом добрался Михаил Иванович до греческого кутлумушского монастыря близ Кареи и слег в постель окончательно. По распоряжению старцев Пантелеимоновского монастыря, он был перенесен в русский монастырь уже на носилках. Болезнь не поддавалась тем простым медицинским средствам, которыми располагала обитель, чтобы облегчить страдания больного, и приняла такие угрожающие симптомы, что стали отчаиваться в его выздоровлении. Опасность собственного положения не скрылась от внимательного Михаила Ивановича, прислушивавшегося, что говорят около него. По тревожным лицам окружающих и слезам своего Евграфа, не отходившего от постели болящего, он понял, что дни его жизни сочтены. Михаил Иванович обратился снова к о. Иерониму с горячей просьбой, чтобы ему, находящемуся на краю могилы, не отказали бы хотя теперь в том, на что имеет право всякий мирянин, случайно умирающий на высотах афонских; чтобы хотя в этот час смертный сподобили бы его того ангельского образа, о котором он лелеял мечту с детства. Отказать в этом случае никто из старцев не был в силах. 27 ноября над Михаилом Ивановичем был совершен чин великой схимы[83] в сокращенном виде, дабы не утомить сложностью обрядов болящего, и он наречен был Макарием.
Во все время совершения обряда Михаил Иванович сидел на постели в полудремоте, а когда окончился чин пострижения, то он погрузился в глубокий мирный сон, весьма заметно укрепивший его. Пробудившись и чувствуя себя лучше, о. Макарий стал припоминать все случившееся с ним перед сном. Вспомнив, что все прошлое уже не существует, что мир, в котором так много выстрадал, так много пережил, где он оставил милых сердцу своему, что все это от него уже теперь отделено неприступною оградою в виде великосхимнической мантии, о. Макарий содрогнулся и слезы невольно полились по его бледному, изможденному болезнью, лицу. Два чувства, совершенно разнородных, волновали молодого инока. С одной стороны, он плакал от радости и счастья, так как легко и неожиданным для него образом исполнилась заветная мечта его детства, а с другой, от боязни перед гневом своего отца, которому он дал слово вернуться на родину и который не желал его пострижения. Тревога души и слезы усилили пароксизмы, и больной снова впал в беспамятство. Болезнь тяжелая продолжалась до января 1852 года.
Известие о пострижении Михаила Ивановича в монахи на родине, в Туле, было, само собою понятно, неожиданным и произвело разнообразное впечатление. Иван Дионисьевич, отец о. Макария, остался недоволен поступком сына и некоторое непродолжительное, впрочем, время[84] не только не писал ему писем, но даже совершенно не говорил о нем ни дома, ни на стороне. Феодосья Петровна втайне радовалась совершившемуся факту, о котором она давно мечтала, а поэтому сейчас же вступила с своим любимцем в самую живую переписку[85], хотя видом перед своим мужем не выказывала своего удовольствия и была сдержанна. Об этом событии никому из остальных родных, живших в Туле, не рассказывалось, так как боялись, чтобы посторонние расспросами о молодом монахе не причиняли огорчения Ивану Дионисьевичу. Факт этот сделался предметом толков спустя неделю или больше, после получения письма в доме Сушкиных.
Глава V Схимонах о. Макарий и его воспитание в обители под руководс твом о. Иеронима
В конце января здоровье о. Макария заметно стало улучшаться, хотя лихорадочные пароксизмы еще продолжались, и он «сидел в келье безвыходно». Отправив своего спутника Евграфа на родину, крайне тяготившегося монастырскою жизнью, о. Макарий послал на имя матери письмо, в котором делает его собственником своего богатого и щегольского гардероба[86] и просит мать «походатайствовать перед батюшкой, по данному им слову прежде и на смертном одре, наградить его пятьюстами рублями серебром». «Вы знаете, – пишет о. Макарий в оправдание своей просьбы, – я всегда был расположен, да я вам говорил часто, что он заслуживал, и в дороге он был для меня хорошим спутником и во время болезни был очень необходим, особо по новости в обители». Ту же просьбу он повторяет в письме от 3 апреля 1852 года и почти теми же словами. Мать согласилась[87] «успокоить его насчет награды и откупа Евграфа», который потом действительно был удовлетворен во всех отношениях[88] и даже выкуплен от крепостной зависимости[89].
К маю о. Макарий значительно уже оправился и с усердием принялся за исполнение правил монашеской жизни. Посещая храм, он в то же время «ходил на все общие послушания, – более же виноград сажать». Сверх этого, ему «дали на руки библиотеку»[90], в которой он любил проводить время за чтением душеспасительных книг. К этим послушаниям несколько позже присоединили новое, особенно нравившееся о. Макарию, – это быть канонархом за всяким богослужением[91].
Молодой монах, преданный всей душой исполнению своего долга, с глубокого утра до поздней ночи, был занят, «не видел, как идут дни» и лишь мечтал о том, чтобы «Господь своею милостию не оставил, промчал дни – и поскорее за гроб»[92]. Новость положения нравилась молодому восторженному иноку, хотя шаги его на этом новом пути были робки и не лишены скорбей, посреди которых он находил утешение в опытном и горячо его полюбившем духовнике о. Иерониме. «Благодарю Бога, я не скучаю, – пишет о. Макарий своей доброй и плачущей слезами радости и умиления матери, – и часто утешаюсь своею жизнию. Что Бог даст далее, а теперь я спокоен. Бывают скорби, искушения, бури помыслов, но духовник утешает и разрешает недоумение. Для тела здесь выгоды мало, но для души – раздолье»[93].
Порвать связь с миром, с которым человек расстался вчера и где так много оставлено милого, приятного, – дело нелегкое даже для натур менее нежных, чем какою был о. Макарий, а поэтому нравственная внутренняя борьба была вполне естественна на первых порах его иноческой жизни. «Вы убеждаете меня забыть мир и не скучать о его суетном состоянии, любезнейшая матушка, – отвечает на совет матери о. Макарий, – на сие вам скажу: забыть его стараюсь. Если быть одной ногой здесь, а другой там, – что будет? Но без воспоминания – нельзя: еще так свежо в памяти все! А затем, враг рода человеческого стремится затмить благую жизнь, услаждая мысль о прошлом; но скучать о мире, как я теперь себя чувствую, – нисколько не думаю. О! если бы, при помощи Божией и ваших молитв, Господь дал и вперед не думать о нем! О! неизреченна была бы Его милость! Это самое благодетельное для нас»[94]. Но старание – старанием, а сила привычки, резкая суровая действительность, окружающая молодого инока, к тому же повторявшиеся весьма часто лихорадочные пароксизмы, доводившие и без того его слабый организм до полного истощения, скудный непривычный стол[95], аскетические келейные упражнения, за исполнение которых он принялся с жаром своей страстной увлекающейся натуры, – все это чаще и чаще переносило его мысль к прошлому, хотя и оставленному им, но все же еще близкому его сердцу и доступному его чувствам. В борьбе с самим собою, с своею натурою, с своими старыми привычками он изнемогал и в этом изнеможении искал утешения, то в мудрых беседах своего духовника, то взывал к нежно любящей матери о ее молитвах, чтобы ими устоять незыблемым в этой борьбе. «Одного прошу у вас, – пишет он к матери, – молись за меня, да утвердит Господь меня в подвиге великого ангельского образа, да удостоюсь оправдать данные обеты пред Богом, да утвердит во мне мысль к вниманию о молитве, как о себе, так и о вас всех вообще, да даст силы к понесению всяких встретившихся искушений, да буду искушаем, но не впаду в них. Матушка, молись за сына своего, да даст Господь ему целомудрие, смирение, терпение, послушание и избавит от суетных мыслей и гордости»[96]. «Матушка, помолись за меня к Господу, да даст мне силы к терпению и подвигам. После частых болезней изнемогаю. В болезни привыкнешь часто есть и пить, да и здоровый за тоже примешься, да и празднословить привыкаешь, а после с трудом отвыкаешь… Иногда скучно: вспомнишь о вас, о пище, к которой я охотник был; – а тут духовник напитает пищею духовною и рад бы сейчас в могилу»[97]. «Сын может ли забыть отца и мать? Точно я дал обет забыть вас, – пишет о. Макарий родителям, развивая свою прежнюю мысль, – но для мира на земле, а не для мира на высоте, куда можно увлечь и вас, в царствие небесное идти вечно вместе, в рай сладости и жить с одним Отцом светов и Материю Бога нашего. Но и здесь забыть вас я не в состоянии. Мысль о проведенном детстве между вас и юношестве под вашим наставлением, минуты свида ния и мин у ты пос леднего „простите!“ едва ли забуду тся. Быть может, если бы вы воспитали нас иначе, мы были бы чужды религии, но все бывшее и настоящее повергает в чувство благодарности, и слезы умиления невольно вырывают молитвенный вздох о вашем спасении. Так, любезнейшие родители, в убогой келье Макария, часто воспоминаются приросшие имена Иоанна и Феодосии, да помилует их Господь и Пресвятая Владычица»[98].
Не удивительно поэтому, что в эту пору своей монашеской жизни постоянная корреспонденция с родными была для о. Макария «истинным утешением», письма его нежно любимой матери, «упитанные материнскою любовию», были для него «бальзамом, врачующим душу и тело», наполняли глаза его слезами и трогали до глубины души»[99].
Сознавая хорошо свой сыновний долг по отношению к своим родителям, молитвам и воспитанию которых он обязан и бытием и всем тем, чем он стал в данное время[100], о. Макарий стал прилагать все старание, чтобы на деле осуществить свою мысль – «увлечь своих родителей в мир на высоте». С этою целью он неотступно, и даже к неудовольствию иногда своих читателей, наполняет свои письма к матери назидательными уроками о христианской жизни, исполненной полного самоотречения и самоограничения.
«Матушка, – пишет о. Макарий о Великом посте 1852 года, – прошу вас Бога ради приобщитесь этот пост два раза; вы увидите, как для души полезно… Приобщиться Св. Таин я вам, матушка, непременно советую два раза на первой и страстной седмицах. Пожалуйста, вы не верьте причудам туляков, соединяйтесь ближе со Христом… Мы до конца жизни не будем достойны, а вам теперь все благоприятствует»[101]… «Опять пост, – говорится в том же году о посте Успенском. – Вы не приобщались Св. Таин. Я вас уверяю Богом, что, кроме спасения души, вы ничего не получите: и совесть мирнее и спокойнее на душе будет. Не слушайте мирских разговоров. Прежние христиане приобщались каждую неделю. Ваши лета уже теперь такие, что можно отказаться от домашних забот. Впрочем, как угодно, – только нужно исполнять Св. Таин приобщение»[102].
«Не всё поклоны, – дает советы своей матери о. Макарий относительно христианской жизни вообще, – а возьмите лестовочку или четочки, что положено у вас пройдите, в сидячем положении или ляжте, и не считайте это за грех…, потому всегда поклонение творить нельзя. Если стоя не можете читать – сядьте, не сумневайтесь, а надейтесь на Бога… Читайте почаще молитву Иисусову и Богородице Дево, радуйся», где придется. Эти две молитвы возвышают горе душу[103], молитва „Господи Иисусе“ и Богородице, сидя, ходя, лежа – везде да будет с вами. Не забывай бедных, но без ропота, подавай сколько можешь»[104]. «Молитва к Богу и любовь ближнего есть все заповеди; в сих двух закон и пророки висят. Что делать, быть может, иногда враг и наводит, будто жалко сделать что, или подать, или пожертвовать, но дело Божие без награды не бывает, а особо, если оно сделано без жалости внутренней и наружной. Этого должно беречься. За то в то время, когда разлучатся душа от тела, эти дела будут щитом ограждения. Точно, тяжело теперь молиться, тяжело сносить грубости, невыносимо исполнять волю чуждого распоряжения, и что там за пределами гроба, где и за праздное слово дадут ответ? Побеждайте мысль, воспрещающуюся наградить бедняка, не делать добро какое-либо, но вспомните вечность: Царствие небесное или ад, средней дороги нет, – тогда доброе дело насильно сделаешь, и значит, – две победы: победишь мысленного врага и сделаешь добро. Спасайтесь, мои дражайшие и милые родители, быть может, встретимся, если не здесь, то там в раю сладости, а в рай – дорога, изреченная самим Господом: многими скорьбми подобает войти в царство небесное»[105]. «Спешите, спешите еще сеять, чтобы после собирать, пекитесь о ближнем, не щадите богатств, будьте покойны, не раздадите, Господь усугубит сторицею здесь и на небе»[106].
В этой заботе о пользе милостыни для спасения души своих родителей, а также из неложного сострадания к ближнему сначала нерешительно, а потом настойчиво советует родителям устроить странноприимный дом. «Если купите (т. е. дом для себя) и должно перейти в оный, мой совет: прежде отслужите бдение, молебен и позовите Христову братию, покормите их, а они осыпят вас благословением и молитвою. Простите дерзостному совету, но любовь и сострадание к ближнему все превозмогут»[107]. «Нищ и убог да восхвалит имя ваше, – пишет о. Макарий своим родителям в числе прочих пожеланий по поводу перехода их в новый дом, – да будет дом ваш благодатью Божиею исполненный, око слепым, нога хромым, приют странника и покров бездомного сироты; правда и мир да водворятся между вами, да исполнятся слова Господа: Благ муж щедра и дая, устроит словеса своя на суде. Блажени милостивии яко тии помиловани будут»[108]. «Желаю вам быть всеми членами ближнему, не забывая их нужды и скорби, а они-то упрочат житие там и здесь своими вздохами и слезами о благоденствии вашем»[109]. «Беру на себя смелость беспокоить вас, – начинает свою речь о. Макарий о странноприимном уже доме. – Я получил из Тулы письмо, в коем мне пишут и просят попросить вас о странноприимнице Матрене Ивановне. Простите моему окаянству, я боялся оставить такое дело без извещения вас, да и духовник благословил. Я спрашивался, потому что я теперь посторонний общества мирского, и получил в ответ: быть может, вашему батюшке боятся предложить, а вы не объясните, вас упрекнут, а посему с благословия Божия начинаю. Приложите к вашему дому, иже на небесех, еще несколько совершенств, да и здесь память на земле. Простите моему скудоумному совету. Уже вам известно, что она, т. е. Матрена Ивановна, желает давно устроить в городе странноприимницу, который, к несчастию, не имеет оной, то мое, окаянного, такое мнение: собрать общество и предложить подписку, сколько соберется – положить в банк и процентами содержать, а между тем и частная милостыня будет. По крайности, если содержать нельзя, то приют-то будет бедному страннику, дрожащему от стужи, изнемогающему от зноя и жажды. Ах! Как этот тяжел путь с деньгами, а колъми паче без оных! Вы теперь можете предложить, не согласятся, значит, – нет воли Божией. Между тем, на оном страшном нелицемерном судище вы услышите блаженный глас Христа: странен бех и введосте мене, наг бех и одеясте мя, жаждах и напоисте меня, алках и дасте ми ясте, болен бех и посетисте мя. Прииди благословенное чадо Отца моего наследуй уготованное тебе царство от сложения мира. Как дивны такие слова сладчайшего Иисуса! И еще: Блаженни милостивей, яко тии помиловани будут. О, как хорош рай сладости! конечно, быть может, вас и оскорбят, но вспомните ради сладчайшего Иисуса, Который и крови своея не пожалел. Какая память за гробом! каждый скажет: да упокоит его Господь, как он нас упокоил, а душа от сих слов светлеется Духом Святым. Преклоняю главу мою к стопам вашим, да не лишите, возлюбленнейшие родители, себя сея славы не здесь, а в вечности. Не жалейте сеять семена добродетелей из вашего имущества, что будет далее Бог весть. Прости, прости моей дерзости. Люблю вас любовию духовною и стремлюсь воздать вам за полученная мною от вас земная, да получите небесная чрез ваши добродетели, особо милостыню»[110]. В письме от 29 января 1853 г. о. Макарий уже спрашивает Ивана Дионисьевича: «странноприимный дом утвердили ли и на каких основаниях?». Через полтора месяца он пишет по тому же поводу новое письмо к отцу и для убеждения его представляет новые не менее обширные доводы, ссылаясь снова на письмо к нему, писанное якобы «не чернилами, а слезами»[111]. «Не могу, – пишет он, – сказать вам настоятельно, но прошу вас не упустите сего случая. Помнить должно: царствие Божие нудится и нуждницы восхищают[112]. А придет время и рад бы нудиться, да нечем. Вот вы бы подали теперь 5 или 10 копеек, да нельзя. А между тем каждую неделю уже вы лишились стольких молитвенников. Быть может, вы рассмеетесь и скажете: молитвенники?! Да – молитвенники. Что за дело (нам судить) их поведение. Господь не говорит: дайте моему добронравному меньшему брату, а просто: створите единому от меньших братий, не разбирая кто – он. Он судится от своих дел, а мы от своих… Особо делает замечание о путешествующих, говоря, что, если Господь, заповедая апостолом своим сказала: в оньже града внидете, дайте мир ему, аще не приемлет вас, отрясите прах ног ваших и мир ваш возвратится к вам. Эти слова – ужасны. В виду то апостолов, быть может, пройдет Один, Его же недостоин весь мир, и не даст мира граду нашему. Как это понять и кто виноват за отнятие мира у целого города?[113] Быть может, возжелали бы и это сделать да уйдет. Восхищайте царствие Божие, покуда есть время. Не беспокойтесь о будущем состоянии вашего семейства. Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущий. Вот вам, любезнейшие родители, предстоит купля бриллианта высокой цены; вы заплатите мало, а пользы получите много»[114]. Просьба о. Макария была уважена. Странноприимный дом был устроен Иваном Дионисьевичем.
Желание помочь своей метании[115], крайне нуждающейся в материальных средствах, помочь при помощи родительских капиталов, в которых и он себя признавал участником, и тем еще более поспособствовать все той же настойчиво им преследуемой цели – спасению их души, побуждало о. Макария в каждом своем письме просить их о милостыне в монастырь, или же об участии их в устройстве храмов его и благоукрашении их. «Я теперь, любезнейшая матушка, осмеливаюсь тебе написать вот о чем, – пишет о. Макарий через несколько дней после своего пострижения, еще на одре болезни. – Как братцы сочетались браком, имели милость от вас на подарки невестам, то я, как теперь поступил в монашество и на Жребий Царицы Небесной, то моя, если дерзаю сказать, Невеста, Которой себя обручил, воздаст и вам. Здесь строятся храм Покрова Пресвятой Богородицы и, по необходимости, для русской братии келии. Уже много русских, а монастырь имеет долгу 60 тысяч рублей, поэтому я и припадаю к стопам ног ваших, хотя не вдруг, попросите батюшку в хорошее время и в тихий час. Я уже не смею писать. А как вам Матерь Божия внушит и когда, отслужите молебен Боголюбской Божией Матери и после скажите, авось нам Господь поможет устроить. Прошу вас Бога ради не оставьте ради Божия Матери. Она вас Сама утешит»[116]. Просьба эта удалась вполне, и в письме от 24 апреля 1852 года о. Макарий благодарит мать «за участие», за то, что «испросила у батюшки для Покрова Божией Матери в честь ее строящегося храма и для нас убогих келий, а равно для престола одежду. От души вас благодарю, – прибавляет он. – Пусть сама Общая Заступница вас наградит в будущей жизни, оденет вас ризою нетления и славы небесной»[117]. «Слава Богу, – восклицает восторженный и упоенный своим успехом инок Макарий, – что я теперь удостоюсь слышать здесь между именами создателей и благотворителей имена моих близких сердцу, имена моих дражайших родителей и братьев. О, как сладко вспомнить и человеку о добродетели своих бесценных на земле! Как же будет самому человеку, когда будет взвешиваться жизнь его на общем пути мытарств? О, тогда сколько радости, сколько благодарности за мысль и тому, кто ее подал! Одна добродетель (таким образом) в жизни еще дала шаг к необозримому пространству на небо, ближе к Сладчайшему Иисусу, а молитва Богоматери за незабвение Ее пречистого долга – все это дела небесные. Да усладит вас Господь и Пречистая Матерь здесь на земле и там на высоте покроет своим могущественным омофором, облечет вас в ризу нетления и венцы райские да украсят ваши головы»[118]. «Братец писал, – читаем мы в другом письме, – что вам Господь внушил сделать или поправить иконостас. Слава Богу, что подобные дела есть плодоносная земля, на коей произойдет вторичный плод. Я радуюсь, что вы имеете мысль о вечности, чтобы и там приуготовить и облегчить путь мимо Миродержца. Матерь Божия Сама вас осенит своим покровом»[119].
Но на этом о. Макарий не остановился, а пошел дальше в своих настойчивых просьбах. Он решился просить своих родителей «построить больницу с церковью, в которой будет приноситься бескровная жертва за весь род», и таким образом «сделать вечное неизгладимое о себе и о всех поминовение». Как и в других случаях, так и в данном, о. Макарий обращается «к любезнейшей и дражайшей матушке» «позаботиться попросить батюшку», «похлопотать, дабы бескровная жертва, которою очищаются наши грехи, приносилась бы постоянно, когда возможно, по уставу церкви»[120]. И эта просьба о. Макария, как мы знаем[121], была уважена родителями. В русском Пантелеимоновском монастыре имеется параклис[122] в честь всех афонских святых при братской больнице, построенный на иждивение И. Д. Сушкина.
«Сосуд прекрасный в обители первый»[123], «подсвечники, парча, штофная материя, газы, книги» и т. п. предметы[124] – все это в монастыре или жертва родителей о. Макария или же его брата Василия Ивановича из Петербурга[125]. Вообще со времени вступления о. Макария в число братии русского Пантелеимоновского монастыря, как выражаются старцы его, [он] «тесно соединил духом Христовой любви и единения»[126] родителей Сушкиных с отцами обители и сделал их одними из главных благотворителей, жертвователей и устроителей ее.
О. Макарию желательно было, чтобы Иван Дионисьевич встал еще в более тесное общение с обителью, проникся к ней большею любовью и расположением, для чего он неоднократно[127] приглашал отца побывать на Афоне. Но этот план его не удался. Иван Дионисьевич не видел Афона, по недостатку времени, которое уходило у него на отправление разного рода служебных обязанностей по выборам горожан, но зато там гостили и неоднократно его дети: Василий и Петр Ивановичи, своими жертвами не забывавшие обитель до последнего времени. Что же касается Ивана Дионисьевича, то он, кроме указанных выше пожертвований, до самой своей смерти ежегодно, ко дню своего ангела, высылал в обитель по 500 рублей[128] на «утешение братии».
Итак, вот какими думами, мыслями и чувствами жил схимник Пантелеимоновской афонской обители о. Макарий; вот что занимало его ум, душу и сердце на этих первых шагах его иноческого подвига. Исполнение иноческого послушанья, молитва, келейное правило, мысль о спасении себя и своих присных, беседы с духовником, чтение аскетических и нравственно-назидательных книг – все это с избытком переполняло время его короткого дня и у него не хватало времени думать о том, что делается за стенами его обители. А между тем над его отечеством нависла мрачная туча; его соотечественники были накануне беспримерно кровавой и тяжелой Крымской войны, объявленной манифестом Императора Николая Павловича 20 октября 1853 года. Для о. Макария небо чисто, безоблачно, атмосфера благорастворена. По его письмам как будто бы все обстоит благополучно. Во всей его переписке нет ни малейшей тени опасения, боязни за свою судьбу, судьбу отечества и русского монастыря на Афоне. И если бы не лаконическая заметка, весьма, впрочем, характерная: «Мы еще живы, а что делается между державами, нам неизвестно в пустыне. Ожидаем воли Божией, как Ему угодно будет. По силе молимся о вас»[129], – то можно было бы подумать, что об объявлении Крымской войны ему даже и неизвестно[130]. Тогда как из других источников нам известно, что пред началом войны не обошлось дело без волнений в русском Пантелеимоновском монастыре среди монашествующих русских.
«Но вот наступил 1853 год, – пишет биограф о. Серафима святогорца. – Между Россией и Турцией возгоралась война, слухи о которой произвели страшное смущение в русской братии и по всему Афону и многие из нас, страшась мести, кровожадности и коварства фанатиков-турок, спешили на время войны удалиться в Россию. Думал уехать в отечество и о. Сергий (святогорец Серафим)[131], но Пресвятая Богородица не восхотела отпустить доблестного своего воина со св. горы Афонской. Три раза собирался он в путь и три раза пароход приставал не к той пристани, где с нетерпением ожидали его»[132]. О. Серафим принял это за указание свыше и вернулся обратно в монастырь, а 17 декабря 1853 года тихо и покойно скончался.
Что касается остальных монахов русских, то они были удержаны на Святой Горе мудрыми советами старца игумена Герасима и ближайших его советников. Когда старцы монастыря заметили уныние и волнения среди русской братии, то немедленно составили собор для обсуждения мер, необходимых к успокоению взволнованных умов. На вопрос о. духовника Иеронима: «вследствие наступившей войны братия русские начали смущаться, то как благоволите поступать?» архимандрит Герасим ответил: «Схимонахи должны помнить свои обеты и никаких треволнений не бояться, а положиться на волю Божию». О. архимандрит Амвросий, участник собора, прибавил к сказанному игуменом: «А разве монашейные могут оставлять свои обеты?» Все участники собора единым голосом ответили: «Нет, не могут». Тогда игумен заключил: «Рясофорные и послушники пусть руководятся советами старца, а если не могут понести, то пусть уезжают»[133]. Соборное решение было переда но отцам и волнение между ними стало мало-помалу утихать. Только наиболее робкие из русских оставили Афон, а все прочие, положившись на волю Божию, остались на Святой Горе мужественно переносить все невзгоды и лишения тяжелого военного времени.
Мы, к сожалению, лишены всякой возможности изобразить состояние русской обители на Афоне в данную тяжелую годину, так как о. Макарий не касался этих сторон жизни ее, занятый своею внутреннею жизнью, а письма старцев афонских, писанные к родителям о. Макария, к великому прискорбию, до нас не сохранились. Во всяком случае, оно было в высшей степени критическим, как это можно заключать по письму старцев обители, посланному в Тулу пред самым окончанием крымской кампании. «Изображать ли вам настоящее наше положение? – пишут отцы афониты, – но оно уж было нами описано вам некогда[134]. Не будем поэтому раздражать души нашей и вашей безотрадностью нашего нынешнего состояния, скажем вам только, что мы пока еще существуем, покрываемые заступлением Богоматери. Всякий, имеющий даже и холодное воображенье, представив себе наши обстоятельства, может понять ясно наше положенье. Недавно само высшее турецкое правительство предписало продавцам съестных припасов, возвысившим на них цену почти до неимоверности, продавать преимущественно хлеб по назначенной от него цене. Цена же правительства следующая: 4 пиастра (пиастр 16 копеек ассигнации) за око (3 фунта) низшего качества и 5 пиастров за око высшего качества. Заметьте, само правительство признает таковую цену умеренною! Но правительство разослало только свои предписания, а запасов-то хлебных не увеличило, следовательно, к чему же послужат его предписания?»[135]. Недостаток жизненных насущных припасов, их страшная дороговизна, прекращение всякого почти общения с родиною, а вместе с тем и прилива пожертвований, как единственного средства к существованию обители, обременительные проценты по долговым обязательствам прежнего времени, наконец, постоянный страх за свою жизнь – все это делало жизнь русских иноков на Афоне в это время не только тяжелым, но поистине «страдальческим подвигом»[136], как характеризуют ее сами иноки.
22 февраля 1853 года о. Макарий был рукоположен в иеродиакона. Ми имеем весьма обширное и любопытное письмо его к родителям об этой перемене в его жизни, уясняющее в значительной степени и самое его непреодолимое стремление к иночеству. «По отправке писем, т. е. на родину, рассказывает о. Макарий, – я был позван к отцу нашему духовнику, коего я нашел в церкви предельной Преподобного Сергия стоящим пред алтарем Господним в эпитрахили. Честнейший отец уже ждал меня. По вхождении он приказывает мне лобызать святые иконы, а после этого начал делать духовное испытание от юности моих преступлений пред Богом и Божией Матерью. Сделав наставление, он приказывает пройти всю жизнь мою и передать ему. Меня смутило это обстоятельство. Я косвенно хотя и слышал, но всякому слуху нельзя верить. Пройти целую жизнь! Сколько воспоминаний, терзающих душу, сколько смущения от прелогов вражиих, наносимых его злобою, сколько радости духовной, сколько ужаса и трепета от таких приказаний! Испытавший оное знает, но постороннему зрителю кажется обыкновенным… Ты должен очистить в оставшиеся дни твои прошедшее время. И объявил мне духовник волю нашего о. игумена и его, что они желают меня произвести недостойного в иеродиакона[137]. Не умею сказать и выразить вам тех чувств. Мысль служить Господу в сонме тем ангелов, касаться Пречистым Его Телу и Крови своими окаянными устами и руками, быть сподоблену осеняемым Св. Духом, присутствовать воплощению Христову до Его вознесения, иметь невидимо сослужащих Небесных Сил, быть объяту Божественным пламенем в присутствии Св. Троицы – все ужасало меня. Я трепетал за мое недостоинство, недоумевая и зная, какая честь[138] и какая ужасная ответственность за всякое неосторожное движение, всякий нечистый помысел. Сколько милосердия Божия, только и правосудия! Но все еще казалось тенью, что я узрел в настоящем виде. На то будет воля Господня: Он удивил на мне грешном свои неизреченные милости, Он не попустил врагу нашему оскорбить меня окаянного, а защитил своею неизреченною милостию». Далее о. Макарий подробно описывает самый чин рукоположения и просит родительских молитв: «да даст ему Господь силу благодати Св. Духа и Матерь Божия да покроет его в предстоянии неосужденно престолу Вышнего, соблюсти чистоту и непорочность его служения, да сослужаще Его Пречистому Телу и Крови Христовой и обходяще Его божественный престол, да ниспошлет благоговение, внимание и память о страстях Господних, страх, трепет, умиление пред величеством славы Его, невидимо седящему и небесным чинам предстоящим, да сохранит меня Господь своею благодатию и Пресвятая Богородица покроет своим честным омофором от всякого дела, слова, помысла душетленного, да приступая к Святая Святым страшным Таинам Христовым да не опалюся огнем правосудия Божия, да не свяжусь веригами прегрешений моих, да приступая к Божественной трапезе не наведу на себя гнева Божия, прикасаясь недостойне, но да будет его благодать укрепляющая и воспоминающая о страшном таинстве, да в чувстве благоговейном предстану Господу Славы, сослужаще в приношении Св. Даров о всех и о вся… Молитесь, молитесь за меня, опасно хожу, а я молюсь за вас в церкви при всяком удобном случае по своей немощи»[139].
В 1856 году 3 июня архиепископом Никодимом о. Макарий был рукоположен в иеромонаха и вскоре же назначен вторым духовником русской монашествующей братии. Действительное положение вещей в монастыре, однако, не требовало столь поспешного возвышения молодого иеромонаха о. Макария на такой почетный пост среди монашествующей братии. По понятиям святогорцев, духовник считается вторым лицом после, играет весьма важную роль в жизни обители с киновиальным устройством, так как перед ним раскрывается до мелочей дневная жизнь каждого индивидуума, всецело поэтому становящегося в моральную зависимость от духовника, который по тому же самому основанию и пользуется между тем всеобщим почетом и уважением. То правда, что о. Иероним, страдая приступами мучительной болезни, иногда был не в состоянии отправлять своих обязанностей; верно также и то, что количество русской братии в монастыре значительно возросло, (так, например, еще в 1852 году русских монахов считалось уже 80 человек), но не здесь кроются истинные причины настоящего на первый взгляд непонятного обстоятельства; они лежат гораздо глубже.
О. Иероним успешно и с полным авторитетом к своей умной, многознающей и опытной особе исполнял свои прежние обязанности духовника и могучего вождя по пути прогресса русской обители; и если, по немощи своей, не был в состоянии в тот или иной день, в ту или другую неделю исполнять свое послушание, то от этого самое дело не терпело никакого ущерба, к тому же 80 человек далеко еще не представляли непобедимой силы, с которой не мог бы справиться такой гигант ума и воли, каким был о. Иероним. Не нужно забывать и того обстоятельства, что, с назначением о. Макария себе в помощники, он нисколько не снял с себя тяжкого бремени руководителя. По-прежнему с утра до глубокой ночи двери его келии не затворялись; по-прежнему все от великосхимника до послушника с своими «недоразумениями», «помыслами» и «искушениями» шли на беседу к «старому батюшке», как называли иноки о. Иеронима в отличие от о. Макария, и искали успокоения, разрешения, необходимых средств и т. д. у этого последнего. О. Макарий еще не приобрел в их глазах необходимого авторитета и, привыкший сам доселе сообразовать свою волю с волею «батюшки», ни на что не мог решиться без его благословения. О. Макарий, бодрый, молодой, неутомимый, ведал внешние монастырские дела, где нужен был зоркий глаз, молодая твердая нога, преданный человек, и был послушным и беспрекословным исполнителем воли «батюшки», который из своей келии видел все и все предусматривал. «Он служит каждый день литургию, – характеризует эту сторону деятельности о. Макария К. Леонтьев, – он исповедует с утра до вечера; он везде – у всенощной, на муле, на горах, на лодке в бурную погоду, он спит по три часа в сутки, он беспрестанно в лихорадке, он в трапезе ест самые плохие постные блюда, – он, которого отец и братья миллионеры»[140]. Не свалить тяжелое бремя на плечи молодого о. Макария, а приблизить к себе, воспитать и приготовить его к будущей великой роли в многолюдной обители желал проницательный о. Иероним. Последний своим умом уже в это время прозревал будущие судьбы славной русской обители, необходимо было поэтому приготовить и достойных деятелей к грядущему времени, чтобы они могли и постоять за себя и в состоянии были бы искусною рукою смело взять кормило правления в разноплеменном монастыре. О. Иероним прежде всего остановил свое внимание на о. Макарии, в уме своем порешив поставить его во главе монастыря, но не прежде, как достаточно продолжительным искусом воспитать и приготовить его к этой роли.
С первых дней своего пребывания в русско-афонском Пантелеимоновском монастыре на впечатлительного о. Макария благородная невозмутимо спокойная личность умного аскета-подвижника, духовника о. Иеронима, этого «первого человека из русских в монашеском опыте», произвела глубокое впечатление. О. Макарий искренно полюбил этого «ангелоподобного человека» всеми чувствами своей нежной души, отдался в руки этого гиганта мысли и воли и сделался его покорным и послушным рабом, не будучи еще иноком. Из переписки о. Макария с родителями мы видим, что самый Афон был для него раем, «особо если этот духовник будет жив», который «никак не советовал ему ехать» назад в Россию. В монашестве о. Иероним «утешает» о. Макария «среди скорбей и искушений», «разрешает сомнения и бури помыслов», «питает пищею духовною», руководит его советами родителям и т. д. Иначе говоря, о. Иероним становится отцом и попечителем инока Макария, которого суровый аскет в свою очередь сердечно полюбил и к которому он тоже привязался самым искренним образом. О. Иероним не мог своим пытливым оком не заметить в о. Макарии «сильной идеальной его натуры, которая видна была и в самой наружности: в его бледном продолговатом лице, в его задумчивых глазах и даже в той сильной впечатлительности и подвижности, которую не могли уничтожить в нем вполне ни природная твердость характера, ни ужасающая непривычный ум суровость афонской дисциплины, под действием которой он так долго прожил»[141], а поэтому полюбил, приблизил его к себе и для будущей его широкой деятельности заставил его пройти тяжелую школу высшего духовного и душевного искуса. О. Макарию, как человеку подвижному, горячему, человеку любви и сердечных увлечений, «нужно было для успешного начальствования и для той внешней борьбы с людьми и обстоятельствами, которой он был предназначен, несколько остыть и окрепнуть в руках человека покойного и непреклонного, но тем не менее искреннего в духовных вожделениях»[142], каковым был покойный о. Иероним. Этот искус, это «смирение послушного, но с вышеописанными чертами самостоятельного характера, ученика под руководствомсвоего сильного духом учителя дались о. Макарию весьма нелегко, так как задевались нередко самые больные струны его впечатлительной натуры. И к чести этих обоих столпов иноческой жизни на Афоне нужно сказать, что они оба до конца жизни удержались в том положении, какое заняли по отношению один к другому с самого начала их совместной жизни: отец Иероним в роли опытного учителя и руководителя, а о. Макарий в роли послушного ученика, по единому взгляду любимого учителя всегда и во всякий час дня и ночи готового к его услугам. Эти поистине идеальные отношения одного великого старца к другому, более великому для посторонних наблюдателей казались положительно удивительными. «Я, – пишет очевидец К. Леонтьев об о. Макарии, – даже часто дивился, глядя на него и слушая его речи, как могла эта натура, столь нежная, казалось, во всех смыслах столь идеальная и сердечная, и быстрая, – как могла она подчиниться так беззаветно, глубоко, искренно и безответно всему тому формализму, который в хорошем монашестве неизбежен! Скажу еще – не только неизбежен, но и в высшей степени плодотворен для духа, ибо он-то, этот общий формализм, дающий так мало простора индивидуальным расположением, даже нередко хорошим, может быть более всего другого упражняет волю инока ежечасными понуждениями и смиряет его своенравие, заставляя иногда даже и движению любви и милосердия – предпочесть послушание начальству или уставу. – Поживши я понял скоро и сам всю душевную, психологическую, так сказать, важность всего того, что многие, по грубому непониманию, зовут «излишними внешностями». – Но и понявши, я продолжал дивиться, как такая, выражаясь по-нынешнему, „нервная“ натура смогла подчиниться всему этому так глубоко и так искренно!»[143]. И ничто не нарушало этих идеальных отношений ученика к учителю: ни разность их сана и положения (о. Макарий был архимандритом и игуменом, а о. Иероним до смерти удерживал за собою скромный титул «иеросхимонаха» духовника), ни даже те «жестокие искусы», которым последний подвергал своего ученика. «Я, – пишет тот же очевидец, – видел их вместе в начале семидесятых годов, видел сыновние отношения архимандрита [т. е. о. Макария] к своему великому старцу [т. е. о. Иерониму]; знал, что он уже и тогда, избранный в кандидаты на звание игумена в случае кончины столетнего старца Герасима, безусловно повиновался о. Иерониму и нередко получал от него выговоры даже и при мне»[144]. Эти-то «выговоры» и были «тяжелым искусом» для о. Макария, так как большею частию проступки его вытекали непосредственно из глубины его доброго впечатлительного сердца, весьма чуткого к горю и радости своего ближнего, и с обычной точки зрения не только не заслуживали порицания, а напротив, должны бы быть одобряемы и награждаемы. Наблюдательный и правдивый биограф о. Макария, неоднократно нами цитируемый, К. Леонтьев, приводит весьма характерный случай подобного искуса.
«Однажды, – рассказывает он, – пришлось архимандриту Макарию, по особому случаю, служить (не помню в какой праздник обедню за чертой Афона[145] на ватопедской башне. Башня эта, служившая когда-то крепостью для защиты монашеских берегов, теперь имеет значение простого хутора или подворья какого-то, принадлежащего богатому греческому монастырю Ватопед. В башне есть очень маленькая и бедная домовая церковь. В ней-то и совершил о. Макарий литургию в сослужении молодого приходского греческого священника из ближайшего селения Ериссо… Он с молодым священником, приглашенным для совместного с ним служения, не только обошелся как нельзя ласковее, но даже на прощание подарил ему для его приходской церкви очень красивые и совсем новые воздухи белого глазета с пестрым шитьем. (О. Макарий привез их с собою, зная, до чего убога церковь на этой заброшенной башне.) Когда, по окончании обедни, мы сели – он на мула, я на лошадь свою и поехали обратно в Руссик, о. Макарий сам сознался мне в этом добром деле своем, небольшом, конечно, по вещественной ценности, но очень значительном по нравственному смыслу, (ибо это был дар святогорца представителю враждебного святогорцам селения). Отец Макарий сказал мне с тем весельем и сияющим умом и добротой выражением лица, которое я так любил:
– Мне уж и его бедного (т. е. молодого священника) захотелось утешить. Пусть и он повеселее уедет домой… – В словах о. Макария, обращенных ко мне, когда мы тронулись в путь, мое и без того так сильно расположенное к нему сердце прочло столько живой и тонкой любви, что мне захотелось тотчас же поцеловать его благородную руку! И будь мы одни, без свиты, я, наверное, и сидя верхом сделал бы это. Да, меня восхитило это трогательное движение его сердца, но не так взглянул на дело общий нам обоим суровый и великий наставник.
Когда, вернувшись в Руссик, я пришел в келью к Иерониму, он сказал мне при самом архимандрите:
– Отец Макарий-то – видели? Воздухи подарил священнику! С какой стати раздавать так уж щедро монастырское добро, и кому же – врагу афонского монастыря!
Отец Макарий сначала молчал и улыбался только, а потом сказал что-то, не помню, до этого дела вовсе не касающееся, и ушел. Оставшись со мною наедине, о. Иероним вздохнул глубоко и сказал:
– Боюсь я, что он без меня все истратит. Он так уж добр, что дай ему волю, так он все тятинькино наследство в орешек сведет!
Я, разумеется, стал защищать о. Макария и мне было немножко досадно на старца, что он вместо того, чтобы разделять нашу небольшую духовную радость, охлаждает ее практическими соображениями. На возражения мои отец Иероним отвечал мне кратко и серьезно, с одной из тех небесно-светлых своих улыбок, которые чрезвычайно редко озаряли его мощное и строгое лицо и действовали на людей с неотразимым обаянием. Он сказал мне так:
– Чадочко Божие, не бойся! Его сердца мы не испортим… он уж слишком милосерд и благ. Но ведь игумену сто лет; я тоже приближаюсь к разрешению моему, – ему скоро придется быть начальником, пасти все это стадо… И где же? Здесь на чужбине! Само по себе – оно и хорошо, что он эти воздухи подарил, и вы видите по жизни наших монахов, что им самим-то ничего не нужно. Но монастырю средства нужны. И отца Макария надо беспрестанно воздерживать и приучать к строгости. Он у нас „ув ле ка те льный“ человек.
Так сказал старец.
При виде этой неожиданной и неизобразимой улыбки на прекрасном величественном лике, при еще менее ожиданной для меня речи на „ты“ со мною, при этом отеческом воззвании: „чадочко Божие“ – ко мне сорокалетнему и столь грешному, мне захотелось уже не руку поцеловать у него, а упасть ему в ноги и поцеловать валеную старую туфлю на ноге его. Даже и эта ошибка „увлекательный“ вместо „увлекающийся“ человек, – эта маленькая „немощь образования“ в связи с столькими великими силами духа и она восхитила меня!»[146].
Весьма нередко случалось о. Макарию получать выговоры от о. Иеронима и монастырские наказания, в виде канона на четках, даже в таких случаях, когда он был прав. Исполняя свою обязанность по должности второго духовника, а позже даже и будучи уже архимандритом, о. Макарию нередко приходилось наталкиваться на разного рода проступки монашествующей братии, за которые он, по уставу монастыря, на виновных налагал каноны, смотря по степени проступка каждого. Нередко случалось, особенно с новоначальными монашествующими, еще недостаточно дисциплинированными и с вспыльчивым характером, что они оставались недовольными теми канонами, которые на них налагались о. Макарием. Раздраженные и озлобленные, они отправлялись с жалобою на о. Макария к о. Иерониму и в резких выражениях высказывали ему свое неудовольствие. Старец о. Иероним молча и спокойно выслушивал несвязную и горячую речь недовольного, причем в большинстве случаев был налицо и обвиняемый, понимая всю неправоту задетого за живое жалобщика, и в душе вполне разделяя мнение о. Макария, старец духовник обыкновенно заключал невозмутимо спокойным тоном: «Бог да простит» и протягивал в знак разрешения от «канона» свою широкую мускулистую руку для лобызания виновному. Затем, слегка повернувшись в сторону о. Макария, прибавлял: «Ты не прав, и посему сам потяни канон в столько-то четок». Яркая краска стыда и оскорбленного невинно самолюбия разливалась по его бледному изнуренному лицу, но через минуту, подавив в себе чувство неудовольствия, он с нежною улыбкою на устах подходил к руке любимого старца за благословением, чтобы немедленно же в своей келии исполнить канон за другого. Из келии духовника оба выходили довольными и счастливыми: один с сознанием того, что он оправдался пред о. духовником, которого все боялись в монастыре, а другой, что ему Господь послал новое испытание и, быть можеть, на пользу ближнего. И действительно, как нередки бывали случаи, что жалобщики, особенно если это были люди неиспорченные нравственно и не загрубели в пороках, а только лишь вспыльчивые по натуре, выйдя с торжеством побежденного из келии духовника, еще на пути в собственную келию начинали раскаиваться в несправедливо нанесенном оскорблении о. Макарию, с кротостию принявшему это оскорбление, и весьма часто возвращались к духовнику и падали ему в ноги со словами:
«батюшка, простите меня окаянного! Я погорячился, благословите мне канон понести». Так же молча и спокойно выслушивал эту покаянную кроткую речь раскаявшегося о. духовник, как и первую бессвязно горячую, говоря ласковым голосом: «Бог благословит», т. е. нести уже раз наложенный канон. Радовался о. Иероним, видя это чистосердечное покаяние виновника, радовался и веселился, смотря на своего любимца о. Макария, восходящего от силы в силу в деле своего нравственного усовершенствования с каждым днем и одновременно с этим все более и более, несмотря на свою сравнительную молодость, приобретающего почтение и уважение в среде иноков обители.
Рассказы иноков Пантелеимоновской обители переполнены подобными фактами отношений отечески воспитательных между двумя великими старцами, и в них мы не усматриваем даже и тени каких-либо случайных недоразумений между старцами. Опытный «в иноческом подвиге» о. Иероним хорошо знал натуру своего ученика и уроки «искушений» никогда не возлагал на него выше его сил или старался искусно соразмерять с степенью его восприимчивости, а мягкий и привязанный к нему, любящий всеми силами своей нежной души о. Макарий привык беспрекословно подчиняться воле «батюшки», научился и опытно дознал, что все то, что делается или что исходить от него, все хорошо и направляется ко благу или его лично или целого монастыря. Отсюда-то мир, любовь и единомыслие сохранились между старцами до их последней разлуки, последовавшей с кончиною о. Иеронима 14 ноября 1885 года. Поэтому-то никому эта разлука не была так горька и чувствительна, как о. Макарию, который свою христианскую скорбь выразил в замечательно-красноречивом слове[147], сказанном им над прахом о. Иеронима при последнем целовании. Горячую любовь к своему покойному духовнику, уважение к его авторитету сохранил о. Макарий и после этой разлуки до самой своей мирной кончины. Ежедневно до самой своей кончины после утренней и вечерней трапезы о. Макарий склонял свою старческую главу над дорогой ему могилою под мощные звуки общебратского пения «Со святыми упокой» и все замечательные дни в жизни почившего были, как для него самого, так и для всей братии монастыря, днями особенно усердной и продолжительной молитвы об упокоении почившого в недрах Авраама. Часы редкого отдыха или глубоких размышлений он любил проводить в келье почившего, в которой, по приказанию о. Макария, все вещи почившего были оставлены в том самом виде и положении, в каком они находились в момент смертного часа их владельца. Сюда о. Макарий удалялся, чтобы подышать в той атмосфере, которая окружала великого старца и вдохновляла его к его высокой миссии, здесь он мысленно повторял свои думы и туги сердечные своему «батюшке», как он это прежде делал, при его жизни, «усты ко устам», черпая всегда из глубокого кладезя его духовной и практической опытности одобрения и утешения в трудном деле духовного управления такою великою паствою, как русский Пантелеимоновский монастырь с более чем в тысячу человек братией и притом русских и греков. Оставленные покойным келейные записки[148], и доселе еще не напечатанные в целом виде, были в этом случае для о. Макария некоторою заменою утраченной личной беседы: ими он поучался и в них он черпал уроки духовной житейской опытности.
Глава VI Сотрудники о. Макария – ученики и воспитанник и о. Иеронима
Один в поле не воин, – гласит мудрость народная. И это хорошо понимал лучший и умнейший представитель ее о. Иероним. Он сознавал, что для поднятия престижа русского имени на Афоне среди мнящих себя быти мудрыми эллинов, для той великой борьбы из-за обладания монастырем, какая все с большею и большею очевидностью назревала, а также для его обладания, управления и прогресса – одной личности, хотя бы и одаренной всеми талантами, недостаточно, необходимы были помощники и сотрудники. О. Иероним и в этом отношении много работал и достиг, нужно сознаться, замечательных результатов. Будучи в одно и то же время мужественным, иконописцем, строителем-техником, музыкантом, хорошим богословом и вообще практическим дельцом, о. Иероним старался сделать такими же и выдающихся лиц из окружающей его братии. В заведенной им школе иконописи[149] мастера из русских работали под руководством опытных учителей, при его непрестанном надзоре и его личных указаниях, и многие потом из этой школы вышли прекрасными иконописцами, поставщиками икон для монастыря, щедро раздающего их своим многочисленным почитателям. Литографский[150] и печатный станки, о чем обстоятельнее у нас речь будет ниже, находились в опытных руках и снабжали почти всю обширную территорию нашего отечества картинами религиозного содержания, образками на бумаге и даже брошюрами духовного содержания. Впрочем, печатный афонский станок действовал недолго, но литографский не прекращал свою работу до семидесятых годов, когда, наконец, нашли более удобным и видным литографские работы перенести в Москву, где они производятся и доселе.
С кончиной старца Серафима Святогорца русская братия Пантелеимоновского монастыря осталась без опытного и делового секретаря, который ей крайне необходим для ведения обширной корреспонденции с отечеством, с высокопоставленными особами духовного и светского званий, как у нас в России, так и на Востоке, занимающими официальное положение и имеющими такое или иное отношение к обители. Обязанности эти были возложены на земляка покойного старца Серафима о. Азарию. Вятский семинарист, некоторое время бывший преподавателем греческого языка в одном из уездных духовных училищ, постриженник Пантелеимоновского монастыря, о. Азария обратил на себя внимание о. Иеронима своим глубоким природным умом, соединенным с проницательностью и тонким критицизмом, а также неистощимым чисто русским живым юмором. Приняв на себя эту нелегкую обязанность, о. Азария, благодаря усидчивости и упорному труду, быстро освоился с своим положением, изучил весь монастырский механизм, вошел во все дела и стал, можно сказать, правою рукою покойных старцев. Всякое дело, так или иначе касавшееся монастыря, не прежде начиналось, как старцы посоветуются с о. Азарией; никакая бумага монастырская не миновала зорких его глаз, и все советы его и замечания имели в глах старцев весьма важное значение. Особенную услугу о. Азария оказал монастырю во время распри русских с греками из-за прав на монастырь. О. Азария, можно сказать, один вынес эту борьбу на своих могучих плечах посреди деловой и весьма сложной обширной официальной переписки, о. Азария находил время ратовать за правое русское дело и путем печати. Его перу принадлежат статьи, печатавшиеся в некоторых греческих, константинопольских, афонских и наших русских («Московские Ведомости») газетах под псевдонимом «любителя истины». Спокойное изложение фактов истории и трезвый взгляд на дело много содействовали в свое время разъяснению его и успокоению умов общества, встревоженного задорным тоном некоторой части восточной журналистики. Ему принадлежит первая мысль о приведении в известность всех наличных документов обители и об издании их в свет в русском переводе, который он же и выполнил. Перу его принадлежат две книги, не утратившие значения и ценности и в настоящее время: «Афонский Патерик» и «Сказания о жизни Божией Матери». О. Азария привел в порядок монастырскую библиотеку и подготовил во всех отношениях достойного себе ученика в лице о. Матвея.
Экономическая хозяйственная сторона обители была поручена весьма умному, энергичному до самоотвержения и опытному в хозяйстве о. Павлу, уроженцу Острогожска, Воронежской губернии, который в этой должности остается и по настоящее время. Отличаясь редкою силою воли и характера, несокрушимою настойчивостью в исполнении своих нередко весьма сложных планов, особенно в строительном деле, которые иногда по своей смелости приводят специалистов даже в изумление, неутомимый и подвижный далеко не по своим солидным летам, о. Павел представляет из себя редкий образец домовитого хозяина, которому отдают дань уважения за это даже греческие афонские иноки, вообще недружелюбно расположенные к русским. Отсюда весьма понятно то выдающееся положение сего старца, особенно при нынешнем игумене-аскете, какое он занимает среди братии. Вся внешняя сторона деятельности монастыря находится в мощных руках эконома о. Павла; все относящееся сюда исходит от него непосредственно и к нему направляется; на долю игумена-аскета остается духовное водительство братии по пути духовного усовершенствования, какой путь ему более знаком и доступен. Не в этих ли качествах ума и характера, а также в его высокочестной тридцатилетней деятельности на пользу дорогой ему обители, никем никогда не заподозренной, кроются, быть может, причины недовольства со стороны некоторых выдающимся положением этой личности в обители? Трудно дать верную оценку живой личности; правдивая характеристика возможна после смерти, когда улягутся человеческие страсти, но, насколько мы знаем и понимаем нынешнее положение вещей в русской Пантелеимоновской обители, должны откровенно сказать, что о. Павел, как эконом этой обители, незаменим…
Ближайшим помощником о. Павла был хорошо известный у нас в России иеромонах Арсений[151], большей частью, вместо Афона, проживший и даже скончавшийся в пределах своего отечества. Уроженец Тверской губернии, купеческий сын, он получил первоначальное образование в уездном училище и до поступления в монашество жил долгое время в Петербурге у дяди Базилевского, служившего управляющим по откупам. Здесь он на личные средства продолжал свое образование: обучался коммерческим наукам, французскому языку и музыке. В хорошем обществе, которое окружало в это время Александра Ивановича (мирское его имя), он докончил свое самообразование и усвоил приемы светского приличия. Из Петербурга он очутился доверенным лицом на золотых приисках в Енисейске в компании Баркова, а оттуда, по смерти своего отца, он переехал в Чистопольский уезд Казанской губернии и устроил здесь свой свечной и мыловаренный завод. В Казани он задумал было жениться, но невеста, засватанная ему одним из местных купцов, неожиданно отказала ему. Этот отказ подействовал на него удручающим образом и он находился в нерешительности, как направить свою жизнь дальше. Поступление в монахи его меньшего брата Иоанна, в послушники Саровской пустыни, вывело его из затруднения, и он бесповоротно решил оставить все свои дела и последовать примеру меньшего брата. Но прежде чем избрать для себя какое-нибудь пристанище в виде монастыря, он решился посетить Православный Восток и удовлетворить влечению своего сердца с раннего детства. Заехав по пути на Афон, Александр Иванович увлекся строгостию общежительных порядков в монастыре и решил поступить в число его иноков. После прохождения общих для всех братий послушаний, его, как опытного и знакомого с письмоводством, назначили в монастырскую канцелярию под руководство о. Пантелеймона[152] для ведения обширной монастырской корреспонденции. Здесь симпатичные стороны его мягкого характера, его домашнее самообразование, начитанность в святоотеческой литературе и бойкое перо с весьма изящным почерком не остались незамеченными опытными старцами обители, и они порешили уже дать этому талантливому человеку иное назначение. 6 марта 1859 года о. Арсений был пострижен в монахи, 11 июня 1861 года рукоположен в иеромонаха, а 28 августа 1862 года отправлен в Россию с святынею для сбора милостыни на пользу обители. Выбор лица для такой трудной миссии сделан был весьма удачно, а поэтому и результаты ее, как и нужно было ожидать, были блистательные. Окончив с успехом возложенное на него поручение, о. Арсений, однако, не возвратился на Афон, а, по указанию старцев, должен был оставаться в Москве с афонскою святынею, временно помещенною при Богоявленском монастыре. Здесь на него возложена была издательская деятельность монастыря, в которой он был не только механическим исполнителем чужих распоряжений, но главным редактором этих изданий; а со времени издания журнала «Душеполезный Собеседник» даже и главным сотрудником его. Отсюда же из Москвы он вел первоначально все дела относительно устройства на Кавказе Симоно-Канонитского монастыря, именуемого «Новым Афоном». Все поручения, возлагавшиеся на него монастырем, он выполнял с замечательною энергией и добросовестностью, не щадя собственных сил и здоровья. Но на долю о. Арсения неожиданно для него самого выпал и новый труд, выполнить который может только личность незаурядная. Во время своего путешествия со святыней по России, а потом, уже живя в Богоявленском монастыре Москвы, о. Арсений, благодаря своей общительности и симпатичному характеру, приобрел очень много знакомых в разных слоях русского общества. От этих знакомых о. Арсений был завален письмами с разного рода вопросами относительно жизни в миру, поступления в монашество и жизни в монастыре, относительно разного рода сомнений и колебаний немощной совести человека и т. п. О. Арсений никогда и никому не отказывал в своем совете, в сердечном утешении и в добром слове, хотя, при сложности возлагавшихся на него поручений из монастыря, на корреспонденцию со знакомыми он уделял время обыкновенно из короткой своей ночи, засиживаясь нередко за нею до самой утрени. Все письма его[153] дышали отеческою любовью, всегдашней готовностью растворить душевную скорбь ближнего сердечным участием и словом утешения и ободрения; теплотою и задушевностью веяло от каждого его слова; широкое и всестороннее знакомство с жизнию, редкая опытность в духовной жизни, большая начитанность в святоотеческой литературе – все это делало его письма в высшей степени поучительными, занимательными, и они доставляли получавшим их истинную отраду, величайшее наслаждение. Великую пользу принес русскому народу о. Арсений своими письмами и издательской деятельностью, но его заслуги для обители, можно сказать, неисчислимы. Живя в первопрестольной столице русского государства, жители которой искони отличаются религиозностью, усердием и щедродательностью на нужды храмов и монастырей, покойный о. Арсений не только служил молебны и собирал милостыню, но главным образом направлял свои усилия к тому, чтобы прочно обосноваться в Москве и иметь право говорить: «Вот и мы теперь, помощью угодника Божия, постоянные жители Москвы». Этого он и достиг вполне, устроив на одной из бойких улиц Москвы афонскую часовню во имя св. Пантелеймона, которая дает русскому Пантелеимоновскому монастырю богатые материальные средства и, конечно, надолго останется главным источником ее обеспечения, – это с одной стороны, а с другой, та же часовня является посредницею живого и легкого общения между Россией и русским народом и Афоном и русскою Пантелеимоновской обителью на нем.
Некоторое время труды о. Арсения в Москве разделял с ним нынешний игумен – архимандрит русского Пантелеимоновского монастыря о. Андрей, который, однако, оставался на этом послушании сравнительно недолго. Любя уединение, по природной склонности к аскетизму, о. Андрей тяготился суетливою столичною жизнью и удалился на Афоне в монастырь, где он делил все свое время между точным выполнением всех монастырских, положенных по уставу, служб и келейными духовными упражнениями аскетического характера. Благодаря симпатичному голосу, ясной и выразительной дикции, о. Андрей пользовался среди братии обители славою лучшего «канонарха», в каковой роли имели удовольствие его видеть и слышать все те из посетителей Афона, которые приезжали туда к «нарочитым» или великим праздникам. Как «строитель Таин Божиих» – это выдающийся пример благоговения, истого ревнителя церковного благолепия и строгого выполнителя православного богослужения «разумно и благообразно», по сложившимся на Афоне преданиям старцев. За свою высокоаскетическую жизнь о. Андрей долгое время состоял на «хуторе» Крумица духовником довольно многочисленной братии, живущей там постоянно для работ.
В монастыре среди русских монашествующих всегда выдвигался, и весьма заметно, симпатичный иеромонах и духовник о. Рафаил (вятич). С полугимназическим образованием, начитанный в святоотеческой литературе и даже светской, живой и остроумный о. Рафаил для образованных посетителей русского Пантелеимоновского монастыря был незаменимым собеседником, «живым человеком» посреди людей «не от мира сего». Красивая наружность, изящные манеры, развязная и остроумно-бойкая речь его производила на этих посетителей самое приятное впечатление, и они уезжали из обители положительно очарованными о. Рафаилом. Те же симпатичные качества его характера и хорошее знание современного разговорного новогреческого языка расположили в его пользу и даже снискали ему почетную известность и среди монашествующих афонских греков. Старцы обители не могли не понимать того значения, какое естественным образом он занял в среде братства, и стали, несмотря на его сравнительную молодость, недавность в обители и даже некоторые «немощи», постепенно возвышать его в глазах старцев-иеромонахов. О. Рафаил имел все доступные афонскому иноку награды: набедренник и палицу, считался настоятелем греческого Пантелеимоновского собора и носил почетнейшее на Афоне титло «духовника». Ввиду этого на Афоне греки, болгары, русские и даже некоторые из братии Пантелеимоновской обители стали смотреть на о. Рафаила как на будущего преемника игумена Макария. Мысль эта, кажется, не была чужда и самому о. Рафаилу, о чем можно догадываться по его настойчивому желанию видеть «преемника» объявленным еще при жизни покойного о. Макария. Провидению, как увидим после, угодно было жребием указать преемника покойному игумену в лице нынешнего игумена о. Андрея, никогда не мечтавшего об этой высокой чести, и разрушить тайные надежды желавших ее. Оставалось примириться таким образом с совершившимся фактом, как это и сделали другие люди, не менее сильные характером и умом и не мало потрудившиеся на пользу своей обители, но о. Рафаил почему-то посмотрел на дело Божие иначе. С вступлением на игуменский трон о. Андрея, когда устанавливался нынешний порядок жизни в русской Пантелеимоновской обители на Афоне, когда, следовательно, требовалась особая дружеская совместная работа всех представительных старцев ее, о. Рафаил неожиданно не только сделался лицом совершенно индифферентным, но тайно встал в оппозицию к этому порядку. Едва ли можно было от этого ожидать благих последствий для обители и трудно было бы предсказать, чем все это кончилось, если бы счастливый случай не вызвал о. Рафаила из Пантелеимоновской обители и не поставил его во главе знаменитейшей русской Саровской обители. Русская Пантелеимоновская обитель проводила о. Рафаила со скорбью, потому что она потеряла в нем талантливую силу, но с сердечным пожеланием ему трудиться успешно на пользу дорогого отечества и святочтимой русским народом обители и обрести снова «мир душевный», которого он лишился в последние дни своего пребывания на Афоне…
Нынешний архимандрит – игумен новоафонской Симоно-Канонитской обители о. Иероним – человек скромный и в высшей степени трудолюбивый. Воспитывался он в обители под непосредственным влиянием знаменитых старцев, будучи келейником о. Макария. В качестве помощника эконома практически достиг весьма замечательных познаний по части архитектурной и инженерной и, устройством вверенной его попечению обители на Кавказе, он приводит в восторг не только обычных посетителей-поклонников своей новосозданной обители, но даже удостоился одобрения Их Величеств[154], в последнее путешествие на Кавказ в 1888 году.
Неоспоримо важную услугу оказал монастырю известный о. Паисий[155], более двадцати лет занимавший должность заведующего подворьем в Константинополе. Полуграмотный, но от природы весьма умный, с непреклонною силою воли и настойчивым характером, о. Паисий был все время энергичным и неустанным работником для своей обители. Руководимое им подворье было всегда образцовым в ряду других русских подворий – Андреевского и Ильинского и охотно привлекало в свои гостеприимные стены массы наших поклонников и поклонниц. Для этих последних о. Паисий был увлекательным проповедником, «прозорливцем», бичевавшим их пороки и увлечения. Имя его было весьма популярно среди поклонников, которые под влиянием его убеждений и рассказов об Афоне нередко изменяли курс своего паломнического пути и ехали на Афон, вопреки своим намерениям, лишь бы проверить рассказы о. Паисия. Таким образом, о. Паисий привлек в свою обитель многих благодетелей. От природы весьма умный и общительный по характеру, он был радушно принимаем в наших константинопольских посольстве и консульстве, которые нередко по важным делам спрашивали совета о. Паисия. Неудивительно поэтому, что о. Паисий находил для себя самую сильную поддержку в авторитете своих знаменитых старцев, сердечно его любивших. К сожалению, однако, нужно сказать, что, весьма полезный в этой скромной роли афонского инока, о. Паисий не чужд был всегда стремления к иеромонашеству, на которое он, по уставу афонскому[156], не имел права, и это стремление погубило эту весьма полезную силу для монастыря и для нашего отечества. Увлеченный обещаниями почестей и архимандритского сана со стороны известного вольного казака Н. И. Ашинова, который подолгу проживал у него в Константинополе, о. Паисий на склоне лет своих оставил Константинополь и русский афонский монастырь и, после рукоположения в сан архимандрита в С.-Петербурге, рискнул связать свою судьбу с судьбою упомянутого авантюриста. Читателям хорошо памятна печальная судьба пресловутой абиссинской миссии[151] и знаменитая кровавая танджурская эпопея, а поэтому мы не будем говорить о ней. Воротившись в Россию, архимандрит Паисий поселился временно в Александро-Невской лавре, а ныне обречен доживать свой недолгий век на покое в Саровской пустыни.
Воспитывая будущих деятелей на благо русской обители на Афоне, о. Иероним не забывал, что этим труженикам придется всегда работать среди людей иного племени, иного языка, а поэтому для успеха самого дела необходимо практическое знакомство с людьми, с которыми им придется жить и действовать, и знание их языка. Всеми зависящими от него мерами поощряя иноков русских к изучению языков новогреческого и турецкого, о. Иероним, сам прекрасно владея языком ромейским или новогреческим, решился составить для желающих учиться этому языку «Русско-греческий словарь», в котором поместил более чем шесть тысяч слов простого греческого языка, несколько необходимых фраз для повседневных разговоров и краткую грамматику этого языка. Так как иноки из русских, большею частью люди, вышедшие из народных школ и незнакомые с греческим алфавитом, не могли читать греческие слова, написанные греческим алфавитом, изучить который дело нелегкое, то о. Иероним решился напечатать свой «Русско-греческий словарь – разговоры – грамматика» русским шрифтом, чтобы таким образом облегчить пользование этою книгою большинству иноков. Словарь этот, вышедший в свет в 1865 году и набранный руками афонских русских иноков в существовавшей там некоторое время русской типографии, для многих остается и доселе единственным руководством, хотя ныне нередко можно видеть у иноков и другую подобную книжку, изданную в Одессе г. Карианди. Для русских людей, занимающихся изучением новогреческого языка, книжка о. Иеронима представляет больше удобств, чем эта последняя книга, так как греческие фразы ее переданы весьма близко к их нынешнему произношению, а не так, как те же фразы должны быть написаны. Вот почему по книжке г. Карианди решительно нельзя научиться говорить без учителя и без практики. Благодаря таким стараниям о. Иеронима, все почти упомянутые деятели свободно владеют новогреческим языком. Многие и из братии также хорошо говорят на этом и болгарском языках. Для изучения турецкого языка некоторые из братии (например, нынешний грамматик о. Матвей) посылались в Константинополь, где они занимались под руководством нарочито нанятых учителей.
Но по сложности дел монастырских обители необходимы были всегда и образованные люди из русских, для того чтобы из них можно было иметь антипросопов для карейского кинота, где дела ведутся на греческом языке, грамматиков (секретарей) для разбора и ответов на греческую корреспонденцию, для лиц, заведующих метохами и т. д. Вот поэтому-то, как о. Иероним, так потом и о. Макарий, старались некоторым из братии, более способным и чувствующим любовь к науке, давать настоящее школьное образование. После всестороннего искуса на разных послушаниях, начиная с мытья тарелок, чистки картофеля на общебратской трапезе, ношения камней, исполнения обязанностей погонщика мулов, караульщика винограда и огородов и т. п., двадцатилетние юноши, крестьяне и мещане отправляются на Карею и там засаживаются за греческий букварь[157]. Находясь под непрестанным руководством учителя грека эти юноши в течение шести-семи лет настолько изучают эллинский язык, что владеют им потом свободнее, чем даже своим природным. Эти русские ученики наравне с учениками греками прослушивают полный гимназический курс в тамошней общеафонской школе, под руководством опытных дидискалов, свободно слушают лекции на новогреческом языке, легко переводят Аристотеля, Платона и читают бегло творения святых отцов: Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова и других и иногда в успехах даже превосходят своих сверстников природных греков. Такую школу образования прошли выдающиеся деятели в обители св. Пантелеймона о. Нафанаил, Матвей, Агафодор и др.
Первый настолько освоился с греческой жизнью и языком, что решительно ничем не отличался в жизни от своих сотоварищей по киноту, в котором он много лет состоял антипросопом (представителем) русского Пантелеимоновского монастыря. Несмотря на свое курское происхождение, он считался на Афоне за чистокровного грека, и трудно было убедить афонских эллинов в том, что в его жилах течет настоящая русская кровь. Усвоив их образ жизни до мелочей, зная в совершенстве их язык, о. Нафанаил переродился даже и характером. Он был порывист и увлекающийся человек в своих обычных поступках, речист, сидя на балконе за стаканом холодной воды с ложкою густого варенья, но он в то же время осторожен в важных делах, касающихся его монастыря, предусмотрителен, изворотлив и даже хитер, когда задеваются его насущные интересы; он молчалив в киноте, когда ведется дело о делах его не касающихся, но речь его быстра и стремительна, когда он был задет за живое. Одним словом, и на взгляд русского человека – это был истый сын свободной Эллады. Греки называли его «хитрецом» и весьма редко верили тому, о чем он говорит откровенно, всегда подразумевая нечто более важное в тайнике его души, о чем он настойчиво молчал. Это-то положение и давало ему нередко возможность устраивать и направлять свои дела к благоприятному окончанию совершенно неожиданными для его сотоварищей путями. Эти только, бывало, дивятся его ловкости и умению все так скоро и живо обделывать. Смерть весьма рано отняла у обители этого даровитого деятеля. О. Нафанаил скончался († 1890) пятидесяти лет с небольшим.
О. Матвей – харьковский купеческий сын, исполняет в монастыре должность грамматика или секретаря по греческим делам. О. Матвей корреспондирует со всем Афоном, с великою церковью константинопольскою и с правительством. Он превосходно владеет языками новогреческим и эллинским классическим, пишет и читает по-турецки, несколько знаком с языками латинским и французским. Это лингвист и ученый в настоящем, можно сказать, смысле этого слова. Свободные часы от своих прямых обязанностей по должности секретаря он проводит обыкновенно в монастырской библиотеке, которая, благодаря его неустанным заботам и горячей любви к книгам, ежегодно наполняется новыми капита льными приобретениями. В настоящее время по количеству рукописей греческих и южнославянских и по их важной научной ценности библиотека нашего монастыря на Афоне может стоять наряду с лучшими библиотеками Афона – Лаврской, Ватопедской и др. Библиотека приведена в порядок, и о. Матвей составляет и обстоятельное описание всех имеющихся в его распоряжении рукописей. Поэтому нередко его можно видеть в библиотеке над сличением греческих творений рукописных по лучшим изданиям этих творений западных ученых – Маия, Гоара, Свойнсона, Питры, Миня и др., и в самых рукописях и на полях их разного рода замечания и варианты, сделанные его рукою и весьма интересные для ученого исследователя. Отсюда о. Матвей обнаруживает замечательно богатую эрудицию, которой может позавидовать всякий ученый, и своею начитанностью и знакомством с рукописями и печатной литературой поражает многих ученых путешественников. Но о. Матвей не только знаток богословской письменности, опытный палеограф, издатель некоторых произведений древней письменности с собственными примечаниями и предисловиями (ему в новом издании афонского патерика принадлежит открытие и издание весьма многих сказаний об отцах, подвизавшихся на Афоне), а также страстный нумизмат, будучи хорошо знаком с восточною нумизматикою, имеет сведения в греческой эпиграфике и любитель древностей классических и церковных. Жажда знаний у этого простого, в высшей степени скромного инока, чуждого всяких почестей и отличий, отказывающегося даже от принятия сана иеромонаха, неоднократно ему предлагаемого, – поразительная: нет такого предмета, которым бы он не интересовался, о чем бы он не желал выслушать разумную речь заезжего специалиста, чтобы потом приобретенные им случайною беседой сведения он не старался приметить на деле, при своих непрерывных книжных или ученых работах. Можно только сожалеть о том, что этот даровитый инок не прошел настоящей систематической школы, без которой самые его занятия двигаются медленно и едва ли даже в полном виде сделаются когда-нибудь достоянием людей науки. Свойственная о. Матвею скромность и флегматичность его характера будут всегда стоять на дороге его благих намерений и всех прекрасных планов[158].
О. Агафодор, родом москвич[159], еще сравнительно молодой иеромонах и антипросоп русской Пантелеимоновской обители в карейском протате. Своим возвышением в монастыре он обязан природному уму, всегда истому стремлению к образованию, ради которого он прошел полный курс наук в карейской школе и легко победил всю эллинскую премудрость, а также мягкому симпатичному характеру, образцовой монашеской жизни и вообще прирожден ной ем у рассудительности. Несмотря на свою молодость, он был близким человеком покойного о. Макария, который посвящал его в тайны своих помышлений, и ныне, как опытный и рассудительный духовник, пользуется среди монашествующей братии обители почетом и уважением.
Были примеры, когда более даровитые иноки, по окончании курса карейской школы, поступали в афинский университет и оканчивали курс в наших духовных академиях. Таков бывший начальник афинской русской миссии, о. архимандрит Геннадий, постриженник русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне, обучавшийся в афинском университете и кандидат С.-Петербургской духовной академии. Но стремления проводить своих иноков чрез высшие общеобразовательные и специальные школы у афонских монастырей являются редко. Самое большее, что делают для них обители и старцы богатых афонских монастырей – это позволяют своим питомцам окончить курс на Халках в Константинополе в существующей там богословской школе. Это делается вовсе не из обскурантизма, как полагают некоторые, а из естественного желания разумную силу привлечь опять в свою обитель, чтобы она в благодарность за воспитание поработала бы для ее блага. Тогда как иноки с высшим образованием, потолкавшиеся в стенах афонского университета, а иногда немецких университетов, редко потом возвращаются в обитель и стремятся находить подходящую для себя деятельность в миру. Само собою понятно, иметь полезные силы, тратить на них средства монастырей, с тем чтобы их потом потерять навсегда – дело нерасчетливое, а поэтому и опасения афонских монастырей по отношению к высшей школе имеют свои вполне резонные и с практической точки зрения даже разумные основания.
Говоря о выдающихся деятелях и сотрудниках покойного о. Макария, мы далеки от мысли считать представленный нами список таковых полным. Мы знаем не мало таких лиц и имен, которые хотя и не занимали столь выдающихся положений в истории русской Пантелеимоновской общины на Афоне, как указанные, но деятельность которых не прошла бесплодною для обители, а посему не может не быть помянута здесь благодарностью. В числе этих, так сказать, второстепенных деятелей русской Пантелеимоновской обители на Афоне первое место мы отводим симпатичнейшему иеромонаху о. Григорию, русскому Кукузелю[160] на Святой Горе Афонской.
Бывший крепостной крестьянин, о. Григорий обладал от природы редким музыкальным талантом и свободно владел многими музыкальными инструментами. Свои музыкальные способности он развил, находясь в составе хора и оркестра у своего помещика, большого ценителя и любителя пения и музыки. Русский меценат обратил внимание на выдающиеся способности своего дворового человека и сделал его регентом и дирижером, а потом за эти таланты и труды по приведению в образцовый порядок его хора и оркестра отпустил на свободу. О. Григорий был истинный артист в душе и продолжал служить своему любимому искусству в родном городе Старом Осколе. Здесь он давал уроки музыки и пения и устроил и управлял хорами при многих приходских церквах. Увлеченный общим течением старооскольской молодежи, стремившейся в начале пятидесятых годов в монашество на Афон, о. Григорий решился и сам оставить мир прозы и искать удовлетворения своей артистической души в мире идеальном, в жизни аскетической, где царит одна гармония, а диссонансы становятся едва уловимы или совершенно не слышны. О. Григория мы видим в Одессе в числе спутников о. Макария, где он составил весьма недурной хор из своих сотоварищей-паломников; под его же руководством тот же хор на изумрудных водах Босфора, в присутствии о. Серафима Святогорца, приветствует Царьград могучими звуками национального русского гимна: «Боже, Царя храни». У берегов Святой Афонской горы – цели стремления – о. Григорий сыграл себе и своим товарищам с необыкновенным воодушевлением последнюю мирскую лебединую песнь на гитаре, инструменте, которым превосходно владел о. Григорий и с которым он не расставался и во время своего путешествия и здесь на глазах у всех сломал гитару и выбросил в море, решившись, как он нам лично признавался, отселе никогда не брать в руки ни одного инструмента (особенно любил он скрипку и, если не изменила нам память, кларнет-пистон) и «петь Богу моему разумно, дондеже есть». Это свое обещание он выдержал до самой смерти. О. Иероним, большой любитель пения церковного и знаток, сразу оценил дарования новоначального инока Пантелеимоновской обители и поручил ему организовать хор из русских иноков. С любовью и увлечением отдался о. Григорий любимому делу и потратил на него все свои богатые силы духовные и физические, благодаря чему он достиг замечательных результатов. Из полуграмотных крестьян и мещан, – главный контингент монахов русской Пантелеимоновской обители, – он образовал такой богатый голосами и музыкально-дисциплинированный хор, который приводил в восторг не только наших паломников, но даже вызывал одобрения и восхищения у наших царственных особ, у высокопоставленных лиц русских и иностранных и даже знатоков музыки и пения, случайно попадавших на Святую Афонскую Гору. О. Григорий записал и переложил на голоса весьма много мелодий так называемого ныне афонского распева и сделал не мало переложений и упрощений в пьесах русских известнейших композиторов духовной музыки. Традиции его долго будут жить на Афоне и поддерживаться регентами, учениками покойного о. Григория. Последние годы своей жизни этот в высшей степени скромный, но богатый талантами человек доживал, окруженный всеобщею любовию братства, в келлие на Крумице, близ моря и являлся в монастырь на клирос только в храмовые праздники, во время которых мы и познакомились с этою замечательною личностию и имели удовольствие слышать образцовое афонское пение под его руководством. О. Григорий скончался в 1890 году в глубокой старости.
О. Михаил, как заведовавший Пантелеимоновским подворьем в Таганроге, уже много лет пользуется большой известностью в России. Казалось, что этот человек создан самою природою для Афона, чтобы там вести жизнь сурового анахорета, каким он остается и в миру, живя посреди постоянных хлопот и забот о нуждах своей великой обители, но Афон не дает о. Михаилу спокойствия и уединения и оставляет его несменно на одном и том же посту ввиду его важности, как места, откуда получает монастырь полное годовое продовольствие. Энергичная деятельность о. Михаила нашла себе оценку и в правительственных сферах, и о. Михаил награжден наперсным крестом, от Св. Синода выдаваемым.
Нельзя не упомянуть здесь об о. иеромонахе Илиодоре, который долгое время заведовал подворьем в Солуни и ныне считается в числе «представительных» старцев своей обители; об о. Иларионе, деятельнейшем сотруднике о. архимандрита Иеронима и экономе новоафонской Симоно-Канонитской обители, об о. Иосифе, долгое время состоявшем заведующим подворьем монастыря в г. Солуни и любителе-пчеловоде, который ныне почти всецело посвятил себя уходу за «Божией пчелкой», об о. Алексее, управляющем ныне подворьем в С.-Петербурге, и об о. Иоанникие, живом и умном доверенном монастыря на подворье в Константинополе. Но назвать по имени всех отцов, потрудившихся и трудящихся еще на пользу и с честью для русской Пантелеимоновской обители на Афоне и тем заслуживших себе признательность, нет никакой возможности. Мы верим, что имена этих невидимых миру тружеников-ратоборцев за русское дело на Святой Горе напишутся в «книге живота».
* * *
После всего нами сказанного в предшествующих главах мы, наконец, подошли к событиям глубокого интереса и величайшей важности в истории русской общины Пантелеимоновского монастыря на Святой Горе Афонской. Посему, чтобы перейти к дальнейшему рассказу и этот переход сделать естественным, мы оглянемся назад и в общих чертах постараемся охарактеризовать: – что представляла из себя небольшая сравнительно кучка русских иноков накануне этих событий, которым суждено было не только взволновать святогорских отшельников на долгое время, но даже занимать умы великих дипломатов первоклассных европейских государств? Это с одной стороны. С другой, каков тот элемент, упорную борьбу с которым должна была выдержать эта община неожиданно для себя, чтобы отстоять право на свое существование на Святой Горе и скрытый антагонизм которого она должна была чувствовать потом в течение многих лет до наших дней? Чтобы быть беспристрастным, мы характеристику эту сделаем красноречивыми словами большого знатока Востока и замечательного ученого археолога графа Мельхиора Вогюэ, случайно посетившего Афонскую Гору во время разгара этой борьбы. «Элемент русский, – пишет он, – так еще мал, он до того стушевывается при общем взгляде на общину, что мы даже не упомянули о нем в нашем эскизе. Я говорю, – продолжает граф Вогюэ, – об элементе славянском, о группе русских, которые в числе семи или восьми сот монахов населяют один из наибольших монастырей на Афоне, именно монастырь св. Пантелеймона, и два скита во имя св. Андрея и пророка Илии. Здесь нет и речи о каком-нибудь упадке сил, о разложении; напротив того, приходится иметь дело с поколением новым, нетронутым, которое хотя и уносит нас в средние века, но в средние века Запада. Должно быть были важные причины, заставившие этих неофитов переселиться сюда из своих степей. Все уставы они исполняют со всею строгостью и с охотою предаются некоторым работам. Эти русские монахи составляют одну тесную семью, повинующуюся и горячо любящую свое отечество, это покорное орудие находится в руках нескольких настоятелей, одаренных редкими административными способностями. Группа эта быстро развивается, будучи вполне обеспечена (?) в материальном отношении. Известно, как ревностно Россия оберегает свои религиозные учреждения в Палестине; с теми же чувствами, если еще не в сильнейшей степени она относится к своим афонским детищам. Благодаря обильным приношениям своей матери-родины, все русские постройки в монастыре процветают и улучшаются в той мере, как греческие ветшают и беднеют; русские покупают здесь земли, постоянно строят новые келлии, возобновляют громадные храмы, величественно украшая их… Они имеют свою типографию, свои собственные мастерские гравировальные и фотографические, которые во всевозможных видах и произведениях распространяют их понятия о Святой Горе.
Едва ли нам нужно объяснять значение этой небольшой кучки людей, тесно связанных между собою, деятельных, богатых и в то же время владеющих землею среди общества разобщенного, предоставленного своим собственным средствам. Влияние этой группы и уважение, чувствуемое к ней в такой среде, как Афон, находящейся почти в самом центре Востока, превосходит все, что только можно вообразить, исходя из наших общественных привычек. Влияние это обусловливается богатством, независимостью и энергией, т. е. теми условиями жизни, которые обыкновенно сильно уважаются в стране, где их не существует. Не трудно угадать, после того, тот страшный антагонизм, который должен был возникнуть между прежними обладателями Горы и новыми пришельцами, явившимися с таким сильным аппетитом к их скудной трапезе. Вся жизнь, на которую только способен Афон, ныне сосредоточилась в этой борьбе. Невольные опасения, внушаемые отживающему поколению монахов необыкновенною деятельностию руководителей русской общины, их явным превосходством, составляют одно из самых интересных зрелищ, уцелевших еще для путешественников. Заставая за делом этих суровых апостолов, нам казалось, что пред нами предстали древние франконские и саксонские монахи, так удачно разрушившие некогда феодальное здание. Всегда в дороге или пешком, или на корабле, на пути в Карею или в Стамбул, не чувствительные к физической усталости, не знающие покоя, проповедующие и дома, и с высоты своего седла, из всех страстей сего мира сохранившие одну только любовь к своей народности – они напоминали нам собою апостолов XII века Бернарда и Арнольда Бресчианского»[161]. Так писал о русской монашеской общине на Афоне в данное время по сравнению ее с общинами греческих монастырей ученый иностранец, и нам ничего не остается прибавить к сказанному. Sapienti sat[162].
Глава VII Греко-русский пантелеимоновский процесс
Русские иноки, вступившие в Пантелеимоновский монастырь в 1840 году вместе с о. Иеронимом, хотя поселились в нем по усиленной просьбе греческих монахов, однако эти последние и не думали считать их равными себе. Греки смотрели на русских как на пришелцов, своих рабов, которые обязаны были за плохой приют и крайне скудный стол работать на монастырь, подвергаться всевозможного рода лишениям, нуждам и т. п. Малочисленность русской братии, безвыходно тяжелое положение монастырских финансов и полная почти скудость личных средств – все это заставляло русскую братию временно мириться с своим приниженным положением в монастыре.
Посещение Афона и в частности русского Пантелеимоновского монастыря в 1845 году великим князем Константином Николаевичем[163] подняло престиж русских в глазах греков-афонитов, и сами русские афонцы стали с этих пор смотреть на себя, как на членов или представителей великой русской нации. Последовавший вскоре за тем прилив русских иноков, весьма значительный приток пожертвований в руки русского духовника, который, как и раньше, продолжал поддерживать единодушие между разноплеменною братиею и делился всем с греками, и также чрезмерное высокомерие и надменность этих последних по отношению к русским побудило наших соотечественников возвысить свой голос на самозащиту, заявить и о своих правах в монастыре. Однако эти заявления начались с весьма умеренных требований и только лишь потом уже постепенно росли и росли, благодаря начавшимся внутренним неурядицам. Так, когда количество братии из русских, после крымской кампании, возросло свыше ста человек, то они заявили игумену и греческой братии желание слышать на трапезе чтение по-русски или по-славянски, хотя бы два раза в неделю, а именно в среду и пятницу, причем и трапезу в эти дни благословлял бы русский иеромонах. Игумен Герасим, и благомыслящая часть греческой братии, имея в виду заботы русской братии «о благосостоянии монастыря» и «неуклонные труды», согласились на просьбу русских, но ревнители не по разуму воспротивились и долгое время не являлись на трапезу в те дни, когда чтение было по-славянски. Это происходило в 1857 году, а в 1866 году был установлен относительно чтения на трапезе нынешний порядок, т. е. один день читать по-г речески, а другой день по-славянск и. Такой же порядок был заведен и относительно псалмопений в храме.
Это первое требование русских и то усилие, с каким они добились его удовлетворения, показали и тем и другим, самым наглядным образом, что полюбовная совместная жизнь монахов разноплеменных наций в одном монастыре едва ли возможна, если точно не будут регламентированы условия этого сожития и не разграничены права обеих народностей. Почин в этом деле принадлежал грекам, которые предложили русским составить «устав» совместной жизни. Русские, хотя и удивились такому предложению греков, так как в общих чертах условия эти уже были выработаны еще в 1840 году, при вступлении их в Пантелеимоновский монастырь, однако же согласились на него. Но когда выработанный «устав» греками был преподнесен на утверждение русской братии, то здесь-то и «открылись многих сердец помышления». Греки в этом «уставе» требовали: а) сокращения количества русской братии до одной четверти или, по крайней мере, до одной трети всего количества греческой братии, в) чтобы игумен монастыря был всегда греческого происхождения и б) чтобы монашествующие греки занимали господствующее положение в монастыре. Русские не согласились утвердить выработанный греками «устав». В монастыре среди греческих монахов, озлобленных отказом русских, произошли волнения.
Недовольство против русских еще более возросло в среде греков, когда с 1858 года русские пароходы с поклонниками прямо стали приходить на Афон и останавливаться в виду русского Пантелеимоновского монастыря. В это время по просьбе капитана русского парохода турецкий карантинный чиновник выстроил для себя небольшой домик близ монастыря и над ним поднял турецкий флаг. Это было сделано в тех видах, чтобы пропискою паспортов пассажиров русский пароход долго не задерживался под Афоном. Греки увидели во всем этом происки русских: им показались, что все это сделано по просьбе русских и по желанию русского консульства в Константинополе, с целью поставить монастырь под надзор турецкой власти. Русские старались успокоить греков, показать выгоды для монастыря от приезда к Афону русских пароходов и от поселения вблизи монастыря турецкого карантинного чиновника, но греки не слушали убеждений русских иноков и продолжали волноваться. Греки потребовали снятия флага с угрозою, в случае неисполнения их требования, взорвать самый дом. Требование это было удовлетворено, но греки не успокоились. В одну из ближайших ночей бочка, за которую привязывались русские пароходы, исчезла под водою. Сначала предполагали, что это сделал кто-либо посторонний монастырю, но, по расследованию, оказалось, что потопление бочки было делом нескольких греческих монахов монастыря св. Пантелеймона во главе с духовником монастыря иеромонахом Нифонтом. Делу этому не желали дать огласки, чтобы успокоить взволнованные умы, а поэтому дальнейшее расследование было прекращено.
Но и после этого спокойствие не восстановилось в монастыре: недовольные продолжали волноваться и требовали от игумена Герасима и иеродиакона Илариона, его помощника, этих «адамантовых защитников русских прав», как их назвали наши соотечественники иноки, чтобы они перестали поддерживать русских, в противном случае грозили им смертью. В одну ночь на дверях келий о. игумена и о. Илариона оказались нарисованными кинжал и пистолет – весьма не двусмысленные намеки, к чему присуждали своих старцев недовольные. Трудно было предвидеть, чем окончились бы все эти волнения и тревоги, если бы счастливому исходу их не помогли сами недовольные. Желая, очевидно, запугать прочую братию монастыря, недовольные двадцать семь монахов во главе с о. Нифонтом вышли из состава братии Пантелеимоновского монастыря, чем помогли водворить, по крайней мере, на время мир и согласие в обители. Описанные события происходили в 1863 году.
Следующие годы почти вплоть до 1870 года прошли сравнительно мирно для русской обители на Афоне. Причин этого обстоятельства было не мало. Для поправления крайне расстроенных финансов Пантелеимоновского монастыря в 1858 году были отправлены в Россию за сбором милостыни вторично прежние сборщики: иеромонах Макарий Семыкин и схимонах о. Селевкий[164]. На смену этих лиц в качестве сборщика милостыни, 28 августа 1862 года выехал с Афона весьма симпатичный и даровитый иеромонах Арсений (Минин). С ним афонские старцы отправили в Россию следующие святыни: крест с частью Животворящего Древа, часть от камня живоносного Гроба Господня, часть мощей св. великомученика и целителя Пантелеймона, чудотворную икону Тихвинской Царицы Небесной и др.[165].
Благодаря замечательному успеху этой миссии, о чем мы ниже скажем подробнее, щедро лились пожертвования в русский Пантелеимоновский монастырь, и самые завзятые противники русских не могли не видеть, кому они обязаны настоящим своим благосостоянием обители. Греческим монахам приходилось волею-неволею мириться с обстоятельствами, так как материальный перевес был вполне на русской стороне. Вскоре же потом воспоследовали и другие обстоятельства, которые убедили греков, что и нравственная сила русских значительно возросла. В 1866 году с 27 по 29 июля прожил на Афоне русский посланник при Оттоманской порте Н. П. граф Игнатьев, который самым наглядным образом убедился в дурном отношении к русским греков и сделался с этих пор мощным защитником русских интересов на Святой Горе. «Посещение это не только поддержало значение монастыря сего, – говорится в писании русского Пантелеимоновского монастыря, – но и доставило ему случай быть посредником в известных отношениях между Святою Горою и представителями русской власти и сделало оный решителем некоторых действий, имеющих влияние на судьбы самого Афона»[166]. Пребывание на Афоне 16 и 17 Июня в 1867 году великого князя Алексея Александровича тоже не прошло бесследно для истории русского иночества на Афоне. Это посещение[167], как и предыдущие, красноречиво говорило, что русских на Афоне помнят в пределах их отечества не только обычные смертные, свои последние гроши несущие сюда для спасения души, но и великий Государь могущественной державы, представителем которого являлся его сын, что следовательно третировать русских нельзя и что в тяжелых обстоятельствах они всегда найдут для себя могущественных защитников.
Совместная мирная жизнь русских иноков с греческими монахами в Пантелеимоновском монастыре на Афоне продолжалась, однако, не долго. В стенах обители в 1870 году произошло одно важное событие, которое в будущем должно было оказать значительное влияние на внутренний строй обители и на судьбу русских иноков на Афоне, не ускользнувшее от внимания недоброжелате лей русских монахов. Сущность этого события заключается в следующем. Глубокий старец игумен Герасим, желая приготовить на случай своей смерти достойного себе преемника для занятия игуменского трона в обители св. Пантелеймона, остановил свой выбор на о. Макарии как человеке выдающемся среди остальных братий по уму и по своей примерной во всех отношениях монашеской жизни. В этом случае игумен Герасим подражал примеру своего знаменитого старца, игумена Саввы, который избрал его себе в преемники, тоже еще при своей жизни. Скромный и непритязательный о. Макарий, возведенный в сан архимандрита еще в 1868 году, когда богомольствовал на Афоне Преосвященный Александр, бывший епископ Полтавский[168], сознавая хорошо, что настоящее его избрание в преемники о. игумену Герасиму не понравится инокам-грекам и даже может повести прямо к волнениям в монастыре, – долго и решительно отказывался от высокой чести стоять когда-нибудь во главе своей «литании». Но его отговорки и опасения не были приняты в резон, и о. Макарий 15 октября 1870 года объявлен «нареченным преемником» старца игумена. В среде монахов – греков русского Пантелеимоновского монастыря сейчас же, после этого объявления, как и предполагал о. Макарий, нашлись недовольные, которые начали смущать и волновать остальных иноков обители, спокойно отнесшихся к совершившемуся обычному в жизни святогорских монастырей факту. И можно думать, что это одно обстоятельство, взятое само по себе, едва ли бы раздуло издавна тлевшуюся искру затаенной вражды греков к русским до той силы, какая проявилась на Святой. Горе в редких в истории иночества смутах и соблазнительных неурядицах, если бы к этому событию не примешался целый ряд других фактов, с которыми так или иначе связывалось русское имя. Эти побочные события, из коих большая часть, по словам очевидцев, «совершенно случайны и вовсе незначительны и в другое время прошли бы незамеченными» даже, были афонские и вне-афонские.
А) «Есть на Афоне греческий монастырь св. Павла и Георгия, – пишет К. Леонтьев (тож Н. Константинов). – Он не богат и не слишком беден, и между прочим имеет земли в Бессарабии. Братия этого монастыря, ведущая строг ую киновиа льн ую жизнь, бы ла давно недовольна своим игуменом за то, что он не жил в монастыре, и если возвращался на Афон, то каждый раз ненадолго, и проживал в Константинополе монастырские доходы[169] под предлогом разных хлопот по делам.
Братия говорили: „Если ты игумен, живи здесь и начальствуй над нами; если ты хочешь жить на стороне, мы можем избрать тебя в эпитропы (в поверенные по делам Афона) и тогда уезжай. Игуменом же ты больше быть над нами не можешь“.
Игумен прибег к защите Патриарха. Патриарх (Анфим) прислал на Афон от себя экзарха, который, с помощью афонского протата (синода) и одного незначительного турецкого чиновника из христиан[170], приступил к разбирательству этого дела. Святопавловские монахи, большей частью пылкие кефалонийцы, горячо отстаивали свое исконное право менять игуменов. Протат разделился. Представители значительного большинства монастырей были в пользу братии святопавловской, им хотелось поддержать независимость Афона в его внутренних вопросах. Ивер, богатый и влиятельный Ватопед, болгарский Зограф и Руссик[171] были в пользу святопавловской братии. Некоторые из беднейших греческих киновий перешли на сторону игумена и Патриархии.
Борьба была продолжительна. Святопавловская братия была решительно осаждена в своей обители. Монахи-кефалониты заперлись и не хотели пускать ни игумена, ни экзарха, ни турецкого чиновника… После того как экзарх патриарший уехал с Афона, святопавловцы поставили на своем и выбрали себе игумена не из своей среды, но одного грека, который в последнее время жил в особой келье и когда-то принадлежал к числу братии греко-русского монастыря св. Пантелеймона».
Б) «Как нарочно почти в то же самое время в смежном с русским монастырем греческом киновиальном монастыре Ксенофе скончался старый игумен и ксенофские иноки, подобно святопавловским, предпочли избрать себе в игумены одного грека иеромонаха из того же монастыря св. Пантелеймона…»
В) «Нынешний Вселенский Патриарх Анфим занимал патриарший престол в то время, когда Серайская келлия (наш русский Андреевский скит) стала скитом: он, так сказать, открывал этот скит и всегда сохранял к нему особое расположение. Он не раз во времена удаления своего от патриаршего престола говаривал, как слышно, что непременно сделает что-нибудь для серайцев, когда будет опять Патриархом.
Прошедшею зимою он, по словам того же очевидца событий, вспомнил свое обещание. Он прислал игумену Феодориту крест, архимандричью мантию и грамоту, в которой объявлял Андреевский скит ставропигиальным или патриаршим скитом. Отец Феодорит назван был в этой грамоте не дикеем, как обыкновенно на Афоне называют настоятелей зависимых скитов, а игуменом (титул, присвоенный здесь лишь начальникам двадцати независимых монастырей).
Все эти знаки патриаршего благоволения к отцу Феодориту и его обители не освобождали, однако, Андреевский скит от его зависимости от Ватопеда. Ватопедское духовное начальство пред этим само незадолго сделало отца Феодорита архимандритом»[172].
Г) Наконец, в малороссийском скиту св. Пророка Илии, находящемся на земле греческого Пандократорского монастыря, происходила в это время оживленная борьба из-за чести быть дикеем скита, после смерти отца Паисия. К этой борьбе мы вернемся еще потом, а теперь заметим лишь, что в этой борьбе все малороссы поделились на две партии: во главе большей стоял о. Андрей, избранный в дикея и признанный в этом звании Пандократорским монастырем, а партией меньшинства руководил умный о. Иннокентий, бывший 26 лет экономом в ските при покойном игумене. Борьба эта приняла чудовищные размеры и производила страшный соблазн на Афоне, так что гостивший в ту пору на Афоне солунский консул К. Леонтьев должен был вмешаться, впрочем, не без просьбы пандократорских греков и положить конец этой скандалезной распре.
Из событий внеафонских на первом месте необходимо поставить так называемую «болгарскую схизму». Начавшиеся с 1859 года несогласия между болгарами и Константинопольскою Патриархиею, вызванные преобразованиями в организации последней, в конце концов разрешились тем, что Великая Константинопольская Церковь 16 сентября 1872 года объявила болгар схизматиками и отлучила их от Церкви. На этот весьма решительный, но не чуждый политически-церковного пристрастия поступок Церковь Константинопольская искала согласия и одобрения у Святейшего Синода Русской Церкви, который, хотя и не защищал открыто болгар, но своего согласия на отлучение их от церкви не дал и «послание Вселенского Патриарха и членов константинопольского собора на имя Святейшего Синода по греко-болгарскому церковному вопросу» оставил без ответа[173].
Уже этого одного поступка было довольно, чтобы задеть самолюбие греков, у которых много лет идут споры с болгарами далеко не церковного характера, и возбудить ненависть к русскому имени вообще. Тогда же раздавались на Востоке горячие голоса за то, чтобы объявить схизматиками и русских, но от этого неблагоразумного поступка представители Восточной Церкви воздержались. Однако же, именно с этого времени в обществе и особенно в печати на Востоке установили полную солидарность русских с болгарами и даже отождествили тех и других. Возникает, таким образом, обвинение России в панславизме, сущность и значение которого ясно никто не представляет и не понимает хорошо, но который, к удивлению, сделался страшным пугалом не только для политиков Востока[174], но даже и просвещенного запада и таковым остается и доселе.
После «болгарской схизмы» в ряду названных событий оказал большое влияние факт удаления из русской части Бессарабии, в начале семидесятых годов истекающего столетия, афонских греческих монахов, заведовавших тамошними угодьями – лесами и землями, принадлежавшими греческим афонским монастырям. Русское правительство в это время нашло неудобным, ввиду разных злоупотреблений и беспорядков, замеченных им в управлении этими землями и лесами, оставлять их долее в руках афонских иноков и решилось взять управление ими на себя, обязавшись, однако, уплачивать монастырям, за вычетом сумм потребных на народное образование жителей местного края и на расходы по управлению монастырскими землями, три пятых всех доходов, получаемых с этих угодий. Изгнанные силою из этих метохов афонские эпитропы, во главе с известным богачом ватопедским эпитропом Ананиею, явившись на Афон в страшном озлоблении против русского правительства и русских вообще, искали удобного случая, чтобы излить свою злобу на неповинных ни в чем перед ними русских иноков, живущих на Святой Горе. Таким удобным случаем им показался факт объявления о. Макария «нареченным преемником» старца игумена Герасима в русском Пантелеимоновском монастыре и недовольство им в среде некоторых братий его греческого происхождения. Явившись в среде последних, эпитроп Анания с товарищами открыто и горячо внушали недовольным патриотам такие мысли: «Что вы смотрите на русских? Теперь время и потеснить их. Они у Церкви отняли болгар, а у монахов метохии. Я первый бы, – прибавлял беспощадный о. Анания, – дал миллион пиастров, если бы хорошенько потеснить русских и, при удобном случае, удалить их с Афона». В факте избрания о. Макария в преемники о. игумену Герасиму они видели захват русского Пантелеимоновского монастыря в руки русских монахов, которые, по их словам, вне всякого сомнения, выгонят из него монахов-греков и сделают его русским достоянием. Для более сильного убеждения своих соплеменников они указывали в пример на себя самих и на те вышеупомянутые, совершенно случайные факты, которые имели место в жизни Святой Горы описываемого времени и которые для людей спокойных и трезво относящихся к переживаемым событиям, нисколько не были убедительны. Но возмутители знали, с кем имеют дело, и действовали смело и настойчиво. Поэтому, пока еще не ушло время, они советовали своим соплеменникам всячески воспрепятствовать избранию о. Макария в преемники игумену Герасиму и тем помешать пагубному панславистическому движению, и без того едва ли не охватившему, как казалось подстрекателям, на основании указанных фактов, всей Афонской Горы. Напуганным умам они рисовали ужасные картины панславистических махинаций и коварных замыслов с целью стереть с лица афонской земли греческий элемент. Лишение монастыря и даже куска насущного хлеба – вот что указывали в перспективе своим якобы недальновидным патриотам подстрекатели. Одним словом, злоба и настойчивость подстрекателей сделали свое дело, и волнение в среде греческой братии русского Пантелеимоновского монастыря началось, которое потом, осложняясь и перепутываясь новыми фактами и явлениями в жизни Святой Горы и вне ее, перешло в открытое, можно сказать, поголовное гонение на русских иноков, охватившее всю Афонскую Гору.
В связи с неразумными речами озлобленных подстрекателей крайне недобросовестное и в высшей степени страстное и запальчивое отношение константинопольской печати к событиям, происходившим на Святой Горе, является новым малозначительным фактором, способствовавшим усилению вражды греков к русским. В самом деле, что же из себя представляла в данное время константинопольская периодическая печать? Каковы ее принципы и направление и каково ее моральное значение в обществе? На эти крайне любопытные вопросы дает нам весьма обстоятельный ответ корреспондент «Московских Ведомостей», хорошо знакомый с константинопольскою жизнию вообще и с нравами публицистики ее в частности.
«В числе курьезных предметов в Турции, – пишет он, – находится, бесспорно, и периодическая печать. В настоящее время как в столице, так и в провинции издаются многие газеты. Газеты, издающиеся в провинции, служат, за небольшим исключением, органами генерал-губернаторов и ограничиваются, кроме официальных сообщений, лишь похвалами распоряжениям и действиям властей. В Константинополе, кроме турецких, армянских, греческих и болгарских газет, выходят также французские. Последние издаются иностранцами, прибывшими сюда с единственною целию найти себе средства к жизни. В другом месте одного этого обстоятельства достаточно было бы, дабы лишить эти газеты всякого значения и важности, но, вследствие общей аномалии дел в Турции, они играют здесь самую важную роль. Издатели их, пользуясь предоставленными иностранцам в Турции привилегиями и правами, весьма мало стесняются при выборе известий и при обсуждении действий правительства[175]. Так как, с другой стороны, они читаются всеми пребывающими в Турции иностранцами, расходятся в Европу, то турецкие государственные люди, дорожащие в известной степени общественным мнением европейских наций, по необходимости стали интересоваться их направлением и отзывами. Не имея возможности препятствовать им в проведении неблагоприятных себе отзывов, они стараются располагать их к себе щедрыми пособиями и подарками. Эти пособия и подарки составляют главный доход издателей. Последние, имея в виду лишь нажить себе состояние, охотно продают свои услуги всем, кто хочет купить их, вследствие чего они часто меняют взгляды и направления. Напрасно кто стал бы искать в этих газетах добросовестного раскрытия убеждений и взглядов пишущих в них лиц. Все, что в них печатается, пишется по заказу. Следуя примеру иностранцев, или, справедливее, вступая на журнальное поприще по одинаковым с ними побуждениям, издатели греческих газет также мало заботятся о честном служении истине, вследствие чего здешние газеты должно читать лишь как курьез, относясь с крайнею недоверчивостью ко всем их уверениям о беспристрастии и добросовестности. Дабы подействовать на читателя в желаемом ими смысле, упомянутые газеты считают позволенными все средства»[176].
На основании этой нелестной, но совершенно беспристрастной и верной характеристики, как это мы можем судить из непосредственного нашего знакомства с периодическою печатью Константинополя в описываемое нами время, можно безошибочно умозаключать, что печать эта стояла не на высоте своего призвания и мы напрасно будем искать в ней беспристрастия, спокойного и трезвого отношения к переживаемым событиям и «честного служения истине». Узкий национализм, дух партиозности и преклонение пред тяжестью кошелька – вот что двигало пером константинопольских публицистов. Поэтому нисколько неудивительно, если в их горячих статьях по вопросам политики и церковным делам мы постоянно наталкиваемся на крайне односторонние и прямо даже неверные суждения, на игнорирование всем и каждому известных фактов истории или же неверное их освещение и подтасовку, преднамеренное замалчивание или искажение явлений и фактов, противоречащих проводимым ими взглядам и воззрениям, и стремление выдвинуть на первый план хотя и побочные явления, но говорящие в пользу их тенденции, при чем, само собою понятно, густоты красок и сильных слов, нужных для возбуждения умов их легковерных читателей, они нисколько не щадят. Все сказанное сейчас вполне приложимо и к тем статьям, которые были написаны в константинопольских газетах по поводу вышеуказанных афонских событий и в частности относительно возникших разногласий между монахами русскими и греческими Пантелеимоновского монастыря. «В константинопольских газетах, – пишет К. Леонтьев, – началась тотчас же между самими греками по этому поводу полемика. Одна газета обзывала панславистами афонских греков за то, что они опираются на русское влияние, за то, что живут русскими подаяниями[177], за то, что многие из них расположены к России и поддаются внушениям русских духовников Пантелеимоновского монастыря отцов Макария и Иеронима, размещающих будто бы по своей воле игуменов по греческим киновиям на Святой. Горе (Ксеноф и св. Павел). Противники этой газеты, затронутые за живое, обращали против нее то же самое оружие и звали чуть не самого Патриарха панславистом за то, между прочим, что он сделал Святоандреевский русский скит патриаршим и как будто бы пытался этим оскорбить начальствующей Ватопед, и за то, что он принял сторону афонской оппозиции в святопавловском деле»[178]. Одним словом, всюду и везде константинопольские публицисты видели происки ненавистного им панславизма и доказательствами его существования в пределах ими возлюбленной Османской империи наполняли целые столбцы своих нечистоплотных газет. «Всеми средствами» они старались уверить Турецкое правительство, что панславизм – опасный враг Турции и Эллады. Не удивительно поэтому нисколько, что эти публицисты не только отметили с удовольствием все вышеуказанные события на Афоне как доказательства несомненного существования в пределах Турции панславизма, но не прошли молчанием вмешательства русского солунского консула в дела Ильинского скита и даже самого факта посещения и пребывания на Афоне русских консулов – битольского (г. Якубовский, впоследствии солунский консул) и солунского (г. К. Леонтьев), которых газеты обозвали даже агитаторами панславистических идей. «Имена этих двух консулов, – пишет К. Леонтьев, – особенно солунского, беспрестанно являлись в последнее время в газетах. То один из этих консулов изображается пламенным панславистическим писателем, тогда ка к у нас в России нет ни одной не только всеславянской газеты, но и какой бы то ни было политической статьи или книги, подписанной его именем[179]. То, располагая огромною какой-то суммой, он подкупил в пользу России все беднейшие греческие обители на Афоне. То он живет в Андреевском скиту, где ему помогают десять русских монахов писарей, тогда как там очень трудно найти хоть одного свободного монаха для переписки. То он послал куда-то статью, доказывающую, что весь Афон есть добыча русских. То он агент Каткова в Македонии. То один консул (битольский) спешит к другому на Афон из Солуни, и оба они совещаются там о панславизме, тогда как нам здесь известно, что эти оба чиновника на Афоне никогда вместе не были, и что солунский консул лежал больной, почти умирающий в городе Кавале, верстах в 150 и 200 от Афона в то время, когда битольский консул посетил один Святую Гору»[180].
Считаем совершенно лишним делать здесь обширные извлечения из константинопольских газет описываемого нами времени, чтобы видеть гнусную ложь, тяжелые клеветы и недобросовестные инсинуации, какие писали в них на русских царьградские публицисты, так как с этою публицистикою мы будем иметь дело в следующей главе. Как во время «греко-русского Пантелеимоновского процесса» в 1874 и 75 годах, так и несколько позже, во время Русско-турецкой войны 1877 и 1878 годов, клеветы на русских афонских иноков взводились одни и те же и писались они одним и тем же языком. Греческие константинопольские газеты без зазрения совести повторяли во время войны на своих страницах дословно то самое, что писали о русских по поводу «Пантелеимоновского процесса». Теперь же, имея в виду общий характер и направление константинопольской печати, указанные нами выше, мы лишь сделаем попытку классифицировать многочисленные органы этой печати по их симпатиям и антипатиям к русским инокам на Афоне.
Самыми ярыми и сильными противниками русских иноков на Афоне были большие греческие газеты: «Νεολόγος», и «Φράχη». Последняя из них за крайность своих воззрений, страстность и настойчивость в проведении их в публику подвергалась неоднократном у закрытию, но всякий раз воскресала к жизни, меняя лишь свою вывеску (она называлась «Επτάλογος», «Κωνσταντινούπολις»), но всегда оставаясь верной своему русофобскому направлению. К этим греческим газетам нужно присоединить и французскую константинопольскую газету «Phare du Bosphore», издававшуюся в «каком-то германо-греческом духе», – как ее охарактеризовал покойный К. Леонтьев, и в полемике против русских нисколько не отличавшуюся от названных греческих газет. Злостная статья этой французской газеты под заглавием «Русские на Афоне» была подробно разобрана К. Леонтьевым в его прекрасной статье «Панславизм на Афоне» и на каждое обвинение дан был серьезный ответ.
Русскую сторону поддерживали и являлись представителями «Разумно-патриотической печати» газеты: солидная и весьма добросовестная «Βυζάντις»; вступивший в 1874 году уже в пятый год своего существования трехдневный «Θεαλής», статьи которого по афонским делам писались всегда с одушевлением и неподдельной искренностью (см. № 717, окт. 8, ει. 1871; № 726, окт. 31, тот же год, и другие номера); только народившаяся на свет Божий в апреле месяце 1875 года ежедневная «Εποχή»[181] и другие некоторые газеты.
Полуофициозный «Ανατολιχος άστήρ» и молодая, основанная в 1874 году «Μιχρά Ασία» старались сохранить полное беспристрастие в обсуждении происходивших событий и смотреть на дело без всяких предвзятых идей, но это беспристрастие им далеко не всегда удавалось. Жизнь, общественное мнение, весьма горячо относившееся к происходившим событиям, невольно увлекали дирижеров этих газет в сторону с той колеи, по которой они желали идти, и они невольно платили дань времени и своему национальному происхождению.
Среди многочисленных органов константинопольской печати этого времени довольно заметно выделяется странная, чтобы не сказать более, юмористическая газета «Μενιππος», которая стала выходить с первого месяца 1874 года и всего один раз в неделю по пятницам. Как это ни удивительно, но эта греческая газета должна быть названа ярою поборницею и защитницею интересов русских иноков на Афоне и беспощадной противницей их врагов в Константинополе и на Афоне, т. е. греков. Резко и иногда, можно сказать, до неприличия, систематически последовательно и горячо она нападала на этих последних, указывая им всю комичность их положения в роли защитников православия и народности, а также исконных прав, принадлежащих греческой национальности, на которые (т. е. права) никто не претендовал и которые никто и никогда не попирал. Несмотря, однако, на все это, при чтении статей газеты «Μενιππος» невольно у нас возникает сомнение в искренности и бескорыстии служения ее интересам русских афонских иноков. Почтенные современники «греко-русского Пантелеимоновского процесса» уверяют нас, что в свое время далеко не добродушный «юмор этой газетки действовал на читателей, которые «в течение целой недели питались „возбуждающими“ статьями крайних русофобских газет „εολόγος“ и „Φράχη“», будто бы примиряющим и успокоительным образом. Охотно верим им на слово, но не можем скрыть своего непосредственного впечатления, полученного от знакомства с газетою «Μενιππος», дотоле нам совершенно неизвестною. Теперь, спустя почти двадцать лет после событий, о которых трактует газета, «юмор» ее испарился совершенно и нам нужно было сделать над собою большое усилие, чтобы для знакомства с характером ее направления прочесть несколько номеров, переполненных неприличными и кощунственными выходками[182] по адресу врагов русских иноков на Афоне.
Таким образом, события, которые происходили в стенах обители св. Пантелеймона, на Афоне вообще и вне черты Святой где так или иначе примешивалось русское имя, в связи с подстрекательствами и науськиваниями людей влиятельных и богатых, но весьма враждебно настроенных против русских, а главным образом ввиду крайне пристрастного отношения ко всем событиям того времени константинопольской влиятельной публицистики, запальчиво писавшей против России вообще и русских иноков на Афоне в частности – все это вместе взятое сильно вооружило против русских общественное мнение не только на Востоке, но даже потом и на далеком Западе. Неудивительно поэтому, что довольно было одного маловажного события в жизни русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне, а именно желания игумена Герасима, по случаю своей тяжелой болезни в 1873 году, объявить о. Макария действительным игуменом обители, чтобы восстали против русских не только отцы этой обители греческого происхождения, но весь Афон, вся, можно сказать, греческая нация. Так начался известный «греко-русский Пантелеимоновский процесс», долгое время волновавший общественное мнение на Востоке и бывший предметом оживленного и всестороннего обсуждения европейской и нашей русской печати.
Мрачные картины, наводящие на глубокие размышления, представляют собою жизнь святогорскую за эти тяжелые годы. «Там, где вчера и прежде христианская любовь и единение, самое основание и правило нашего благочестия, подобно щиту и броне охраняли единоверных против всякого коварного умысла и нападения, теперь, – характеризует жизнь афонскую за это время современник, поднимается невыразимая вражда и спорливость, а страсти разгораются до того, что исчезает всякое различие между справедливым и несправедливым, каноническим и незаконным, появляется смешение и извращение понятий и, что еще хуже, из-за земных стремлений и желаний забывается самая вера, которая, по-видимому, составляет средоточие всей борьбы. Всякого православного христианина может изумить и привести к начальным мыслям о будущем то, что этот бурный поток страстей, у в лекая людей не крепких, в своем неудержимом стремлении захватывает ту священную Гору, которая для достопочтенных отшельников, разорвавших все земные узы, служит как бы местом отдохновения и подкрепления при восхождении на высоту небесную, которыеприходят и обитают в священных там убежищах для того, чтобы подвизаться в добродетели и целомудрии и вдали от разновидных мирских искушений заботиться о душевном своем совершенстве. И кто бы поверил, что и досточтимый Афон сделался позорищем страстей и споров, что на этом священном месте духовного подвижничества и самоотречения в наши дни готовы разыграться сцены потрясающие в основании уважение и благоговение, внушаемые православным верующим одним именем Святой Горы»[183]. В это время «отношения между греческими и русскими монахами сделались так раздражительны, что святая обитель не переставала быть зрелищем ссор и споров совершенно неприличных и живущим в мирском обществе и тем более отцам, предавшим себя монашеской и подвижнической жизни»[184].
Лишь только сделалось известным греческим инокам Пантелеимоновского монастыря намерение о. игумена Герасима объявить при своей жизни действительным игуменом о. Макария, как они, и без того крайне враждебно настроенные против русских, заволновались в обители и стали совещаться о том, что им необходимо предпринять в эту, по их мнению, критическую минуту. На совещание ими был приглашен из Дионисиатского монастыря духовник старец Савва. «Аминь, пропал наш монастырь! Игумен – схизматик, диакон Иларион – схизматик и русские схизматики!» – кричали раздраженные голоса недовольных на этом собрании. Некоторые из них сознались о. духовнику в том, что они задумали сжечь монастырь и готовы потом за это богоугодное, по их мнению, дело даже пострадать, если их будут преследовать протат и турецкое правительство, чтобы получить мученические венцы. Эти нелепые речи горячих голов испугали старца духовника, который стал уговаривать протестантов, советуя им оставить это намерение, так как этим безумным поступком они сделают лишь «радость диаволу и еретикам». Недовольные вняли совету старца, решились оставить без исполнения свое намерение, но совершенно не успокоились и продолжали волноваться и тревожить мирную жизнь русских иноков. Так, иеромонах Евгений, антипросоп русского Пантелеимоновского монастыря, посланный защищать участок земли, принадлежащий Богородичному скиту Ксилургу, но несправедливо захваченный Пандократорским монастырем, вместо исполнения своей прямой обязанности, в присутствии кинота высказал самым наглым образом возмутительные клеветы на русских. В монастыре эконом-грек запретил новоначальному монаху работать на русской половине, говоря: «монах должен заниматься келейным делом». Русские принесли жалобу о. Илариону на эти поступки представителей монастыря. О. Иларион принял сторону русских и хотел даже сменить эконома с послушания, но греки не только не позволили сделать это, а даже стали просить о. Илариона не поддерживать более русских, говоря: «Мы все у ног твоих. Кроме тебя ни Иеронима, ни Макария мы знать не хотим». Но о. Иларион продолжал стоять на своем и оставался на стороне русских, к которым он даже переселился в корпус, опасаясь неприятностей со стороны бунтовщиков. В ночь на 9 января 1874 года было «выпущено водохранилище и самое начало источника воды забито досками, вода отведена в сторону». То же повторилось и в ночь на одиннадцатое января с тою разницею, что воды на сей раз не могли отвести. Русские, опасаясь за свою жизнь, в коридорах своего корп уса учредили постоянный караул.
Затем греки потребовали удаления о. Нафанаила, бывшего впоследствии антипросопом в Карее (о нем см. выше), от должности грамматика. Хотя о. Нафанаил вел дела хорошо и держал себя, как замечается в дневнике, «так деликатно, что и самые старцы удивлялись его скромности, ибо он никогда не перенес какого-нибудь разговора греческого русским или дурного мнения о русских», однако о. Иероним обещался удовлетворить эту просьбу греческих отцов Евгения, Анастасия и Елевферия, которые к тому же пригрозили, в случае неисполнения этой просьбы, изрубить на куски ненавистного им грамматика. Мир и тишину в обители сулили эти отцы, если «это первое зло в монастыре будет удалено от занимаемой им должности и их просьба будет уважена». 15 января о. Нафанаил был уда лен от должности, а его место занял уже упоминаемый нами неоднократно о. Евгений. Однако обещанный мир не водворился. Греки потребовали, чтобы о. Иларион перешел на греческую половину, и когда он отказался уважить их просьбу, потребовали от него монастырскую печать. 17 января прекратили поминать на ектениях в храме имена отцов Иеронима, Макария и Илариона. Священник, решившийся было не подчиняться этому распоряжению, был запрещен в священнослужении.
Тогда русские, видя, что требованиям и наглости греков не предвидится конца, решились через о. Иеронима просить у игумена благословения на раздел. О. Герасим согласился на это желание, но греки не хотели слышать о каком бы то ни было дележе и удовлетворении русских монахов, так как «монастырская земля, – по их словам, – достояние греческой нации». В этих бесполезных для дела переговорах прошло почти целых два дня – 26 и 27 января. 28 января игумен Герасим решился учредить симпракторов или трех помощников себе, которые должны были обсудить те основания, на которых может быть произведен самый раздел. Когда о. Иероним узнал, что эти симпракторы, между прочим, будут распоряжаться и внутренними монастырскими делами, заведовать монастырским имуществом, то прямо и решительно заявил: «пока я жив, не допущу распоряжаться этим предметом другим; кошелек в моих руках также и воля». Не согласился о. Иероним на требование греков удалить от порты монастырской келлиотов, приходящих за милостынею, делая, впрочем, ту уступку, что греки могут отказывать в милостыне греческим келлиотам. Это последнее распоряжение симпракторов повело к ссоре между привратниками греческим и русским, причем первый в запальчивости выразился даже о хлебе так: «Не хочу его, я лучше буду есть вот этот сухарь, но свой, а не русский». Хотя симпракторы о. Григорий, Агафон и Агапий и не добились признания их власти со стороны русской братии, однако это не помешало названным лицам захватить власть в свои руки и объявить, что монастырь управляется уже симпракторами, как представителями братства, а не игуменом. Непризнанные властители немедленно потребовали от русских выдачи монастырской печати, которая и была передана им, но под условием, выговоренным русскими наперед, чтобы от места хранения печати было три ключа, из коих один хранился бы у о. Илариона, другой у симпракторов, а третий у русских. На этом, однако же, не остановились симпракторы. На другой же день, т. е. 20 февраля, они потребовали от русских возвратить все монастырские документы и хрисовулы, которые одним из русских монахов (о. Азарией) приводились в должный порядок. Русские отказались исполнить требование греков. Тогда эти последние распустили слух, что русские подделывают документы, что они намерены отправить их в Константинополь и т. п. и прямо заявили, что без выдачи документов они не выпустят за ограду монастыря о. Макария, собиравшегося выехать в Константинополь, так как положение его в монастыре было невыносимо тяжелое. Греки перестали приглашать его для торжественных богослужений, для чтения разрешительной молитвы в качестве духовника и даже, припомнив, что дед о. Макария был раскольник, пустили по Афону нелепый слух, что он не крещен, «а так в роде еретика липован или молоканин». Выдать документы советовал русским о. Иларион, но они упорно отказывались, опасаясь, конечно, за целость и неповрежденность этих документов. Тогда греки составили в протат прошение за подписью 100 человек, в котором обвиняли русских в присвоении монастырских документов. Но этим дело не ограничилось: греки стали грозить русским, что если они не выдадут монастырских актов, то они отнимут у них монастырскую печать. Угроза была тяжелая. Русские, наконец, решились выдать акты, но с таким условием, чтобы они были положены в несгораемый сундук, который бы стоял или в библиотеке или в ризнице, а ключи от этого сундука находились бы один у греков, а другой у русских. Греки притворно согласились на все требования русских, но когда получили в свои руки монастырские документы, то не выполнили ни одного требования русской братии, даже не дали расписки в получении их от русских. Передача документов русскими грекам совершилась 25 февраля.
Русские теперь поняли самым наглядным образом, что мир в обители не может водвориться мерами кротости, снисхождений и всевозможного рода уступок расходившимся греческим монахам; необходимо вмешательство постороннее и авторитетное слово лиц власть имеющих. Решено было отправить о. Макария в Константинополь, чтобы он изложил ход всех обстоятельств, случившихся в монастыре, русскому посланнику графу Н. П. Игнатьеву, дабы он принял зависящие от него меры об ограждении русских интересов на Афоне. Греки узнали об этом намерении русских и пытались помешать[185] отъезду о. Макария, которого приказа но было схватить в монастырской порте, но он ускользнул незаметно от бдительного ока монастырской стражи и 15 марта 1874 года сел на пароход, направляющийся в Константинополь. Это первое решение. Во-вторых, постановили обратиться к протату с просьбою, чтобы он зависящими от него мерами примирил две враждующие национальности.
Афонский протат немедленно отправил в монастырь св. Пантелеймона увещательную грамоту, но когда она не возымела желанного действия к успокоению взволнованных умов, решил составить шестичленную комиссию эпитропов, которая, по всестороннем исследовании причин этих беспорядков, должна была «прекратить возникшие несогласия и водворить снова вожделенный мир и тишину в священном сем общежитии». Комиссия явилась в Пантелеимоновский монастырь 21 марта и, увидевши, что одним простым убеждением в данном случае дела не поправишь, ввиду наступления пра здника Пасхи, уда лилась из монастыря ни с чем. После праздников, по просьбе старцев, 23 апреля уже была послана протатом девятичленная комиссия с одинаковым поручением, что и прежде. Обе эти комиссии держали себя чрезвычайно странно, чтобы не сказать прямо враждебно по отношению к русским монахам и «приходили в монастырь не для того, чтобы, посредством нелицеприятного расспроса и расследования, составить правильное и справедливое мнение о существующей распре, – как совершенно верно замечает „любитель истины“, – а чтоб приладить решение, предварительно начертанное и постановленное, основывающееся на племенном различении и презрении очевидных прав русских монахов и имеющее целью совершенное их порабощение»[186].
Так, в самом первом заседании шестичленной комиссии уже поднят был вопрос о том, чтобы о. Иларион, как сторонник русских монахов, был выведен из заседания собрания эпитропов. Только заступничество о. Герасима помешало эпитропам привести в осуществление свое несправедливое намерение. Вслед за тем, когда были окончены приготовления к заседаниям, избраны депутаты по восьми человек с каждой стороны и объявлен краткий перерыв, то посланники протата не остались в нейтральной комнате – архандариконе (гостиной), как это следовало сделать, а удалились на греческую половину и там имели с греками продолжительное совещание при закрытых дверях. Это поведение судей не понравилось русским, и они выразили желание переговорить с игуменом Герасимом, но им в этом наотрез отказали. На вечернем заседании того же дня постановлено было, чтобы уполномоченные русских и греков письменно изложили свои требования и представили их к утреннему заседанию следующего дня. Однако, когда 22 числа утром русские уполномоченные представили свои требования, то эпитропы протата объявили им, что они не намерены делать полного расследования, что они лишь донесут обо всем, что они видели в монастыре, протату, который уже примет зависящие от него меры к успокоению недовольных, Девятичленная комиссия, открывшая свои заседания с 23 апреля и занимавшаяся расследованием всех поводов к спорам с начала 1857 года, действовала не так, как того требовали в руках ее находящиеся доказательства, а сообразно с теми указаниями, которые получила заранее из Кареи от протата. Высшую степень несправедливости и пристрастия по отношению к русским эта комиссия проявила при составлении нового устава (κανονισμός) совместной жизни греков с русскими в Пантелеимоновском монастыре. В этом канонизме, состоявшем из 22 параграфов и обнародованном 14 мая 1874 года, мы читаем следующие, между прочим, любопытные пункты:
«1) Сей священный монастырь св. славного великомученика Пантелеймона, называемый русский, был, есть и будет греческий.
2) Игумен сего священного монастыря, как издревле, так и навсегда будет грек, верноподданный державы Оттоманской империи.
3) Количество русских братий определяется, чтобы впредь на одну треть меньше всегда существующего количества греков.
4) Должна быть устроена обща я касса, вн утри которой дол жен положиться весь до сего времени находившийся в руках русских, неизвестный грекам, денежный капитал обители и всякое другое имение, которое в будущем приобретено».
В конце 4 пункта: «Братиям русским дозволяется ради языка иметь духовника своего отдельно, только для чисто духовных предметов, и назначаемого и удаляемого самим игуменом».
Достаточно этих пунктов, чтобы можно было сказать, что этому канонизму не могло быть никакой будущности. И действительно, русские монахи представили свои возражения на этот канонизм данной комиссии ранее даже истечения два дцати четырех часов, на значенных комиссией на это. Но, когда комиссия, пораженная быстротою ответа, отказалась принять возражения со стороны русской братии, то на следующий день 16 мая эти возражения чрез особых делегатов были отправлены в Карею. Отцы, заседавшие в киноте, молча выслушали заявление русских депутатов и не приняли от них самых возражений. Делегаты положили нераспечатанную бумагу на стол и удалились в монастырь объявить о полной безуспешности своей.
Русское братство Пантелеимоновского монастыря ясно видело теперь, что на Афоне оно не найдет правды и удовлетворения своим законным требованиям, а посему решилось спор с греками перенести на суд Великой Церкви. С этою целью оно избрало из своей среды более практичных и умных делегатов, поставив во главе их уже находившегося в то время в Константинополе о. Макария, снабдило их нужными бумагами и необходимыми полномочиями и отправило их в Константинополь изложить всю суть дела пред Патриархом Иоакимом II и собором клириков и мирян при нем[187]. Греческое братство Пантелеимоновского монастыря сделало то же самое: оно со своей стороны послало в Константинополь своих делегатов.
Таким образом, арена борьбы русских с греками переносится в Константинополь и сосредоточивается в Патриархии в заседаниях Св. Синода и смешанного совета[188] при Вселенском Патриархе, в русском посольстве, в подворье русского Пантелеимоновского монастыря в Галате и на страницах константинопольских газет, чрез которые отголоски ее проникают в местное общество, живо интересовавшееся и с напряжением ожидавшее исхода этой борьбы. У нас под руками письмо одного современника, принимавшего деятельное участие во время греко-русского Пантелеимоновского процесса, адресованное к покойному профессору Киевской духовной академии Ф. А. Терновскому. В нем яркими красками изображается вся трудность положения русских афонских иноков в данный момент, с одной стороны, и то горячее участие русского посла в Константинополе Н. П. Игнатьева, которое он принимал в их судьбе, с другой.
«Март, апрель и май прошли в самом беспокойном состоянии, – говорится в этом письме, – и мы были в натянутом, трудном и скорбном состоянии. Решение протата было столь пристрастно к национальности и так несправедливо, что русские должны были войти в протест и подать жалобу Святейшему Патриарху, вследствие чего в конце мая приехал сюда (т. е. в Константинополь) наш архимандрит о. Макарий, а в начале июня – о. Азария и я (т. е. о. Пантелеймон) с некоторыми братиями. Дело наше, пустое само по себе, развиваясь и смешиваясь с другими вопросами, приняло весьма обширные размеры, так что в конце концов оказалось, что мы имеем дело не с протатом только, но и с синодом патриархата, даже с целою нациею, возбужденною до крайнего ожесточения газетным громом в течение последних пяти-шести лет. Желание наше разделиться с греками: им уступить приморский Руссик, а себе отстроить нагорный или наоборот, – представило вопрос весьма трудный и почти неудобоисполнимый[189], а потому дело наше более месяца было совершенно без движения и только во второй едва-едва было рассмотрено. При рассмотрении происходили довольно жаркие прения, доходившие до разделения мнений[190], и бомбардировка была серьезная. Наконец, после разногласий в собрании и доказательств, представленных с нашей стороны, члены синода к смешанной комиссии (из мирских членов, имеющих право не согласиться и не принять патриаршего решения) пришли к заключению, что русским нельзя отказать иметь монастырь на Афоне. Оставалось только проверить акты, на кои ссылались мы в прошении, – есть ли они и какие именно, но в это время подвернулось иерусалимское дело (о возбуждении арабов кем-то из служащих в русском агентстве в Акре), которое было принято здесь горячо и в соединении с нашим представило страшное, по обаянию всей греческой нации, слово: филитизм, и отодвинуло наше дело на неопределенное время с опасностью принять противоположный оборот. Если бы не искреннее участие русского посла, столь для нас неоценимо-благодетельное, то не только бы просьба наша и все, хотя и фактические доказательства не имели [бы] никакого значенья и остались [бы] без удовлетворенья, то греки выгнали бы нас с Афона, в чем и состояла главная задача всех притеснений и обид, сделанных ими русским. Замысел этот у них давний, и план вытеснения русских с Афона составлен был еще в прошлый год здесь комиссиею, от чего наши греки (т. е. пантелеимоновцы) и члены протата и действовали так смело.
Но, наконец, на днях последовало такое решение, которое, впрочем, в следующем заседании может измениться, как это и случалось уже не раз): нашего о. архимандрита Макария утвердить игуменом (не разделяя нас с греками) и послать с ним двух архиереев для введения его в полные права с тем, чтобы всех привести в его повиновение, а кто не захочет, того смирить, т. е. заставить против воли или удалить из обители. Следовательно, решение вполне в пользу нашу, и чего бы желать больше? Но это можно сказать тогда, когда бы дело было не с греками. В этом решении показано только наше любочестие и т. п., но в сущности греки могут не ныне, так завтра открыть свои притязания и выгнать нас из монастыря даже и с игуменом нашим. И это не догадка. Мы не раз слышали о совещании их между собою, что нужно успокоить русских, пока послом в Константинополе г. Игнатьев, а когда не будет г. Игнатьев, тогда можно поступить с русскими, как угодно, ибо никто[191] за них прежде не заступался, никто не заступится и после»[192].
Быстрому, конечно, сравнительно и благоприятному для русских иноков на Афоне окончанию греко-русского Пантелеимоновского процесса в Константинополе, помимо настойчивости и энергии со стороны русских делегатов, направлявших все усилия, чтобы отстоять свои права на монастырь и на место себе среди святогорских насельников других наций, а также сильной поддержки русских интересов со стороны могущественного в эту пору в Константинополе русского посла Н. П. Игнатьева, помогли немало и обстоятельства, случившиеся в стенах обители св. Пантелеймона. 8 мая 1874 года скончался на 103 году от рождения игумен Герасим. Греческие делегаты стали просить Вселенского Патриарха, чтобы он немедленно отправил в монастырь одного из своих синодских архиереев в качестве наместника. Эта мера, по их мнению, необходима была в видах предупреждения и устранения могущих произойти в монастыре замешательств и беспорядков, но втайне они льстили себя надеждою иметь на своей стороне в монастыре одного лишнего единомышленника. Но их план неожиданным для них образом был разрушен телеграфною депешею на имя Вселенского Патриарха, извещавшею, что в монастыре впредь до избрания нового игумена правит всеми делами составленная смешанная эпитропия из греков и русских. Со стороны греков избран о. иеродиакон Иларион, а со стороны русских о. духовник Иероним и эконом о. Павел.
На девятый день после смерти игумена Герасима эпитропия предложила братии монастыря, по святогорскому обычаю, приступить к избранию нового игумена. Согласно состоявшемуся решению братии еще 15 октября 1870 года и воле покойного игумена, в кандидаты на игуменский трон был предложен о. архимандрит Макарий, который большинством в 406 голосов против четырех и был тут же избран в преемники покойному игумену. О состоявшемся избрании чрез нарочитого делегата эконома о. Павла монастырь известил Вселенского Патриарха, который, однако, не утвердил настоящего избрания, а предложил произвести переименование, в присутствии нарочитых патриарших экзархов. Это делал Патриарх в тех видах, чтобы успокоить взволнованные умы, устранить от себя всякие нарекания и факт избрания в игумены о. Макария поставить вне всяких подозрений. «А чтобы законно и канонически решенное, надлежащею заботливостию и начальственным правом Святой Церкви Христовой постановленное и определенное, и самым делом исполнилось, так как в последнее время преставился ко Господу бывший игумен Герасим, мы, – писал Вселенский Патриарх Иоаким II в сиггилионе (грамоте) по поводу избрания в игумены о. Макария, – постановили послать экзархами священнейших митрополитов Никейского кир Иоанникия и Деркийского кир Иоакима (бывшего впоследствии Вселенским Патриархом под именем Иоакима IV, †1887 года), чтобы они, отправившись в сказанную священную обитель, вместе с тем, как объявят всем неизменное решение Церкви для прекращения соблазнов и смут, вселяя согласие и мир приличными советами и увещаниями, пригласили в то же время всех отцов обители к прямодушному и беспристрастному избранию игумена, под наблюдением тех самых экзархов и в присутствии двух уполномоченных советом Святой Горы»[193].
11 июля избранные экзархи отправились на Афон, а 20 числа того же месяца, после того как прибыли в Пантелеимоновский монастырь два уполномоченные представителя от карейского кинота[194] и когда при помощи векилкай-макама (вроде нашего станового пристава) были удалены из монастыря четыре главных подстрекателя из греков, в русском Покровском соборе было приступлено к переголосованию[195]. Под наблюдением названных экзархов каждый брат русского Пантелеимоновского монастыря без различия национальностей должен подать свой голос за кандидата на игуменский трон. Подача голоса заключалась в подписи своего имени под актом избрания в игумены о. архимандрита Макария. Под актом подписалось 424 человека, т. е. подано было количество голосов несколько более, чем во время баллотировки, и о. Макарий таким образом был объявлен избранным в игумена. «Когда все так в порядке и законно было сделано, – читаем мы в сиггилионе, утверждающем о. Макария на игуменстве, – поелику великим большинством голосов преподобнейших отцов избран канонический игумен, преподобнейший иеромонах и архимандрит кир Макарий, муж разумный и добродетельный, постриженец и член сей священной обители, которого общим прошением и представили нам как достойного и способного управлять богоугодно тою священною обителью, усердно вымаливая и от нашей Церкви Христовой признания и подтверждения постановления и игуменства его нашею патриаршею и синодальной сиггилидной на пергамене грамотой, то мы письменно определяем соборно с находящимися тут священнейшими архиереями и пречестными во Святом Духе возлюбленными нашими братьями и сослужителями, чтобы в силу вышеизложенного общего решения Священного Синода и достопочтенного народного совета о пребывании и совместном в любви жительствовании всех отцов, подвизающихся в сказанном священном общежитии святого Пантелеймона, без какого бы то ни было привилегирования или племенного различия, и о пользовании всех их без исключения равными правами, решения, имеющего значение и силу неизбежную и неизменную во всякое время, как основанного на священных канонах и отеческих законоположениях, согласного и сходного с издревле установленными порядками, определениями и уставами всех священных общежитий, избранный теперь большинством голосов в игумена священной сей обители и канонически имеющей поручительства за себя и в непорочном жительствовании свидетельствуемый преподобнейший архимандрит кир Макарий был и назывался и всеми признавался игуменом и начальником общежития (киновиархом) помянутой нашей патриаршей и ставропигиальной обители святого Пантелеймона, называемой Руссик, и до конца своей жизни держал игуменство в ней по правилам и установлениям общежитий. А его преподобие обязал, как преимущий пред всеми братиями, наблюдать и возбуждать всех к добродетели и общежительное их пребывание соблюдать в точности по древним уставам для избирающих общежительную жизнь, себя первого представляя примером добродетели и жития беспорочного, иметь попечение и заботиться о пользе и выгодах священной сей обители, усердно хлопотать о содержании и нуждах ее и с рассуждением домоправительствовать, пользуясь без всякого племенного различия и советами мужей опытнейших и превосходящих других смыслом и возрастом, и с ними обсуждать дела, потому что спасение есть во мнозе совете (Прит. XI, 14) по приточнику. А все братия в общежитии должны повиноваться и подчиняться этому каноническому игумену своему и внимать его предложениям и увещаниям, никто вообще не противясь и не противореча, но исполняя вообще не противясь и не противореча, но исполняя все то, чтобы ни было повелено от него. А кто не захочет повиноваться, тот после первого и второго вразумления, по слову Апостола (I Коринф. V, 6, 13), да будет изгнан им, чтобы и других не заражал. Все же теперь уже подвизающиеся братия и имеющие впоследствии поступить из священной любви к общежительному пребыванию, должны иметь все общее, имея каждый равные права и питаясь одинаково, кроме если кому по немощи телесной или по другой какой неизбежной причине встретится препятствие употреблять одинаковую с другими братиями пищу, по рассуждению и испытанию о нем игумена, имеющего право устроять каждого по немощи его, нисколько поэтому не подлежа эпитимии ни сам, ни те, о коих он устрояет так. А прежде всего должны жить в согласии и духовной любви, имея по Богу братолюбное расположение, как бы одна душа, обитающая во многих телах и совокупно заботясь о месте своего покаяния (т. е. монастыря)[196], поступая каждый так, как повелевает игумен. А кто и кто бы то ни было из всех освященный или мирянин (белец), одолеваемый грубостью или высокомерием, дерзнет когда-нибудь тайно или явно, непосредственно или посредственно, словами или поступками внести смуту, неравенство и нестроение в общежительный порядок и строй священной сей обители, или в противность канонам захочет возбудить желания племенного различения и привилегированного положения, полагать препятствия равному для всех подвизающихся отцов пользованию правами и обособлять что-нибудь из принадлежащего общему братству, или каким бы то ни было образом нанести беспокойство и вред священному сему общежитию и находящимся в нем теперь или впоследствии имеющим жить отцам, и вообще захочет извратить хотя бы в самом малом синодально определенное в настоящей грамоте, таковой, какого бы сана и степени ни был, да будет отлучен от Святой Животворящей и Неразделимой Блаженной Троицы, единого естеством Бога, и проклят и не прощен и повинен всем клятвам отеческим и соборным»[197].
Переголосование или перебаллотировка о. Макария в игумена была произведена, в присутствии митрополитов-экзархов, с строгим соблюдением всех предписываемых законом и выработавшеюся практикою формальностей, и прошла с редкими в подобных случаях спокойствием и чинностью, как об этом свидетельствует посторонний, но заслуживающий полного доверия случайный наблюдатель, известный французский ученый археолог и путешественник граф Мельхиор Вогюэ. «Никогда в жизни нам, – пишет этот путешественник, – не случалось присутствовать на выборах, которые бы имели такой своеобразный характер. День был воскресный: любопытство (la curiosite) заставило нас всю ночь провести в церкви, чтобы присутствовать при русском торжественном богослужении, чтобы слышать великолепное пение, наблюдать выражение этих лиц, которые горячо молились пред алтарем за своего Царя. Целую ночь бледнолицые монахи провели на ногах, освещенные блестящею мглою восковых свеч: никакой печали, кроме печали неба, не отражалось на их физиономиях. Мы заснули, когда занималась заря, а ранним утром были разбужены колокольным звоном. Мы уже стали собираться, чтобы присутствовать при новой церемонии, как нам объявили, что звон этот призывает монахов на их совещания. Событие столь долго ожидаемое, долженствовавшее громко разразиться по всей Восточной Церкви, событие, около которого сгруппировалось все, что осталось страстного в мире духовном, совершалось пред нашими глазами тихо, мирно, так что нельзя было заметить даже малейшего признака какого-нибудь волнения. Никакой подозрительный звук не нарушал тишины монастырской, разве только на некоторых лицах видна была какая то необыкновенная озабоченность, да кое-где по углам длинных коридоров слышалось тихое шептание. Человек не предуведомленный мог бы подумать, что монахи собираются по обыкновению к утреннему служению»[198]. Выше процитированный нами патриарший сиггилион также свидетельствует о полной законности произведенных выборов.
Но, несмотря на все это, явились недовольные произведенными выборами – шесть членов карейского протата и шесть монахов обители св. Пантелеймона, причем первые нашли, что уполномоченные от протата якобы «не сообразовались с данными им наставлениями»[199]. Недовольные написали протест в весьма сильных выражениях, причем грозили даже «возобновлением Сицилианской вечерни»[200], и отправили его к Патриарху, который, однако, не придал ему никакого значения, сделав протестантам отеческое замечание. Не мирившиеся с фактом состоявшегося избрания, монахи монастыря св. Пантелеймона продолжали волноваться и протестовать против нового порядка жизни в монастыре. Так, когда 1 сентября русские иноки потребовали от о. Евгения и о. Анастасия ключи от Пантелеимоновского собора, то последние отказались выдать их, а параэкклесиарх собора о. Иоанн на церковной двери наклеил портреты султана, убрав их цветами, и над папертью водрузил турецкий флаг. Турецкий чиновник, бывший при этом, нашел неуместным и не своевременным такое выражение верноподданнических чувств султану, собственноручно снял флаг и сказал при этом: «Подданство и повиновение правительству состоит не в том, чтобы выставлять портреты и выкидывать флаги, но в исполнении его воли». Этот факт наглядным образом показал русским инокам, что огонь вражды греков к ним еще не потух, и посему, чтобы раз навсегда удалить зло из среды своей, они предложили недовольным оставить монастырь и искать себе пристанища в другом месте. Наделенные деньгами и необходимыми предметами к жизни, главные вожаки греческих братий 6 сентября были удалены из обители, которая теперь готовилась к встрече нового игумена.
24 сентября избранный в игумены и утвержденный Патриархом о. Макарий возвратился из Константинополя на Афон. Ликующая братия, торжествовавшая счастливый исход процесса, устроила ему блестящую встречу. 26 сентября, во время литургии, совершенной никейским митрополитом Иоанникием, в присутствии девяти членов протата и секретаря его, о. Макарий получил знаки игуменского достоинства: патерицу или игуменский жезл и архиерейскую мантию с источниками и был возведен на игуменский трон. «Сознаю, – говорил взволнованным голосом новый игумен своей братии, в первый раз вошедший на трон, – что не по силам моим возлагается сей голгофский крест на мою вы ю, но, помня, что сила Божия в немощех совершается, я, грешейший, движимый взаимною любовью и убеждаемый обстоятельствами времени, а вместе и призываемый на сие высокое служение высокопоставленными лицами двух национальностей, решаюсь, призвав в помощь Господа, заступление Царицы неба и земли и предстательство св. великомученика и целителя Пантелеймона, возлагаемое на меня послушание, по желанию и великих адамантов терпения старцев наших Иеронима и Илариона и вашему, я восприял, зная, что это была воля и в Бозе почившего старца нашего о. игумена Герасима»[201].
Члены карейского протата, после поставления в игумена о. Макария, немедленно известили Патриарха и экзархов чрез особые официальные послания, в которых говорилось, что «прежний законный порядок в названной обители вполне восстановлен-» и что «согласно обычаям и порядкам Святой Горы ввели, 26 сего месяца, в день памяти св. Иоанна Богослова в должность настоятеля названной обители архимандрита Макария, недавно выбранного на эту должность большинством пребывающей в обители братии»[202].
В воскресенье, 28 сентября, прочтена была патриаршими экзархами разрешительная молитва, которою прощались все иноки, так или иначе провинившиеся во время происходивших в обители смут, и тут же избраны особые духовники для греческих монахов, а в понедельник 29 сентября экзархи, выполнив возложенные на них поручения, выехали с Афона в Константинополь[203]. В ноябре месяце того же 1875 года Вселенский Патриарх издал особую разрешительную грамоту, которою разрешал все вольные и невольные грехи братии Пантелеимоновско-го монастыря, совершенные ими в период пережитых волнений в нем. Под грамотою имеются подписи всех синодальных архиереев[204].
Так окончился наделавший много шуму на Афоне и далеко за его пределами знаменитый греко-русский Пантелеимоновский процесс, породивший страшную вражду между национальностями русской и греческой, не прекратившуюся окончательно и до настоящего времени, вражду недостойную Святой Горы, как места безмолвия и непрестанной молитвы за весь христианский мир, взирающий с благоговением на это место высших духовных подвигов. Тяжело было положение в это время русских иноков, находившихся под страхом гнетущей их мысли, что не нынче – завтра они очутятся за порогом обители, даже вне милого их душе и сердцу Афона, ради которого они оставили все и порвали связи с дорогой далекой родиной, но несравненно тяжелее было положение тех, которым суждено было стоять на страже русских интересов. Какие ужасные нравственные страдания пережили за это время старцы о. Макарий и о. Иероним – это едвали можно представить себе, хотя бы то и приблизительно. Люди, стоявшие близко к старцам в эту тяжелую пору их жизни, не могут говорить без слез о бессонных ночах, проводимых ими или на молитве или за работою, о разного рода иных лишениях, нравственных страданиях и т. п. Думал ли скромный и неискательный о. Макарий, удалявшийся в безмолвную пустыню от житейских треволнений и дрязг и желавший лишь мира и тишины для постоянного благомыслия, что он будет выброшен из обители в самую пучину человеческих страстей и людской злобы? И нужно было иметь громадную силу воли, всепрощающую христианскую любовь к людям, полную покорность долгу, преданность своей «метании» и сознание правоты самого дела, чтобы незыблемо устоять посреди всех этих дрязг, пошлостей, злостной клеветы и инсинуаций. Здесь-то будущий игумен русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне, как злато в горниле, дочищался, искушался и нравственно укреплялся, чтобы потом всегда победоносно выходить из всякого рода испытаний и трудностей. За эти-то высокие качества ума и сердца великого старца о. Макария[205] Провидение, быть может, и послало ему великого советника и могущественную поддержку в лице Н. П. Игнатьева, русского посла при Оттоманской порте, который оказал незаменимую услугу успеху русского дела на Афоне во время греко-русского Пантелеимоновского процесса. Русские афонские иноки живо хранят в своей благодарной памяти эти услуги своего «ктитора», как титулуют они Н. П. Игнатьева, и долго еще будут поминаться на великом выходе за литургиею дорогие каждому из них имена Николая и Елены со чады, т. е. графа и графини.
Глава VIII Русские иноки на Афоне во время русско-турецкой войны 1877 и 1878 годов
В монастыре св. Пантелеймона с переходом власти в руки русских стало все быстро изменяться: недовольные выходили из монастыря, между братиею водворялись нарушенные мир и любовь[206], восстановлялись во всей строгости древние общежительные уставы, производились новые постройки и улучшения в монастыре и т. д. «Казалось, – пишет монастырский дееписатель, – чего бы лучше наслаждаться миром и спокойствием, но в ту же зиму стали носиться тревожные слухи о неистовствах турок в Сербии и Болгарии и как бы не было войны». Действительно, еще в 1875 году восстали на защиту своей свободы мужественные герцеговинцы[207], а за ними и босняки. Турки вторглись в эти пределы и произвели страшные неистовства, поразившие всю Европу. Из сочувствия к страждущим своим собратиям взялись за оружие сербы и черногорцы и 18 июня 1876 года объявили войну Турции.
Сербская война, как известно, окончилась дюнишским погромом, и самое существование сербского княжества обязано заступничеству великодушного русского монарха покойного Александра II, который своим могущественным словом остановил дальнейшее движение турецких войск в пределы Сербии. События в самой Турции, следовавшие одно за другим, тоже ничего не предвещали доброго. После насильственной смерти Абдула-Асиза, русского сторонника, кратковременного царствования его брата Мурада V на престол турецкий вступил нынешний император Абдул-Хамид, недружелюбно настроенный по отношению к русским. Вся Европа с напряжением ожидала разрешения этого тяжелого положения, все с часу на час ожидали войны. Количество паломников на Афон постепенно сокращалось, но русские пароходы продолжали еще совершать рейсы к Святой Горе почти до самого Покрова. Зимою пароходы приходили к Святой Горе очень редко, и паломники приезжали в самом ограниченном числе. Последний русский пароход, пытавшийся под покровительством посла проникнуть на Афон к Пасхе, т. е. 27 марта, должен был оставить свою попытку, а русские паломники вернуться в Россию уже через Триест.
3 апреля 1877 года российское императорское консульство в Солуни получило из Петербурга следующую телеграмму: «Передайте архимандриту Макарию совет, чтобы русские, опасающиеся оставаться на Афоне, немедленно бы отправились на Кавказ чрез Поти в Кутаис на наемном французском пароходе, не сходя на берег в Константинополе»[208]. Сообщая этот министерский совет по назначению, солунский консул Т. П. Юзефович снабдил его секретным разъяснением со своей стороны. «Очевидно, – писал он о. Макарию, – дело идет не о русских поклонниках, а о монахах русских, обитающих на Афоне вообще. Телеграмма эта для меня не понятна в том отношении, что если ее выполнить буквально, то найдется столько охотников и будет такой переполох на Святой Горе, какого вообще не следовало бы желать, как для уезжающих, так и для остающихся. – Передаю вам это известие, в котором заключается не непременное желание выполнения, а только совет, так сказать, предложение облегчить участь боящихся. Следовательно, все предоставляется вашему и о. Иеронима благоусмотрению. Как видно, однако, желательно, чтобы в случае решения устрашенных укрыться в России они отправились вместе и в одно место, а не поодиночке. – Должно быть, это есть специальное разрешение для афонских монахов и об этом, полагаю, предупреждены власти в Поти. Пароход под французским, а не иным флагом рекомендуется преимущественно, – это тоже следует заметить. Об этой телеграмме знаю только я да о. Иосиф. – Следовательно, вам легко выполнить ее и оставить без последствий. Мое мнение личное скорее отправить боящихся по островам либо в Грецию, мало-помалу, под благовидным предлогом. А такое переселение хотя и легко сделать, но что скажут греческие обители и каково будет жить оставшимся? Повторяю, что вам ближе известно все и телеграмму сохраним в тайне. О вашем решении уведомьте меня, а если меня уже не будет в Солуни, то поручите передать письмо во французское консульство для пересылки ко мне. Предупредите и г. Нелидова, если будете знать, что он еще в Константинополе.
Еще не получил я последнего приказания уезжать отсюда, но у меня все уже готово и война неизбежна».
В тот же почти день получено на Афоне несколько частных телеграмм с подобными же советами: от о. Арсения, управляющего афонским подворьем в Москве, от о. Владимира, заведующего подворьем в Константинополе, две от В. И. Сушкина, брата о. Макария, и, наконец, 7 апреля от г. Нелидова из Константинополя. Совет последнего сопровождался личным мнением, в общем сходным с мнением Т. П. Юзефовича: «С своей стороны думаю, – писал он, – что Афону вовсе опасность не угрожает, а бежать преждевременно было бы несовместно с монашеским обетом и с достоинством русского имени».
О. Макарий и о. Иероним, обсудивши все советы своих благодетелей и доброжелателей, решились не производить паники на Афоне среди русской монашествующей братии, а предоставить все воле Божией и подвергнуться всем лишениям и ужасам военного времени. «Сейчас почтенно-приятное письмо ваше от 3 апреля сего года мы имели честь получить, – писали старцы руссиковского монастыря в ответ на письмо Т. П. Юзефовича, – в коем вы изволите передавать нам полученную Вами бумагу от того же числа. Прочитавши оную, мы были весьма удивлены ее значению и недоумеваем, кого она касается – нашей ли обители только, или всего населения Афона? Как то, так и другое не совпадает с нашим положением, ибо собственно удаление из нашей обители большинства братства может принести следствия для нас весьма неинтересные. Бывшее дело наше еще „так свежо“, что им примут меры воспользоваться наши сожители и, по своей любви к нам, пожалуй мы по прибытии обратно братства не найдем и входа в свою обитель. А потому, чем более останется братства в обители, тем будет полезнее для нас. По крайней мере, это наше человеческое рассуждение собственно о своем братстве, отъезда же нашего желают сожители наши. Если объявить эту бумагу всем вообще, то мы можем повредить себе и другим. Вам известен быт нашего русского простолюдина. Таковое предъявление встревожит не только русских, но и другие нации, и оставшимся будет трудно не тревожиться на Святой Горе. Затем, приезд в Кутаис такого громадного братства, не говорю всего Афона, а нашего? Теперь и часть оного, посланного нами, не находит места, а что сказать, если соберутся из других обителей без средств и не найдут там не только средств к содержанию, но и помещения? Правительству же до монахов ли теперь? Но главное то, что здесь можно повредить и тому положению, в котором находимся. Следовательно, предложение этой бумаги неудобоисполнимо. Приходя на Афон, каждый, знал куда идет: не сегодня, то завтра, а должно было ожидать этого события, ибо оставление обители весьма вредно, как в нравственном, так и в материальном для нас отношении. Благоволите нам оказать свою милость и заступничество таковым образом: поручите нас какой-либо державе, имеющей сильное влияние, чтобы она всегда могла нас защищать всевозможными мерами, средствами и своим сильным влиянием на наш быт, как внешний, так и внутренний, т. е. как нашу обитель, так Андреевский и Ильинский скиты и всех вообще русских на Афоне. Тогда могут скорее устраниться неудобства и неприязненные действия. Предполагаем, вы это сами можете устроить, или же благоволите сообщить о сем в то же место, откуда вами получена бумага с предложением нам совета. Бумага же, полученная от вас, не объявлена никому, для отклонения могущих быть замешательств и разных неудобств. Мы такого мнения. На острова отправляться тоже немыслимо: ведь везде нужны средства, да и большие, а мы ими не изобилуем так, чтобы разделиться на несколько лагерей, а келлиоты непременно и возложат все заботы на нашу обитель, а ведь их не десяток, а целые сотни. Мы ждем последнего известия и тогда уже объявим братству о деле. Благословения на отправку не будем давать, а напротив каждого…»[209]
Важнейшие деятели Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне
1) о. Герасим, игумен Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне, предшественник о. Макария;
2) о. Иероним, духовник обители;
3) о. Рафаил, духовник;
4) о. Павел, эконом;
5) о. Иосиф, пчеловод;
6) о. архидиакон Лукиан
Важнейшие деятели Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне
7) о. Паисий, заведующий подворьем в Константинополе;
8) о. иеромонах Мина, личный секретарь о. Макария;
9) о. Матвей, библиотекарь;
10) о. Паисий, дикей русского Ильинского скита;
11) о. иеродиакон Иларион, помощник игумена Герасима;
12) о. архимандрит Феодорит, дикей русского Андреевского скита
В ответ на это письмо афонских старцев Т. П. Юзефович от 11 апреля за № 91 известил их о прекращении дипломатических сношений России с Турциею, о своем выезде из Солуни и об объявлении войны. «По приказанию Императорского правительства, прервавшего сношения с Портою, я, – писал Т. Юзефович, – спустил сегодня флаг консульства нашего в Солуни и выезжаю из пределов оттоманских, поручив покровительство русских интересов господину Малле (Mallet), французскому консулу в этом городе. Личность господина Малле служит порукою, что в продолжение наших неприязненных отношений с турками все возможное будет сделано для охраны наших православных братий на Афоне от всяких неприятностей. Знание русского языка секретарем французского консульства г. Краевским, человеком весьма честным, тоже может облегчить сношения наших обителей с консульством, взявшим на себя труд охраны. – Это уведомление покорнейше прошу обитель сообщить скитам нашим и всем кому надлежит для сведения. – Призывая милость Божию для ниспослания скорого мира и покоя, верую, что Пресвятая Владычица не оставит и ныне Святую Гору, зрившую гораздо большие беды, проходившие мимо ее».
12 апреля 1877 года был прочитан манифест о войне с Турциею, и наши войска перешли русскую границу. Русские иноки на Афоне остались, таким образом, надолго оторванными от дорогого и любезного им отечества, которому пришлось пережить за это время тяжелую годину бед, иногда не имея из него никаких сведений. Много горя и клевет со стороны врагов, опасений за каждый день своего существования на Афоне, прямо физических страданий, соединенных иногда с лишением свободы, пережили за это время наши иноки на Святой Горе. Увлекшись интересом к судьбе наших «братушек», злоключениями которых очень много и с излишним усердием занималась наша пресса в это время, мы совершенно забыли о тех, которые «плоть от плоти нашей и кость от костей наших», о наших иноках на Афоне, добровольно очутившихся в плену османов и подвергших себя всем ужасам военного времени. О них никто, сколько нам известно, не вспомнил в это время и не сказал слова участия к ним, а потому наша речь о судьбе русских иноков на Афоне во время нашей войны 1877 и 1878 годов имеет для наших читателей характер полной новизны и должна представлять для них, так сказать, двойной интерес.
Едва лишь началась Русско-турецкая война, как затаенная злоба греков к русским обнаружилась со всею чудовищною силою. Константинопольские, уже известные нам русофобские газеты, на время притихшие, снова заговорили о русских иноках на Афоне своим обычным языком и старались всячески выставить их перед правительством в самом невыгодном свете, указывая на них, как на виновников начавшейся войны. Распространяемые ими клеветы и инсинуации на русских охотно были приняты на страницы европейских газет, как, например, в английской газете «Times», и даже фигурировали на страницах английской «Синей книги». Ближайшим поводом для константинопольских газет заговорить снова о русских иноках на Афоне было назначение на Кассандру, смежный с Афоном полуостров, каймакана и рассуждение по этому поводу в пресловутом турецком парламенте. Депутат из Смирны некто Енитехерли-хаджи-Амет-эфенди коснулся мимоходом положения дел на Афоне и указал на могущие быть опасности со стороны тех 10 000 русских людей, которые живут здесь. Ненавистница русских, газета «Θράχη» воспользова лась этим случаем, чтобы снова забить тревогу против «обрусения Афона» и «убийственных последствий будущности жителей Македонии».
Поправляя депутата и уменьшая цифру русских монахов на Афоне с 10 000 на 7 000, названная газета задается такими вопросами: «Откуда же они и что ищут в этом эллинском обиталище? Разве мало в России степей, где они могли бы, монашествуя, спасти свои души от доброненавистника?» «Потребовалось бы сказать, – отвечает газета, – многое, если бы мы захотели рассмотреть цели этого скопа калогеров, кроме того для открытия сих целей требуется и не малая острота зрения. Безмятежное это убежище, которое эллинская монашеская политика[210] сохранила священным под духовною юрисдикциею Великой Церкви и политическою властью султана, превращается постепенно чуждыми этими завоевателями в центр преступных действий, которые, если только не будет вовремя уничтожено с корнем это гнездо заинтересованными – церковью, народом и государством, то не замедлят оказать свое существование пагубнейшим образом. Но еще есть время для предупреждения полной катастрофы, для того, чтобы исторгнуть с корнем те плевелы, которые рука злодейской политики[211] посеяла и возрастила на этой ниве. Напрасно прежде „Θράχη“, а с нею вместе и все патриотические сердца (?) подвизались с ловом за ин тересы народа и Церк ви, п ри зыва я неоп иса нные права исторических ктиторов обители Пантелеймона, на которую прежде всего направлена была осада завоевателей. Ослиные совести, пигмеи, враждебные народу и Церкви, вздумали, превращая предания и историю, создать (новые права), всякое старание разбивалось о несокрушимое политическое влияние, отравившее атмосферу и мерзкие испарения коего проникли в политические и церковные круги; всякая здравая энергия, которая появлялась бы в Патриархии, была ниспровергаема непреклонною тою политикою, которая не щадила никаких средств вещественных и нравственных для развращения совестей. И, наконец, цель ее была достигнута. Обитель Пантелеймона перешла во власть русских». Далее идет речь о канонизме для Святой Горы и возможно скорейшем его одобрении правительством и Великою Церковью. В этом газета видит спасение Святой Горы от панславизма. «Таким образом, – заключает „Θράχη“, – Императорское правительство доставляет случай, дабы была исправлена та ужасная ошибка, каковую всесильное тогда в Константинополе русское влияние посадило на шею Церкви к ее же вреду и исключительно в пользу славянских целей. Поистине была бы вина и вина непростительная, если бы доставленный случай прошел без положительного результата, которого вправе теперь требовать обесчещенная тогда народная совесть, расхищенные права Церкви. Результатом исправления должны быть: защита этих прав и лишение всякого права, приобретенного насильственно влезшими во Святую Гору, под видом друзей и братьев, ехиднами севера, возвращение над монастырями прав Эллинской Церкви, упрочение прав этих канонизмом, воздвигающим преграду всякому завистливому поползновению на эти права, и, наконец, ограничение оргий, чрез каковые народному достоянию угрожает то, что оно впадет в руки непримиримых и известных врагов государства и Церкви нашей. И действительно, кто они? Откуда они пришли и что у них за права, которые они защищали против тех законоположений, каковые и история, и предания сохранили до вчерашнего дня и бывшие эллинскими до тех пор, пока не было бесчеловечного гонения ктиторов их железною дипломатиею?». В конце статьи газета обращается к правительству с просьбою «принять решение мужественное, патриотическое и справедливое, согласно с указаниями долга и пользами Церкви и государства»[212]. Что означают эти последние слова, названная газета определенно и ясно высказала в другой своей статье под заглавием: «Необходимая мера», которая написана по поводу статьи во французской газете «Phare du Bosphore» по тому же предмету.
«С некоторого времени внимание Императорского правительства, – пишет французская газета, – говорится в газете „Θράχη“, поглощают многие попечения и не позволяют ему заняться вопросом, который может решиться именно теперь лучше, нежели в иное время. Существует в южной оконечности Македонии около тысячи русских, которые постепенно вползли на Афон и производят деятельную славянскую пропаганду в самых недрах Оттоманской державы. Хотя они и носят монашеский образ и, по-видимому, совершенно чужды политики, тем не менее люди эти русские и тем не менее ведут постоянную корреспонденцию со всеми панславистическими комитетами. Пришли они на Афон небольшими кучками, смиренные и послушные сначала, но потом, однако, подняли голову и из гостей сделались господами на малой части полуострова. Говорили мы в свое время что следовало об опасном сем нашествии, производившемся под покровительством русского посольства и которое отняло у греческого народа одну из важнейших обителей на Афоне и многие недвижимые имения. Мы рассказали в то время[213], говоря о служениях панславистического механизма и способе этого поселения, также об устроенных в Одессе, Галате и других местах отделениях для служения переселению русских монахов и потому не считаем нужным повторять то же. К счастию, прошло уже то время, когда нужно было употреблять все средства и доводы, чтобы доказать, что славизм угрожает целости Оттоманской империи. Программа этих комитетов, которую некогда объявляя, мы подвергали сами себя опасности, кровавыми буквами пишется теперь от Адриатики до Евфрата, и Императорское правительство знает теперь, какого доверия стоят эти апостолы славянства с тихою и покорною внешностию. Не небезызвестно ему, что, если течет теперь щедро кровь ее подданных, если погибли экономические его силы, если народы ее подвержены ужасам истребительной войны, то причина всему этому та беззаботность, с какою оно смотрело на ту подземную работу, какую производили в Румелии монахи и народные учители. Воспитавшиеся в Киеве и Москве народные учители и монахи подвигнули болгар, вызвали междоусобную войну, возбудили общественное мнение в Англии, воодушевили оппозицию, парализовали старания английского правительства и доставили, наконец, свободу действия России. Не может существовать сомнения в том, что для подобного же успеха в Македонии Россия двинула своих монахов. Не надо забывать, что в глазах русской политики занятие этой страны (т. е. Македонии) в тысячу раз важнее настоящей Болгарии, просто ради того, что обладатель Солуни есть обладатель и столицы Востока. Достаточно бросить взгляд на карту, чтобы убедиться, что южная сторона Фракии, не захваченная в границы, очерченные Игнатьевым на конференции для Болгарии, своим отделением от прочей Румелии, представляет легкую добычу. Итак, нужно, чтобы Императорское правительство, пользуясь предоставленным ему военным положением правом, непременно избавило бы Святую Гору от толпы русских монахов, явившихся на ней, и отдало бы прежним владетелям те обители и их недвижимую собственность, каковую захватили они в то время, когда верилось, что уступками могли умягчить корыстолюбие северного колосса. Греческий народ стал действительно достоин этого удовлетворения, ибо показал в самые трудные времена непоколебимую верность и великое терпение ввиду жертв, налагаемых на него войной»[214]. Ввиду полной солидарности взглядов обеих газет, «Θράχη» оставалось лишь подписаться под этою статьей французской газеты, что она и сделала с полною готовностью, воспроизведя ее целиком на своих страницах.
Дитя, достойное своей матери, афинская газета «Neologoj», основанная одним из бывших редакторов константинопольской газеты того же имени г. Ялемосом и просуществовавшая на белом свете весьма недолго, в своих инсинуациях и нападках на русских иноков на Афоне и на Россию вообще далеко опередила соименную константинопольскую газету и все другие русофобские органы печати[215]. Очевидно, свобода печати, дарованная эллинам конституциею, увлекшая г. Ялемоса на почву Аттики, дала возможность ему со всей злобою и желчностью излить на русских гнев страшного негодования и презрения.
Инсинуации, ожесточенные нападки и чудовищная клевета этой печати на русских иноков на Афоне и обвинения их в коварных махинациях и злых намерениях по отношению к Македонии, Фессалии и другим областям Османской империи производили сильное впечатление не только на умы общества, питавшегося исключительно сведениями этих газет, но даже на турецкое правительство и некоторых дипломатов великих западных держав, располагавших всегда сведениями из более чистых и достоверных источников. Едва ли можно сомневаться в том, что г. Лейард, английский посланник при Оттоманской Порте, сообщивши «достоверные сведения» относительно русских иноков на Афоне своему правительству в особой депеше, которая потом попала и на страницы английской официальной «Синей книги», почерпнул их из этого грязного источника. В противном случае он не наговорил бы в краткой депеше столько нелепостей и противоречий действительному положению вещей на Афоне, сколько в ней обнаружено сейчас же после ее обнародования. «Узнал я, – говорится в донесении г. Лейарда, – из достоверного источника (?), что в настоящую минуту русские агенты стараются произвести восстание греков и болгар в Македонии и Фессалии, деньги же на это и злокознества идут собственно из греческих монастырей Афона (?!). Русское правительство учинило предводителем (?) некоего монаха Макария из княжеского рода (!!!), который большими денежными затратами успел в том, что его избрали игуменом монастыря св. Пантелеймона»[216]. Здесь все от начала до конца ложь и противоречия, лучшим доказательством чего, по нашему мнению, кроме известных нашим читателям исторически достоверных фактов, может служить, между прочим, и то обстоятельство, что греческие афонские монастыри, крайне возмущенные легкомысленною фразою этой депеши: «Деньги и злокознества идут собственно из греческих монастырей Афона», написали сильный протест и отправили его для напечатания в константинопольской газете «Neologoj». В протесте назывался «клеветником тот, кто сообщил такое полнейшее сведение» и выражались отцами верноподданнические чувства султану.
Глава IX Дело о русских иноках на Афонской горе
Пока нападки и клеветы на русских иноков на Афоне ограничивались лишь столбцами местных газет, турецкое правительство относилось к ним спокойно, но когда однородные обвинения и притом «из достоверного источника» появились на страницах иностранных официальных документов, то дальнейшее равнодушное отношение к ним сделалось невозможным. Необходимо было или исследовать всесторонне образ поведения русских иноков на Афоне и опровергнуть взводимые на них обвинения, или принять нужные меры к их удалению с Афона. Решено было спросить мнения на счет поведения их у главы Константинопольской Церкви, в духовной зависимости у себя державшей и Святую Гору, для чего Патриарх был приглашен на аудиенцию к султану. Патриарх Иоаким II дал его величеству султану по данному вопросу заверения вполне успокоительного характера. Но правительство почему-то отнеслось к этим заверениям Патриарха с недоверием, так как после упомянутой аудиенции стало известным намерение его, обсуждавшееся и одобренное даже и на совете министров, выселить русских иноков с Афона в Анатолию, в монастырь Сумелла, находящийся близ Трапезунда. В этом смысле было послано предложение святейшему Патриарху, чтобы он привел в осуществление настоящее решение правительства. Оскорбленный недоверием правительства к его заверениям, Иоаким II сделал возражение на это предложение, заявив категорически, что он лично не находит достаточных причин к этому выселению русских иноков, так как «они, во-первых, – писал Патриарх, – ваши подданные, во-вторых, послушные чада Церкви, и, в-третьих, в продолжение своей жизни на Афоне не показали никакого противодействия как правительству, так и Церкви. Следовательно, – заключил он свои возражения авторитетно, – я не могу взять на свою ответственность такого поступка. Если же почтенное правительство замечает в чем-либо русских, живущих на Афоне, или имеет какое-либо подозрение, то может распорядиться как ему благоугодно, в чем и препятствовать не смею, а для оправдания Великой Церкви подам отношение Великой Церкви». Свою угрозу Патриарх и выполнит немедленно, подав правительству прошение об отставке.
В своем отношении Патриарх выражал, во-первых, глубокую скорбь о том, что, при всем его желании содействовать почтенному правительству во всех его нуждах, оно ему не доверяет, даже и после тех уверений, каковые им заявлены его величеству султану, а также и высокопоставленным членам Блистательной Порты; во-вторых, что правительство более доверяет клеветникам и наветникам, которые могут повредить государству и нанести ему какую-либо новую неприятность и, в-третьих, что он, объясняя правительству, вместе с тем просит оное уволить его от трудов и забот, которые при старости окружают его.
Подав это прошение, его святейшество, между прочим, приказал своему капу-кехаи (чиновник особых поручений в сношениях Патриархии с правительством) сказать министру иностранных дел конфиденциально, что «русские, живущие на Афоне, не пойдут с Афона, ибо они пришли жить на Афоне, но не где-либо в другом месте Турции, ибо у православных есть на это место особое воззрение, по святости оного, что свидетельствует само его название «Вертоград Панагии», живущим на котором даны Богоматерью особые обетования и запрещен вход для женщин, которые служат преткновением в другом месте, – что все и влечет с далекого севера на Афон благоговейных русских, оставляющих родину, звание, богатство и все близкое сердцу для того только, чтобы в этом далеком уголке приобрести себе душевное спасение. Вот что их увлекло на Афон, а не другие какие-либо цели, приписываемые им теперь клеветниками. Когда правительство вздумает им предписать выезд, то непременно они в свою очередь подадут протест в германское посольство, сказав, что они были в подданстве турецкого правительства собственно вследствие пребывания по религиозным целям на Афоне и не отрицаются от этого подданства, исполняя обязанности, возлагаемые правительством, но с сего дня они объявляют себя русскими подданными под покровительством германского посольства, которое, конечно, тотчас их примет и тогда пойдут с турецким правительством переписки и новые затруднения, могущие наделать много шума, а наше правительство и без того терпит много нападок». Министр принял к сведению сообщение Патриарха и обо всем сделал подробное донесение великому визирю. Был созван вторичный совет министров, который постановил оставить русских в покое, но назначить особого чиновника и послать его на военном пароходе, чтобы он исследовал истинное положение дел на месте, где живут русские, и дал правительству верные о нем сведения. К этому же, ввиду слухов о некоторых волнениях греков, присоединялось поручение присмотреться к поведению и афонских греческих монахов. Для выполнения настоящего поручения был избран правительством Зивер-бей, а со стороны Патриархии член синода митрополит Амвросий Хиосский, как член следственной комиссии православного вероисповедания[217].
Его святейшество Вселенский Патриарх, еще раньше, чем была наря жена эта комиссия правительством, послал на Святую Гору своего племянника митрополита Иоакима Дерконского экзархом и поручил ему собрать подробные сведения о живущих на Афоне с точным указанием отчества, звания, лет от роду и лет нахождения на Святой Горе, а также успокоить и прекратить те беспорядки и распри, какие в ту пору происходили в монастырях Ксенофском, Костамонитском и между Кропотамом и Симоно-Петром. Нелегко было экзарху уладить дела в монастырях греческих, но едва ли не труднее для него было добиться списков монашествующих лиц в каждом из афонских монастырей. Греки почему-то сочли это требование обидным для себя и медлили его выполнением, хотя требование экзарха о списках было разослано циркулярно по всем монастырям. Они даже жаловались на Патриархию Мустафе-паше, мутесарифу города Сереса (гражданскому губернатору), приехавшему на Афон на особом пароходе 19 июля в бытность его на Карее 28 июля. Здесь же греческие монахи не преминули выставить на вид, что Патриархия передала монастырь русским, чем ввела этот элемент в святогорское общество, которого они не желали, и самое требование списков считали не чем иным, как желанием Патриархии защитить русских афонских монахов. Паша на это ответил жалующимся: «правительство, имея в виду русских, не упускает из виду смотреть и на другие элементы Святой Горы. Правительство в данном случае сделало особую честь Святой Горе, что потребовало списки не чрез светского чиновника, а чрез Великую Церковь, потому что чиновник за такое упорное неисполнение давно бы многих арестовал, а экзарх, как человек духовный, снисходит этим наружным беспорядкам». Но и после этого внушения греки упорно отказывались от подачи списков через экзарха[218] в Великую Церковь и представили их лишь через солунского пашу, чем страшно обидели Патриарха Иоакима II.
8 сентября, утром, пред литургией показался в виду Афона военный турецкий пароход. Русские иноки монастыря св. Пантелеймона, находившиеся под сильным впечатлением полученных от 29 августа сведений из Солуни о страшном погроме их подворья и о заключении в тюрьму живших там иноков иеродиакона Алексея, схимонаха Адама и Гликерия (об этом подробнее речь впереди), пришли в смущение. Они предполагали, что это едет следственная комиссия по этому солунскому делу и что монастырь так же, как и подворье, подвергнется обыску. Тотчас послали монаха на пароход узнать, кто приехал и с какой целью. По справкам оказалось, что это были командированные правительством для исследования настоящего положения дел на Афоне министерский чиновник Зивер-бей и Амвросий, митрополит Хиосский. Первый потребовал к себе каймакама и таможенного чиновника Бикира-эфенди, а митрополит Амвросий посоветовал о. игумену отслужить поскорее литургию и приехать для свидания с ним на пароход. По окончании литургии о. Макарий немедленно отправился на пароход, где был принят прибывшими весьма благосклонно. Гости были приглашены к обеденному столу в монастырь, после которого обошли все постройки и заведения обители, попросили списки монашествующей братии и, распростившись с о. игуменом, отправились на Карею, а оттуда в объезд по монастырям. В Руссик гости вернулись 14 числа. Зивер-бей был очень любезен и внимателен к отцам русской обители и видимо показывал довольство и хорошее впечатление, которое он уносил с собою из своего путешествия на Афон, и так как погода была дождливая и на море бушевала буря, то гости прожили в монастыре до 17 числа сентября месяца. Сюда приезжали представители русских скитов Андреевского и Ильинского, чтобы засвидетельствовать правительству свое почтение и объяснить, что цели их пребывания на Афоне совершенно мирные и с политикою ничего не имеют общего.
18 числа сентября прибыл к Афону другой пароход из Солуни, на котором приехали два архиерея: митрополит Кирилл Гревенон и Иоаким, митрополит Дерконский, по исполнении возложенного на него поручения Патриархом возвращавшийся в Константинополь, и мустешар (товарищ губернатора). Отцы обители новых гостей встретили колокольным звоном и краткою литиею в храме, так как прибывшие были все христиане, а потом угощали их на архондарике по-восточному. После встречи между митрополитами и обоими турецкими чиновниками довольно продолжительное время шла оживленная деловая беседа. Затем Зивер-бей и митрополиты Хиосский и Дерконский откланялись отцам обители и, при колокольном звоне, отправились на военный пароход, чтобы ехать в Константинополь. О. Макарий проводил гостей на пароход и там любезно простился с ними.
По возвращении с парохода была предложена вновь прибывшим гостям трапеза, после которой мустешар осматривал библиотеку и некоторые монастырские постройки, причем всячески старался быть любезным с отцами обители, чтобы расположить их к себе. Мустешар напоминал о клеветах, возводимых на русских, и спрашивал отцов, не имеют ли они на кого-нибудь особых жалоб? Отцы ответили отрицательно, заявляя, что они скорбят лишь о разногласиях между монастырями. На следующий день, после продолжительной беседы с о. игуменом, мустешар отправился в Ксиропотам, чтобы с этого монастыря начать свой объезд Святой Горы, а митрополит уехал на Карею.
20 сентября митрополит Кирилл в карейском киноте предъявил бумагу от Великой Церкви, в которой говорилось, во-первых, о том, что на Святую Гору посылаются три митрополита, из коих Кирилл Гревенон для исследования дел по гражданскому ведомству и для собирания сведений о русских иноках на Афоне, во-вторых, высказывалось порицание за неприличные поступки с митрополитом Дерконским в Ксенофе и за неподачу каталогов с именами монахов и, в-третьих, выражалась надежда, что афониты будут внимательнее к настоящему экзарху.
По объезде Святой Горы мустешар вернулся в Пантелеимо-новский монастырь и прожил, по случаю дурной погоды, с 23 по 26 сентября. Во все это время он советовал старцам жить в мире и согласии с прочими монастырями, подчиниться канонизму, выработанному Патриархией, а во всем остальном быть совершенно покойными, так как он лично убедился в их благонамеренности. 26 сентября мустешар, в сопровождении многочисленной братии и при колокольном звоне, оставил монастырь и отправился на пароход, чтобы ехать обратно домой.
Так закончились все следствия в русском Пантелеимоновском монастыре, уверившие турецкое правительство в полной благонадежности русских монахов, так как, по ироническому, но совершенно справедливому замечанию газеты «Θράκη», следователи «не находили в монастыре никаких иных орудий, кроме богослужебных книг да молитвенников и не менее опасные снаряды: бобы, фасоли, лахана (капуста), колокифья (демьянки) и маслины, которые составляют зимние запасы калогеров. Председатель игумен встречал членов комиссии с полным монашеским благодушием и нашел непреоборимый аргумент, дабы убедить их, что все против него и его братии обвинения были совершенно неосновательны. Комиссии возвращались огарованными сердегным и хлебосольным приемом монахов Святой Горы»[219].
Но не всегда и не везде так благополучно и без дурных последствий для афонских русских иноков оканчивались расследования по подозрениям разных турецких следственных комиссий. Страшный погром солунского афоно-русского подворья и заключение в темницу 29 августа 1877 года о. иеродиакона Алексея с товарищами, о чем мы упомянули выше, служат к тому яркой иллюстрацией. В этом последнем весьма прискорбном случае дело не обошлось для неповинных ни в чем иноков без тяжелых физических и моральных страданий. Вот как рассказывает эпически, но вместе с тем весьма трогательно, обо всех обстоятельствах этого события о. Алексей в письме от 20 февраля 1878 года к покойному игумену о. Макарию.
До 29 августа, по словам о. Алексея, он и его товарищи жили в Солуни спокойно и в полной безопасности: получали исправно корреспонденцию из России и аккуратно исполняли все монастырские поручения, возлагавшиеся на них. Клеветы на монастырь и на русских иноков на Афоне доходили и до их слуха, но они мало придавали им значения, так как хорошо знали, откуда и из какого источника они выходят. Главным агитатором против русских иноков на Афоне и инсинуатором был некто проигумен Ксиропотамского монастыря кир Прокопий, проживавший в это время по делам своего монастыря в Солуни. Он открыто и не стесняясь говорил, что «русских ни одного не останется; во что бы то ни стало очистим Афон от русских; что руссиковские отбили у греков монастырь ни за что и что в Руссике игумен ворочает всем Афоном» и т. д. В последних словах, подчеркнутых нами, намекалось, между прочим, на то обстоятельство, что в споре Ксиропотамского монастыря с Симоно-Петрским из-за келлии Одоид игумен Руссика о. Макарий, ввиду правоты дела и по установившимся добрым отношениям между монастырями, стоял на стороне симоно-петрийцев. Вот почему, когда Ксиропотам проиграл процесс с Симоно-Петрским монастырем, то о. Прокопий, считая виновником всего этого руссиковских монахов из русских и их игумена о. Макария, в страшном озлоблении на них сделал прямо донос на русских иноков солунскому паше. Он заявил последнему, что «игумен Руссика Макарий из царского рода, и что он не игумен, а агент русского императорского дворца, что он живет не для спасения или монашества, а равно и вся братия его, но для возбуждения к восстанию народностей, подданных турецких, особенно славян, и что они имеют огромную корреспонденцию с Россиею и со славянским комитетом, что всякую почту получают и отсылают чувалы (т. е. мешки) писем, что русские имеют в монастыре большие запасы военных снарядов и многих скрытых полководцев под черною рясою и большия суммы денег» и т. д. Этот нелепый донос возымел желанное действие, так как солунский паша (черкес по происхождению) был весьма недружелюбно настроен по отношению к русским вообще. Результатом его была посылка на Афон мустешара для всестороннего расследования там в монастыре по данному доносу, о чем мы сказали выше, и назначение следственной комиссии под командою брата мустешара здесь с целью на месте, в солунском афоно-Пантелеимоновском подворье, захватить преступную корреспонденцию и подвергнуть строжайшему допросу главных агитаторов и виновников панславистической пропаганды.
Вечером 29 августа упомянутая комиссия явилась в подворье русского Пантелеимоновского монастыря. Брат мустешара и начальник явился на четверть раньше, опасаясь, чтобы отцы не разбежались. Осведомившись о том, что отцы дома, он вызвал отца Алексея для переговоров. Но истинное значение этих переговоров открылось тотчас же, потому что в дверях подворья появилась целая толпа военных людей. Это были жандармский полковник, два офицера, полицейский и десять солдат, вооруженных тесаками и револьверами. Брат мустешара прямо приступил к делу. Он потребовал к себе всю корреспонденцию, т. е. письма благодетелей, жертвователей и ответы на них афонских отцов. Требование было исполнено немедленно. Взятые письма были собраны в платок. Но этим члены комиссии не удовлетворились. Подозревая, что отцы самые важные письма скрывают, члены комиссии приступили к самому тщательному обыску внутренних жилых помещений и наружных надворных пристроек: они взламывали сундуки, дулапы (поставцы), столовые ящики, осматривали постели, конюшни, отхожие места, сараи и т. д. Но все усилия и старания найти что-нибудь подозрительное, вроде, например, скрытого военного оружия или секретных писем, оказались тщетными. На этом, однако, дело не остановилось. По окончании обыска отцам приказано было следовать за ними для объяснения с пашой. Отцы исполнили приказание и были отведены под конвоем во двор суда, где должны были более часу ожидать приезда паши. Когда появился паша, опросил каждого вопросами: кто вы? и откуда? и, получив ответы, молча удалился. Отцы продолжали стоять на дворе. Наступила ночь. «Ночь уже совершенно застигла нас в гостях, – иронически замечает о. Алексей в своем письме. – Турки и мустешар сами выразились, что мы у них в гостях, а не под стражей, но избави Боже всякого человека от такой гостеприимности! Наконец, уже поздно вечером отцов ввели в сторожевую комнату, где помещались караульные солдаты. От табачного дыму и зловония отцы задыхались. Предложен был обед, но узники, несмотря на аппетит, отказались от еды. Подано было кофе. Около полночи отцов перевели в комнату темницы, где днем принимаются арестанты. Пробывши ночь в этой комнате, – пишет о. Алексей, – мы много передумали о своей судьбе и всю ночь слушали звук желез, которыми были скованы бедные узники – славяне. Звуки эти не давали нам спокойно спать. Унылый тон желез вонзался и в наши сердца. На другой день мы уже ждали чего-то решительного в своей участи, но ее не было». В этой комнатке, в страшной жаре, духоте и зловонии, голодными просидели отцы целых три дня. Хлеба было достать им трудно, но если и доставали, то он «от скорби и тесноты сердечной» не съедался. Через три дня отцы были отведены и временно водворены уж в настоящей тюрьме, в полной неизвестности относительно своей участи. В конце недели им объявили, что они будут судимы военным судом, и в субботу их водили в сераскириат, но потом снова водворили на прежнее место. Суд не состоялся якобы потому, что судьи разошлись по домам. В воскресение объявили отцам, что они будут отправлены для суда и сдедствия в Константинополь. В полдень даже провели их под конвоем 50 человек солдат до пароходной пристани и обратно назад в тюрьму по той причине, что в этот день не было парохода в Константинополь. Утром в понедельник о. Алексей с товарищем предстали на суд пред комиссиею из пяти членов под председательством мустешара Костантинидиса. Каждому из обвиняемых были предложены следующие вопросные пункты: кто и откуда родом? Для чего приехали из России жить на Афон? Кто у вас игумен? Сколько монастырь получает доходов? – и проч. Здесь снова было объявлено отцам, что они будут отправлены в Константинополь на суд высшего начальства и для перевода на турецкий язык отобранной у них корреспонденции.
Вскоре после того, как отцы были посажены под арест, в Солунь прибыл с Пантелеимоновского Каламарийского метоха монах Гликерий и, узнав о случившемся в подворье, обратился за советом к солунскому митрополиту Иоакиму (ныне Патриарху Иоакиму III), но тот посоветовал о. Гликерию подобру-поздорову уезжать восвояси, дабы самому не испить той чаши, которая досталась на долю его собратий. Однако о. Гликерий таким убеждением не удовлетворился и, по совет у некоторых, отправился к французском у консулу, чтобы ему рассказать обо всем происшедшем на русском подворье. Консул принял его ласково и сейчас же отправился к паше для объяснений. Паша объяснил консулу причину заключения афонских отцов, объявив их находящимися в подозрении у правительства, и то, что они будут отправлены в Константинополь к высшему начальству с письмами для прочтения их. Из ответа паши, переданного консулом, о. Гликерий понял, что на освобождение отцов нет никакой надежды. Тогда он решился добиться свидания с узниками через афонского эпитропа. Но когда пришли эпитропы и о. Гликерий к паше, то он спросил последнего: не он ли жаловался французскому консулу? Когда тот дал утвердительный ответ, паша заметил ему внушительно: «Разве ты не знаешь царского местного правительства и обращаешься к чужому? Кто научил тебя?». Отец Гликерий ответил, что он не помнит, кто дал ему такой совет, и что к консулу он обратился с испугу, желая помочь освобождению своих собратий. Паша пригрозил ему тюрьмою, если он не назовет по имени советника, но о. Гликерий стоял на своем, а поэтому и был посажен 3 сентября в тюрьму, но не в ту, в которой сидели прочие отцы. С последними он увиделся уже при допросе мустешара, в присутствии афонского эпитропа, когда узники, признавая себя чистыми от всякого подозрения, просили следователя, как людей монастырских, отдать на поруки афонскому эпитропу. В просьбе этой было отказано, и отцы под конвоем вместе с прочими арестантами были отправлены в Константинополь.
После трехдневного плавания узники прибыли в Константинополь, где их встретил новый конвой, проводивший их до самой тюрьмы. «При входе нашем, – пишет о. Алексей о тюрьме, – объял нас страх и трепет, когда, мы увидели палаты, наполненные арестантами, все более болгарами. – В каждом отделении по 50 человек арестантов все вместе; сырость, темнота, вонь, вошь, клопы и всякого рода неч ис тота. Увы, участь тяжелая! Пища царская – хлеб и вода». Вскоре после приезда с узников был снят вторично допрос, однородный с тем, какой был сделан в Солуни.
Прошло 40 дней, в течение которых как бы забыли о заключенных: никто о них не спрашивал и покуда их не тревожили. Отцы стали решительно подумывать о близком смертном своем конце. На эти мрачные мысли их наводили дурные слухи и доходившие до них газетные известия. Так они услыхали, что их присуждают к ссылке в Иконию, а в одной турецкой газете они прочли, что «четырех русских монахов поймали в Солуни, которые хотели возмутить Македонию к восстанию, но тщательный паша солунский захватил бунтовщиков и представил оных в Константинополь, где царское правительство определяет их в каторжную работу».
На 50 день заключения одного из отцов смотритель тюрьмы позвал на свидание с кем-то. Оказалось, что в тюрьму явился из Патриархии капу-кехаи и передал узникам записочку, в которой говорилось, что Патриарх хлопочет за них и имеет надежду в скором времени освободить их. «Что за радостные были эти строки! – восклицает о. Алексей. – Что за ангел благовеститель возвестил нам сию радость – будущую свободу! Этою вестью мы немного укрепились духом упования на скорую свободу». Но прошла целая неделя и о нас опять как бы забыли. Опять стали носиться слухи, что нас сошлют в Африку в какой-то ссылочный монастырь. «Но вот наступает 26 день октября, – пишет о. Алексей. – Знаменательный день – праздник святого великомученика Дмитрия Солунского. В 9 часов дня сидели мы задумавшись, чего-то как будто ждали. Рассказываем, кто из нас мыслит, нечто о нашем решении. Вдруг приходит смотритель замка, подходит к нам и говорит: „Ну, идите“. Мы испугались до того, что сделались вне себя. Он говорит: „Не бойтесь, берите все с собой ваше платье“. Но у нас его было весьма мало. Мы торопились, взяли и пошли за ним. Вышедши вон, положили платье, нас повели кверху к вице-визирю, который посмотрел на нас с улыбкою и сказал по-гречески: „Идите, час добрый!“ Капу-кехаи и мы поклонились ему низко и пошли вон. Выходя из комнаты, а равно и из ворот, мы прослезились от радости и пошли вместе с капу-кехаи и его кавасом прямо в Патриархию, где принял нас святейший Патриарх радостно, отечески и расспрашивал нас о случившемся с нами несчастии, утешал нас и поучал терпению и упованию на Бога. Потом посоветовал побыть немного в Патриархии для безопасности, но я сообщил владыке, что у нас много вшей и проч., святитель сказал: „Ну идите к собратиям вашим и отцам пусть они порадуются на вас“. Мы взяли благословение у святителя и в сопровождении каваса отправились на свое подворье, где было трогательное свидание с отцами и братиями нашими. Время было позднее, уже ночь, но мы среди родной о Господе семьи воздавали благодарение Господу Богу и Пречистой Владычице Богородице и святейшему Патриарху Иоакиму, виновнику нашего освобождения из заключения. – Слава Богу о всем».
Тюремное заключение, хотя не столь продолжительное и не при столь тяжелой обстановке, как солунские отцы, перенес и о. иеромонах Иларион, который, живя в Константинополе, попал в подозрение у правительства. В день выезда его из Константинополя на Пантелеимоновское подворье рано утром явился какой-то турок и пожелал видеться с о. Иларионом. Напуганные отцы, опасаясь чего-нибудь недоброго, не допустили этого свидания, говоря, что о. Иларион не может с ним разговаривать по-турецки. Тогда турок спросил отцов: «Правда ли, что он собирается ехать сегодня». Отцы ответили нерешительно: «Может быть». Тогда он сказал: «Скажите ему, что его непременно с парохода возьмут в полицию. Для сего пусть он едет на пароход раньше, дабы иметь время оправдаться от подозрений и успеть на пароход к его отходу». Отцы не поверили тайному вестнику, но на всякий случай приняли нужные меры предосторожности: все вещи, которые они намеревались отправить с о. Иларионом, они сдали по коносаменту, почту отправили официальным путем, а не на руках, и о. Илариона свезли на пароход задолго до отхода парохода. Но полицейские не спешили и арестовали о. Илариона перед последним свистком. Тотчас был с него снят допрос: зачем он приехал? О. Иларион ответил, что он приехал сюда, чтобы отправиться на лечение в Бруссу минеральными водами, но ему отсоветовали ехать туда по причине страшных жаров. После объяснения о. Иларион был заключен в дворянском отделении тюрьмы, где и пробыл до вечера следующего дня. Освобождением своим о. Иларион обязан тому же покровителю русских Патриарху Иоакиму, который, тотчас после арестования о. Илариона, был извещен о случившемся отцами подворья[220].
По всей вероятности та же, если не более тяжелая, участь ожидала и неутомимого труженика, эконома монастыря иеромонаха Павла, которого солунский паша признал «энергичным деятелем славянского комитета», если бы не последовала смена враждебного русским паши и подпись Сан-Стефанского прелиминарного договора[221].
Но среди этих тяжелых обстоятельств военного времени, ежедневно грозивших русским на Афоне новыми и новыми неприятностями и тревогами, было в жизни русского Пантелеимоновского монастыря за это время несколько эпизодов и комического свойства. Так, еще до начала войны, в июне месяце 1876 г., нежданно-негаданно появился на Афоне о. Мельхиседек, бывший на послушании в Таганроге при о. Малахии. Под влиянием газетных слухов о неистовствах турок в Сербии и Болгарии стали распускаться нелепые известия и о том, что турки напали на Афон и вырезали якобы всех отцов. Слухи эти достигли и до о. Мельхиседека, который после рассуждения о том, что отцы теперь сподобились мученических венцов, а он нет, тайно, без спроса, оставил свое послушание, сел на пароход и появился на Афоне, чтобы и себя причислить к лику мучеников. Но каково же было его разочарование, когда по прибытии на Святую Гору он увидел всех отцов в добром здоровье. Вместо мученического венца на о. Мельхиседека был наложен сорокадневный канон на четках в трапезе (самое тяжелое наказание) о. игуменом, а по окончании его было предписано ему воротиться к своему послушанию, но в наказание не на пароходе, а на монастырском судне.
Другой случай относится уже к разгару самой войны. После долгого томительного ожидания Плевна была взята русскими. Весть об этом быстро достигла и Афона, всегда живо интересовавшегося событиями на театре войны. Отцы возликовали при этой радостной вести, а один схимонах Трофим из болгар в своем экстазе дошел до того, что стал насмехаться над греками, приговаривая: «Когда придут русские, то мы вас так и так». Греки пожаловались о. игумену, который призвал о. Трофима к себе, сделал ему строгое внушение и назначил трехдневный канон на четках в трапезе. О. Трофим не выдержал и воскликнул при этом: «Хоть 40 дней протяну (четку), наша берет!..».
После взятия Плевны, плена армии Османа-паши и его самого наши военные дела пошли блистательно к быстрому окончанию войны. После скорого военного похода вперед войска наши встали у ворот Константинополя в деревне Сан-Стефано и принудили турок просить о перемирии. 19 февраля был подписан прелиминарный Сан-Стафанский договор, и военные действия прекратились.
После Пасхи прибыл из Одессы на Афон послушник монастыря и один поклонник. Почта стала ходить исправно. В Константинополь отправлены были певчие, остававшиеся, однако, там долго без всякого дела. Все предвещало о скором заключении полного мира, но истинными вестниками его для русских иноков на Афоне были офицеры русской армии в Филиппополе: статский советник доктор Николай Феодорович Ментин, хирург Лука Яковлевич Мибов и артиллерийский капитан Леонид Людвигович Герман, которые совершенно неожиданно прибыли в Пантелеимоновский монастырь на баркасе, после пятидневного плавания. Отцы, обрадованные таким приездом, сделали для дорогих гостей – героев оконченной войны царскую встречу с колокольным звоном, с возжением паникадил и т. п. и угостили их на славу. Гости прожили на Афоне двое суток и успели побывать в Зографе, Хиландаре, Ивере, Пандократе и в русских скитах – Андреевском и Ильинском где их принимали с почетом и с полным радушием, и уехали, оставив по себе самые добрые воспоминания в сердцах афонских иноков.
Вскоре были обнародованы пункты мирного Сан-Стефанского договора, из которого отцы русских афонских обителей увидали, что и они не забыты их благодетелем и «ктитором» графом Н. П. Игнатьевым. Относительно русских иноков на Афоне в договоре содержалась весьма важная статья XXII, гласившая так:
«Русские духовные лица, паломники и иноки, путешествующие или пребывающие в Европейской и Азиатской Турции, будут пользоваться теми же правами, преимуществами и льготами, как иностранные духовные лица других народностей. За императорским посольством и за русскими консульствами в Турции признается право официальной защиты как вышеозначенных лиц, так и их имуществ, а равно духовных, благотворительных и других учреждений в святых местах и в других местностях.
Афонские монахи русского происхождения сохранят свои имущества и прежние льготы и будут продолжать пользоваться в трех монастырях, им принадлежащих и в зависящих, от них учреждениях теми же правами и преимуществами, которые обеспечены за другими духовными учреждениями и монастырями Афонской Горы»[222].
Эта статья, наполнившая сердца русских иноков, живущих на Афоне и по преимуществу в русских скитах, Андреевском и Ильинском, невыразимою радостию, не прошла не замеченною греческою и даже европейскою печатью. Статья эта признавала русские скиты независимыми от монастырей, на землях которых они поселились и с которыми у скитов бывали непрерывные недоразумения, длившиеся иногда подряд несколько лет. Газета «Ανατου άστηρ» выразила недоумение относительно трех монастырей с монахами русского происхождения, полагая, что под двумя монастырями разумеются монастыри Хиландарский и Болгарский, в которых, по словам газеты, «вошло в обычай совершать богослужение по-славянски», и разъяснила, что афонские обители, к какой бы ни принадлежали народности, в церковном смысле подчиняются Вселенскому Константинопольскому трону[223]. Враждебная «Θράχη» высказала полное недоумение при чтении данной статьи. «Из существующих на Афоне монастырей числом 20, – говорит газета, – ни один не принадлежит монахам русского происхождения. Если это, при подписании трактата, ускользнуло от внимания Савфет-паши, то неужели мы можем предположить, что не было известно и русскому уполномоченному генералу Игнатьеву, который может более всякого другого знать, какая происходила борьба только из-за одного требования живущих в обители св. Пантелеймона русских монахов – избрать игуменом русского урожденца? И если только ради одного снисхождения находящихся в Патриархии устроено избрание Макария, то из этого не следует, что обитель эта принадлежит монахам русского происхождения. Самая предпринятая тогда борьба, употребленные средства, насилия, наконец, и угрозы, чтобы достигнуть поставления игумена русского происхождения, показывают совершенно противное. Да и те из наших высших клириков, которые с такою безразборчивостию совести работали для успеха и приведения в действие желания русской пропаганды, даже и они не признали тогда русского монастыря на Афоне. Даже сами и те, кто непосредственно в этом заинтересован, выставляя тогда право избрания игумена русского происхождения, никак не решились посягнуть на право господства, что и ясно провозвестили чрез здешний известный их орган „Βυζάντις“ и особою брошюрою.
Но если это одна из этих обителей, которая сан-стефанским трактатом превращается в русскую, хотя уже доказано пространными и неопровержимыми доказательствами, как и какими средствами проползли в оную шайки русских монахов, – какие же это другие два монастыря, принадлежащие монахам русского происхождения?
Разве, может быть, скит св. Андрея, принадлежащий Ватопедской обители, и скит пророка Илии, исключительно русскими населенный и принадлежащий Пандократору? Но § говорит о монастырях, а не о скитах. Мы не верим, чтобы русский уполномоченный не знал различия между монастырем и скитом. Но здесь-то, видно, и скрывается все искусство стратегической штуки, которою граф Игнатьев, пользуясь неведением подобных вещей уполномоченного Высокой Порты, захотел одним выстрелом убить две дичи: возвести скиты в монастыри и их же, как принадлежность русскую, утвердить. Следовательно, план, коего добивался бывший при Высокой Порте посланник, избранием Макария, Патриарха кир Иоакима и возведением, – чего всякими способами добивались, но не успели, – дикея скита св. Андрея в игумена при Патриархе блаженной памяти Анфиме из Ефеса, – как видно достиг полнейшего успеха. Русское господство над Афонской Горой в непродолжительном времени будет полнейшее! Иначе невозможно объяснить 22 § Сан-Стефанского трактата, касающегося афонских монастырей». Далее названная газета советует Патриархии обратить серьезное внимание[224] на это «явное попрание церковных и народных прав», «ввиду критического положения, окружающих обстоятельств», работать «с благоразумием даже и с достоинством нации честолюбивой и клиру, понимающему высокую свою миссию», а для сего созвать «великое народное собрание, которое рассудит, что должно делать». В частности газета предлагает сочинить и подать протест европейским державам о присвоении афонских монастырей, подчиненных только неоспоримому господству Вселенского Патриархата»[225].
Создатель новой Болгарии генерал Игнатьев, пишет по поводу той же XXII статьи «Νεολογός», почитая полуостров Халкидики спицею в глазах Болгарии, несмотря даже на то, что он совершенно отделялся от материка, нашел средство и его ославянить, определяя в трактате русское покровительство над членами Русской Церкви в Афоне и химерические, никогда не существовавшие права русских обителей во Святой Горе. Лихорадочное это нетерпение генерала открыло свету, что он за человек и что это за цели, к коим стремились все те в Константинополе махинации, которые называются «болгарский вопрос» и «вопрос обители св. Пантелеймона» и к «которым были притянуты иные как жертвы, а иные и преступно участвовали в оных»[226].
С такой узконациональной, враждебной точки зрения посмотрели на XXII статью Сан-Стефанского договора греческие газеты, всегда стремившиеся отстаивать никем и никогда не попираемые права эллинизма и Греческой Церкви и всегда до крайности враждебные и пристрастные к болгарам и ко всему тому, что может поднять их политическое значение в глазах Европы. Но иначе и весьма широко понял значение этой статьи известный английский дипломат маркиз Солсбери, усмотревший в ней нарушение международных отношений и интересов европейских держав, заинтересованных во всех частях Оттоманской империи. «За этим (т. е. после забот о населении Фессалии и Эпира) следуют, – пишет он в своей циркулярной депеше от 1 апреля (по новому стилю) 1878 года, – обязательства для покровительства членам Русской Церкви, конечно, не менее ограниченные в своем объеме, чем те статьи Кайнарджийского трактата, на коих основались притязания, упраздненные в 1856 году. На подобные уговоры не могут посмотреть с удовольствием ни греческое правительство, ни державы, для коих все части Оттоманской империи суть предмет общего интереса. Общим последствием этой части трактата будет усиление могущества Русской Империи в странах и на прибрежьях, где господствует греческое населенье, не только к ущербу этой нации, но и всякой страны, имеющей интересы на востоке Средиземного моря»[227].
Неудивительно, что такое понимание статьи XXII прелиминарного мирного договора вызвало со стороны нашего покойного канцлера князя Горчакова опровержения пункта за пунктом в особом «циркуляре российским послам в Берлине, Париже, Лондоне, Вене и Риме от 28 марта (9 апреля) 1878 года», или вернее в особой к нему «промемории». Из 12 пунктов «промемории» 7 пункт особенно важный и гласит так: «Следующее условие, относящееся до покровительства членам Русской Церкви, было понято весьма худо, если его уподобляют договору Кайнарджийскому, отмененному в 1856 году. Условие Кайнарджийское относилось до православного греческого исповедания и могло распространяться на всех подданных султана, исповедующих эту веру; Сан-Стефанский же договор упоминает исключительно о монашествующих духовных лицах и паломниках русских и русского происхождения и устанавливает в их пользу лишь те права, выгоды и преимущества, которые принадлежат духовным лицам других народностей.
После этого нельзя признать справедливым утверждение, что совокупность сан-стефанских постановлений способна и увеличить могущество Российской Империи в странах, где преобладает греческое население в ущерб этого народа и всех стран, имеющих интересы на востоке Средиземного моря»[228].
Но несмотря на столь категорическое опровержение неправильного понимания XXII статьи Сан-Стефанского трактата, английские дипломаты остались при своем прежнем понимании ее. Поэтому в заседании[229] 4 июля (по новому стилю) 1878 года Берлинского конгресса рассмотрение упомянутой статьи началось с того, что лорд Солсбери прочитал предложенные на рассмотрение конгресса изменения этой статьи на следующие пункты:
1) «Все жители Оттоманской империи в Европе, какова бы ни была их религия, будут пользоваться полным равенством прав. Они будут допускаемы ко всем общественным должностям и почестям и будут принимаемы во свидетели пред трибуналами».
2) «Все исповедания будут пользоваться полною свободою; ни иерархическая организация различных общин, ни отношения их к их духовным вождям не должны встречать никаких стеснений».
3) «Духовные лица, богомольцы и монахи всех национальностей, путешествующие или проживающие в Европейской и Азиатской Турции, будут пользоваться полною свободою прав, преимуществ и привилегий».
4) «Право официального покровительства признано за дипломатическими представителями и консульскими агентами держав в Турции, как относительно означенных лиц, так и их владений, заведений религиозных, благотворительных и иных во святых местах и вне их».
5) «Монахи Афонской горы сохранят свои владения и прежние преимущества и будут пользоваться безо всякого исключения полным равенством прав и прерогатив».
Представляя эти параграфы на обсуждение конгресса, лорд Солсбери сделал к ним примечание, в котором пояснил, что «первые два параграфа этого предложения представляют применение в Оттоманской империи принципов, принятых конгрессом относительно Сербии и Румынии; три последние параграфа имеют целью распространить на духовенство всех национальностей преимущества условий статьи 22, специально касающихся русского духовенства».
Предложенные лордом Солсбери изменения в XXII статье Сан-Стефанского договора в принципе были одобрены всеми державами, но в частностях сделаны были некоторые изменения и поправки. Так, например, турецкий уполномоченный Кара-Теодорипаша относительно первого пункта предложения просит смотреть не как на нечто новое, а как на такие принципы, которыми всегда руководствуется его правительство. В доказательство своей мысли он читает сообщение, полученное им пред тем от своего правительства. Вот это сообщение: «В виду заявлений, сделанных на конгрессе при различных обстоятельствах в пользу религиозной терпимости, вы уполномочиваетесь объявить с вашей стороны, что мнение Высокой Порты в этом случае совершенно согласуется с целью, к которой стремится Европа. Ее постоянные предания, ее вековая политика, инстинкты ее населения – все побуждает ее к тому. По всей империи религии самые различные исповедаются миллионами подданных султана и никто не был стеснен в своем веровании и в отправлении обрядов своего исповедания. Императорское правительство решилось поддерживать во всей силе этот принцип и дать ему все требуемое им расширение». Поэтому уполномоченный просил, если будет принято английское предложение конгрессом, то чтобы, по крайней мере, было заявлено, что принципы, о которых идет речь, согласны с теми, какими руководится его правительство, и чтобы конгресс прибавил следующую, например, фразу в § 1: «Согласно заявлениям Порты и прежним распоряжениям, которые она желает поддерживать».
Лорд Солсбери не возражал против этой прибавки, но заявил, что хотя эти меры действительно встречаются в заявлениях Порты, но не всегда были соблюдаемы на практике. И в том же первом пункте конгресс решил выбросить специальное обозначение Европы, в силу споров того» уполномоченного Кара-Теодори-паши о слове «в Европе» §§ 2 и 3 приняты без изменений.
В 4 § турецкие уполномоченные Кара-Теодори-паша и Мехмед-Али-паша настаивали выпустить слово «владений», опираясь на протокол 1868 года, относящийся к праву собственности иностранцев и исключающий всякое специальное покровительство относительно недвижимости. Если церковные недвижимые имущества, подчиненные в силу протокола 1868 года местной юрисдикции, были бы по смыслу § 4 поставлены в то же время под официальное покровительство дипломатических представителей и консульских агентов, то произошли бы большие административные и судебные затруднения. Так как уполномоченные Турции упорно отстаивали свои требования, то конгресс согласился с их требованием.
Относительно последней строки 4 § французский уполномоченный Вадингтон, напоминая о приобретенных правах Франциею в святых местах, представляет конгрессу следующую редакцию, которая должна окончить 4 §: «Приобретенные Франциею права сохраняются неприкосновенно, и решено, чтобы никакое посягательство не было делаемо против status quo в святых местах».
Предложение это было принято единогласно. Итальянский уполномоченный Убри требует, чтобы в 5 § за словами «монахи Афонской горы» следовали слова «какова бы ни была их родина».
Эта прибавка была принята конгрессом.
Переработанное таким образом предложение маркиза Солсбери составило LXII статью берлинского трактата, которая читается следующим образом:
«Так как Высокая Порта выразила твердое намерение соблюдать принцип религиозной свободы в самом широком смысле, то договаривающиеся стороны принимают к сведению это добровольное заявление.
Ни в какой части Оттоманской империи различие вероисповедания не может подавать повода к исключению кого-либо или непризнанию за кем-либо правоспособности во всем том, что относится до пользования гражданскими и политическими правами, доступа к публичным должностям служебным занятиям и отличиям, или до отправления различных свободных занятий и ремесел.
Все будут допускаемы, без различия вероисповеданий, свидетельствовать в судах.
Свобода и внешние отправления всякого богослужения обеспечиваются за всеми, и никакие стеснения не могут быть делаемы в иерархическом устройстве различных религиозных общин и в сношениях их с их духовными главами.
Духовные лица, паломники и иноки всех наций, путешествующие в Европейской или Азиатской Турции, будут пользоваться одинаковыми правами, преимуществами и привилегиями.
Право официального покровительства признается за дипломатическими и консульскими агентами держав в Турции как по отношению вышепоименованных лиц, так и их учреждений духовных, благотворительных и других на святых местах и в других местностях.
Права, предоставленные Франции, строго сохраняются за нею, и само собой разумеется, что status quo на святых местах не может подвергнуться никакому нарушению.
Иноки Афонской горы, из какой бы они ни были страны, сохранят свои имущества и будут пользоваться без всяких исключений полным равенством прав и преимуществ[230].
Отправляя копию «берлинского трактата» 13 июля из Берлина на имя главного государственного секретаря Ее Величества, лорд Солсбери приложил к ней особую депешу, в которой весьма откровенно и не без самодовольства по поводу XXII статьи Сан-Стефанского договора писал следующее: «Специальное покровительство, выговоренное для духовных лиц русской религии (?) и для русских монастырей на Афонской Горе, и предоставленное русскому правительству право участвовать в выработке учреждений для остальных частей Европейской Турции встретили возражения правительства Ее Величества, так как этим усиливалось могущество Русской Империи в тех странах и на тех берегах, где преобладает греческое население. Эти исключительные постановления были совершенно откинуты»[231].
Таким образом, на Берлинском конгрессе все надежды русских иноков на Афоне вообще и русских скитян в частности рухнули безвозвратно; сладкие мечты стать в ряд двадцати остальных самостоятельных святогорских монастырей и навсегда освободиться от той тяжелой и капризной зависимости от монастырей иной национальности разлетелись, как дым по ветру, и русские афонские иноки были возвращены, так сказать, в первобытное состояние, в каком находились они до войны. «Исключительные постановления» Сан-Стефанского договора, созданные благодетелем и покровителем русских иноков на Афоне Н. П. Игнатьевым, «были совершенно откинуты», благодаря настойчивости английских дипломатов на берлинском конгрессе, а посему страдания и положительные материальные убытки, понесенные нашими соотечественниками – афонскими иноками за время войны, остались совершенно без всякого вознаграждения. В выигрыше оказались ничего не потерявшие монахи других вероисповеданий, живущие или временно пребывающие в пределах Османской империи. Нет надобности иметь широкое воображение, чтобы представить себе, как велико было бы значение русских на Афоне, если бы XXII статья Сан-Стефанского договора получила санкцию на Берлинском конгрессе и в карейском афонском протате восседали бы теперь три русских антипросопа, когда и ныне, при одном (от русского Пантелеимоновского монастыря) опытном и деловом антипросопе, умеющем находить союзников в антипросопах других монастырей иной национальности, при твердой поддержке нашей русской дипломатии в Константинополе, оно не незначительно.
Глава X Отношения старцев русского Пантелеимоновского монастыря о. Макария и о. Иеронима к русским афонским скитам
В предшествующих главах мы не раз упоминали о живом участии старцев русского Пантелеимоновского монастыря о. Макария и о. Иеронима в делах афонских греческих монастырей (разумеем дела свято-павловское, ксенофское и симоно-петрское с Ксиропотамом), стараясь всячески поддержать правое дело и водворить в этих монастырях нарушенный мир и братскую любовь, хотя сами нередко, в благодарность за все это, получали неприятности, огорчения и даже доносы, как это было в последнем случае со стороны ксиропотамского проигумена о. Прокопия. Старцы Руссика всегда предпочитали «худой мир крупной ссоре». Но если они так относились к монашествующим из греков, далеко не дружелюбно настроенным к русским, тем скорее можно было ожидать от них и горячих симпатий и большого участия к судьбе своих соотечественников русских, так или иначе нуждавшихся в их помощи, в поддержке добрым словом и опытном указании. И действительно, старцы Пантелеимоновского монастыря никогда не отказывались от высокой роли «миротворцев» и добрых советников, когда их вызывали на это свои братия русские. Из многих фактов участливого отношения старцев о. Макария и о. Иеронима к делам наших русских скитов на Афоне мы отметим два особенно выдающихся: замешательства в Ильинском скиту после смерти настоятеля (дикея) о. Паисия II и большие недоразумения в Андреевском скиту между настоятелем о. архимандритом Феодоритом и братиею скита в 1878 году. Оба указанные нами факта из жизни русских скитов на Афоне весьма сложны в ходе своего развития, любопытны по своим бытовым характерным подробностям, рисующим внутренний быт скитского афонского иночества весьма рельефно, и сами по себе полны живого драматизма, останавливающего невольно на себе внимание всякого, кому интересны судьбы русского иночества на Афоне. Но мы далеки от мысли отследить, так сказать, шаг за шагом эти события в жизни русских скитов, за всеми перипетиями тех внутренних неурядиц, какие произошли в скитах в том и другом случае, хотя для этого мы располагаем всеми нужными материалами. Делать это в настоящее время мы считаем, во-первых, преждевременным, так как лица, принимавшие живое участие в том и другом деле и игравшие в них видную роль, в большинстве еще благополучно здравствуют, во-вторых, всем подробностям указанных событий мы находим более приличным занимать место в истории этих скитов, чем в нашем настоящем очерке, и в-третьих, для нашей настоящей цели главный интерес заключается лишь в том, чтобы отметить факты, рисующие наших старцев в роли «миротворцев» и указывающие на тот высокий авторитет, каким они пользовались на Афоне среди своих соотечественников. С этой стороны мы и изложим здесь оба упомянутые нами события, касаясь других явлений настолько, насколько это необходимо будет для связного рассказа.
В 1871 году 5 сентября скончался настоятель русского Иильинского скита на Афоне о. Паисий II, родом болгарин. Будучи от природы весьма умным человеком и сильным по характеру, о. Паисий умел ладить с греками Пандократорского монастыря, от которого в зависимости находится Ильинский скит, и крепко держал бразды правления в своем скиту, насельники которого, как бывшие казаки, проявляли нередко не свойственную их сану склонность к вольности и даже беспорядкам[232]. Со смертию о. Паисия беспорядки в скиту возобновились. Причиною их были разногласия по поводу избрания нового игумена скита. Согласно завещанию о. Паисия, игумен должен быть избран из числа монахов, не принадлежащих к братству скита, так как он никого не находил достойным из наличных отцов к занятию этого места. Меньшинство братии, во главе которого стоял умный и энергичный о. Иннокентий, 26 лет исправлявший в скиту должность эконома, желало выполнить волю покойного настоятеля.
Но большинство, которым руководил о. иеромонах Андрей, желало во что бы то ни стало избрать преемника о. Паисию кого-нибудь из своей среды и считало достойным кандидатом на должность настоятеля названного о. Андрея. Пандократор не утвердил избрания большинства, чем вызвал крайнее недовольство со стороны братии скита против себя и даже открытое возмущение. Явившийся в полном составе членов протат, чтобы уговорить возмутившихся, не был впущен в ограду скита и удалился ни с чем крайне обиженный. Меньшинство обратилось за помощью к проживавшему тогда на Афоне русскому солунскому консулу К. Леонтьеву, прося его принять зависящие от него меры для успокоения возмутившихся. Но консул, считая себя не компетентным в данном деле, не прежде решился принять участие, как после усиленных просьб о том протата и отцов Пандократорского монастыря. Благодаря вмешательству К. Леонтьева, возмущение было прекращено, в дикеи на место о. Паисия был избран о. Гервасий, прочитана была всем архиерейская разрешительная молитва и, по-видимому, в скиту водворился мир. Недовольные, находившиеся вне стен скита, не бездействовали и выжидали лишь удобного случая к возобновлению беспорядков, которые начались немедленно после отъезда из скита русского консула. Неискательный о. Гервасий, ввиду этих волнений, отказался от настоятельства, вышел даже из состава братии скита, в котором водворилась снова анархия, и остальные годы своей жизни провел на покое в русском Пантелеимоновском монастыре, приняв схиму с именем Гавриила. Воспользовавшись этим обстоятельством, о. Андрей успел убедить пандократорских проэстосов в бесполезности дальнейшего сопротивления вступлению его в должность дикея скита, так как единственно этим только можно, по его словам, умиротворить братию скита, причем не преминул, как это в обычае общежительных монастырей Святой Горы нынешнего времени, наобещать им за свое утверждение ценные подарки. Если верить письму одесского купца г. Гладкова, доверенного русского Ильинского скита на Афоне, то о. Андрей за свое утверждение дикеем скита заплатил пандократорским проэстосам 500 турецких лир и впредь ежегодно обещался платить по 100 лир[233]. Как бы там ни было, но о. Андрей достиг своего, и место дикея в русском Ильинском скиту осталось за ним.
С переходом власти в руки о. Андрея и его сторонников в скиту быстро все изменилось. Начальственные должности были розданы ближайшим лицам к о. Андрею, а прежние деятели были отставлены от должностей и должны были или уступить свое место новым лицам и снизойти на положение обычных рядовых монахов скита, или же даже выйти вовсе из состава скитской братии, что и сделали некоторые, как, например, о. Пахомий и о. Рафаил. Труднее всего было примириться с новым приниженным и даже гонимым положением в скиту такому выдающемуся деятелю его, как о. Иннокентию, 26 лет в роли эконома первенствовавшему в нем и пользовавшемуся таким большим влиянием среди братии, что если бы он желал, то мог легко и без труда занять место дикея скита. Высокомерное отношение к нему нового настоятеля о. Андрея делало совместную их жизнь в скиту невозможною, и о. Иннокентий решился низвергнуть установившийся порядок и избрать для скита нового настоятеля. В своем намерении и планах он опирался на свое прежнее влияние среди монашествующей братии, из коих многие были его «духовные чада», на дружественные связи с доверенным монастыря в Таганроге о. Филаретом, а главным образом на поддержку сильного эпитропа скита, одесского купца Михаила Романовича Гладкова, весьма не расположенного к новому настоятелю о. Андрею. Сочувствие этих двух лиц было важно для о. Иннокентия в том отношении, что в руках их сосредоточивались большие скитские суммы денег, в которых весьма нуждался новый настоятель скита, а план о. Иннокентия и заключался в том, чтобы поставить о. Андрея с братиею в финансовые затруднения, чем объясняется, между прочим, и его личный отказ сдать новому настоятелю монастырскую кассу, бывшую дотоле на его руках. О. Иннокентий рассчитывал, по своим прежним отношениям к о. Макарию и о. Иерониму, привлечь на свою сторону в данном случае и их сочувствие.
Но расчеты его не оправдались почти во всех отношениях. Со смертью о. Паисия и после пережитых волнений в скиту пред избранием в настоятеля о. Гервасия и после значение о. Иннокентия и его влияние на ход дел в скиту сильно пошатнулось, к тому же и действия его в данном случае не отличались последовательностию и смелостию[234], тогда как ловкий и умный о. Андрей, опираясь на большинство, решительным образом своих распоряжений и поступков успел завоевать в скиту прочное положение. Неудивительно поэтому, что, несмотря на старания о. Иннокентия отыскать себе единомышленников и сторонников в среде «лучших из братии» и «более привязанных к нему», он выслушал с их стороны относительно задуманного им переворота уклончивый ответ, что они «хотя сердечно желают, но на это подать голос или подписаться никак не посмеют»[235]. Медлил и выжидал обстоятельств осторожный о. Филарет, чтобы принять ту или другую сторону. Открыто и энергично высказался против установившегося порядка вещей лишь гордый и своенравный эпитроп скита М. Р. Гладков, 14 лет привыкши вмешиваться в дела скита и безапелляционно распоряжаться ими, опираясь всегда на свою материальную силу, которая заключалась в больших суммах пожертвований, проходивших через его руки. «С помощию Божиею, – извещает Гладков о. Иннокентия, – начал действовать об избавлении святой обители от невежих и дурных людей, как то: удалить Андрея от игуменства и его товарищей… и поставить игуменом человека, который может сделать обители пользу и поставить ее на такую степень, на которой она обитала; а именно я назначаю (!?) быть игуменом отцу Антонию серайскому благочинному»[236] и т. д. В письме к старцам Руссика Гладков просит «содействовать» ему в этом или же во вторичном избрании на должность дикея о. Гервасия[237]. Доверенным же монастыря, явившимся к Гладкову с письмом нового дикея о. Андрея, требовавшего скитские деньги, он прямо объявил: «пока настоятелем о. Андрей, я денег из банка не дозволю брать» и тут же пригрозил, что если братство не уважит его желание низвергнуть о. Андрея, то «я буду действовать чрез посланника нашего в Константинополе и Святейший Синод и не допущу монастырь до разорения»[238].
О. Макарий и о. Иероним, доселе уклонявшиеся от какого бы то ни было вмешательства в дела Ильинского скита и решительно избегавшие переписки[239] с о. Иннокентием, советовали последнему всякого рода корреспонденции с ними предпочитать личную беседу «усты ко устам». Теперь, когда ими было получено от Гладкова письмо о содействии, то они решились дать обстоятельный и продуманный совет как самому г. Гладкову, так и о. Иннокентию. «Желание ваше, – писали отцы Гладкову, – относительно перемены нынешнего настоятеля оного – вещь неосуществимая, с какой бы стороны мы ни стали рассматривать этот предмет. С чего и с какого повода начать это дело? И кто будет начинать оное? Братия скита перемены своего настоятеля не желает, настоятель сам о сем не думает, монастырь, заведующий скитом, сам делать в нем какие-нибудь перемены никакой причины, никакого повода не находит. Итак, кто же и по каким причинам будет устранять нынешнего настоятеля Ильинского скита от занимаемого им места? Если двое или трое из скитской братии и желают перемены настоятеля, то их голос в этом случае не может иметь значительного веса; все дела избирательные решаются по большинству голосов, и большинство голосов всегда имеет перевес пред меньшинством, как и вам известно. Да и сами указываемые вами лица в настоятели скита Ильинского вместо нынешнего, т. е. отцы Гервасий и Антоний никоим образом не решатся взойти на шаткий этот трон. О. Гервасий еще не забыл и хорошо помнит испытанные им, в бытность его в ските, замешательства и тревоги и уж, конечно, не пожелает подвергаться снова этим треволнениям. Он и держался в ските решительно только из уважения к нашим его о сем упрашиваниям. О. Антоний не пойдет, ибо ведь они поддерживали карьеру о. Андрея, да и просто по неохоте заниматься подобного рода делами. Да и то нужно сказать, что малороссы с великороссом не уживутся. Нет, если теперь водворился там хоть какой-нибудь мир, то пусть уж он и пребывает; если теперь улеглись там треволнения, то и поднимать их уж не нужно. Таков наш взгляд на занимающий вас предмет относительно перемены нынешнего настоятеля Ильинского скита. Таково наше мнение о сем предмете. Знаем и понимаем и мы очень хорошо, что дело это действительно требует изменения в своем составе. Но опасно приступить к этому изменению, ибо вместо простого изменения пожалуй все перепутаем, переломаем и сокрушим. Вот что!»[240].
Это правдивое и откровенное письмо старцев Пантелеимоновского монастыря весьма не понравилось М. Р. Гладкову, который прямо назвал его «неприятным». Не обращая никакого внимания на вполне резонные доводы старцев и не желая успокоиться на их благоразумном совете, но вместо этого проникнутый страстным желанием заставить старцев действовать согласно с его планами и желаниями, г. Гладков позволил себе написать старцам Руссика довольно резкое и исполненное угроз письмо. «Если судьба столкнула меня, – писал он старцам в ответ на предыдущее письмо, – быть участником при святой Ильинской обители, около 14 лет трудиться, то я не оставлю, чтобы люди, не имевшие вовсе понятия, что значит монах без веры христианской, разными мошенническими средствами и подкупом монастырскими деньгами сделались ради своего диавольского честолюбия властителями и разорителями скита, – я допустить не могу и прошу вас, так как вы на Святой Афонской Горе считаетесь первым русским монастырем и имеете влияние на другие монастыри, то потому вы можете и даже должны взять на себя труд по долгу христианства и спасти святую церковь от разорения. В противном случае я вынужден буду русскому правительству и Св. Синоду описать все дрязги и все, что делается с пожертвованиями бедных вдов и сирот, которые посылают из России на Афон, и вынужден буду этот письменный сбор денег раскрыть, какой делают афонские монахи в России, и выйдет тогда плохо для всех»[241].
На эти весьма резкие слова и даже угрозы оскорбленного, но бессильного самолюбия отцы Макарий и Иероним отвечают пространно и в примирительном тоне с подробным объяснением, почему они не вмешиваются в дела Ильинского скита. «Мы, – пишут старцы, – опять повторяем тоже, что начинать в настоящее время что-либо против установившегося какого ни на есть порядка в Ильинском скиту теперь несвоевременно. Вам ведь известно, что здесь на Святой Горе каждый из монастырей настолько пользуется самостоятельностью, что вмешательство во внутренние распоряжения и управление какого-нибудь другого монастыря и даже самого Протота немыслимо и не допускается на практике. Следовательно, участие в этом деле нашим влиянием на скит не принесет никаких результатов. Ильинский скит состоит в ведении монастыря Пандократора, на который мы влиять решительно не можем, по известному нерасположению греков к русским вообще, а в частности потому, что они не станут действовать по чьим-либо указаниям. Кроме того, сохранение настоящего порядка вещей для Пандократора желательно уже потому одному, что вы упоминаете в письме вашем, т. е. что в этом их вещественный интерес. Из этого следует, что, как только узнают о. Андрей и братия, его приверженцы о наших стараниях в смысле перемены у них игумена, то непременно обратятся к своему монастырю, т. е. в Пандократор, и засвидетельствуют своими подписями, что как игумен братиею, так и братия им довольны (они уже это сделали). Без сомнения, монастырь представить это обоюдное засвидетельствование в Протат и тогда с этой главной стороны они будут обеспечены, а всякое подобное начинание непременно пронесут они по Афону, как коварные происки Руссика и о. Иннокентия. Нет, боголюбивейший Михаил Романович, не потому мы не хотим принимать в этом деле деятельного участия, что безучастно взираем на бедственное положение скита, или равнодушно относится к его начальственным беспорядкам и жалким смущениям, нет, но опытное сознание настоящего положения здешних дел заставляет нас так поступать, при всем нашем душевном сочувствии вашим благим намерениям и ревности о славе Божией, Его св. церкви и св. обители, для которой вы столько потрудились. Повторяем, что мы душевно во всем этом вам сочувствуем и сожалеем с прискорбием, что благие намерения ваши касательно перемены игумена не могут быть приведены теперь в исполнение. В духовное утешение ваше скажем, что Господь, изрекший, что и за поданную чашу воды будет дарована мзда, тем более не презрит ваших усердных четырнадцатилетних трудов на пользу святой обители и во славу Его святого имени, разумеется, награда не вещественная, а духовная соблюдается вам на небесах.
Касательно же заявления вашего правительству афонских письменных сношений вы хорошо знаете, что и Св. Синоду и правительству известно о наших письменных сношениях с родными и благодетелями нашими, а также и то, что единственный способ существования и выполнения жизненных потребностей афонским обитателям есть боголюбезные дары России. Всякий человек, и менее вас обладающий нравственными силами, может легко нанести искушение, но что же затем? Сделанное добро похваляется всеми. Если скитские отцы сделали не хорошо, то чем же причиною другие сотни людей, могущих потерпеть неприятность и потому скорбеть и лишиться насущного хлеба? Аще благоугодно вам, приимите наш совет такой, что вам необходимо ближе ознакомиться с настоящим положением наших дел, а для сего, если Господь восхощет и живы будем, вам нужно прибыть сюда. Итак, с Божиею помощию, проведши зиму, после Пасхи или к Пасхе пожалуйте к нам на Святую Гору. Разумеется, при этом вы заручитесь чем-либо от нашего посольства в Константинополе и тогда, может быть, что-либо и можно будет устроить. Не отрицаем, что все приверженцы покойного старца с радостию согласятся на перемену, но, если поступить безвременно, то вся тягость и ответственность в этом деле падет на них, а они уже и так перенесли много скорбей, а пущенный слух и разговор о перемене о. Андрея много уже наделали им вновь скорбей, о коих, вероятно, уже сообщил вам о. Иннокентий. Считаем не лишним заметить, что с мнением нашим вполне согласен и о. Иннокентий. Кроме того, малейшая попытка к поколебанию установившегося покоя скита отзовется неблагоприятно и на вещественном его достоянии, ибо со стороны о. Андрея и прочих это будет признано как бы покушением на их власть, и они станут ее защищать и отстаивать, разумеется, платя за поддержку оной кому следует»[242].
Ублажая всячески задетого за живое сильного эпитропа, готового ради своего самолюбия не пощадить и всю Афонскую Гору, доказывая ему бесполезность и несвоевременность всяких перемен в Ильинском скиту, ввиду установившегося в нем обычного течения монашеской жизни, старцы Руссика не забывали и о том человеке, который более прочих и совершенно незаслуженно пострадал и никак не мог теперь примириться с установившимся порядком жизни в нем. Ценя заслуги о. Иннокентия для Ильинского скита и хорошо понимая, что пока не будет ублаготворен и успокоен этот человек, за прочность нынешнего порядка и за спокойствие в скиту нельзя поручиться, о. Иероним при первом удобном случае через одного монаха скита дал совет о. Андрею примириться с о. Иннокентием и, если то возможно, возвратить ему то положение в скиту, какое он с честию занимал целых 21 лет. О. Андрей с любовью принял совет мудрого старца и поспешил его же самого поставить судиею тех недоразумений, какие произошли в скиту между о. Иннокентием и им. «Отеческая ваша и любоисполненная попечительность, – писал о. Андрей к о. Иерониму, – благоволит оказывать в нашей неопытности предосторожность, а тем более ограничить в обители мир и согласие, с тем, чтобы поставить в первобытную должность о. Иннокентия и проч. и тем нам сохранить единение духа в союзе мира, но мы с покорностию просим вашего благоволения принять ваши меры на рассмотрение и оценить их верность к святой обители посредством сих переписок, премудрости исполненных[243]; а к тому и причины удаления их от должности не от меня одного, но от общего согласия всего братства, не соизволяя его ни к какой должности по причине противности его и по общему распоряжению. За то предлагаем оные переписки вашему духовному рассуждению – принять оный благословный труд и дать нам совет по вашему отеческому рассмотрению, и мы будем ожидать со всепокорною преданностию вашему высокопреподобию вашего ответа, принимая на себя долг послушания, если он послужит равно всему согласию братства, принять старческое благоволение с целованием»[244].
На этот вызов отцов Ильинского скита о. Иероним не замедлил дать ответ, в котором обстоятельно и откровенно высказал свой взгляд на происшедшие события и на личность о. Иннокентия. «Случайно мы, – писал о. Иероним, – завлеченные в дела вашего скита, много и незаслуженно пострадали и за то собственно, что мы истинно желали добра скиту св. пророка Илии и всеми силами еще сейчас по смерти старца желали вам мира и любви с о. Иннокентием. И кто весть? Быть может, по услышании вами нашего совета вы бы примирились с о. Иннокентием и тогда же бы мог утвердиться порядок, которого вы достигли чрез ужасные скорби и душевные потрясения. Но Господу, видно, угодно было, чтобы вы прошли чрез горнило скорбей. Справедливо, что переписка о. Иннокентия для вас должна казаться неправильною и тяжелою, но поставьте себя на точку о. Иннокентия. Я не хочу защищать его (скорее я мог бы пользоваться временем, по-человечески судя, отплатить о. Иннокентию за некоторые противодействия обители во время некоторое), но, по совести моей, скажу вам: не должно вам и всей обители вашей забывать деятельности и двадцатишестилетних трудов о. Иннокентия для пользы скита. Возьмите его нравственную сторону: ведь одно слово его согласия могло поставить его иеромонахом, игуменом обители вашей еще при старце, ибо этого желали старец, монастырь и архимандрит Климент, но он устоял против этого, сознавая себя недостойным. Следовательно, нужно оценить достоинство человека. Теперь же ведь он желает участвовать в трудах ваших, как при покойном старце. Скажу откровенно, при его благоразумии и сметливости, вы многое найдете для скита полезного, и, конечно, состоя в вашем к нему доверии и расположении, он никогда не захотел бы вести своих переписок. Как человек, он чувствует себя оскорбленным, обиженным и презренным, а последнее, по немощи человеческой, и заставило вести оную. Это-то меня и заставило сказать вашему монаху о успокоении о. Иннокентия, чтобы таковым поступком вам самим и всему обществу быть спокойным или, как видно из копии писем, что он желает иметь для успокоения своего келлию вне обители[245], дайте ему – лишь бы не нарушался ваш порядок. Что же касается до письма о. Макария, то успокойтесь: письма наши к Гладкову есть ничто более, как прошение, чтобы не разрушился заведенный теперь порядок, и прошение продолжения оного. Сам о. Иннокентий свидетельствует в одном из писем к Гладкову, что мы более не взойдем в дела вашего скита, да поистине мы не находим времени свои дела производить как следует, а не только о посторонних толковать. Подтверждаем и вам, если я выразился несколько в пользу о. Иннокентия, то это более ничто, как желание вожделенного мира в обители вашей, о чем просим и молим Господа и Пречистую Его Матерь»[246].
Окончательное примирение о. Андрея с о. Иннокентием, однако, не состоялось, и о. Иннокентий не был восстановлен в своей должности, как советовали о. Андрею старцы русского Пантелеимоновского монастыря. Это обстоятельство заставило о. Иннокентия выехать из скита св. пророка Илии и отправиться в Россию, где он в Киеве и скончался в 1878 году. Недолго, впрочем, усидел «на шатком троне» дикея русского Ильинского скита и сам о. Андрей, уступив его чрез семь лет своего неспокойного правления[247] преемнику своему о. Товии, избранному в настоятели 8 сентября 1879 года. О. Андрей, отказавшись от настоятельства, совершенно вышел из состава братии скита и удалился на безмолвие в одну из пустынных келлий, где благополучно здравствует и доселе.
На месте небольшой келлии или «серая» (дворца) Патриарха Константинопольского, известного у нас в России под именем Афанасия Лубенского, на земле Ватопедского монастыря основался в 1849 году русский Андреевский скит, известный на Афоне более под прежним именем «Серая»[248]. Стараниями и трудами приснопамятных своих ктиторов о. Виссариона и о. Варсонофия, а главным образом покойного архимандрита о. Феодорита скит этот был приведен в цветущее состояние и полное благоустройство. Мудрою предусмотрительностию последнего скит св. апостола Андрея обеспечен в материальном отношении настолько, что его существование с братией около 200 человек стоит ныне вне всяких случайностей, благодаря собранному трудами архимандрита Феодорита и положенному в банк «на вечные времена» капиталу с правом пользования процентами с него на содержание скита. За свою многолетнюю полезную деятельность[249], природный ум и в высшей степени симпатичный мягкий характер о. Феодорит пользовался уважением и всеобщей любовию на Афоне; ценил и уважал его Вселенский Патриарх Анфим, в виде исключения, возведший русский Андреевский скит на степень ставропигиального или патриаршего и утвердивший его лично в звании архимандрита, которое ему даровано было кириархическим (начальственным) Ватопедским монастырем незадолго пред тем особою грамотою. Для полного благополучия скита недоставало, по мнению о. Феодорита и его ближайших советников и сотрудников, полного единодушия и мира среди братии, нарушаемых некоторыми из представительных старцев в скиту, не мирившихся с установившимися в скиту порядками и выдающимся положением некоторых близких к настоятелю лиц. К глубокому прискорбию, благодушный о. Феодорит, не без влияния этих своих приближенных, избрал меру для достижения своего желания неудобную и даже суровую. Удаление из скита недовольных лиц, к чему присудила великая церковь протестантов, показалось для всех мерою весьма тяжелою и подало повод к волнениям в среде скитской братии. Враждебные элементы в скиту воспользовались этими волнениями и направили все усилия, чтобы вырвать власть из рук о. Феодорита и удалить из скита его ближайших советников. Был затребован от о. Феодорита немедленно полный отчет в расходах монастырских сумм; так как обнаружился якобы недочет в них на 790 турецких лир, о. Феодорит выведен из игуменской келлии, отобраны от него все ключи и предложено ему «отказаться от игуменства». У кельи о. Феодорита «стояла» и денно и нощно стража, которая препятствовала ему сделать «и один шаг за порту (за ворота скита) и ни с кем иметь свиданья или писать куда-либо». В этих тяжелых обстоятельствах, постигших о. Феодорита неожиданно, он решительно растерялся и не знал, что предпринять ему, чтобы успокоить взволнованную братию и водворить в скиту хотя бы и прежний порядок. Поэтому, жалуясь откровенно в своих письмах к о. Макарию на тяжелое свое положение в скиту в это время и называя себя не без горькой иронии «игуменом на покое без покоя», о. Феодорит на официальный вопрос в киноте: «Действительно ли он стеснен, ограничен и не имеет свободы выходить из скита или поехать куда он хочет?» – дал весьма уклончивый ответ: «Прежде действительно порта скита была заперта, по желанию всего братства, а потому не один я был ограничен, но и вся братия. Но внутри скита мы, – говорил о. Феодорит, – были свободны, ходили в церковь, в трапезу и прочее. Между прочим, у нас стража была, но это для того только, чтоб вследствие какого-нибудь недоразумения в разговорах между собою не вышло раздражения и неурядицы. Но – жалоб я никаких не имею на братство». Этот ответ не удовлетворил ни каймакама, в присутствии которого допрашивался о. Феодорит, ни членов протата, ни тем более ближайших лиц, расположенных к нему и страдающих теперь вместе с ним. Из последних некоторые пытались даже изменить эту форму ответа о. Феодорита, но, кажется, безуспешно. Русский антипросоп о. Нафанаил, донося от 24 марта 1878 г. о. Макарию о странном поведении на допросе о. Феодорита, в объяснение прибавляет, что у него «от многоденного смущения и неудовольствия органы чувствительные ослабли очень»[250]. Но странность этого поведения вернее всего нужно объяснить именно тем, что испуганный оборотом, какой принял ход событий в скиту, о. Феодорит теперь боялся, чтобы своими жалобами не усложнить дела и не раздражить недовольных против себя еще более. Здесь же в этом миролюбии о. Феодорита и в глубокой скорби о беспорядках внутри любимой и его трудами и заботами устроенной обители нужно искать причин для объяснения и других более важных его поступков. Так, когда «общим братским желанием и согласием» 6 апреля 1878 года был избран, вопреки желанию Ватопедского монастыря, иеромонах о. Антоний в дикеи скита, то о. Феодорит, как писали серайские эпитропы о. Макарию, не только «избранием его на сию высокую степень остался весьма доволен», но и «первый утвердил свое согласие на это своеручным подписом к составленному братством акту по сему предмету». В письме от 17 апреля 1878 года по поводу праздника Пасхи за подписью своего и новоизбранного настоятеля о. Феодорит «не излишним считает братски осведомить, что он должность игуменскую и управление обителию, по слабости здоровья своего, произвольно передал своему ученику иеромонаху Антонию, и сам остается в обители на покое и будет заниматься исключительно одним только духовным руководством братии, т. е. быть духовным отцом».
В действительности же положение о. Феодорита в своей обители было невыносимо тяжелое, из которого он решительно не знал, как выйти. Единственная надежда у него была на старцев русского Пантелеимоновского монастыря о. Макария и о. Иеронима, и к ним-то обратился он за помощью. «Ваших три строки и одно слово Николаю Павловичу Игнатьеву – и я воскрес, останусь на своем месте, святая обитель сохранена и вся братия успокоится, – просил старцев в своих интимных письмах о. Феодорит. – О, честнейшие отцы! Слезно умоляю вас в такую годину испытаний помозите и защитите, как обитель, так и мои заслуги советами и ходатайством у общего нашего благодетеля Н. П. Игнатьева. Ваше слово и его – и я спасен». И отцы русского Пантелеимоновского монастыря, ценя высокие качества ума и сердца о. Феодорита и его заслуги для скита, глубоко скорбели о происходящих в скиту беспорядках и старались всячески выражать несчастному страдальцу свои симпатии. Они не прекращали поминать о. Феодорита с братией на всех церковных службах, в день его ангела 10 марта чрез архикунакчея (т. е. заведующего домом русского антипросопа на Карее) о. Савву прислали просфору и письменное приветствие со днем тезоименитства, официально через своего антипросопа выразили свое соболезнование по поводу прискорбных событий в скиту, пересылали его корреспонденцию, снабжали нужными деньгами по его просьбе указанных им лиц, вообще оказывали всякого рода услуги и одолжения. А в конце концов, когда не предвидели другого исхода из разыгравшихся событий, давали ему совет добровольно сложить с себя игуменские полномочия, к чему склонялся и сам о. Феодорит. «Посоветовать Вам, – писали руссиковские старцы, – что мы предполагали, то благодать Божия просветила Ваше отеческое сердце – Вы уже сотворили в день воскресения, и благо Вам. Воскресший да устроит все, еже на пользу Вам и благоустроенному скиту Вашему и братии. Из сего видно будет всем, что Вы Отец своих чад, блюститель порядка и хранитель места, столькими трудами приобретенного и поставленного пред лицем всего мира. Это единственное средство спасет скит от разрушения – ваше добровольное оставление управления оным и всепрощение братству смущения. Время и обстоятельства укажут неопытным на ошибку. Но на это нужно много смиренномудрия, терпения. А как попущено испытание от воли промысла Божия, то это для пользы духовной. А как Вы просвещены благодатию и сделали истинное евангельское самоотвержение, которое [не только] все духовные люди похвалят, но и чада ваши духовные со временем все оценят Ваш примерный поступок, ибо все сделано Вами из пользы ближнему, т. е. своим чадам, которые не замедлят раскаяться, а мы остаемся сочувствующие и молящиеся о благоустроении Вашей святой обители и о даровании Вам благодушия».
О. Феодорит, высоко ценимый своим кириархическим монастырем (knr…arcoj mon») за указанные выше достоинства ума и сердца, с самого начала происшедших в Андреевском скиту беспорядков нашел сильную для себя поддержку и защиту в монастыре. Ватопедский монастырь через своего антипросопа все усилия направлял к тому, чтобы учинить «симвивязм» (sumbibasmoj), т. е. полюбовное соглашение о. Феодорита с братией скита, и оставить его на своем месте. В этих видах отцы Ватопедского монастыря не дали своего согласия на избрание нового настоятеля в скиту, говоря недовольным: «Невозможно вам и нам переменить сего игумена. Мы его поставили. Он вас почти всех собрал и устроил скит, как вы и видите, то мы не можем поступить с ним худо после таких трудов. И впредь мы надеемся, что он не разорит скит, по-другому вверять опасно». Поэтому, когда Вселенский Патриарх своей грамотой от 2 января 1879 г. потребовал, чтобы о. Феодорит был по-прежнему игумен скита, и пригласил посодействовать ему в этом монастыри Ватопедский и русский Пантелеимоновский, то кириархический монастырь стал действовать с большей смелостью и решительностью. Чтобы ускорить примирение о. Феодорита с провинившейся пред ним братией и чуждавшейся теперь примирения с ним из боязни за дурные последствия в будущем, дан был совет о. Феодориту. чтобы он «особым актом примирения» успокоил «немощствующих». Благостный и миролюбивый старец не замедлил последовать доброму совету своих благожелателей и немедленно издал разрешительную грамоту для всей братии, писанную своею собственною рукою. Эта полная отеческой любви, иноческого смирения и всепрощающего снисхождения к слабостям человеческим грамота гласит так:
«Во славу Пресвятые Троицы Отца и Сына и Святого Духа я, старец русского на Афоне святого апостола Андрея Первозванного скита архимандрит Феодорит, при помощи Божией и общих молитв и желаний, делаю сей акт примирения с моими отцами и братиями и о Христе духовными моими чадами в том, что Божиим попущением сделавшееся в нашем скиту искушение и расстройство причинило старчеству и общежитию нашему большой вред внутренний и внешний, духовный и вещественный. И хотя причина этому искушению вначале скоро была уничтожена, но последствия расстройства братии, к сожалению, приняли большие размеры и доселе продолжаются, не находя исхода из своего расстроенного положения, и тем делают препятствие душевному спасению, требующему спокойствия в духовной жизни особенно в общежитии. Продолжающееся смущение также много вредит и внешнему вещественному благосостоянию скита, зависящему от благоустроения общежития нашего. Тяжелый опыт годового смущения и неустройства нашего скита многих из братии отяготили до того, что они, не предвидя доброго исхода из настоящего расстроенного положения, начали изъявлять свои желания возвратиться к совершенному порядку общежития, основанному Богом на повиновении старчеству. Но только некоторым препятствует это сделать одно сомнение в моем всепрощении: что будто бы я, по принятии начальства, буду им мстить и выгонять или вытеснять их из обители, то для уничтожения этого сомнения, в уверение в моем старческом всепрощении, они изъявили желание впредь получить от меня примирительный акт за должным утверждением, как и где следует. Таковое желание отцов и братии и о Господе чад моих духовных я принимаю, как спасительное средство, указанное нам Самим Богом для боголюбезного умиротворения нашего. Хотя в период этого искушения и неоднократно для пользы моего общества пренебрегал мое самолюбие и делал самоотвержение, а теперь для возобновления и утверждения общей любви и спасительного между нами мира тем более я должен попрать мое самолюбие и сделать самоотвержение святым обещанием на желаемой братией бумаге Богом внушенного примирительного акта. Итак, отцы и братия мои, согласно желанию вашему, внушенному вам от Бога, в уверение я даю вам сию бумагу за подписью и общим утверждением, и торжественно даю мое старческое обещание во всепрощении, основанном на евангельских словах Самого Господа нашего Иисуса Христа, изрекшего нам: „Аще вы отпущаете от сердец ваших согрешения братиям вашим и Отец ваш небесный отпустит вам согрешения ваша. Аще же вы не отпустите от сердец ваших согрешения братиям вашим и Отец ваш небесный не отпустит вам согрешения ваша“. Потому и я во имя Божие всем отцам и братиям, принимавшим участие в бывшем смущении, торжественно обещаюсь предать оное совершенному забвению и всех в оном (участвовавших) от сердца моего прощаю и разрешаю, и забываю, и обещаюсь никому за оное не мстить никоим образом: ни тайно, ни явно, ни стороною, ниже словом и никаким образом не вытеснять, не высылать из скита никого. Итак, пред лицем Божиим и во имя Его я даю вам, отцы мои и братия, мое старческое всепрощение всем погрешностям вашим, сделанным вами против меня, во время бывшего смущения. Желаю и молюсь да дарует вам оное всепрощение и Сам Господь. При помощи Его потщитесь возвратиться ко боголюбезному благоустроенно совершенного общежития, да по слову Св. Писания „прославим Бога и в душах и в телесах наших, яже суть Божия“. При этом я и вас, отцы и братия мои, приглашаю к тому же, и вы с своей стороны дайте мне пред Богом ваше обещание, чтобы более не сетовать на меня за мою нечаянную ошибку, которая подала причину к смущению. Предайте ее забвению, да послужит она к духовному опыту в предбудущее время, по слову Св. Писания, что „любящим Бога вся поспешествует во благое“. Итак, Бог мира да умиротворит всех нас во славу свою, молитв ради Пресвятые Богородицы и всех святых. Аминь».
Братии русского Андреевского скита, утомленной годичными смутами и неурядицами, после получения от бывшего своего любимого настоятеля акта всепрощения, ничего не оставалось делать, ка к немедленно же с повинною обратиться к Ватопедскому монастырю и искать у него прощения и восстановления в скиту прежнего порядка вещей. «Мы нижеподписавшееся братство русского общежительного св. апостола Андрея ватопедского скита „Серая“, – писали 12 января 1879 года отцы скита, – настоящею нашею бумагою заявляем священному и честнейшему кириархическому нашему монастырю, что так как, благодатию Божиею, прекратилось происшедшее между нами и почтенным нашим дикеем, архимандритом господином Феодоритом известное обители несогласие, восстановилось же полное между нами примирение, то, по общему мнению и согласию, решили и согласились, дабы высокопреподобнейший отец архимандрит господин Феодорит был по-прежнему дикеем священного нашего скита, но вспомоществуемый в хозяйственном управлении оным составленною для сего четырехчленною экономическою эпитропиею и советовался бы с избраннейшими отцами, что и его высокопреподобие о. Феодорит принимает. А преподобнейшие отцы иеромонахи Дорофей и Антоний удаляются из скита. Доведя сие до сведения священной и честнейшей кириархической нашей обители, просим простить нас Христоподражательных в том, что мы обеспокоили оную нашими несогласьями, и предать сие забвению, признать же опять высокопреподобнейшего архимандрита о. Феодорита дикеем священного скита. Засим имеем честь быть с подобающим к нашей кириархической обители почтением братия священного русского скита „Серая“». (Следуют подписи.)
Ватопедский монастырь весьма обрадовался этой «повинной» сераевских скитян, так как они выразили охотно и добровольно те самые желания и намерения, какие согласовались вполне с желаниями кириархической обители. После удаления названных в «повинной» отцов из скита, с вознаграждением их в 150 турецких лир единовременно и с обязательством доставлять им кубан, т. е. все необходимое к жизни, пока они находятся на Святой Горе, было приступлено к восстановлению о. Феодорита в прежнем звании. Прибывшие из монастыря проэстосы отцы Даниил, Кирилл, Мельхиседек и грамматик (секретарь) монастыря не прежде, однако, приступили к восстановлению о. Феодорита, как выработан был, с общего согласия, новый канонизм скита, который как будто вызывался к жизни и желанием братства, чтобы о. Феодорит был «вспомоществуемый четырехчленною экономическою эпитропиею и советовался бы с избранными отцами».
Выработанный Ватопедской обителью «на многократных собраниях эпитропов и проэстосов, священный собор ее составляющих», новый «канонизм» скита не произвел хорошего впечатления на старцев русского Пантелеимоновского монастыря[251] и не без ограничений был принят и о. Феодоритом[252]. Первым не нравилась в новом «канонизме» попытка ограничить игумена, ввести соборное управление монастырей идиоритмов и уничтожить строго киновиальное устройство скита, а дикею Андреевского скита показались некоторые пункты нового «канонизма» «несогласными с местными и церковными правилами». Но после «некоторых изменений» и всесторонних обсуждений, подавших людям неблагонамеренным повод, между прочим, распускать ложный слух о том, что «старец не согласен на принятие канонизма», о. Феодорит дал согласие на принятие нового канонизма и 14 февраля за литургиею был восстановлен в звании настоятеля. Братия сделала ему установленное на этот случай метание (поклон) и вручила ему ключи обители. После литургии и праздничной трапезы была избрана «геронтия», состоящая из 12 человек скитских старцев, и эпитропия, в состав которой вошли отцы Варнава, Никон, Виталий и Феоклит.
О таком радостном событии о. Феодорит поспешил известить старцев русского Пантелеимоновского монастыря, которые так искренно и участливо относились к нему во все время происходивших в скиту беспорядков. Он благодарил о. архимандрита Макария за его «духовное руководство и вообще за все мудрые действия, которыми он мог управлять в лице доверенного святой обители его честнейшего о. Нафанаила», и извещал, что дело скитское окончилось и «привело братство к общему спокойствию». В постскриптуме выражалась «искренняя благодарность» «в особенности» о. духовнику Иерониму за его «искренние советы и участие в трудных делах смиренной обители. Старцы Пантелеимоновской обители немедленно высказали о. Феодориту «неизъяснимую радость» по поводу того обстоятельства, что «корабль получил своего настоящего кормчего, и желали ему, чтобы «Богодарованный мир» «благодать Божия усвоила святой обители и возобновила дух святого общежития и старчества, установленного Богоносными отцами».
Пожелание старцев монастыря св. Пантелеймона оказалось не напрасным. Мир не «усвоился» обители и был нарушен в ней раньше, чем это можно было ожидать. «Неожиданно произошло в скиту новое смущение, – пишут в Ватопед от 15 апреля 1879 года дикей и эпитропы скита, – произведенное старейшими из братий оного, которые стараются переменить некоторых из членов эпитропии в противность недавно составленного, подписанного и припечатанного торжественного взаимного документа, и что отцы эти осмелились запереть эпитропскую комнату, где находится касса и печать скита, да еще поставили и четырех стражей сторожить эпитропию и препятствовать дикею и эпитропам приближаться туда и исполнять обязанности своей должности». Этот новый инцидент или «такое состояние вещей, совершенно бесчинное», для Ватопедской обители, «трудившейся почти целый год, дабы возвратить Серайскому скиту мир и порядок», показался «прямо оскорбительным». Монастырь потребовал немедленно «снять замок, наложенный на кассу „эпитропии“», «принять также и стражей, стерегущих эпитропикон, и оставить эпитропов, пусть свободно входят в оный и свободно занимаются, как эпитропы», и предписал, чтобы «все 12 членов геронтии и три из эпитропов непременно явились завтра в священную обитель все вместе». О. Феодорит не был приглашен в монастырь по болезни. Цель этого вызова геронтия и эпитропии заключалась в том, чтобы «изобрести средства к прекращению настоящего смущения и замешательства»[253].
Хотя, вопреки предписанию, явились в монастырь не все вызванные: налицо не было семи членов геронтии, Ватопед, однако, не нашел возможным отложить заседание и немедленно приступил к следствию о причинах произошедших беспорядков в скиту и «изобретению средств к прекращению их». «Как из словесных объяснений всех оных (бывших в монастыре) отцов, так из смысла письма», присланного из скита в монастырь о возникших беспорядках, «стало известно ясно и очевидно», что между геронтиею находятся некоторые члены, желающие ниспровергнуть новый порядок в скиту, учрежденный недавно учиненным и получившим силу закона торжественным взаимным документом, и что члены эти водятся духом партии, мстительности и явной вражды против дикея и эпитропов скитских, которых они злостно обвиняют в письме своем к священной нашей обители, что будто бы делают они великие расходы и прочее и, наконец, вместо того, чтобы доказать на деле эти злоупотребления, начинают, так сказать, опять старую песню, нападая на одного только из эпитропов, монаха Никона, и желая его сменить, как будто бы он один есть причина всех зол, намереваясь чрез это получить право сменить затем постепенно без всякой важной причины и дру гих членов эпитропии, а если можно, то и самого дикея, и таким образом достигнуть своих тайных целей.
Вследствие всего этого, не желая никак доп устить свободно, чтобы в скиту был нарушен порядок и спокойствие и служил бы игралищем нескольких этих самозваных геронтов, одобряем и решаем, – писал Ватопедский монастырь от 17 апреля 1879 года, после всестороннего обсуждения настоящего положения дел в скиту, – 1) чтобы сейчас же была уничтожена мера, по которой тех из членов оной, какие находятся вне скита, заменяют в геронтии антипросопы (исправляющие должность), впредь же геронтию должны составлять только те члены оной, какие находятся лично в скиту; 2) должны быть немедленно уст роены вследствие этого заместители шести членов, посланных вне скита, т. е. преподобнейшие Дионисий, Мирон, Савва, Андроник, Иларион и Фаддей; 3) так как, кроме двоих членов геронтии, т. е. иеромонаха Варсонофия и монаха Анастасия, прочие десять членов оной осмелились приложить замок на эпитропскую кассу и поставить при ней стражей, посему должны быть сейчас же из числа членов геронтии уволены: из них Моисей, Власий, Спиридон и Тихон пусть удаляются в свои келлии (комнаты), а вместо их да будут назначены четыре других из братий скита – тихие, миролюбивые, почтенные и имеющие требуемый возраст и достоинства.
Эти четыре с теми двумя, т. е. иеромонахом Варсонофием и монахом Анастасием, составят геронтию до конца настоящего года. Из числа же увольняемых шести заместителей преподобнейшие Дионисий, Савва и Андроник да удаляются также в свои келлии, а преподобнейшие Мирон и Иларион да будут посланы на метох (хутор) в Кузлу, дабы там исполнить свой канон (наказание) на два месяца, как возмутители беспокойные. А Фаддей, как более других возмутитель и с самого начала не признавший нового порядка вещей и не подписавшийся ни в торжественном документе, ни в избрании дикея, должен быть немедленно удален из скита после того, как будет дана ему сумма денег для его содержания в количестве, какое будет определено ему братством скита. Таким образом, – заключают свое определение отцы Ватопедского монастыря, – мы убеждены, что восстановится между делами скита нарушенный мир, спокойствие и порядок, ради коего мы толико потрудилися и для коего мы примем всевозможные меры, дабы утвердить оный, и это для славы и пользы скита, отцы коего имеют положительную нужду в ненарушимом спокойствии и порядке. Они обязуются впредь почитать своего начальника архимандрита Феодорита дикея и эпитропов, подчиняясь им во всем, и с готовностию исполнять приказания их и послушания, каковые им будут назначать»[254].
Исполнение «буквально всего того, что в настоящем письме одобрено и решено» было возложено на особых уполномоченных, отправленных из Ватопедского монастыря в скит, на проэстоса о. Иакова и на старца о. Феодосия.
Но вожделенный мир и братолюбие, чего теперь домогался скит и о чем усердно старался Ватопедский монастырь, направляя к тому «всевозможные меры», покинули русский Андреевский скит на Афоне надолго, если только не навсегда. Того полного доверия братий к своему настоятелю, той искренности и сердечности отношений между ними, какие существовали раньше, не стало в скиту, и обе стороны, правящая и управляемая, стояли друг к другу на почтительном расстоянии. Дисциплина монашеская была расшатана в сильной мере, и своеволие давало себя чувствовать на каждом шагу. Не мог равнодушно относиться к этим анормальностям добрейший и миролюбивейший о. Феодорит, отдавший все силы и труды своему излюбленному детищу, взлелеянному его заботами. Жертвуя всем на благо созданного им скита, незабвенный о. Феодорит для успокоения его братии, для водворения в нем мира и братолюбия решился на беспримерную добровольную жертву, каковой был он сам лично. Полагая, что с удалением его из скита прежний мирный порядок восстановится сам собою и желанный мир снизойдет в обитель, он осудил себя в добровольное изгнание. Кормило правления, которое о. Феодорит честно и со знанием дела держал много лет, передал он эпитропии и геронтии и, под предлогом устройства нужных скитских дел, 6 мая 1879 года выехал с Афона в Петербург, где и прожил по 16 ноября 1880 года. Вернувшись обратно в родной скит, он еще более почувствовал свою ненужность в скиту, где за это время успел привиться довольно хорошо новый навязанный Ватопедским монастырем порядок внутреннего правления, – «республиканский», как его называл покойный о. Иероним, или монастырей афонских идиоритмов, а потому решился окончательно освободить родной и дорогой ему скит от своей персоны. Под предлогом лечения своего здоровья, которое от усиленных и продолжительных трудов и пережитых треволнений и действительно сильно пошатнулось, о. Феодорит выехал в город Одессу и проживал свои последние дни в тамошнем скитском подворье, почти не имея никакого влияния на скитские дела. Имя отца Феодорита фигурировало еще на всех бумагах скита и к нему прибавлялось титло «настоятель», но это было ни более ни менее как желание этим хорошо известным именем в нашем отечестве прикрыть «неизвестность» тех имен, которые заправляли делами скита. Здесь в Одессе 10 августа 1887 года и скончался о. Феодорит, похороненный вдали от дорогого Афона и любимого им скита, которому он отдал целых 45 лет своей жизни, на местном городском кладбище…
Рассказанные нами факты из жизни русских афонских скитов не прошли бесследно для дальнейшей судьбы этих скитов. Вмешательство кириархических монастырей во внутреннюю жизнь наших скитов, вызванное описанными нами событиями, сделалось после этого явлением, можно сказать, постоянным и повело к частым столкновениям и недоразумениям между теми и другими, уладить которые дело весьма нелегкое. В частности последствием событий 1871 года в Ильинском скиту являются нынешние постоянные столкновения с Пандократорским монастырем, весьма сильно мешающие внутреннему благоустройству нашего скита, а последствием событий в Андреевском скиту – новый канонизм, навязанный скиту Ватопедским монастырем и раз навсегда лишивший его строго киновиального порядка, вместо которого водворилась в скиту борьба партий и преследование личных интересов. Все это с особенною рельефностью обнаружилось здесь, при избрании в дикеи покойного о. духовника Илариона, более известного в России под именем о. архимандрита Иосифа, бывшего синодального ризничего. Указанные явления, однако, естественны в жизни наших скитов на Афоне и понятны для нас, но мы с трудом можем объяснить себе нынешнюю холодность, даже, можно выразиться, натянутость отношений между русским Пантелеимоновским монастырем и нашими скитами на Афоне, резко бьющую в глаза даже поверхностному наблюдателю и посетителю Афона. Рассказанные нами факты участливого отношения старцев русского монастыря к событиям в стенах наших скитов, по-видимому, должны были бы привести к иным результатам – к более тесному сближению между ними. Русским инокам ни на минуту не следовало бы забывать совет пророка Давида: «Се что добро, или что красно, но еже жити братии вкупе» (Псал. 132: 1). В полном единодушии всех русских на Афоне – залог их преуспеяния и сила их могущества. Что же касается усиливающегося год от году соперничества во всех отношениях у наших скитов с Пантелеимоновским монастырем, проявляющегося иногда довольно резко и странно, то для нас лично это печальное явление составляет уже положительную загадку, и мы отказываемся даже вообразить себе, к чему оно может привести наше русское афонское монашество в будущем.
Глава XI Устройство метохов и странноприимных подворий в пределах Турции и России русским Пантелеимоновским монастырем на Афоне
Споселением русских в Пантелеимоновской обители на Афоне, как гласит известная нам грамота Патриарха Иоакима II от 1875 г., она «не только освободилась от бедности и лежащих на ней долгов, но и пришла в цветущее и блестящее положенье, благодаря общежительному устройству, благочестивым пожертвованиям и ревностной заботливости русских монахов о добром состоянии ее». В этом отношении особенную услугу монастырю оказал покойный иеромонах Арсений, который, с благословения старцев монастыря, объездил в 1863–1867 гг. почти всю Россию с святыми мощами и тем привлек внимание русских людей к монастырю и расположил их к пожертвованиям в него, и доселе еще не иссякающим. Благодаря этим пожертвованиям, материальное благосостояние монастыря быстро изменилось к лучшему: старые монастырские огромные долги были уплачены, храмы монастыря благолепно украшены и снабжены богатой церковной утварью и блестящей изобильной ризницею, возведены были капитальные постройки внутри монастыря и расширены старые здания, самый монашеский быт значительно улучшен и, наконец, обращено было серьезное внимание на благоустройство принадлежащих монастырю земель и хуторов (метохов), крайне запущенных и даже пришедших в полное разрушение во время безденежья и монастырских неустройств.
Внимание старцев, прежде всего, было обращено на так называемый «Старый или Нагорный Руссик», отстоящий от монастыря на один час ходу, в котором, по словам Григоровича-Барского, «российские иноцы чрез множество лет жительствоваху и им обладаху даже до 1735 года». Это старое гнездо русских поселений к началу истекающего столетия пришло в полное разрушение и представляло из себя печальные руины, наводившие тяжелое уныние на русских паломников – посетителей Святой Горы. «Изумительно, – размышлял известный путешественник по Востоку А. Н. Муравьев, – стоя у подножия этих дорогих русскому сердцу развалин, как скоро поедает время, этот лютый зверь, все, что только оставлено людьми на его произвол, как бы остовы, пожираемые хищными жильцами лесов. Давно ли, кажется, не более восьмидесяти лет, тут еще совершалось богослужение? Жив даже и человек, на нем присутствовавший (это 115-летний старец Дамаскин-Давид, скончавшийся в 1856 г.), и вот уже нет следов самого храма. Осталась одна лишь малая церковь Успения с немногими обрывками стенной живописи и та грозить падением; у самых ворот монастырских разрыта яма, из которой белеют человеческие кости: вероятно, тут была усыпальница братии; но на это равнодушно смотрят жильцы афонские. Итак, вот та знаменитая обитель русская, к которой искони стремились наши предки! Рука человеческая предала ее в руки времени и все исчезло. Теперь тут вой осенней дубравы или томный ропот ручья, или отклик отзывающихся иногда камней, вместо пения ликов в бывшем жилье иночествующих»[255]. Но, несмотря на такое печальное состояние описанных руин, каждый русский посетитель Афона от простолюдина до сына русского царя считает своим священным долгом поклониться им, полюбоваться очаровательными их окрестностями и оживить в своей памяти дорогое историческое прошлое, связанное с этими грудами камней, чудно перевитых диким плющом. Под живым впечатлением всего перечувствованного здесь невольно является у них похвальное желание видеть эти дорогие руины возобновленными. Подобное желание высказывают старцам Пантелеимоновского монастыря: в 1866 году архимандрит при русском посольстве в Константинополе Леонид (покойный наместник московской Троице-Сергиевской лавры), в 1867 году великий князь Алексей Александрович, в 1868 году епископ полтавский Александр и др. Старцы вполне разделяли мнение высоких посетителей Афона, но до 1868 года, по отсутствию денежных средств, не могли начать здесь каких бы то ни было построек. Только в этом году, 25-го июля после соборного водоосвящения во главе с преосвященным полтавским Александром, было приступлено к закладке корпуса для братии[256]. Новый корпус должен был войти в связь с остатками древней башни, в которую заключился царственный юноша, впоследствии знаменитый сербск ий архиеп ископ Савва, и откуда он выбросил через окно свои царственные одежды и волосы посланным отца, явившимся уговаривать его вернуться под родительский кров. В башне была устроена церковь[257] во имя этого святителя, освященная 3-го июня 1871 года. Средства на возобновление «старого Руссика» главным образом были даны ростовским (на Дону) купцом С. Н. Кошкиным и монахинею Борисовской пустыни Мариониллою (в миру рязанская помещица Анна Ралгина).
В 1871 году покойным о. архимандритом Макарием был заложен в старом Руссике величественный двухэтажный собор в честь великомученика Пантелеймона. Храм этот, по мысли строителя, липецкого купца И. И. Окорокова, своею грандиозностью и роскошью отделки должен был превосходить все прочие афонские храмы. Материалом для него был афонский белый тесаный мрамор. Для внутренних украшений были изготовлены из того же мрамора колонны с чудными коринфскими капителями весьма искусного резца. Но вскоре начавшаяся вражда в монастыре между братством греческим и русским, а также носившиеся по Афону упорные слухи о выселении русских со Святой Горы побудили последних прекратить постройки в Старом Руссике до более благоприятного времени, которое, к глубокому сожалению, не наступило и доселе. После процесса и поставления о. Макария игуменом явились в обители новые нужды, удовлетворить которые было необходимо, как, например, настоятельная необходимость построить обширный храм для постоянно возраставшей русской братии в самой обители, а затем монастырь лишился благодетеля, на средства которого производились постройки, скончавшегося в обители в 1878 году схимником с именем Илии. Таким образом, к руинам прошлых веков в Старом Руссике присоединились еще более печальные руины нашего времени. Глядя на потемневший уже от сырости и проросший кустарником печальный остов этого соборного храма, и также на валяющиеся близ него в беспорядке и без призора, почти на самой дороге в Карею, прекрасные стержни, базы и капители из мрамора с украшениями, во многих местах уже попорченными и побитыми, невольно сжимается сердце от боли и является горькая мысль, что этот прекрасный материал лежит здесь в полном забытьи с еще более печальным будущим, если только заботливая рука не приберет его в надежное и сохранное место.
Вместо неоконченного и дорого стоящего соборного храма за чертою древнего монастыря начата постройкою в 1880 году, а окончен в 1883 году довольно приличный, но небольшой храм в честь чудотворной иконы Почаевской Божией Матери. Предметом особенных забот и попечений лично покойного отца игумена Макария был «метох» Крумица или Хромантисса, находящийся в 25 верстах от монастыря, на самой границе Афонского полуострова, на запад к перешейку, соединяющему полуостров с Македониею. На пространстве более чем 10 верст в окружности, которое было долгое время в запустении, по причине лежащих на нем долгов, и служило местом пастбища мулов, благодаря заботам покойного игумена разведены в настоящее время обширные виноградники и целые рощи масличных и лимонных деревьев. Выделываемое на Крумице светло-розовое виноградное вино знатоками его считается одним из лучших на всем Афоне. Здесь же имеются отличнейшие огороды овощей, которыми питается не только многочисленная братия (около 200 человек) этого метоха, но часть их идет даже и в самый монастырь. Местоположение этого метоха можно без преувеличения назвать очаровательным. С большой арсаны (пристани), миновав рощи лимонов и маслин, подымаешься по отлогой горной тропинке, по обеим сторонам которой вьются виноградные лозы, и достигаешь места, с которого любуешься лазорево-голубою поверхностью вод обоих заливов, хребтом македонских гор и влево высокою вершиною белоснежного Олимпа. Воздух местности чист и прозрачен; зной умеряется здесь близостью вод и непрестанным движением горных ветров. Неудивительно поэтому, что местность эта в гигиеническом отношении гораздо счастливее, чем местность, на которой расположена нынешняя обитель св. великомученика Пантелеймона. Весьма понятно поэтому и то, что больные обители для поправления своего здоровья, изнуренного господствующими в ней лихорадками и по другим причинам, уходят на Крумицу и удивительно быстро восстановляют свои силы.
На средства тамбовской купчихи Т. В. Долговой здесь была устроена небольшая церковь во имя преподобного Платона Студийского (имя это носил супруг строительницы) и св. мученицы Татьяны. Затем уже на собственные средства покойного отца Макария был сооружен большой храм в честь иконы Божией Матери Казанской, который по плану, вместимости и украшениям воспроизводил монастырский соборный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы до пожара, бывшего в монастыре в 1887 году в августе месяце. При храме были выстроены обширные корпуса для братии, а также разного рода постройки для выделки вина, масла и т. п. Крумица, как место особенно любимое покойным игуменом и устроенное им, слыло в среде монашествующих на Афоне под именем «батюшкина места».
На земле описанного метоха, близ границ земель Хиландарского монастыря, в местности весьма очаровательной и богатой растительностию, на значительной высоте над морем, создался, с благословения старцев обители св. Пантелеймона, скит, названный Новою Фиваидою. Здесь дозволено было селиться тем из русских иноков, которых гнали со своих земель монашествующие греки, желая окончательно вытеснить русский элемент со Святой Горы. В короткое время с 1882 года в Новой Фиваиде поселилось более 200 человек, которые живут в пустынных каливах, разбросанных на большом пространстве. На средства монастыря были устроены здесь соборный храм в честь всех афонских святых и некоторые здания, монастырь же доставлял нуждающимся все необходимое: муку, масло и т. п. Стараниями инока Игнатия устроена больница и храмы во имя свв. великомучеников Пантелеймона и Артемия, а на иждивение живущего в этом ските иеромонаха Антония устроена двухэтажная кладбищенская церковь – вверху во имя живоначальной Троицы, а внизу в честь свв. апостолов Петра и Павла. Последняя церковь освящена 27-го июня 1891 года.
Метохи кассандрский (на полуострове того же имени, выдающемся в Эгейское море), каламарийский (близ Солуни) и сикийский (на полуострове между Афоном и Кассандрою) были также не оставлены без внимания. После того, как заботами монастыря они были выведены из той запущенности и полуразрушения, в которых пребывали при игуменах-греках, в достаточной мере стали снабжать монастырь хлебом, прекрасным сеном, сыром, яйцами и т. п.
Но старцы Пантелеимоновского монастыря не ограничились лишь восстановлением руин, починкою и исправлением полуразрушенного и приведением в должный порядок запущенного, они постарались завести новые метохи, открыть новые источники доходов для своего монастыря, чтобы навсегда обеспечить его безбедное существование. Этого мало. У них, под влиянием пережитых треволнений во время известного процесса с греками, грозившими русским полным выселением с Афона, явилась даже счастливая мысль связать свою судьбу с родным отечеством, поставить себя под покровительство своего правительства, завязать с ним более живое общение, чем это было доселе, и тем самым раз навсегда, во-первых, оградить себя от всякого опасения за теплое убежище, если бы в том когда-нибудь явилась надобность, а во-вторых, всеми имеющимися в монастыре средствами за это послужить с пользою для того края, который приютил их. Все эти намерения старцев осуществились более блистательно, чем это можно было ожидать с первого взгляда. Политические и внутренние обстоятельства того времени сложились самым благоприятным образом для афонцев.
1874 год, как мы знаем, был тяжелым годом для русской братии Пантелеимоновского монастыря. Известный процесс с греками был в полном разгаре. Но в то время, когда совет турецких министров присуждал русских афонских иноков к ссылке вглубь Малой Азии, а враждебная константинопольская печать сулила им недра Африки, сами иноки не оставались бездеятельными, а подыскивали себе местечко для поселений более удобное и более выгодное. О. Макарий и о. Иерон обратились к русскому послу в Константинополе графу Н. П. Игнатьеву, своему защитнику и покровителю, с просьбою, чтобы он исходатайствовал право русским Пантелеимоновским монахам поселиться на Кавказе, на месте, которое будет указано высшим начальством. Граф с полной готовностию исполнил просьбу уважаемых им старцев, на которую не замедлило последовать от наместника Кавказа, великого князя Михаила Николаевича, занятого в ту пору мыслью о русской колонизации вверенного его попечению края, полное согласие. 26-го августа 1875 года афонские делегаты: иеромонах Арсений, о. Агапий и о. Иерон были уже в Тифлисе и направлялись в Сухумский округ, чтобы там выбрать и приискать место, удобное для основания НовоАфонского монастыря[258].
Отправленные с Афона делегаты были снабжены весьма обстоятельною и любопытною инструкциею[259] и особою запискою «очевидца» относительно выгод и невыгод тех местностей, которые указывались русским правительством для основания предполагаемого монастыря. Делегаты обязаны были действовать в духе данной им инструкции, которая была скреплена подписью самого игумена – архимандрита Макария. Им лично рекомендовалось инструкциею «смотреть на дело это не бегло, не машинально, а с углублением в предмет, ибо предстоит выбрать место не на время некое и не для выселок каких-либо из монастыря, а на все времена и для целого монашеского поколения, которое должно – непременно должно – развиться и быть оплотом для других мест, или же, так сказать, центральным (?) разветвлением монашества». В этих видах делегатам внушалось «не упускать из виду при выборе удобного места для построения на Кавказе монастыря следующее:
1. Место должно быть пространное, хотя теперь и дается позволение на избрание ограниченного, и место красивое[260].
2. Чтобы оно имело самый здоровый климат, о чем можно узнавать от разных окружных местных жителей, но особенно в центральном статистическом комитете, о чем будет упомянуто[261] ниже: ибо жители и привыкнуть успели, с детства живя в том климате и не подвергаясь злокачественной кавказской лихорадке.
3. Обилие воды во всякое время года и воды хорошей, проточной, на которой притом можно бы устроить мельницу.
4. Земля плодородная и для хлебопашества и для садоводств.
5. Лес строевой и дровяной.
6. Камень для зданий или вместо него глина для кирпича.
Примечание. Кроме леса и земли, долженствующих отрезаться для монастыря, нужно, чтобы и по соседству было изобилие того и другого для временной ли покупки или, в случае надобности, на всегдашнее приобретение.
7. Так как реки на Кавказе преимущественно обилуют рыбою, то иметь это в виду, как предмет необходимый для монастыря, и монастыря не на 60 человек, а чтобы достаточно и на 6 000 человек, если Матери Божией угодно будет умножить там монашество.
8. Неизбежно также обратить внимание и на удобство сообщения:
а) с Черным морем,
б) с ближайшим городом или Тифлисом,
в) с железною дорогою.
Примечание. Удобство сообщения необходимо во многих отношениях, именно:
аа) Если будет избыток произведений (как например, в Пицюнте рыбы и грибов), то было бы куда сбыть.
бб) Если же недостаток (ибо не может же быть все на одном месте, например, деревянное масло), то было бы откуда доставить.
вв) Кроме произведений, для монастыря все должно покупаться где-либо: в Тифлисе, Новочеркасске или Астрахани, смотря по тому, к какому из сих городов будет ближе и удобнее сообщение с избранного места.
гг) Главнее же всего иметь в виду, что с Афоном сообщение должно быть постоянное, а следовательно, близость Черного моря важнее Тифлиса и проч., тем более, что чрез Черное море удобнее получать все нужное из Новочеркасска и т. п.
дд) Вообще говоря, морское сообщение несравненно удобнее, особенно для доставки тяжестей, и Черное море нужнее Каспийского.
9. Буде место отдалено от этих условий, но удобно во всех других, то обстоятельно нужно узнать – можно ли и где и как провести дорогу к ним и чего это приблизительно будет стоить?
10. Вернее всего в этом случае, не полагаяся на свою опытность, употребить старание отыскать людей, хорошо знакомых со всеми условиями местностей, и от них узнавать нужные подробности.
11. А и того выше отнестись в Тифлисе к главному члену Статистического Комитета и главному инженеру, разумеется, при чьей-либо авторитетной рекомендации и просить его или их, чтобы обратили внимание и оказали возможное содействие, которое весьма благодетельно и важно при таком избрании места, когда для монашества должна наступить новая эра.
Все члены Комитета, а и того более главный и давний член знакомы с топографией всего Кавказа и со всеми частными его подразделениями по всем местам. Такой член действительно лучше и вернее самих жителей может рассказать все свойства занимаемой ими местности и указать с точной ясностию и верностию именно такое место, какое нужно для вас, т. е. которое бы соответствовало цели избрания. Потому что жители, особенно мало выезжавшие из своих селений, не могут верно рассказать о другой отдаленной местности, да и своей не знают так точно и верно, как статистики-инженеры, изучавшие Кавказ, и особенно при сравнении одной местности с другою.
Избрания лучшего и вернейшего нельзя сделать, как сим способом.
Все это относится к внешнему быту монастыря; оно важно, но важнее то, чтобы место соответствовало и духовному назначению. Для сего:
1. Всего лучше, если избранное место будет подальше от селений.
Примечание. Не говорю здесь, что оно должно быть ограждено указом от допущения женщин, – это не относится к дознанию местности, но к сведению иметь нужно, ибо рано или поздно это должно последовать.
2. Красота места – одно из условий развития духовного для внимательных.
3. Чтобы, кроме места для скита или монастыря, было еще отдельное для отшельнических келий – место, отделенное самой природой, т. е. или горой, или лесом, или рекой и т. п.».
Одной этой инструкцией старцы Пантелеимоновской обители не ограничились, а в особом «продолжении» изложили своим делегатам обстоятельные сведения относительно удобств и невзгод тех мест Кавказа, какие указывались правительством для будущего монастыря. Сведения эти собраны были «очевидцем» на месте из достоверных источников и не лишены для читателя живого интереса. Не придавая особенного значения ходившим слухам о жестокой лихорадке, якобы господствующей на всем восточном берегу Черного моря, «продолжение» инструкции обращает внимание делегатов на «опасность во время политических переворотов», т. е. на случай военного времени, когда монастырь, будучи не защищен какою-либо крепостью, легко «может быть ограблен и случайно зашедшим пароходом, при крейсеровке зашедшим к этим берегам». «Здравое рассуждение, – замечается в этом прибавлении к инструкции, – говорит больше в пользу отдаленности избираемого места как от селений, по случаю могущих быть соблазнов и проч., так и от берегов – на случай военного времени». Далее следует краткая характеристика предложенных русским афонским инокам местностей на Кавказе для устройства новой обители.
«Указанное место в Ведия, – говорится в „продолжении“, – положительно неудобно во всех отношениях, так что и упоминать о сих неудобствах не стоит. Если бы досталось или избралось такое место для монастыря нашего, то надо считать это не только ошибкою и уроном, но и наказанием Божиим.
Другое место, указываемое в Псху, тоже совершенно не годится. Оно отдалено от всех мест, в горах, с самым трудным и неудобным путем. Хотя там проделывается верховая дорога, но зимою Псху недоступна, по случаю заваливающих всю местность снегов, кои выпадают там раньше всех мест и сходят только в мае. Для Псху только провизии заготовлять на 8 месяцев и единственно только из Сухум-Кале, до коего 4 или 5 дней пути самого трудного и неудобного. Прежде в Псху жили разбойники, но и теперь место это славится воровством так, что лучшего нельзя найти. Летом там стоит гарнизон, а зимой – никого. Ветра там жгучи и столь сильны, что просто режут или пропитывают насквозь. Если там кто уживется из монахов, то будет спасен. Только едва ли кто будет жить!
Пицюнт с новоустроенным монастырем Св. Духа, где похоронен св. апостол Симон Канонит, стоит при потоке над морем между Сухумом и Гагры. С моря виден далеко. Место ровное, сенокосное и хлебопашное, с мелким лесом вблизи и со строевым в 7–8 верстах, где грибов бывает так много, что в урожайный год приезжают из города собирать их. Их можно приготовлять сотни пудов и продавать. В речке много ловится рыбы, но в море самая обильная, тут ловля всякой рыбы, но (преимущественно) белой. Расстоянием от Сухум-Кале за 60 верст, а от местечка Гудаут верст 40–50. Село того же названия Пицюнт в 2–3 верстах. Там бывает лихорадка, но меньшая, нежели на Афоне.
Есть еще одно место близ Сухум-Кале (в 12 верстах), называемое тоже местом Симона Канонита, между селениями Сырцха и Ачирха, где была древняя церковь и селище известного разбоями, полковника абхазского Хасан-Маргани; но название это неизвестно ни по истории, ни в других местах Грузии, а только ближние жители называют так.
Гагры выше Пицюнта между гор, где древле подвизались многие отшельники, от коих сохранились еще пещеры. Есть речка небольшая безрыбная. Лес в горах и достать трудно. Там только воздух хороший, а другого удобства для монастыря нет. Путь туда трудный, а через реку, протекающую между Пицюнтом и Гагрою, нельзя иначе переправиться, как на пароме или лодке, коих на пути сем пока нет.
Царская станица Ставропольской губернии далеко и от моря и от Грузии, хотя и золотое дно.
После всего сказанного о приведенных выше местах, мы, – заключает свое обозрение „очевидец“, – должны указать на лучшее и удобнейшее, на которое и просим обратить все ваше внимание и, если можно, постараться приобрести именно это место – Дандры (Драида?). Отстоят от Сухум-Кале верст на 20 к Кутаису, а от Поти верст на 40. Там был древний епархиальный собор, который возобновили недавно; стоит на возвышенном красивом месте. Близ его есть малое селение домов в 10 новых христиан, кои переселяются к морю, и церковь должна остаться так, но она числится приходная, и священник живет там. Внизу при самом месте малая речка, а другая Кадор в 1 версте, она рыболовная. При впадении этой реки в море ловится осетр. Рыбы так обильно, что зимою бывает 30–40 коп. за пуд: кефаль и сельди. Место самое хлебородное, есть сенокосы. Вблизи места виноградные дерева, приносящие пудов по 30 каждое, а за версту от места начинается темный лес верст на 20. Около сего места пройдет железная дорога в 1 версте. От моря отстоит в 4 верстах. Нет места лучше во всей Абхазии, так что земля там ценится или стоит по 1 000 рублей за десятину, ибо самая плодородная, как и вино – лучше всех мест. И климат здоровейший против других мест.
Вся трудность будет заключаться в том, чтобы для поселян построить новую церковь там, где они поселились при море. Но это сделать теперь не трудно, потому что жителей около церкви нет. Но места – пройти всю Абхазию и Грузию не найти [т. е. лучшего]»!
Этот отзыв «очевидца» о некоторых местах Кавказа для предполагаемого новоафонского монастыря заключается следующим авторитетным внушением, очевидно, обращенным к делегатам монастыря, посланным на Кавказ, написанным собственною рукою игумена – архимандрита Макария: «Обратите ваше внимание на Дандры и употребите все ваше старание, чтобы оно принадлежало Афону. Как говорит очевидец, что вечно будем благодарить мы и потомки наши, ибо нет лучшего по плодородности, климату, воде, лесу, винограду, рыбной ловле, моря места в Грузии». Но несмотря на столь категорически выраженное желание старцев выбрать место для устройства монастыря на Кавказе в Драндах, уполномоченные отцы Арсений, Иерон и Агапий не нашли, однако, удобным занять это место, на котором несколько позже основана была обитель с храмом в честь Успения Божией Матери афонским иеромонахом Варлаамом. Выбор делегатов русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне остановился на лучшем, по своему центральному положению в Абхазии, живописном и плодородном месте на развалинах Анакопии у древнего храма святого апостола Симона Канонита, на берегу реки Псыртсхи.
23-го ноября прибыл на Кавказ иеромонах Иерон (ныне архимандрит и настоятель ново-афонской обители), весьма деятельный и практически опытный в строительном искусстве, чтобы начать постройки на выбранном месте и положить основание будущей обители. С получением утверждения 27-го ноября об отводе 327 десятин земли под Ново-Афонскую обитель о. Иерон приступил к закладке храма в честь Покрова Богоматери и к возобновлению полуразрушенной генуэзской башни, верх которой предназначался для помещения почетных посетителей обители, а низ для складов монастырского добра. 17-го октября 1876 года упомянутый храм был освящен и в тот же день открыта школа для сирот местных абхазских жителей. Приступили уже было и к подготовке материала для возобновления Симоно-Канонитского храма, но, ввиду приближающихся военных действий, все это по приказанию власти монахи должны были оставить и искать себе приюта в грузинском Гелатском монастыре Кутаисской губернии.
Оставленный монастырь сильно пострадал во время войны, по окончании которой афонским инокам пришлось снова восстановлять его. Воротившись к своему разоренному монастырю, они принялись 1 окт. 1878 года за постройку храма в честь Покрова Богоматери, который окончили и освятили 3-го февраля 1879 года. Несколько месяцев спустя, а именно 8-го декабря 1879 года, новоустрояемая обитель на Кавказе удостоилась, по всеподданнейшему докладу обер-прокурора Св. Синода, получить утверждение Государя Императора вместе с замечательным актом его великих милостей русским афонским инокам. Вот пункты этого весьма любопытного официального акта:
«1) Новоучрежденная обитель открывается под именем НовоАфонского Симоно-Канонитского монастыря и, как отрасль афонского Пантелеимонова монастыря, соблюдает, подобно Пантелеимонову монастырю, общежительный устав афонских монастырей.
2) Обитель эта, на одинаковом основании с находящимися в России греческими монастырями: Никольским в Москве, Екатерининским в Киеве и Молдавским в Ново-Нямецком в Бессарабии, подлежит в отношении поведения ее братии наблюдению местного епархиального начальства и Святейшого Синода, а в отношении внутреннего ее строя и хозяйственной части, состоя в зависимости от Пантелеимонова монастыря, действует по приказанию и по распоряжению последнего.
3) Настоятель новой обители назначается на первый раз, по избранию афонского Пантелеимонова монастыря, из русского ее братства, а на последующее время настоятель сей обители избирается братиею ее, с согласия Пантелеимонова монастыря, из братий той или другой обители и об избранных представляется каждый раз на утверждение Св. Синода.
4) В новообразуемой обители иметь монашествующих на первый раз до 50 человек, а впоследствии, когда по нуждам и для распространения просветительной деятельности сей обители в крае окажется необходимым и по средствам монастыря будет возможно, число монашествующих в ней может быть увеличиваемо по мере надобности и средств обители, без испрошения особых каждый раз разрешений на то.
5) Монашествующая братия в состав новой обители определяется Пантелеимоновским монастырем и исключительно из русского его братства.
6) Назначенные для сей цели из Пантелеимонова монастыря в новую обитель монашествующие лица снабжаются видами для проезда посольством в Константинополе без предварительных о сем сношений с Святейшим Синодом, с ручательством посольства об их личности, правоспособности и благонадежности к предназначенному им служению. Применительно к сему посольство снабжает паспортами на проезд и монашествующих лиц, командируемых по монастырским надобностям из Пантелеимонова монастыря на новую обитель.
7) Если кто-либо из братии новой обители окажется неблагонадежным, недостойным его звания, то таковой по сношению настоятеля обители с Пантелеимоновским монастырем, или по распоряжению местного епархиального начальства немедленно удаляется из обители. В соответствие сему в обитель эту отнюдь не допускаются ни те лица, которые подвергнутся епархиальным начальством монастырскому подначалию, ни те, которые приговором светского суда присуждаются к заключению или эпитимии в монастыре.
8) Как земля, предназначенная мною[262] для обеспечения содержания новой обители и школы при ней, так движимые и недвижимые имущества и денежные капиталы, какие в пользу ее могут быть завещаемы и жертвуемы или приобретаемы русским братством Пантелеимонова монастыря, независимо от монастырских средств сего последнего, должны составлять неотъемлемое достояние этой обители и не могут ни в каком случае ни требоваться, ни обращаться и отчуждаться во владение и собственность Пантелеимонова монастыря.
9) В случае смутных обстоятельств на Востоке и невозможности дальнейшего пребывания на Афоне, братство Пантелеимонова монастыря получает убежище в новой обители, как отрасли сего монастыря, обязанной своим началом и образованием усердию его братства, и в таком случае настоятель Пантелеимонова монастыря вступает с разрешения Святейшего Синода в управление этой обителью, подчиняясь духовному в Империи начальству, на одинаковом с русскими монастырями основании, а настоятель делается его наместником.
10) Новообразуемая обитель обязывается не производить сборов подаяний по книгам и не испрашивать от правительства ни пособий, ни жалованья от казны.
О таковом Высочайшем соизволении объявляя вам, настоятель и братия Ново-Афонского Симоно-Канонитского монастыря, – заключает этот акт царской милости августейший главнокомандующий, – призываю благословение Божие на предстоящий вам подвиг. Да процветает ново-учрежденная обитель в тишине и мире на берегах Абхазии и да послужит она местному населению, пребывающему в дикости и невежестве, примером жизни мирной и труженической, образцом человеколюбия, кротости и терпения. Да воспитает школа, устроенная при обители, в молодом поколении из туземцев привычку к полезному труду и любовь к знанию, необходимому для земледельца!»
Иноки новоафонской обители с радостью приняли этот дорогой для них акт царской милости и еще с большим усердием принялись за свою культурную миссию, которая возлагалась на них высшею властию. 10 мая был освящен соборный храм в честь св. апостола Симона-Канонита, а к началу учебного года последовало освящение большого двухэтажного здания для школы 20 абхазских сирот, которые воспитываются на полном монастырском иждивении.
С присоединением к Ново-Афонской обители в 1885 году пришедшего в крайнее запущение, но знаменитого по своим историческим преданиям софийского Пицундского храма[263], построенного византийским императором Юстинианом для новопросвещенных абхазцев в 551 году, иноки Ново-Афонской обители принялись за устройство и приведение в должный порядок этого храма[264]. Уже возобновлен в этом храме придел в честь св. Иоанна Златоуста, смерть которого, по преданию, связывается с данным местом, устроены келии более чем для 40 человек братии, здесь живущей, которая совершает богослужение и обрабатывает довольно большой, приписанный к этому храму, участок земли.
Наконец, в последнее посещение Кавказа Государем Императором со всем его августейшим семейством, в бытность его в НовоАфонской обители 24-го сентября 1888 года, иноки обители, в присутствии Их Величеств, сделали закладку нового собора[265], близ которого и имеют быть возведены будущие постройки обители.
Благоустроенная в самое короткое время Ново-Афонская обитель и ее в высшей степени благотворное культурное значение для края производит на посетителей ее чарующее впечатление. Восторгами переполнены и записи их в монастырской книге[266], которую предлагают почетным богомольцам лица, заведывающие гостиницами, и многочисленные корреспонденции, печатаемые в наших газетах и толстых журналах[267]. Вот одна из таких корреспонденций, обстоятельно рисующая быт и значение Ново-Афонской обители.
«Пришли на место, – пишет известный корреспондент „Нового Времени“ А. Молчанов, – и застали бурьян да колючку. Чтобы обозреть царский подарок, монахи ходили с топориком в руках, просекая им для себя тропинки. Народ кругом дикий, не имеющий никакой религии, привыкший к грабежу, разбою, воровству и безделью. Безоружные монахи преодолевают все трудности: расчищают местность, созидают храм, строят один за другим дома для общежития и для паломников, проводят горные тропы и настоящее прекрасное шоссе, возобновляют старинные храмы, строго руководствуясь их первоначальным видом, деятельно и любовно отыскивают памятники древности, создают прекрасную пристань, заводят собственную каботажную флотилию, болота превращают в рыбные озера, горную речку загораживают высокой плотиной и заставляют воду работать на мукомольне, в хлебопекарне, в просвирне etc., разводят апельсиновые, лимонные и масличные[268] (более 500 корней) рощи, устраивают фруктовые сады и обширные питомники, прекрасные виноградники (10 десятин), пасеки (около 750 пчел, ульев) и проч., проч.[269]. Наконец, почти полгоры снято ими и по рельсам[270] эта часть свезена в обрыв, так что на высоте образовалась грандиозная площадка, поддерживаемая не менее грандиозной, искусственной и в высшей степени красивой каменной террасой. На этой площадке быстро подвигается вперед огромное здание будущей обители и собора обители, имеющей вид почти квадрата с 60 саженями длины и 50 сажен в ширину и собором, долженствующим занять 20 сажен. Под всей строящейся обителью подвалы, куда провизия доставляется прямо в вагонетках по рельсам… Далее тут здания для больниц, там обширный дом для миссионерской школы, где живут на счет монастыря 20 туземных мальчиков. Словом, смело и без преувеличения можно утверждать, что здесь находится самый культурный уголок всего Кавказа и Закавказья. А во сколько времени создан этот чудный уголок и кем? В десять лет и простыми людьми, среди которых нет ни одного ученого специалиста, создан на случайные и совсем небогатые средства, хотя кругом и около канцеляристы, при помощи казенных специалистов, расходовали и тратят казенные миллионы, не созидая ни дорог, ни садов, ни домов. Да, именно здесь невольно воскликнешь: велик талант русского человека и велика природа Кавказа! Для русского простого люда Новый Афон имеет огромное значение: эта обитель знакомит нашего мужика с благословенным Кавказом и наглядно учит его, что может дать богатая здешняя природа умному труженику над ней. Благодетельное влияние обители на туземное население уже сказалось ясно: много абхазцев принимают в монастыре православие, кражи и разбои в этой местности прекратились, туземцы охотно идут работать в монастырь и охотно отдают своих детей в монастырскую школу»[271].
Афонская святыня, посланная в 1863 году в Россию вместе с покойным иеромонахом Арсением, который был отправлен для сбора милостыни, будучи принята русским народом с радостью и любовью, не возвращалась более на Святую Афонскую Гору, а, по ходатайству старцев, в 1873 году нашла себе приют в часовне, устроенной обителью св. Пантелеймона при московском Богоявленском монастыре на Никольской улице. Стечение богомольцев в эту часовню было всегда многочисленное настолько, что душная и тесная часовня не могла вмещать всех, а поэтому многие должны были стоять на прилегающей к ней улице и тем стеснять правильное движение по ней. Это обстоятельство побудило о. Макария ходатайствовать перед Св. Синодом в 1879 году о дозволении построить самостоятельную часовню на той же улице в конце, близ Владимирских ворот, на месте, которое незадолго пред тем было подарено монастырю одним из благодетелей его. Дозволение это было получено и на указанном месте воздвигнута, по плану архитектора А. С. Каменского, изящной архитектуры в древнерусском стиле часовня во имя св. Пантелеймона, освященная 2-го июня 1883 г. С этого дня непрерывно совершаются в ней все церковные службы, кроме литургии, стекаются сюда толпы богомольцев, чтобы облобызать святыню, которая в этой часовне постоянно пребывает, внести свою посильную лепту на нужды обители, сделать заказы относительно высылки с Афона той или иной иконы хорошего письма и т. п. «Открытие часовни дало нам возможность, – говорил покойный о. Макарий в своем слове, обращенном к братии Пантелеимоновского монастыря еще в 1877 году, – иметь прямые сношения с родною нам Россиею, щедротами коей существует не только наша обитель, но и многие иные здешние обители»[272].
Наконец, в самое последнее время афонские иноки стали прочною ногою в столице русского государства, в Петербурге. С разрешения Св. Синода, 17-го августа 1886 г., на углу Забалканского проспекта и 2-й роты Измайловского полка был заложен обширный и весьма красивый трехпрестольный храм: главный храм в честь иконы Божией Матери Иверской, а приделы в честь великомученика и целителя Пантелеймона и св. апостола Симона Канонита. Храм этот, строившийся по плану архитектора Н. Н. Никонова, был совершенно готов еще в 1887 году, но освящен только в следующем году в последних числах августа месяца, т. е. 26-го, 27-го и 1-го сентября[273]. При этом храме устроено подворье для иноков Ново-Афонской обители, которой и приписаны храм и самое подворье, имеющие назначение доставлять средства на миссионерскую деятельность кавказской обители.
Стараясь, однако, о расширении монастырских владений за чертою Афона и главным образом в пределах своего отечества, покойный о. Макарий имел в виду: 1) стать ближе к своим соплеменникам, хорошо познакомить их с современным монашеством на Афоне во всех отношениях и чрез это расширить район своего благотворного влияния на них, удовлетворяя, по мере возможности, всем их духовным потребностям; 2) подготовить для русской братии Пантелеимоновского монастыря «убежище» на тот случай, если бы когда-нибудь возникли «смутные обстоятельства на Востоке» и не стало «возможности дальнейшего пребывания на Афоне», и 3) обеспечить материально монастырь. С такими важными задачами покойный игумен ни на минуту не забывал и о тех, которые «приносят обители свои посильные жертвы, часто из последних средств, да же с лишением и ограничениями»[274]. На против, любя всеми силами своей доброй души русский народ и зная его всегдашнюю любовь и усердие к святыне, его всегдашнее, чрез всю историю нашего отечества проходящее, стремление на Православный Восток, к личному обозрению мест, освященных особыми явлениями Бога Отца в Ветхом и Иисуса Христа в Новом Заветах и прославляемых знаменательными событиями из жизни Божией Матери, святых апостолов, мучеников и аскетов-ошельников христианства, о. Макарий сам лично старался на собранные от него средства облегчить всеми мерами эти путешествия в достославные места и побуждал к тому же, как мы знаем из его писем к отцу, и других. Устроенные с этою целью монастырские подворья в Константинополе, Одессе, в Таганроге, Анапе, Новороссийске и Сухуме, а особенно первые два, служат приютом для всех странников и странниц нашей матушки Руси. Здесь все они встречают истинно русское широкое гостеприимство, полное радушие и предупредительность. Здоровая горячая пища в русском вкусе и чай даются всем посетителям подворья без исключения и безвозмездно. В незнакомых большинству наших паломников городах, как например в Одессе и Константинополе, последние имеют в лице афонских иноков, живущих на подворьях, истых благодетелей-опекунов. В Одессе на афонском подворье, например, грамотному паломнику дадут печатный бланк прошения к одесскому градоначальнику о выдаче заграничного паспорта, в котором ему придется написать лишь имя, отчество, фамилию и звание – и прошение готово, а за неграмотного сделают все это хлопотливые монахи, которые потом отнесут этот бланк-прошение и в канцелярию градоначальника, и для визитации к генеральному турецкому консулу. Нашему поклоннику нисколько не страшна единственная в своем роде турецкая таможня, так как его всегда защитит от несправедливых претензий «своя братия». Стамбул или Царьград для нынешнего паломника все равно, что родная деревня. Свободно, под руководством проводника-монаха, наши мужички и женщины идут во Св. Софию, чтобы там помечтать о том счастливом времени, когда «наши» заменят луну на ее куполе святым крестом, посещают Патриархию, Влахерны. Ни тени страха, ни малейшего замешательства, ни в чем отказа или недостатка не чувствует наш паломник в Стамбуле на подворьях «у наших отцов». Кушает паломник сытно и даже сладко, спит спокойно и даже мягко, все что нужно для души имеет он под руками, так как на подворьях существуют часовни или даже маленькие храмы и в них ежедневно совершается истово, по афонскому уставу, богослужение. Монастырь позаботился выхлопотать удешевленную плату для паломников III класса, как из Константинополя в Одессу, так и из Константинополя на Афон и обратно. Чтобы паломники наши были вне всякого затруднения и могущих возникнуть недоразумений на пароходах турецком и греческом, совершающих рейсы между Константинополем и Святою Горою, они находятся всегда под наблюдением особого человека, владеющего русским языком и на известных условиях посылаемого монастырем. Весьма нередко монахи подворья на собственные средства покупают билеты недостаточным паломникам на Афон и обратно, причем, само собою понятно, нет и не может быть речи о расписках или обещаниях возвратить израсходованные таким образом деньги. Совести каждого предоставляется принести благодарность за все эти услуги… Выставленные кружки для доброхотных подаяний, по вскрытии, редко содержат рублевые бумажки: бедность платит за ласку и привет лептами и сердечной со слезами на глазах благодарностью, унося с собою самое приятное воспоминание о своем пребывании на этих подворьях. В частности истинные же трудолюбцы, послушники подворий: гостинник, проводник и т. д. остаются без всякого вознаграждения. Встречая и угощая иногда целые сотни паломников и даже тысячи (особенно большое стечение их бывает после Пасхи, при возвращении из Палестины), эти труженики с раннего утра до глубокой ночи быстро бегают по многоярусным лестницам подворья, как например в Константинополе, чтобы напоить и накормить каждого гостя, не заставить его «скорбеть» по случаю медленности или недостатка в чем-нибудь. В это «горячее время» не пот течет по выносливой спине русского инока-афонца, а кровь, и только сознание, что это труд «ради Бога» и что он необходим как подвиг послушания, который считается выше поста и молитвы, и только это одно дает афонскому иноку силы и мужество не пасть под тяжестью возложенного на него подвига. Хорошо все это сознавая и оценивая, паломники, однако, не могут отблагодарить этих неусыпных тружеников, так как эти последние не принимают из рук их никаких вещественных знаков признательности, а если и примут, то, по закону строгого общежития, немедленно вручают все полученное своим старцам, прося при этом у благодарных посетителей извинения в следующей скромной и сердечной фразе: «покройте наши немощи своею любовию». Все это невольно трогает паломников-посетителей афонских под ворий, и чувство нравственного обязательства пред гостеприимною братиею на всегда глубоко западает в их душу. Неудивительно поэтом у, что наш русский мужик шлет на Афон часто последнюю копейку и ни за что не поверит, что иноки Святой Горы эксплуатируют, как думают люди вроде М. Ремезова (Русская мысль. 1892 г. Кн. VIII. С. 108), его простоту и невежество и его трудовую копейку тратят бесцельно и бесплодно.
Глава XII Просветительно-издательская деятельность русской Афоно-Пантелеимоновской обители
Русский благочестивый человек и притом паломник мало заботится о хлебе насущном, едва ли не больше он страдает от недостатка в пище духовной. Истый русский паломник многие тысячи верст проходит пешком, скудно питаясь черным, не первой свежести, хлебом и водою. Капустные щи, картофельную похлебку и чашку чая он считает роскошью и исключительным благодеянием в своей страннической жизни. Удобств ночлега его тело, истомленное дневным трудом и солнечным зноем, не ищет. Паломник, осенив себя широким русским крестом, ложится спать там, где застала его ночь. Мать сырая земля весьма нередко служит для него ложем, его убогая заплечная сума с ржаными сухарями – изголовьем, а небо, усеянное мириадами звезд, покровом. Только непогода и жестокая болезнь вынуждают странника-паломника искать себе приюта впопутных деревнях, обременять своею особою других людей, также бедных, как и он сам, но и в этих случаях он скромен, неприхотлив и крайне умерен в своих желаниях, понимая хорошо, что окружающие его люди делают ему добро «ради Христа», как страннику, и чтоесли он сам терпит лишения и ограничения, то все они суть приобретения для него «ради спасения души», как первой в главнейшей цели добровольно принятого на себя подвига. Но паломник, особенно если он человек грамотный или даже мало-мальски знакомый с букварем, скучает, томится, не весел в дороге и положительно жаждет почитать или даже послушать что-нибудь «божественное» или «от Писаний». В утешительных словах Евангелия паломник ищет для своего подвига одобрения и оправдания, так как ради него ему нередко приходится покинуть дома все милое и дорогое его сердцу и обречь себя добровольно на скорби и лишения, под тяжестью которых он нередко изнемогает. В писаниях святых отцов и особенно в житиях святых он старается найти подходящие примеры подобных подвигов и в красноречивых безыскусственных описаниях их почерпнуть для себя необходимые практические уроки в назидание. Не удивительно поэтому, что за подобным чтением наши паломники нередко забывают и телесный голод и те физические невзгоды, которые выпадают на их долю во время некратковременного странствования по святыням. На привале в дороге, на грязной палубе русского парохода, с одинаковою заботливостью перевозящего овец, быков и наших бедных паломников, забившись в укромный уголок, наш паломник проводит минуты отдыха и многие часы однообразно-скучного от безделья и длинного морского плавания за чтением русского Евангелия или даже молитвенника. Около счастливца, раздобывшего какое-нибудь «житие» или «душеспасительную повесть», группируются целые кучи охотников послушать назидательно-утешительное чтение; все с живым интересом и умилением внимают читаемому и потом долго между собой беседуют по поводу прочитанного. Понимая хорошо эту насущную потребность русского народа и желая дать ему назидательное и полезное чтение, покойный о. Макарий сделал распоряжение, свято соблюдаемое и доселе, чтобы каждого паломника, едущего на Восток или возвращающегося на родину и останавливающегося на подворьях русского Пантелеимоновского монастыря в Константинополе или в Одессе, заведующие сими подворьями снабжали бы «в благословение Афонской Горы» бесплатно 50-ю брошюрами[275] разнообразного содержания и различного объема и не меньшим количеством[276] нравственно назидательных «листков». Некоторым из этих паломников, зараженным раскольническими мнениями или живущим среди раскольников и сектантов, первым в назидание, а вторым в предотвращение от соблазнов и для укрепления в православном вероучении раздаются, по указанию старцев, брошюры, написанные известным у нас в России миссионером афонским иеромонахом Арсением и направленные против раскольнических и сектантских заблуждений[277]. Все поклонники, кроме того, обделяются «на память об Афоне» иконками св. великомученника Пантелеймона, четками из «слез Богоматери» и крестиками и ложечками, как изделиями рук афонских анахоретов. Все дары боголюбивой братии афонского русского монастыря составляют ценное дорогое достояние бедной паломнической сумы во время странничества, служат ему приятною пищею и отдохновением в его святом, но исполненном скорбей и лишений подвиге. Возвращаясь на родину, паломник вносит эти дары, как дорогую святыню, в родные семьи и через раздачу своим кровным и близким делает и их причастниками, так сказать, того великого подвига, который совершен «трудником Божиим», их дорогим молитвенником, заставляет и их хотя на несколько часов отрешиться от серой будничной действительности и, при созерцании священных предметов далекого Востока, перенестись мысленно в идеальный мир. Брошюры и книжечки афонских русских подворий переходят из рук в руки, обходят все дома односельчан, доставляя духовное наслаждение и здоровую умственную пищу на долгое время. Для самих паломников эти брошюры служат, кроме того, вещественными доказательствами их подвига и видимым вещественным знаком духовного общения с далекими святынями Востока. Паломникам из интеллигенции и знатным посетителям монастырь «на память о себе» раздает ценные издания, как например «Второе путешествие по Афону» Григоровича-Барского, издание Палестинского общества, «Абхазия» архимандрита Леонида, «Афонский Патерик», труды епископа Феофана по Св. Писанию и творениям (аскетического характера) святых отцов и т. п. и притом в роскошных переплетах.
Просветительная издательская деятельность русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне начинается в самом начале второй половины истекающего столетия, вскоре после того, как русские иноки вступили в число братства этого монастыря. Первой книгой, изданной в 1850 году на средства монастыря, была хорошо известная у нас на Руси популярная и возбудившая в свое время много толков книга под заглавием «Письма святогорца о Святой Афонской Горе», написанная священником Вятской епархии Симеоном Весниным, более известным у нас под именем Святогорца Серафима (названная книга, ввиду усиленного запроса на нее со стороны русских читателей, была повторена изданием в том же году). В 1858 году того же автора была напечатана другая книга: «Сочинения и письма святогорца, собранные после его смерти», в 1861 году третья: «Стихотворения святогорца, собранные после его смерти и посвященные любителям и благотворителям». Все эти произведения о. Серафима пользовались широким распространением в народной массе в свое время, не малочисленных читателей они имеют и доселе из той же среды. В 1860 году был напечатан, так называемый, «Афонский патерик», собранный старанием другого вятского семинариста о. Азария, весьма много и с пользой потрудившегося для русского Пантелеимоновского монастыря. Эта книга до настоящего времени выдержала шесть изданий. В 1861 году на средства обители была издана в Константинополе напечатанная в существовавшей в ту пору при Патриархии славяно-болгарской типографии, довольно также популярная книга под названием «Вышний покров», в которой собраны сказания обо всех чудотворных иконах Святой Афонской Горы. В той же типографии в 1862 году напечатана была «Служба и похвальное слово преподобным и богоносным отцам нашим на Святой Афонской Горе просиявшим», а в 1867 году – «Служба в честь иконы Богоматери, именуемой «Достойно есть». В России в 1863 году Пантелеимоновская обитель издала «Житие и страдание св. великомученика и целителя Пантелеймона», а в следующем 1864 году – «Молитву св. великомученику и целителю Пантелеймону» и несколько других мелких брошюр и листков духовно-нравственного содержания. Все эти издания русского Пантелеимоновского монастыря, как показывают и их названия, были направлены к тому, чтобы удовлетворить естественные запросы русских паломников Святой Горы по отношению к ее насельникам, чтобы в общедоступных и увлекательных рассказах грамотный русский народ ознакомить и сообщить ему верные сведения об этой Горе, ее особом положении среди других паломнических пунктов православного востока, о многочисленных ее святынях и предметах христианской древности, об особенностях быта ее насельников, о высоко-аскетических подвигах ее анахоретов прошлого и настоящего времени и тому подобных предметах.
Сочувственный и, можно сказать, редкий успех изданий русского Пантелеимоновского монастыря на самых первых порах и сознание той громадной нравственной пользы, какую через подобные издания может приносить обитель и своим соотечественникам и ближайшим соседям – православным славянам Балканского полуострова, внушили мысль лицам, стоящим во главе братства этого монастыря, развить и расширить свою издательскую деятельность. Это намерение их осуществлялось лишь тогда, когда эти издания по цене своей сделаются доступными самым беднейшим читателям, чего не иначе можно было достигнуть, как только завести свою собственную типографию в стенах обители. Расчет на даровой труд и собственные руки представлял верную, по-видимому, гарантию к осуществлению благого намерения. Задуманное было сделано, и в 1865 году в стенах русской Пантелеимоновской обители открыта была русско-славянская типография[278]. Руками неопытных, но усердных к делу афонских русских иноков была набрана, и весьма недурно для первого раза, нужно отдать им полную справедливость, известная уже нам книга о. Иеронима: «Русско-греческий словарь, разговоры, грамматика, напечатанные русским шрифтом», отпечатанная в 1865 г. Здесь, сколько нам известно, были напечатаны еще только три брошюры: «Слова Исихия, пресвитера иерусалимского», «Житие св. мученика Дмитрия Солунского» и «Обетования Божией Матери, данные Святой Афонской Горе» и несколько отдельных листков духовно-нравственного содержания, а затем пришлось волею-неволею приостановить дальнейшие работы в этой импровизированной типографии. Условия дальнейшего существования ее на Афоне сложились вполне неблагоприятно для того дела, служить которому эта типография предназначалась, по мысли главного инициатора этого дела о. Иеронима. А каковы были эти планы и намерения организатора русской Пантелеимоновской обители – они высказаны откровенно в следующем прошении, поданном от имени обители в 1868 году Вселенскому Константинопольскому Патриарху.
«Из заявлений ежегодно приходящих на Святую Гору немалочисленных благочестивейших поклонников из единоверцев наших славян мы узнаем, – говорится в прошении пантелеимоновской братии от 7 августа 1868 года к Вселенскому Патриарху, – что они имеют большую нужду в книгах церковно-богослужебных и нравственных. От них же мы узнаем, что их духовные потребности удовлетворяются исключительно почти книгами, вывозимыми из России, приобретение которых сопряжено с большими затруднениями и издержками. В последнее время появились некоторые славянские книги, напечатанные и вне России[279], но таковые оказались с недостатками относительно точности и потому не имели в среде православных должного одобрения и распространения. Искренно сочувствуя в сем случае нуждам единоверных нам народов, честная наша обитель готова прийти к ним на помощь во всем, что касается их духовной пользы. Итак, руководимые таким желанием и вполне готовые по силе принести действительную пользу нашей Святой Церкви[280], мы, нижепоименованные, готовы устроить в нашем монастыре славянскую типографию для печатания славянских церковных и прочих душеполезных книг и для распространения их по умеренной цене между православными народами, но с тем, однако, условием, чтобы это учреждение пребывало под непосредственным покровительством Вашего Святейшества; мы же покорно и с благоговением обещаемся следовать и принимать, что благоугодно будет Вашему Святейшеству посоветовать или приказать нам в сем серьезном деле умственного просвещения наших единоверцев. Доселе, снисходя к усиленным и непрестанным мольбам наших братьев славян относительно приобретения по умеренной цене церковных книг русского (синодального) издания, в силу их личных затруднений в данном деле, мы снабжали их, по мере возможности, означенными книгами. Но понятно всякому, что эта доставка с нашей стороны требует и больших издержек и не малой проволочки во времени, и что поэтому просьбы эти наших единоверцев не всегда могли быть исполняемы. Посему, имея в виду, с одной стороны, распространение по умеренной цене церковных книг между единоверцами нашими славянскими племенами для удовлетворения их духовных нужд, а с другой, поддержание и укрепление в народе основ православной веры и христианской нравственности, считаем, как самое полезное и вместе необходимое, заведение на Святой Афонской Горе, всеми чтимой и посещаемой с паломническою целью, славянской типографии, на что единодушно соглашается и решается наша обитель. Изложивши все вышесказанное Вашему Святейшеству, с благоговейным послушанием и глубочайшим почтением ожидаем ваших распоряжений, чтобы, при божественном содействии, немедленно приняться за это общеполезное и душеспасительное дело на тех основаниях, каковые благоугодно будет указать Вашему Святейшеству. Лобызая блаженную десницу вашу, пребываем Вашего Божественного и Поклоняемого Святейшества смиренные послушники и покорные слуги: игумен русского на Святой Афонской Горе монастыря святого великомученика и целителя Пантелеймона архимандрит Герасим, духовник Иероним и духовник Макарий»[281].
Патриарх на это прошение ответил в обитель 18 сентября того же года особою грамотою за № 3890 (2716) следующим образом: «Преподобнейшие о. игумен и прочие отцы на Святой Горе Афонской находящегося священного и честного нашего патриаршего и ставропигиального монастыря Руссика, чада о Господе возлюбленная! Благодать и мир вам от Бога. Из сыновней вашей грамоты от 7 числа истекшего августа месяца мы узнали, что вы доносите, повергая на обсуждение Церкви желание ваше относительно учреждения в вашей священной обители славянской типографии, под непосредственным наблюдением относительно печатания церковных и прочих душеполезных славянских книг, для удобнейшего удовлетворения нужд и душевной пользы православных славян.
В ответ на сие извещаем ваше преподобие, что эту просьбу вашу мы внесли для всестороннего рассмотрения святому и священному нашему синоду, по обсуждении которым каждого пункта настоящего прошения и по представлении нам его соображений мы известим вас немедленно о церковном нашем решении. Благодать Божия и неизреченная милость да будут с вами. Патриарх Константинопольский во Христе молитвенник».
Но решения по сему предмету не дождалась Пантелеимоновская обитель и до сего дня. Дело в том, что начавшиеся еще с 1859 года несогласия между греческою и болгарскою церквями в данном времени приняли довольно обостренный характер и разрешились потом в 1872 году объявлением со стороны Великой Церкви так называемой «болгарской схизмы». Все это весьма естественно сделало ходатайство русского Пантелеимоновского монастыря об открытии типографии с целью печатания церковно-богослужебных книг для болгар несвоевременным.
Вместе с вышеприведенным прошением относительно открытия типографии в стенах обители к Вселенскому Патриарху было отправлено подобное же ходатайство и к турецкому правительству, которое немедленно высказалось в том смысле, что, не встречая никаких препятствий к открытию упомянутой типографии на Афоне, оно считает необходимым, согласно с существующими в Турции узаконениями касательно печати, назначить на Афон особого цензора и подчинить его контролю все тамошние издания. Такой ответ со стороны турецких властей равнялся положительному отказу, так как принять на Афон отдельного цензора значило бы для русского Пантелеимоновского монастыря отдать себя добровольно под контроль, далеко не всегда беспристрастный, турецкого чиновника и ведаться потом со всеми теми последствиями, какие могли произойти отсюда для обители в будущем. С получением такого ответа стало небезопасно для обители существовать в стенах ее типографии и в тех небольших размерах, с теми скромными задачами и целями, какие она начала было выполнять уже без официального признания за нею права на свое бытие. Чтобы избежать могущих возникнуть отсюда неприятностей и столкновений с турецкими властями, старцы обители решились добровольно закрыть свою типографию. К тому, нужно сознаться, были побуждения и чисто, так сказать, домашнего характера. В типографии постоянно чувствовался недостаток в опытных и хорошо знающих типографское дело людях, найти которых среди своих иноков было дело трудное или вовсе невозможное, а мастера-миряне соглашались жить на Афоне не иначе, как за дорогое вознаграждение. Удешевить, таким образом, издания, с какою целью заводилась типография на Афоне, не удавалось, и самое существование типографии в стенах обители сделалось лишним и во многих отношениях небезопасным, по вышеуказанным причинам обузой для нее. Итак, первый и, быть может, последний печатный станок на высотах Святой Афонской Горы умолк навсегда и обречен был на забвение и разрушение в обширных монастырских складах. Только литографский станок, заведенный почти одновременно с типографским, продолжал неустанно работать и снабжать наше отечество через паломников картинами своего производства почти до конца семидесятых годов, когда решено было, наконец, и эти работы передать в более искусные руки частных лиц в Москве и в Одессе.
Затруднения, какие встретил русский Пантелеимоновский монастырь на Востоке, в деле святого и совершенно бескорыстного служения нравственно-религиозному просвещению своих соотечественников и единоверцев-славян Балканского полуострова, направили просветительно-издательскую деятельность обители неожиданно для нее внутрь своего отечества и указали ей самую благотворную почву, на которой она и могла только развиться так широко и плодотворно, как она стоит в настоящее время. Исторические и бытовые условия жизни нашего отечества сложились к данному времени благоприятно для сего.
В 1862 году 28 августа, как мы говорили выше, выехал с Афона весьма даровитый и симпатичный иеромонах о. Арсений (Минин), на которого русский Пантелеимоновский монастырь возложил нелегкое поручение объехать наше обширное отечество с афонскою святынею и сделать сбор пожертвований, крайне необходимых обители для платы тяготевших над нею в ту пору больших долгов и приведения ее из запустения и ветхости в благолепный и приличный вид, среди русского народа. Приезд в Россию о. Арсения с афонскою святынею счастливо совпал с моментом замечательного религиозного энтузиазма и пробуждения чувства народного самосознания в среде русского народа, последовавших непосредственно после великодушного акта милости к своим подданным со стороны покойного Царя-Освободителя, т. е. после освобождения крестьян от тяжелой крепостной зависимости. Стряхнув с себя это иго, русский народ спешил излить перед Богом свою слезно-радостную благодарственную молитву за акт гуманной и беспримерной царской милости, собирался с силами, чтобы взять в свои могучие, хотя и неопытные еще руки бразды дарованного ему Царем-Освободителем самоуправления и восчувствовал если когда, то особенно в это время, насущную потребность в грамоте, в просвещении. Неудивительно поэтому, что приезд о. Арсения в Россию с афонскою святынею был приветствован со стороны русского народа весьма сочувственно и даже восторженно. Его путешествие по России, продлившееся почти до 1867 года, можно назвать триумфальным шествием, великим общенародным праздником, восторженными описаниями которого были переполнены столбцы наших больших газет обеих столиц, как например, «Северной Почты» (орган Министерства Внутренних Дел), «Московских Ведомостей», «Сына Отечества» и др. «Всюду на поклонение святыне, – описывает очевидец этого путешествия по Могилевской и Витебской губерниям, – собиралось множество народа: в местах ночлегов от 1 000 до 2 000 человек; там же, где назначались дневки, стекалось до 5 000, а в некоторых местах, как, например, в Гомеле, до 20 000… Поклониться святым мощам приходили даже жители соседних губерний: Смоленской, Черниговской, Минской, Витебской, а по Могилевской губернии едва ли найдется одна, даже самая маленькая, деревенька, из которой не было бы кого-нибудь на богомолье. Ни ненастье, ни рабочая пора, при установившейся с 10 августа сухой и ясной погоде, ничто не удерживало православных отправляться на поклонение святыне афонской. Также усердно ей поклонялись почти все немногочисленные по Могилевской губернии поселяне-католики… Крестные ходы с народом ожидали святыню иногда за версту пред селом, городом или местечком… Крестьянские дети открывали шествие хода к церкви за ними перед хоругвями, по белорусскому обычаю, четыре девушки несли на носилках в киоте икону Божией Матери, с изображением на другой ее стороне какого-либо святого: за хоругвями шло духовенство, за духовенством старшины и старосты с значками своего служебного значения… Во время следования крестного хода дети, взрослые… сыпали пред святынею цветы по дороге… Всюду при встрече святыни вносили ее прямо в церковь, обходили с нею престол в алтаре и через царские врата тут же выносили к народу на церковную площадь. Во избежание тесноты, при стечении множества богомольцев, молебствие с водосвятием совершалось большею частию перед церковью, на открытом воздухе, причем, кроме причтов, были и хоры певчих, составленные в последние два-три года из крестьянских девочек и мальчиков, обучающихся в сельских училищах… Многие из прибывших к святыне желали особенно, чтобы сам афонский иеромонах служил им молебен, читал над ними евангелие, благословил их, чтобы сам дал освященной воды, воску, масла для исцеления, и о. иеромонах исполнял желание каждого… Такие торжественные встречи совершались как при сиянии теплого дня, так и при глубоком мраке ночи, представляя картину не только полную христианского благочестия, но и восхитительную для постороннего зрителя. Еще умилительнее, хотя гораздо смиреннее, совершалось ночное моление в малолюдных деревеньках, на чистом поле, на перекрестке или на дороге между высокими березами при слабом освещении десятка мелких восковых свеч, иногда пылающего в стороне костра, где кучка народа в 300 человек, столпившись около святыни, благоговейно слушала тихие возгласы афонского иеромонаха, смиренное пение братии его, шепотом повторяя вместе с ними молитвы и песнопения…
Пока совершалось поклонение, священные предметы, находившиеся при святыне, как то: иконы, изображения святых на бумаге и холсте, крестики, образки, четки и книжки охотно приобретались усердными богомольцами на память, посетившей их святыне. Книги все были духовного содержания: жития святых, краткие поучения, акафисты целителю Пантелеймону и Божией Матери и проч.». Бедным богомольцам и детям все это «в благословение Святой Афонской Горы» и «на память» о посещении святыни раздавал в большом количестве о. Арсений даром. «В течение сорокадневного пребывания и следования афонской святыни по Могилевской губернии разобрано и роздано в дар икон, крестиков, книг и прочих вещей более ста тысяч экземпляров… Приобретенные иконы, изображения и печатные листы тут же с любопытством рассматривались на улицах или даже читались кем-нибудь грамотным в кучке народа»… Таким образом, «не говоря уже о благотворном с религиозно-нравственной стороны влиянии посещения края святынею, она принесла стране огромную пользу и успешным распространением между могилевскими белорусами православных икон и книг русской печати духовно-нравственного содержания. Советы народных училищ в течение двухлетнего существования своего сделали в этом отношении едва ли пятую долю того, что сделала святыня в 40 дней! Теперь и в курной темной хате поселянина красуется в переднем углу благолепная икона или раскрашенное изображение святого, вместо прежних лубочных икон, полинявших и закоптелых от времени»[282].
Дознав таким образом личным опытом, с какою жадностью русский народ спешит удовлетворять свой духовный голод, как высоко ценит всякую книжку от «писаний» или «житий», особенно если она носит на себе следы афонского происхождения, и понимая громадную пользу от этих изданий для чести и даже прямой пользы своей обители, о. Арсений решился приступить к целому ряду изданий духовно-нравственных книг и брошюр, склоняя всячески содействовать ему в этом благом деле и старцев своей обители. «Составили мы беседу о молитве, – пишет о. Арсений на Афон из Петербурга в 1867 году, – отпечатаем и вам пришлем. Не угодно ли будет и вам приготовить что-либо душеполезное? Оно будет постепенно печатаемо и тысячи православных будут читать и назидаться. Хотя и много есть духовных книг, но когда что носит на себе печать Святого Афона, то преимущественно приемлется с большею верою и потому бывает полезнее для читающих. Нас Господь поставил на такое поприще, что если мы пожелаем потрудиться, то много можем сделать добра, ибо что мы говорим, тому верят… Святыня наша, источником чудес и знамений прославившаяся, доставила нам большую веру; ей мы всем обязаны, и без нее я давно уже был бы на Афоне»[283]. «Чрез подобные книжки, – пишет о. Арсений в другом письме, – распространяется животворное слово Божие, утверждается вера и соделывается спасение многих душ, особенно при чтении описаний о бывших преславных чудесах, совершенных по благодати Божией, хотящей всем спастися. Сколь велико и многоценно пред очами Божиими сие благоугодное дело, это можем разуметь из слов Священного Писания: аще кто сотворит и научит сей велий наречется в царствии небесном. Ничем иным мы, грешные, не можем так научить, как раздаянием душеполезных книг и описаний о делах Божиих»[284].
Мудрые старцы обители вполне разделяли намерения своего доверенного о. Арсения, зависящими от них мерами поощряли его труды в столь важном деле и всячески содействовали с своей стороны его успеху, хорошо сознавая важность и пользу от этого и для отечества и для славы своей обители. «Пожертвуем на это дело до одной тысячи рублей, – писал о. Иероним к о. Арсению, – и в этом роде неоднократно, препровождая при письме составленную им для напечатания брошюру: „Напоминание православным христианам о повиновении властям, выписанное из Св. Писания“, ибо оно, при содействии Божием, послужит на пользу многих душ и отечеству»[285].
Начало своей просветительно-издательской деятельности о. Арсений положил выпуском в свет целого ряда брошюр, в свое время с большим интересом читавшихся русскими людьми и разошедшихся по Руси в громадном количестве экземпляров, под заглавием: «Описание знамений и исцелений благодатию Божией бывших от святых мощей и части Животворящего Древа Креста Господня, принесенных со Святой Афонской Горы из русского Пантелеимонова монастыря», с указанием тех губерний, по которым проследовала афонская святыня. По этим брошюрам русский народ хорошо ознакомился с прибывшею к нему издалека святынею и с целебною силою ее для всех, кто с верою и молитвою к ней притекает. Большие хлопоты и непрерывная переписка о. Арсения со старцами по поводу составления жизнеописания Богоматери, издания в свет акафиста и службы в честь великомученика Пантелеймона и других падают на этот первый период его издательской деятельности. Более усиленная и более плодотворная просветительская деятельность русского Пантелеимоновского монастыря начинает развиваться, по окончании уже путешествия о. Арсения по России, или вернее, после устроения в 1873 году особой часовни во имя св. великомученика Пантелеймона при Богоявленском монастыре на Никольской улице в центре Москвы, где афонская святыня была помещена на более или менее постоянное пребывание. С этого времени Арсений сделался, можно сказать, безвыездным почти обитателем нашей первопрестольной столицы и с увлечением и жаром своей живой и энергичной натуры отдался высокому делу служения, религиозно-нравственного просвещения своих соотечественников. Литературным и издательским трудам о. Арсений, посреди своих сложных и суетливых обязанностей по должности доверенного большой русской обители на Афоне, отдавал весь свой небольшой досуг, все свободные часы короткой ночи и суетливого дня, нередко изнемогая под тяжестью принятого на себя труда[286]. Наконец, с 1878 года, когда решено было издавать ежемесячник с заглавием «Духовная Беседа», эта просветительно-издательская деятельность принимает характер строго систематический и делается правильно-периодической. Ежемесячник русского Пантелеимоновского монастыря, изменив свое заглавие несколько раз, продолжает существовать и до настоящего времени с заглавием «Душеполезный Собеседник», которое было усвоено издателями своему журналу с 1888 года.
Книжно-издательская деятельность русского пантелеимонова монастыря
Издательская деятельность Пантелеимоновского монастыря становится непрерывно-периодической со времени основания в 1878 году ежемесячного издания «Душеполезные размышления», которое продолжается и до настоящего времени, с переименованием в 1888 году в «Душеполезный Собеседник».
Программа афонского ежемесячника довольно обширна и любопытна. Она состоит из следующих VII отделов: I) Уроки слова благодатного: краткие выдержки из св. Писания, книг святоотеческих и из богослужебных книг; II) Церковно-исторические сведения о святынях и древностях Востока и особенно Святой Горы Афонской, о святых местах русской земли, отрывки из путешествия по оным и т. п. Рассказы из жизни святых, жизнеописания подвижников благочестия, воспоминания о них, поучительные случаи из их жизни; III) Назидательное чтение: душеполезные случаи и рассуждения о разных предметах веры и жизни христианской, краткие изъяснения некоторых мест Св. Писания и некоторых богослужебных обрядов и песнопений церковных, краткие слова и поучения, духовные стихотворения; IV) Из дневника православного христианина: проявления благодатной силы Божией в чудесных знамениях от святых мощей и икон и поучительные явления промысла Божия в разных знаменательных обстоятельствах жизни христианина; V) Золотые блестки: краткие поучительные мысли и изречения о разных предметах веры и благочестия; VI) Библиография: сведения о книгах и картинах духовного содержания и объявления о них и VII) Афонская летопись: краткие известия о выдающихся события х на Святой Горе Афонской и особенно в русской обители св. великомученика Пантелеймона. В издании помещаются рисунки, соответствующие содержанию статей, изображения святых икон, виды монастырей, портреты замечательных и выдающихся деятелей Православной Церкви и т. п. Кроме того при издании этом в качестве приложения, в виде отдельных брошюр и листков, печатаются статьи по всем отделам указанной программы. Листки и брошюры эти, печатающиеся в количестве от 35 000 до 40 000 экземпляров назначаются обителью для даровой раздачи поклонникам и для бесплатной рассылки подписчикам «Душеполезного Собеседника».
Ежемесячник русского Афоно-Пантелеимоновского монастыря печатается в количестве 22 000 экземпляров, а рассылается подписчикам и благодетелям обители в количестве 13 000 экз., 6 раз в год, по два выпуска сразу. Причина этого последнего явления кроется в чрезмерной дешевизне годовой подписной цены на ежемесячник. Из рубля серебром годичной платы с пересылкою за ежемесячное издание в два печатных листа русская Пантелеимоновская обитель, при нынешнем способе рассылки своего издания – шесть раз в год, тратит только на почтовые расходы одну четверть подписной цены (24 коп., считая на каждую бандероль две двухкопеечные марки). Принимая во внимание эти расходы, также на пересылку, на печать, бумагу, клише для рисунков, не считая расходов на гонорар, ввиду того, что печатаемые в издании статьи большею частию даровые, не платные, «Душеполезный Собеседник» для русского Пантелеимоновского монастыря в материальном отношении приносит чистый убыток. Вознаграждением для него служат безыскусственная сердечная благодарность со стороны бесплатных его читателей, наших русских паломников, и сознание, что монастырь служит великому делу религиозно-нравственного просвещения своих соотечественников, нередко и последнюю копейку посылающих в монастырь на его нужды. Эти трудовые лепты, а равно и прямая материальная поддержка настоящего издания со стороны некоторых состоятельных «благотворителей» дают возможность обители шире и шире развивать свою просветительно-издательскую деятельность с каждым годом.
Количество подписчиков «Душеполезного Собеседника», а равно и такие факты, как переиздание его вторично за годы 1878–1881 и троекратное повторение издания за 1882 год, – все это, по нашему мнению, служит весьма наглядным доказательством того, что запрос на подобное издание, интерес к нему в среде русского народа существует несомненный. Имея же в виду разнообразие программы издания, а равно и добросовестное, по мере возможности, выполнение ее со стороны издателей, можно думать, что читатели и подписчики этого издания находят в нем для себя полное удовлетворение. Но мы с своей стороны не можем не пожелать этому родоначальнику, так сказать, и прототипу подобных изданий у нас на Руси в Троице-Сергиевской лавре в Москве, в Печерской лавре в Киеве и др., возможно более широкой известности среди нашей интеллигенции и большого распространения среди русских грамотных людей вообще. Для достижения того и другого, по нашему мнению, нет надобности изданию русского Пантелеимоновского монастыря, имеющему в виду не корыстные расчеты, а служение великому делу нравственно-религиозного просвещения русского народа, прибегать к широковещательной рекламе, как средству весьма обманчивому и ненадежному, но достаточно лишь несколько оживить и разнообразить содержание самого ежемесячника. Наши desiderata по отношению к этому изданию не выходят за пределы вышеуказанной программы в объеме перечисленных семи отделов, но мы желали бы видеть в изданиях русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне побольше фактов и известий из текущей афонской жизни, которая находит, говорим откровенно, довольно слабое отражение в «Душеполезном Собеседнике». Любопытнейший отдел программы – афонская летопись не появляется на страницах этого издания нередко два-три месяца и вовсе не потому, чтобы на высотах Афона не совершилось за это время ничего достопримечательного, достойного внимания читателей «Душеполезного Собеседника», чтобы в этом избранном месте безмолвия и высших подвигов отшельничества и на самом деле были «тишь и гладь и Божья благодать», но потому, что издатели усвоили себе правило делиться со своими читателями известиями лишь «о выдающихся событиях на Святой Горе Афонской», и притом «особенно в русской обители св. великомученика Пантелеймона». А так как с точки зрения смиренно-иноческой заслуживают особенного внимания лишь «проявления благодатной силы Божией в чудесных знамениях от святых мощей и икон и поучительные явления промысла Божия в разных знаменательных обстоятельствах жизни христианской», то отсюда все внимание издателей обращено на этот четвертый отдел программы их издания, и все житейское, повседневное и скоротечное, предпринимаемое и совершаемое по потребностям их немощной плоти, предается забвению, считается недостойным внимания благочестивых читателей, ищущих «душеполезного» назидания. Сюда, например, на страницах афонского издания не нашло себе места такое выдающееся событие, имеющее за собою длинное прошлое и тяжелые последствия в настоящем, как состоявшееся распоряжение афонского протата о выселении светских торговцев, художников и т. п. людей, много повредивших доброй репутации некоторых из слабейших насельников Святой Горы. Оповестив в свое время своих читателей о пожаре в Симоно-Петрском монастыре, уничтожившем этот монастырь до основания, «Душеполезный Собеседник» ни словом не обмолвился о его возрождении и о первой литургии, совершенной в день Рождества Христова истекшего (1892) года в возобновленном храме. Известие это далеко не лишнее для русских людей ввиду того обстоятельства, что его игумен о. Неофит, проживший в России два года для сбора милостыни на возобновление своей обители, успел приобресть в среде русских людей симпатии к себе и сочувствие к тяжелому положению бесприютной братии. Последовавшее недавно распоряжение Св. Синода о дозволении Кутлумушскому монастырю сделать сбор милостыни в России, по нашему мнению, возлагает нравственный долг на издателей ознакомить русских людей с историческою судьбою этого монастыря и ее действительными нуждами. Сделать это тем более необходимо, что разрешение сбора милостыни последовало, как нам известно, не без участия русского Пантелеимоновского монастыря. Выдающиеся события в жизни других греческих и особенно славянских монастырей Афона, судьба русских келлиотов и события в их жизни – все это интересный материал для афонской летописи, могущий дать популярность этому изданию и завоевать обширный круг читателей. Интерес к подобного рода сведениям у нас существует несомненный, чем объясняется и успех известного журнала «Паломник» и множество описаний путешествий по Востоку, печатающихся не только на страницах духовных, но даже и наших толстых светских журналов.
Высказывая свои desiderata относительно оживления и полноты седьмого отдела, мы рекомендовали бы издателям дать иную постановку и шестому отделу – библиографии. Нелишне знакомить читателей с выдающимися изданиями религиозных книг и духовных картин, но гораздо важнее, по нашему мнению, для читателей афонского издания знать, что и как пишется у нас об Афоне. Ввиду частого появления у нас очерков, описаний и путешествий по Святой Горе на страницах журналов и отдельных изданий, от кого и прежде всего русские люди могут ожидать правильной оценки, верного освещения явлений из современного быта святогорских насельников, как не от самих афонцев на страницах их издания. Авторитетное их слово, сказанное с любовью к истине, заградит уста многим из тех наших туристов-паломников, которые берутся писать об Афоне, побыв там две-три недели или даже всего несколько дней. Опять-таки мы желаем, чтобы русский народ видел Афон в его настоящем свете и именно в издании афонском, а не сквозь призму современных предрассудков против монашества под углом зрения легкомысленного верхоглядства.
Далее. Сообщая «рассказы из жизни святых, жизнеописания подвижников благочестия, воспоминания о них» во втором отделе, нам думается нелишне было бы в этот отдел ввести и сведения о жизни и подвигах современных афонских анахоретов и иноков, если не здравствующих, то по крайней мере уже отошедших в вечность. Иначе говоря, мы желали бы, чтобы в «Душеполезном Собеседнике» дано было видное место некрологии, причем в этот отдел попадали бы не только «выдающиеся» лица по своему положению в обители, как например игумены, духовники, экономы и т. п., а выдающиеся, в собственном смысле этого слова, иноки своими духовными подвигами, высокою аскетической жизнью, каковыми могут быть портари (привратники), вордупари (погонщики мулов), находящиеся на послушании на мельнице, в дохиарном (вещевом) складе и проч. Иноческая афонская жизнь – весьма сложная в своих проявлениях, а поэтому и рядовые братчики многочисленной монашеской семьи, низшие исполнительные органы власти игумена, могут и действительно нередко являются воплотителями то той, то иной стороны этого высокого идеала. Весьма естественно, следовательно, что своей жизнью, которая часто представляет в прошлом целую сложную драматическую эпопею, они могут давать читателям «Душеполезного Собеседника» весьма назидательный урок. В этом мы можем указать на один из тех тридцати рукописных сборников, оставшихся после о. Мины, в котором содержатся биографии всех иноков русского Пантелеимоновского монастыря. Некоторые из этих биографий по своему интересу произвели на нас глубокое впечатление, и мы свободно могли бы указать им место на страницах афонского ежемесячника. Признаемся, мы не без сожаления отмечаем тот факт, что «Душеполезный Собеседник» не помянул добрым словом таких выдающихся своих иноков, как бывший антипросоп о. Нафанаил и о. регент Григорий, много и с великою пользою потрудившихся на благо своей «метании».
Наконец, мы желали бы, чтобы в IV отделе было отведено место описанию особенностей церковно-богослужебной практики современного Афона. Знакомство с этою стороною афонской жизни в одинаковой мере будет интересно и для мирян и для нашего духовенства, особенно монашествующего. Ввиду живого отношения к подобным вопросам на самом Афоне в среде тамошних «типикарей»[287], между которыми в затруднительных случаях существует даже письменный обмен мыслей, весьма интересно было бы видеть на страницах афонского издания решения по возникшим недоуменным случаям в области церковно-богослужебной практики со стороны этих компетентных судей по данным вопросам. Многое могло бы быть принято даже и в нашу практику.
Но все эти «pia desideria» могут осуществиться лишь под тем условием, когда во главе издания станет любитель и артист своего дела, способный вдохнуть в издание «душу живу». Нужно иметь в виду, что успех в России так называемых «троицких листков» всецело зависит от таланта и замечательной энергии и преданности делу их нынешнего редактора о. архимандрита Никона.
От афонского ежемесячника мы переходим к обозрению отдельных изданий русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне за весь период времени с 1850 года по настоящее время. Спешим, однако, оговориться, что мы не имеем в виду предлагать здесь нашим читателям утомительный подробный перечень этих изданий, из коих некоторые уже не печатаются и даже в продаже не встречаются. Скажем только, что из этих изданий образовалась ныне уже почтенная библиотека, с составом которой желающие могут ознакомиться по «Каталогам[288] книг, изданных афонским русским Пантелеимоновским монастырем», которые печатаются отдельными изданиями и рассылаются всюду желающим из их книжных складов при подворьях в Москве, Петербурге и Одессе. Мы постараемся лишь классифицировать эти издания по предметам, дать краткую характеристику каждого и указать степень распространенности того или иного издания среди русской читающей публики, как она выражается в цифровых данных – количества изданий и количества экземпляров печатаемых при издании. Питаем уверенность, что таким образом мы наглядно и убедительно для наших читателей представим действительную картину живой и в высшей степени плодотворной просветительной и издательской деятельности нашей Пантелеимоновской обители на Афоне.
В ряду многочисленных изданий этой обители первое место принадлежит бесспорно экзегетическим толковательным трудам по Св. Писанию покойного епископа Феофана, а равно и его многочисленным переводам восточных отцов аскетического направления. Экзегетические труды епископа Феофана приобрели ему почетную известность в нашем богословском мире, а переводные творения пользуются широкой известностью среди даже мирян, любителей духовно-нравственного чтения. Из этих последних заслуживают упоминания «Слова Симеона нового Богослова» в 2-х в. (два издания, 2-е изд. в 2500 экз.), «Невидимая брань Никодима святогорца» (5000 экз.), «Каллист Патриарх и сподвижник его Игнатий, Ксанфопулы» (1000 экз.) и «Добротолюбие» в 5 томах (по 3000 экз. каждый том). Капитальнейшим трудом преосвященного Феофана можно считать последний. В его «Добротолюбие» вошли извлечения о монашестве из творений таких отцов, которые дотоле не находили себе места в издании того же наименования. Но этого мало. Четвертый том его «Добротолюбия» является совершенно новым для русских читателей, так как он составлен исключительно почти из катехизических поучений Феодора Студита в его «Большом Катехизисе». Оригинал в пергаменной рукописи XI в. (271 поучение) взят был из Патмосской рукописи, при посредстве проживающего там на покое в Иоанно-Богословском монастыре бывшего пелусийского митрополита Амфилохия. Остается лишь пожалеть, что эти поучения переведены не в целом виде, а лишь в извлечениях, по личному вкусу просвещенного отшельника-переводчика. Нельзя пройти молчанием и собственных аскетических сочинений епископа Феофана, пользующихся большей распространенностью и известностью в среде русских читателей, как, например, «Путь ко спасению» (шесть изданий по 5000 экз.), «Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни», «Письма о христианской жизни» в 4 частях, «О покаянии, причащении Христовых Таин и исправлении жизни» (3 издан.), «Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия» (2 изд. по 5000 экз.), «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» (2 изд.), «Что потребно покаявшемуся и вступившему на добрый путь спасения» (2 изд. 4000 экз.) и др. В том же отделе аскетических изданий нужно отметить «Цветник духовный» (3 изд.), «Черты деятельного благочестия» (4 изд. в 5000 экз.), «Пролог в поучениях. Св. В. Гурьева» (в 6000 экз.), «Псалтирь или богомысленные размышления св. Ефрема Сирина» (5 изд. в 5000 экз.), «Творения Антония великого» (1000 экз.), Аввы Исаии (1000 экз.), Исихия пресвитера иерусалимского (6 изд. в 10 000 экз.) и др.
Второе место принадлежит сочинениям о Святой Горе Афонской, чрез которые русский народ знакомился со Святою Горою и бытом ее насельников. Таковыми нужно считать: «Письма святогорца о Святой Афонской Горе» в 4-х частях (6 изд. в 10 000 экз.), «Афонский патерик» (6 изд. в 3000 экз.), «Путеводитель по Святой Афонской Горе» (подробный) (6 изд. по 10 000 экз.), сокращенный (3 изд. в 8000 экз.), «Святая Гора Афон, земной удел Божией Матери, местность и обитатели ее» (10 изд. в 10 000 экз.), «Второе посещение Святой Афонской Горы В. Григоровичем-Барским (1000 экз), «Русский Пантелеимоновский монастырь» (7 изд. в 5000 экз.), «Акты русского на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеймона», «Очерк русского на Афоне Пантелеимонова монастыря (6 изд. в 10 000 экз.), «Описание знамений и исцелений от Афонской святыни» (5 изд. в 10 000 экз.) и др. Сюда же к этому отделу нужно отнести издания, трактующие о жизни и прославлении Богоматери как покровительницы Афона, и жития святых угодников и подвижников, прославившихся на Афоне. Таковы издания: «Сказание о земной жизни Пресвятой Богородицы» (6 изд. в 5000 экз.), «Избранные слова святых отцов в честь и славу Пресвятой Богородицы» (3 изд.), «Слава Богоматери» по сочинениям митрополита Филарета» (3000 экз.), «Вышний покров над Афоном или сказания о чудотворных, на Афоне прославившихся, иконах Божией Матери и святых угодников Божиих» (7 изд. в 5000 экз.), «Сказание о чудотворной иконе Божией Матери, именуемой Иерусалимской, находящейся в русском на Афоне Пантелеимоновом монастыре» (3 изд. в 5000 экз.), «Обетования Богоматери благоговейным насельникам Святой Горы» (7 изд. в 10 000 экз.) и др., «Житие, страдания и чудеса св. великомученика и целителя Пантелеймона» (9 изд. в 10 000 экз.), «Св. великомученик и целитель Пантелеймон» (13 изд. в 10 000 экз.), житие Дмитрия Солунского (5 изд. в 10 000 экз.), житие Афанасия (5 изд. в 10 000 экз.) и Петра афонских (5 изд. в 5000 экз.), житие Саввы Сербского (3 изд.), житие преподобномучеников Евфимия, Игнатия и Акакия, на Афоне подвизавшихся (2 изд. в 15 000 экз.). В связи с этими книгами и брошюрами стоят издания акафистов, например, Божией Матери «Троеручицы» в Хиландаре (3 изд. в 5000 экз.), «Достойно есть» в Карейском соборном храме (2 изд. в 10 000 экз.), «Скоропослушницы» в Дохиаре (3 изд. в 10 000 экз.), со службою в честь той же иконы (в 3000 экз.), св. великомученику Пантелеймону (12 изд.), Савве Сербскому и др. Для знакомства с современными подвижниками Афона имеют значение брошюры: «Афонские современные подвижники» (8 изд. в 10 000 эк з.), биог рафические очерки старцев Иеронима (10 000 экз.) и Арсения (3 изд. в 3000 экз.) и др.
Что же касается мелких брошюр религиозно-нравственного содержания, то перечислить их нет никакой возможности. С их разнообразием по содержанию наши читатели ознакомлены в начале настоящей главы в двух примечаниях, в которых мы указали содержания связок, раздаваемых на Афоне богомольцам «в благословение Святой Горы на память». Все эти брошюры печатаются большей частью в количестве 10 000 экземпляров и только некоторые спускаются до 3000 эк земпляров, но зато между ним и есть брошюры, которые печатаются 40 000 экземпляров, как например, «Беседа преосвященного Никанора, бывшего херсонского и одесского архиепископа в неделю Блудного сына, при поминовении раба Божия Александра (поэта Пушкина) по истечении 50-летия после его смерти», его же «Поучение о театральных зрелищах в Великий пост», его же «Беседа о том, что не следует христианским проповедникам опровергать все лжеучения» в 30 000 и 25 000, как например, «Козельщанская Божия Матерь», «Беседа о пьянстве»[289] (3 изд.), «Какой вред приносит человеку табак?» (3 изд.) и «Бросьте курить!», «О вреде курения табаку для здоровья» (3 изд.), в количестве 15 000, как например, архиепископа Никанора «Поучение о вегетарианизме».
Зная хорошо, что в среде благочестивого русского народа с издавна рассеиваются лжеучителями раскола и разных сект семена неправого учения и что пастыри Русской Церкви делают много усилий для борьбы с ними, русский Пантелеимоновский монастырь решился прийти на помощь им в этой борьбе своим и изданиями. Обителью с этой целью были изданы в 60-х годах весьма полезные для борьбы с расколом сочинения гуслицкого игумена Парфения: «Виноград церковный», «Вертоград духовный», «Меч духовный», «Обличение ответов» и др., печатались противораскольнические брошюры, как например: «Пути провидения в жизни одной благочестивой женщины, совращенной в раскол и опять возвратившейся в Православную Церковь» (1 изд. 1886 г. в 25 000 экз.) и др.
Для борьбы с молоканами, штундистами и вообще с последователями рационалистических сект обитель выслала из среды своей миссионера о. иеромонаха Арсения, бывшего молоканина, который своею неустанною деятельностью приобрел себе почетную известность, и в помощь русскому духовенству для той же борьбы напечатала два тома его «Бесед православного христианина с молоканами» о храме и об иконах (оба тома уже выдержали 3 издания по 3000 экз.) и другие его брошюры: «Лжехристы монтано-молоканские Иван Григорьев и Григорий Верещагин» (3 изд. в 3000 экз.), «Письма к новообратившимся из разных сект раскола» (7 изд. в 10 000 эк з.), и иных авторов: «Вразумление заблудшим» (7 изд. в 10 000 экз.), «Вразумление заблудшим и исповедь обратившихся от заблуждения» (4 изд. в 3000 экз.) и др. 14 протипосектантских брошюр о. Арсения выдержали уже три издания и печатались всякий раз не менее 3000 экз. и не свыше 7000 экз. С тою же целью обитель печатает в 13 брошюрах учение о разных догматах христианской веры по книге митрополита Стефана Яворского «Камень веры». И эти брошюры, как и первые, выдержали уже три издания, но печатаются большей частью в 5000 и 10 000 экземпляров.
Появление в России секты «пашковцев» побудило обитель переиздать «Открытые письма старосты Исаакиевского собора г. Пашкову» в количестве 25 000 экземпляров, и усилившееся в последнее время увлечение в среде русского интеллигентного общества философско-моральными брошюрами графа Толстого, которые распространялись путем рукописей и литографий, вызвало необходимость издать в целых десятках тысяч ряд бесед покойного архиепископа Никанора, направленных к опровержению воззрений маститого литератора, облекшегося на склоне своих лет в несвойственную ему тогу философа-моралиста.
Вообще ни одно из крупных явлений нашей внутренней политической или религиозной жизни не проходило не замеченным нашими афонскими иноками, которые чутко даже до болезности прислушиваются ко всему тому, что происходит внутри их хотя и покинутого, но все же еще близкого их сердцу дорогого отечества. Они охотно и с самоотвержением всегда готовы откликнуться всеми зависящими от них способами на нужды его в данное время. Через афонские издания за весь сравнительно еще не длинный период их просветительно-издательской деятельности посеяно не мало добрых семян на невозделанной еще и обширной ниве нашего народного религиозно-нравственного просвещения. Красноречивыми выразителями народной благодарности и ценителями громадной пользы для него от изданий русского Афоно-Пантелеимоновского монастыря являются наши архипастыри, содействующие этому великому делу народного просвещения своими собственными литературными трудами, появляющимися на страницах афонских изданий. «Лично я, – писал один из здравствующих ныне сибирских иерархов в Пантелеимоновский монастырь по поводу кончины игумена архимандрита Макария, – не имею счастия знать кого-либо из вас (т. е. братии монастыря), но ваша свято-подвижническая жизнь, ваши денно-нощные молитвы, ваша просветительная деятельность, столь много приносящая пользы России, невольно и душу и сердце мое влекут к вам; дух мой часто-часто привитает между вами. Считаю себя счастливым и навсегда остаюсь признательным, что и мои убогие лепты не выброшены из драгоценного венка ваших душеполезных изданий, венка, обнимающего все наше отечество, – изданий с необыкновенною любовью и назиданием читаемых Россиею. О, продолжайте, продолжайте это великое дело, превышающее, по моему мнению, всякую лично-составную миссию. Жатва теперь многа, и делателей, как всегда, мало. Но будем молиться, да изведет Господин жатвы, если не на жатву, так на сеяние свое деятелей, которые будут исполнять слова Премудрого: „Сей рано, сей поздно, ибо не знаем какое взоидет и плод принесет“»[290].
Кто же эти делатели жатвы, руками которых «сплетен драгоценный венок душеполезных изданий, обнимающий все наше отечество?» Большинство из них, как и весьма естественно ожидать, не афонцы, люди, приобретшие почетную известность в отечестве своими литературными трудами. Вот имена некоторых из этих деятелей: митрополит сербский Михаил, архиепископы одесские и херсонские Никанор и Дмитрий, епископы Феофан, Иустин, Мисаил и Петр, архимандриты Антонин (начальник Иерусалимской Миссии), Леонид (бывший начальник Троице-Сергиевской лавры в Посаде) и Никон (нынешний издатель Троицких листков), протоиерей Н. И. Флоринский (киевский), М. Путинцев, Касьянов, И. Полисадов, священники В. П. Гурьев, Н. Румянцев, Дударев, Н. Воинов, иеромонахи Серафим (московского Андрониевского монастыря), Стефан (Куртеев из Вятки), покойный Аскоченский, проф. Ф. А. Терновский, известный библиограф и поэт С. И. Пономарев, А. Ф. Ковалевский, П. Кременецкий, Г. Русаков и др. Но некоторые и из афонских иноков среди нощеденственных молитв, келейных правил и трудов своего послушания, возлагаемых на них условиями общежительных порядков, строго наблюдаемых в обители, короткие часы досугов посвящали и доселе посвящают литературным трудам, которые появляются на свет Божий в афонских изданиях. Некоторые из них составили себе даже литературную известность, как например иеромонах-святогорец Серафим[291], старец Азария[292], духовник Иероним, иеромонах Арсений (бывший заведующий афонским Пантелеимоновским подворьем в Москве), миссионер иеромонах Арсений и игумен Парфений (бывший Переяславский). Затем внесли свои литературные лепты в афонскую сокровищницу покойный о. архимандрит Макарий[293], здравствующий монах Аркадий, о. грамматик и библиотекарь Матвей, монах Михаил (бывший после архимандритом Казанской Раифской пустыни), архимандрит Паисий[294] (начальник неудавшейся Абиссинской миссии), о. иеромонах Владимир, монах Селевкий и монах Пантелеймон (впоследствии архимандрит Киренского Тобольского монастыря).
Из названных отцов – афонских иноков, труды которых издавались русским Пантелеимоновским монастырем, совершенно новыми личностями для наших читателей являются только о. иеромонах Владимир и монах о. Аркадий. Первый, новгородской губернии уроженец, человек молодой, весьма начитанный в святоотеческой литературе, симпатичный по характеру, с любовию и усердием исполнял свое послушание, которое заключается в заведовании и распоряжении из монастыря относительно монастырских изданий. О. Владимир постоянный и, можно сказать, единственный корреспондент с Афона в «Душеполезный Собеседник». Отдел в этом ежемесячнике под названием «Афонская летопись» принадлежит исключительно перу о. Владимира.
О. Аркадий почтенный старец из вятских семинаристов. Замкнутый и весьма скромный от природы Аркадий остался в скромном звании простого инока в течение всей своей многолетней жизни в обители, отказываясь от рукоположения во иеромонахи, не раз ему предлагаемого старцами обители. Глубокий знаток древнегреческого языка и прекрасный каллиграф, он весь свой досуг от молитв и иноческих подвигов посвящает келейным книжным занятиям. Его усердием не мало сделано переводов с древнегреческого языка для афонских изданий и славянских служб на греческий язык для типикарницы Пантелеимоновского собора и употребления в богослужебной его практике. О. Аркадий весьма искусный составитель служб и акафистов по разным случаям на церковно-славянском языке.
Что же касается остальных афонских иноков-писателей, то с биографическими сведениями большинства из них наши читатели ознакомлены в шестой главе настоящего очерка. Здесь же мы намерены остановить их внимание лишь на двух иноках-писателях – о. Селевкии и Пантелеймоне, которые выдаются из остальных афонских иноков и своеобразностию своей натуры и судьбою своих литературных детищ.
Об о. Селевкии мы говорили выше, как о сборщике милостыни в России, до поездки с тою же целию известного о. Арсения. В число иноков-писателей о. Селевкий помещен, потому что от него остались напечатанные им самим составленные записки под заглавием: «Рассказ святогорца схимонаха Селевкия о своей жизни и о странствовании по святым местам» (СПб., 1860). В Ярославле, во время пребывания с святынею «я, – пишет об этих записках Селевкий, – на боку лежучи, писал по ночам, на своей лежаночке, – больше на память, о том, что случилось со мной с самого детства, или от колыбели – до этой лежанки (с. 236). Некий «раб Божий» исправил эти записки и переписал набело. В этих записках очень много находится сведений об Афонской Горе и характеристик современных о. Селевкию иноков ее. Самый рассказ о событиях, им описываемых, отличается необыкновенным простодушием и откровенностью, граничащей с детской наивностью. Краткие характеристики знакомых ему афонских иноков, помимо своеобразного подбора тех или иных черт характера и образа жизни описываемой им личности, наивны до смешного и прямо соблазнительны для благочестивого читателя[295]. Не удивительно поэтому, что книжка эта, хотя и написана автором по просьбе «благодетелей» «в пользу русского Пантелеимоновского монастыря, особенно нуждавшегося в пособии», как напечатанная без благословения старцев, не была одобрена в обители и даже присуждена к сожжению. В настоящее время «Рассказ» о. Селевкия представляет «библиографическую редкость» даже на Святой Горе в обители.
«О. Пантелеймон, – пишет о. Селевкий, – молодой монах. Он из приказчиков. Простота его удивительная. Он любит читать, петь и писать, ко всем любезен, кроток и молчалив»[296]. В общем характеристика эта для молодых лет о. Пантелеймона довольно верная, но характер его резко изменился в период его возмужалости, когда, благодаря своим дарованиям, он, как главный секретарь монастырской канцелярии, приобрел некоторый вес и влияние на течение дел монастырских. Оказалось, что под личиной кротости, молчаливости и даже простоты скрывались далеко не симпатичные стороны его характера – гордость и непомерное честолюбие[297], заставившие его покинуть мирный Афон и искать удовлетворения в обителях нашей православной Руси. Желание его сердца исполнилось, и о. Пантелеймон скончался в сане архимандрита Киренского тобольского монастыря. Что касается отмеченной о. Селевкием в о. Пантелеймоне «любви к писательству», то она, можно сказать, была болезнию его, которую о. Иероним и о. Макарий в письмах к проф. Ф. А. Терновскому называли прямо «литературным зудом». О. Пантелеймон своими рукописями заваливал покойного Ф. А. Терновского и просил его исправлять и печатать, по личному выбору и где угодно. Он никогда не просил гонорара, но заказывал отдельные оттиски для раздачи своим благодетелям, у которых он собирал довольно солидные суммы на издание своих сочинений. Некоторые рассказы о. Пантелеймона о современных афонских подвижниках, после исправления их рукою Ф. А. Терновского, печатались частию в «Воскресном чтении», частию в «Киевских Епархиальных Ведомостях», а иногда и отдельными брошюрами. В рассказах своих о. Пантелеймон не был чужд наивности и легковерия, а посему производил на читателей Святой Горы не вполне благоприятное впечатление. В письмах старцев с Афона к покойному Ф. А. Терновскому часто встречаются просьбы поудержать ревность о. Пантелеймона к литературной славе. Но все попытки сдержать неистощимого любителя «писателя» разбивались о его упорство и не достигали своей цели, пока о. Пантелеймон не получил полный простор для своей литературной деятельности, сделавшись начальником упомянутой обители. Но писал ли что-нибудь о. Пантелеймон по выходе из состава братии Пантелеимоновского монастыря, мы, к сожалению, не можем сказать.
В видах расширения издательской деятельности, с одной стороны, а с другой – из желания послужить опять-таки делу народного образования своего отечества, старцы русского Пантелеимоновского монастыря много заботились о приведении в должный порядок и благоустройстве монастырской библиотеки и на это не щадили никаких жертв. Поэтому монастырская библиотека, состоявшая в начале поселения русских в обители в 1844 году всего только, как свидетельствовал покойный проф. В. И. Григорович[298], из 500 печатных книг и 60 рукописей, достигла ныне весьма почтенных размеров: в ней считается около 20 000 печатных книг и свыше тысячи рукописей. Пополнение библиотеки продолжается, благодаря усердию и любви к книжному делу нынешнего библиотекаря о. Матвея. Растут оба отдела ее, и книжный и рукописный: монастырь выписывает много книг из-за границы и из России и не упускает случая приобретать рукописи, как бы велика ни была просимая за них цена. Благодаря всему этому, библиотека русского Пантелеимоновского монастыря, приведенная в образцовый порядок, может быть поставлена ныне наряду с лучшими святогорскими библиотеками Ватопеда и лавры св. Афанасия, и благодаря редкому и поистине русскому гостеприимству нынешних ее владельцев, по первому желанию своих гостей открывающих ее двери, она, можно сказать, единственная на Святой Горе. Русские ученые вполне оценили эти преимущества библиотеки русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне и с удовольствием нередко проводят близ нее, под гостеприимным кровом обители, свои летние каникулы. Желание этих ученых – одно, чтобы описание рукописей этого монастыря, составленное о. библиотекарем, увидело бы свет Божий в возможно скором времени.
Наконец, тому же святому делу народного образования в нашем отечестве русская Пантелеимоновская обитель не мало послужила и путем денежных пожертвований на нужды наших духовно-учебных заведений в губерниях московской, петербургской, херсонской, на Кавказе и в других губерниях нашего отечества. Все наши просветительные миссионерские общества, благотворительные и т. п. получали вспомоществования от русского Пантелеимоновского монастыря, и игумен его считается постоянным членом. Мы не уполномочены объявить те цифры, какие обитель ежегодно жертвует на это святое дело служения благу Отечества, хотя некоторые из этих крупных цифр нам и известны. Впрочем, эти десятки тысяч, которые мы могли бы назвать здесь, едва ли показались бы достаточными для тех «из современников века сего», которым монастырские кассы кажутся бездонными, а крестьянские копейки, жертвуемые в монастыри, несметными сокровищами… Что же касается истинно-просвещенных русских людей и настоящих радетелей нашего народного просвещения, то для них заслуги этой обители были несомненны. Покойный архиепископ Херсонский Никанор, ходатайствуя о награждении о. Макария орденом св. Анны второй степени, полученным им всего за несколько месяцев до смерти, мотивировал свое ходатайство пред Св. Синодом заслугами его в деле религиозного и духовно-нравственного просвещения русского народа.
В заключение настоящей главы считаю весьма нелишним коснуться и закулисной стороны просветительно-издательской деятельности русского Пантелеимоновского монастыря. Здесь нас лично, впрочем, интересуют не материальные затраты монастыря на вышеуказанные издания, хотя эти затраты немалочисленны и не лишены поучительности, не те бесконечные хлопоты и труды издателей по собиранию и переводам материалов, какие печатались и печатаются в издаваемых ими брошюрах и листках, а те коллизии и неприятности, какие неожиданно и часто вопреки правде выпадали и выпадают на долю издателей и доселе. Знакомство хотя бы то и в общих чертах, так как известные нам детальные подробности не подлежат еще публикации, с одной стороны, рельефнее оттенит эту высокую просветительную деятельность нашего русского монастыря на Афоне, а с другой – объяснит причину, почему афонские издания появляются на свет Божий в своем настоящем виде, а не в том, в каком бы желали их видеть некоторые из русских людей.
В самом начале издательской деятельности иноки русского Пантелеимоновского монастыря вынесли много неприятностей по поводу издания ими книги под заглавием: «Описание знамений и исцелений благодатию Божиею бывших от св. мощей и части Животворящего Древа Креста Господня принесенных со Святой Афонской горы из русского Пантелеимоновского монастыря». Противником этой книги явился знаменитый покойный московский митрополит Филарет, строго следивший в свое время за печатной духовно-нравственной литературой[299]. Выговор владыки имел по следствием своим то, что афонцы в последующее время были весьма осторожны с подобного рода изданиями и приступали к ним после серьезных и всесторонних обсуждений[300].
Дело издания журнала на самых первых порах встретило также неожиданные для обители и инициаторов его препятствия. Поводом послужило название журнала «Духовной Беседой». «Благословите, – писал о. Арсений к старцам обители по поводу выхода в свет первой книжки журнала. – Сделано начало давнишнего моего предположения об издании журнала. Заглавие ему как-то неожиданно устроилось – „Духовная Беседа“. Прилагаю два листка. Думаю в год книжек 10 издать, если Бог поможет»[301]. О. Арсений и не подозревал, что, давая это название нарождавшемуся журналу, являлся невольным посягателем на чужую собственность. Дело в том, что под тем же самым названием издавался в Петербурге журнал известным проповедником покойным протоиереем Яхонтовым, который теперь и предъявил свои права и претензии по отношению к о. Арсению. В силу этого обстоятельства лишь два первые выпуска афонского журнала вышли в свет с заглавием «Духовная Беседа», а следующие третий и четвертый получили новое наименование: «Душеполезная Беседа». Но этим инцидент с заглавием не был исчерпан. Петербургская цензура нашла почему-то неудобным и это второе название, и поэтому пятый выпуск журнала получил название «Пасха Господня» и не имел на себе пометы, что он составляет продолжение предыдущих четырех выпусков. С шестой книжки журнал русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне стал издаваться регулярно с заглавием «Душеполезные размышления», каковое только в 1888 году было изменено в настоящее: «Душеполезный Собеседник».
Каждая почти из больших книг, изданных на средства русского Пантелеимоновского монастыря, имеет свою, и нередко длинную и поучительную, историю. Целыми годами делались подготовления и велась переписка с всевозможного рода лицами по поводу таких книг, как «Акты русского Афонского Пантелеимоновского монастыря», «Жизнь Пресвятой Богородицы», «Чудеса св. великомученика Пантелеймона» и др. Нередко поручения, как например, составление жизни Иисуса Христа по Евангелию, переходили от одного лица к другому, делались расходы на предварительную подготовку к изданиям и в конце концов дело оканчивалось без успеха полным прекращением. Но часто и по выпуске той или иной книги выпадало на долю издателей не мало хлопот и даже огорчений. Мы не говорим уже о таких изданиях, как например, книга «О знамениях и чудесах, бывших от св. великомученика Пантелеймона», против которой, как мы сказали, за несоблюдение формальностей вооружился покойный митрополит Московский Филарет, или книга: «Христианские песнопения Пресвятой Царице Небесной Приснодеве, Деве Марии Богородице, составленные по подобию псалмов», новое печатание которой впредь воспрещено особым указом Св. Синода за № 5288 по той причине, что «книга эта заключает в себе целый ряд песнопений и молитв, составленных по тексту библейских псалмов с произвольным отнесением содержания их к лицу Богоматери», что «она напечатана без испрошения на то синодального разрешения». Кары, понесенные издателями в этих и других случаях, выпали на их долю не без их вины и потому с ними легко мириться. Но в истории просветительной издательской деятельности данной обители были такие случаи, когда она должна была за свое доброе дело нести совершенно незаслуженную кару и подвергаться даже несправедливым нареканиям. К числу подобных случаев мы относим недавно окончившееся дело по изданию Пантелеимоновскою обителью некоторых сочинений покойного херсонского архиепископа Дмитрия (Муретова). Здесь вся правда на стороне обители, но в конце концов в выигрыше осталась не она.
Дело это документально происходило так. Здравствующий ныне епископ Тобольский Иустин, в бытность свою еще викарием Херсонской епархии при покойном архиепископе Дмитрии, стоял к последнему в близких отношениях и, по старости высокопреосвященного, исполнял роль его душеприказчика. «Родные (к сожалению, они не названы по имени) в Бозе почившего Дмитрия, архиепископа Херсонского, – писал 10 сентября 1888 года преосвященный Иустин на Афон в Пантелеимоновскую обитель, – поручили мне собрать для полного издания все творения его, а за труд собрания дали право напечатать некоторые из них, по моему избранию. Не имея времени, охоты и средств к самоличному изданию оных, осмеливаюсь предложить вашему высокопреподобию, не благоволите ли издавать их в вашем поистине „Душеполезном Собеседнике“». То же самое предложение, но в более определенной форме, повторил преосвященный Иустин в письме на Афон того же года 28 декабря. «Семьдесят статей из сочинений того же архиепископа Дмитрия, выбранных мною, – писал в этом письме епископ Иустин, – и расположенных в семи выпусках, под названием „Цветы из сада Дмитрия архиепископа херсонского“ (я отправляю вам). В таком виде я хотел сам издать их, но нашел это для себя неудобным. А потому передаю их и право на издание их вам, издавайте как хотите: так ли, как они собраны – книжками, или же отдельными статьями. То и другое будет весьма полезно, по моему мнению». Предложение это было принято и семь выпусков «Цветы из сада Дмитрия, архиепископа Херсонского» были напечатаны и поступили в книжные склады для продажи. Но тут неожиданно для обители выступил с протестом некий надворный советник С. П. Никитский, приобретший в свою собственность право издания всех сочинений покойного Дмитрия, архиепископа Херсонского, от ближайших родственников покойного (от племянника и родного брата) и дело грозило перейти в формальный судебный процесс. Но обе стороны, к счастию, вовремя пришли к соглашению, и Пантелеимоновская обитель за 1000 рублей от С. Н. Никитского приобрела себе право издания сочинений покойного Преосвященного Херсонского. Правая сторона осталась несомненно в материальном проигрыше, утешаясь мыслью, что она аромат этих прекрасных цветов из сада знаменитого витии и богослова разнесет по всему лицу широкой Руси, чего никогда не сделали бы «собственники» этих цветов и наполовину.
О других подобного рода столкновениях мы не говорим потому, что они вполне естественны и известны всякому и хотя несколько причастен тяжелому делу издательства, в котором поставляется на первый план не меркантильный расчет, грязный барыш и нажива, а служение великому делу религиозного и нравственного просвещения своего народа, ищущего света истины, и высокое сознание: «аще кто сотворит и научит, сей велий наречется в Царствии Небесном».
Глава XIII Последние годы жизни о. Макария
Нощеденственное, непрерывное и чинное богослужение, со строгим выполнением уставов церковного и монашеского, по воззрению русского народа, составляет неотъемлемую принадлежность всякого благоустроенного монастыря, и тем более монастыря святогорского, по самому своему исключительному положению располагающего своих начальников к неусыпной молитве и непрестанным духовным подвигам. Русский набожный человек, вечно занятый заботою о куске насущного хлеба и редко поэтому имеющий возможность уделять время на продолжительную молитву, рисует в своем представлении всякого монаха ангелоподобным человеком, отрекшимся от мира и всех его прелестей, строгим подвижником, неустанным молитвенником не столько о себе и о своих немощах, сколько о немощах присных ему по духу и плоти. Не удивительно поэтому, что во многих религиозных наших семействах, не утративших веру в идеального монаха, является и доселе весьма часто желание иметь хотя бы то и одного молитвенника-монаха из своей среды. Это желание весьма нередко высказывается даже целой деревнею, известным околотком и даже городом. В этой-то вере в идеального монаха, в воззрениях нашего народа на монастыри вообще и нужно искать объяснение того факта, что русский народ любит монастыри, охотно посещает их, хотя бы они находились на отдаленных окраинах нашего отечества или за границей, выстаивает благолепные и продолжительные богослужения без скуки и несет в них часто последнюю свою трудовую копейку. Понимая хорошо все эти требования и запросы русского народа по отношению к монастырям, покойный о. игумен Макарий всячески старался удовлетворить им, с целью поддержать в нашем народе веру в идеальное монашество. Безусловное подчинение строгому уставу общежития, введенному в обители, точное выполнение церковного устава за богослужением, которое обычно совершалось неспешно, с торжественною религиозною церемониальностию и прекрасным исполнением мощными голосами древнецерковных мелодий и местных афонских напевов – все это требовалось безусловно от великосхимника до новоначального монаха, желающего пребывать в числе братии русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне. Сам покойный игумен своим личным примером безукоризненно точного выполнения установленных в обители порядков и уставов побуждал к тому же меньшую братию.
Первый удар колокола, призывающего братию в 12 часов к пробуждению от короткого сна и к исполнению келейного[302] правила, нередко заставал покойного игумена за делами прошедшего дня или же за обширной корреспонденцией; спешно тогда завершало игумен свои нескончаемые дела и немедленно становился для исполнения келейного правила. Призыв била церковного, предваряющего обыкновенно звон в колокол пред началом всякого богослужения, побуждал старца быть в храме, в особой келейке на хорах, на своем месте, до начала богослужения, здесь он выстаивал обыкновенно всякую утреню с полунощницею, а в праздничные дни все всенощное бдение, которое длится обычно по 12 часов, не присаживаясь даже и в положенное по уставу время, так как не имел для этого ни минуты свободного времени. «Двери небольшого параклиса (комнатки) в Покровском соборе, за которые один за другим, без отдыха для духовника, входили желавшие исповедоваться, – пишет И. Ф. Красковский по личному наблюдению, – осаждались такою плотною толпой монахов и поклонников, что пот катился по их лицам. По два, по три часа дожидались очереди, лишь бы только проникнуть за эти заветные двери и «у самого батюшки» исповедаться. Трудно, пожалуй, этому поверить, но это факт, что отец Макарий, особенно поклонников, иногда по часу и более времени исповедовал, за то и исповедь эта была такою, какую у латинян называют «генеральной». О. Макарий не допрашивал о грехах, особенно по требнику, как это делают некоторые неопытные или небрежные духовники, а исповедующийся сам во всем сознавался вследствие одного намека прозорливого старца, глядевшего таким ласковым, всепрощающим, но в то же время глубоким взором, что тот невольно чувствовал пред собою присутствие Всеведущего и Всемилосердного, но и Карающего, а потому содрогался душой и падал ниц в трепетном сознании своей греховности. Некоторые поклонники приезжали на Афон нарочно для того только, чтобы исповедаться у о. Макария[303].
После окончания продолжительной утрени, когда начиналась ранняя литургия, о. Макарий уходил в свою келлию, вычитывал там правило пред причащением и за час до звона спускался в назначенный им самим параклис или храм для совершения поздней литургии. Ежедневное совершение литургии или, по крайней мере, приобщение Святых Таин после литургии было потребностью его души; и тяжелым для себя несчастием считал покойный игумен, если болезнь или какие-нибудь исключительные обстоятельства в жизни обители мешали ему приготовиться к этому великому священнодействию. Два часа он лично совершал проскомидию и, при своей редкой памяти, поминал на ней всех тех, с кем когда-либо в жизни сталкивали его обстоятельства. Вся присутствующая в это время братия обязана была вычитывать объемистые монастырские синодики. Самая литургия, совершаемая покойным неторопливо, с редким благоговением и торжественностию, с замечательной для семидесятилетнего старца бодростию, длилась обыкновенно два-три часа и на всех присутствующих за богослужением производила чарующее и навсегда неизгладимое впечатление. Это продолжительное богослужение однако не освобождало покойного старца от некоторых других добровольно принятых на себя обязательств, т. е. от совершения второстепенных молитвословий или последований, которыми он до конца своей жизни предварял и оканчивал всякую свою литургию. Так, например, перед началом литургии он совершал молебен о здравии благодетелей и всей братии обители и по преимуществу о братии, находящейся на различных монастырских «послушаниях», причем последних поминал поименно на память, и после литургии служил панихиду за всех умерших в обители и за благотворителей ее. Иногда он переносил панихиду на начало, а молебен служил после литургии, но то и другое совершал неопустительно каждый день.
Окончив длинную службу, по преимуществу в дни праздничные, когда богослужение в обители бывает особенно продолжительно, покойный игумен с юношескою бодростию входил в гостиную в верхнем этаже монастырских зданий и с самою добродушною улыбкою приветствовал находящихся налицо гостей с праздником или же добрым утром. Ни вздоха, ни тени жалобы на усталость никто не слышал от него, а по его светлому, сияющему очаровательной улыбкой лицу нельзя и подумать, что этот старец провел всю ночь без сна. Чашечка кофе с лимоном, стакан холодной воды с вареньем и рюмка домашнего фруктового рому – вот утреннее подкрепление старца. Удар колокола, призывающего братию в трапезную, побуждал игумена спешить туда же. От трапезы общебратской покойный о. Макарий никогда не удалялся и изменял ей изредка по вечерам и притом в таких случаях, когда присутствие игумена на трапезе в архондарике было положительно необходимо.
Возвращение о. игумена в свою келлию после обеда ожидалось обыкновенно с нетерпением массою ксиромахов – афонских монахов бедняков и келлиотов, явившихся к доброму старцу за подаянием и с разного рода пустынническими нуждами. С терпением и любовию выслушивались им просьбы их, давались необходимые наставления и разъяснения и удовлетворялась почти без отказа всякая их нужда. Долго потом после приема у игумена не затворялись двери монастырской рухальной (вещевой склад), из которой по карточкам, с лаконическими надписями на них: «ряска», «рубаха», «башмаки» и т. п. выдавались, с благословения игумена, нужные предметы для афонских бедняков. После приема чужих являлись к игумену свои братья с разного рода своими нуждами и потребностями, как вещественными, так и духовными, ища у него вразумления, научения и наставления относительно «искушения помыслов», «немирностей» и т. д. О. игумен старался удовлетворить каждого по его желанию, не подавая вида, что устал или желает отдохнуть. Прием просителей прекращался обыкновенно келейником о. Иоанном, всей душой преданным своему старцу-игумену. Удалив просителей, ожидающих своей очереди от дверей игуменской келлии, он обыкновенно объявлял игумену, что просителей более уже нет, запирал двери келиина ключ, который нередко и брал с собою, и таким образом укладывал старца на покой[304]. За час до вечерни о. Макарий выпивал стакан чаю и снова продолжал прием просителей.
Во время вечерни покойный игумен сам лично читал акафисты, установленные в Пантелеимоновской обители на каждый день. После ужина, если полагалось две трапезы[305], и следовавшего за ним повечерия, старец-игумен принимал очередных иеромонахов, диаконов, типикарей, повара, лиц, находящихся на различных послушаниях, выслушивал от них отчет за истекший день и делал им новые распоряжения на следующий день. Этих посетителей сменяли монастырские духовники, эконом, секретарь и вообще старшие из братии. С ними обыкновенно обсуждались важнейшие текущие дела монастыря. Старцы обители уступали в свою очередь место почетным посетителям или гостям обители, ищущим случая побеседовать с игуменом наедине о предметах духовных. За этими беседами незаметно проходила короткая монашеская ночь, и с «повесткой» в 12 часов ночи на «канон» неусыпный игумен нередко начинал новый день своей трудовой жизни без отдыха. Если не было подобных посетителей, то игумен удалялся в свою канцелярию и там двум или трем писцам одновременно диктовал ответные письма благотворителям и друзьям обители. Сам он, по болезни глаз, писал редко и отвечал лишь на секретные и духовные письма.
Первый в храме Божием и вечно занятый монастырскими делами, покойный игумен бывал первым и на монастырских послушаниях. Приедет ли судно с хлебом, привезут ли в снопах сено, после торжественной встречи с крестным ходом о. Макарий снимал свою ряску, спускался в трюм судна и черпаком насыпал зерно в мешки, а братия, ободренная примером игумена, быстро таскала эти мешки в обширные монастырские кладовые. И здесь за этою работой в духоте, под палящим солнцем он оставался иногда добрую половину дня. Нередко видела братия своего игумена и с мешками или снопами сена на плечах. На резку винограда он выходил первый, а затем уже следом шли любящие его духовные чада.
О своих монашеских обязанностях о. Макарий ни на минуту не забывал даже и во время, так сказать, своих развлечений, которые он дозволял себе по совету докторов и по убеждению старцев. Садясь на мулов, чтобы побывать в других монастырях Афона или на пароходике обители, чтобы подышать чистым морским воздухом и посмотреть на свое взлелеенное детище «Кру миц у», лишь только монастырь скрывался из виду путешественников, о. Макарий подавал знак к начатию вечерни; и пароходные матросы или спутники его на мулах верхом при закате солнца вычитывали положенное по уставу вечернее богослужение. Всякий привал или остановка на ночлег служили местом приготовления к литурии, а раннее утро следующего дня проходило у него в ближайшем храме в служении обычно продолжительной литургии.
В таких постоянных заботах и трудах на благо вверенной его попечению обители, которой он посвятил лучшие годы своей жизни и недюжинный ум, и в неусыпной молитве о себе и о дорогой его любящему сердцу России провел о. Макарий почти все сорок лет своей иноческой афонской жизни. Светлых и поистине счастливых дней было не много в его тяжелой и трудовой жизни, но тем они были для него дороже, ценнее, тем глубже они запечатлевались в его памяти, хранившей сладостные воспоминания о них даже на закате дней его земного поприща. Такими днями для него были дни приездов на Афон членов нашего царствующего дома: великих князей Алексея Александровича, Константина Константиновича и великой княгини Александры Петровны и приснопамятных благодетелей и покровителей обители, наших послов при Оттоманской Порте графа Н. П. Игнатьева, А. И. Нелидова и др. В эти знаменательные дни своей жизни покойный старец игумен особенно оживал духом и старался исчерпать все доступные для него и обители средства, чтобы проявить по отношению к дорогим гостям чувства трогательной глубокой преданности, беспредельной радости и сердечной благодарности, какими были переполнены сердца каждого инока обители от игумена до последнего послушника. Навстречу дорогим гостям к самому морю выходил игумен в этих случаях с крестным ходом, со множеством иеромонахов и иеродиаконов в дорогих блестящих облачениях. По обеим сторонам пути от моря до самой монастырской порты, устланного лавром, миртою и цветами, стояли многочисленные иноки в своих монашеских одеяниях, с глубоким поклоном приветствовавшие дорогих гостей. Торжественный звон монастырских доброгласных колоколов приветствовал вступление гостей в обитель, за порогом которой их ожидали невиданные и поразительные зрелища. Небольшой, но изящный по своей архитектуре, Пантелеимоновский собор, приняв праздничный вид своим убранством, горел тысячами огней, возженных не только на подсвечниках и паникадилах, но даже на хоросе[306], который для выражения особенной радости и торжества обители приводился в качательное движение, представляя глазам зрителей невиданную у нас картину игры света, и в широко раскрытые церковные двери принимал под свои своды прибывших на Афон посетителей. Краткая торжественная литания в честь дорогих гостей, многолетие с провозглашением имен их и с ответом на него со стороны стройного многоголосного монастырского хора производят неотразимое чарующее впечатление на гостей, которых радушный хозяин обители приглашал потом в монастырский архондарик (гостиную), чтобы, по русскому обычаю, напоить их чаем и угостить монастырским хлебом и солью.
Вечером того же дня для дорогих гостей, а главным образом для команды пароходов, на которых они прибыли по распоряжению игумена, совершалось «бдение», по афонскому обычаю, продолжающееся чрез всю ночь, с целью всем и каждому из приезжих дать возможность помолиться пред мощами святого угодника и целителя Пантелеймона. За всенощным бдением сам игумен вычитывал акафист св. Пантелеймону и исповедовал каждого, кто желал назавтра приступить к принятию Св. Таин. Затем пред расставанием с гостями игумен являлся на пароходы, служил напутственный молебен, оделял всех и каждого от царственных и высокопоставленных особ до последнего кочегара на пароходе книгами, брошюрами, видами Афона, крестиками, ложечками и четками, сделанными руками афонских анахоретов, и, снабдив всю команду и пароход необходимою провизиею на дорогу, с благопожеланиями и благословением отпускал их в «водное шествие».
Эти приезды к Афонской Горе царственных особ, лиц высокопоставленных и военных пароходов давали возможность русским людям ближе присмотреться к светлой личности покойного игумена, о котором большинство знало лишь по слухам от других, заглянуть хотя бы то и раз в жизни вглубь его нежной и любящей души, поддаться обаянию его простой задушевной речи по вопросам религии или о предметах вседневной жизни и унести на память с собою дорогой образ этого великого неусыпного молитвенника за Русь православную, за весь русский народ. Для обители св. Пантелеймона и самого о. Макария эти короткие большей частью визиты были высокою честию и создавали мощных покровителей и друзей в среде сильных мира сего. До самой кончины о. Макарий состоял в переписке с некоторыми из членов нашей Императорской Фамилии.
Много скорбей и неприятностей, как мы уже знаем, пережил покойный о. Макарий в первые годы своей иноческой жизни на Афоне, но не мало их выпало на его долю и при конце ее. Первым тяжелым ударом для него была потеря нежно любимого им старца духовника о. Иеронима, которому он беззаветно был предан, как любящий покорный сын[307]. С его потерей о. Макарий почувствовал себя одиноким, бессильным, беспомощным, и жизнь дальнейшая показалась ему бесцельной, ненужной. С этого времени, по замечанию лиц его окружающих, он заметно осунулся, физически одряхлел.
Но не успела зажить первая рана в добром сердце покойного игумена, как Провидение послало ему новое испытание, не менее тяжкое. В ночь с 6 на 7 августа 1887 года около 3 часов пополуночи, когда вся братия находилась за утренним богослужением и готовилась начать торжественное величание в честь русского святителя Митрофания Воронежского, которому в обители посвящен небольшой соборный храм, над алтарем храма Покрова Пресвятой Богородицы от неизвестных причин загорелась нижняя, переполненная старьем комната. Пламя чрез слуховое окно под крышей быстро пробилось наружу и зловеще осветило весь монастырь. Раздались частые удары набата, и монастырь, дотоле спокойный, зашумел и заволновался. Начавшаяся суета прекратила богослужение. Вскоре затем провалился потолок над алтарем, и пламя через царские двери проникло в средину храма, который, будучи четьмовой[308] македонской постройки, быстро охвачен был огнем. Среди густой тьмы ночи багровое пламя морем разливалось по новому корпусу монастырских зданий, истребляя один за другим параклисы и братские келии, и бросало свой яркий блеск на окружающую монастырь местность[309]. Братия, особенно помоложе, превратившись на время в пожарную команду, оказывали чудеса храбрости и отваги, появляясь с пожарными трубами то в одном, то в другом опасном месте. Уже пронесли на носилках несколько человек, получивших страшные ожоги и раны, в братскую больницу, но энергия братии нисколько не ослабевала. Посреди всеобщей сумятицы и толкотни резко выделялась приземистая фигура покойного игумена, одетого в плохенькую рясу, по которой ниспадала густая, длинная, седая борода. Старец стоял неподвижно, как бы застыв на месте, и держал своими сухими, дрожащими руками поднятую чудотворную икону Иерусалимской Божией Матери, с глазами полными слез, обращенными к небу. Вот где покойный искал спасения своему любимому монастырю, объятому теперь ярким пламенем.
Но лишь только с вершин Афона заблистали первые лучи восходящего солнца, озарившие печальную картину пожара, который стал к утру мало-помалу ослабевать, о. Макарий, измученный нравственно и физически волнениями пережитой страшной ночи, передал святыни Афона на руки о. иеродиакона Тихона и дал распоряжение о начатии литургии. Старец экклесиарх опытною рукою на ручном биле пробил повестку, искусный звонарь ударил «во вся тяжкая» по случаю храмового праздника, и посреди шума и суеты началась обычная монастырская жизнь. Для служения литургии о. Макарий назначил собор святителя Митрофания, стоящий вблизи горевшего корпуса и потому все время находившийся в большой опасности, которая окончательно еще не миновала и в эту минуту. Облачившись вместе с двумя другими иеромонахами, о. Макарий по обычаю совершил продолжительную проскомидию, неторопливо, с особенным воодушевлением и стараясь казаться спокойным, при случайно собравшихся певчих, отслужил литургию и молебен празднуемому святителю, причем в конце его прочитал молитву над коливом. Не обнаружил о. Макарий особенного волнения за литургиею даже и в то время, когда раза два от падавших сверху горящих бумаг и досок загоралась паперть Митрофаниевского собора.
По окончании литургии, когда пожар был уже потушен, о. игумен по обычаю посетил архондарик и затем, в простой черной в знак скорби и печали, мантии[310] с посохом в руках отправился в трапезу, где его с нетерпением ожидала измученная, проголодавшаяся братия. Трапеза была праздничная. После трапезы, по случаю храмового праздника, братии было предложено коливо (сухая кутья), причем старец взволнованным голосом в утешение братии сказал следующее слово:
«Возлюбленные о Господе отцы и братия! Господу во Святой Троице славимому Богу благоугодно было посетить праведным своим гневом нашу обитель и лишить нас нашего духовного пристанища – священного храма нашего Пресвятой Богородицы. Принимая постоянно от десницы всеблагого Владыки нашего вся благая, приимем ныне с благодарением и противная сему: Его отеческое наказание, яко чада есмы. Ибо, по слову апостола, мы наказываемые являемся чадами Его, аще же без наказания пребываем, яко прелюбодейчиша есмы. Возблагодарим же создателя нашего, яко чада Его есмы мы, которых Он посетил отеческим своим наказанием для смирения нашего. Да не превозносимся же впредь и да не взыскиваем иных причин, кроме наших немощей и неисполнения обязанностей наших пред Господом. Пусть каждый из нас проверит совесть свою и тогда, при свете ея, увидит ясно свои недостатки. А потому прошу и убеждаю вас, отцы и братия, не упрекать друг друга и не пересуживать, ибо, что постигло нас, есть совершенно распоряжение наказующей десницы Божией за нехранение своих обязанностей и священных обетов иноческих пред Ним, начиная от моего недостоинства и простираясь на всех и каждого из нас. Постараемся паче всего, при помощи благодати Божией, за молитвы Царицы Небесной, сознать и исправить наши немощи и недостатки, кои каждому скажет собственная совесть, и понесем смиренно и братолюбно посетившее нас испытание: одинакова ли преданность ваша Ему во дни благополучия и злополучия? Господь Бог и Спаситель наш Иисус Христос благодатию и щедротами своей благости, молитвами Пресвятыя Владычицы Богородицы и святых предстателей наших да укрепит нас в благодушном терпении и послушании Его воле, ей же вручаю и предаю всех вас и самого себя».
Слово это, произнесенное о. Макарием с сильным волнением в голосе и прерываемое слезами, будучи проникнуто чувством полной покорности и преданности воле Провидения, произвело на слушателей глубокое впечатление.
Из трапезы о. Макарий вместе с некоторыми из влиятельнейших старцев обители отправился на место пепелища, где рабочие были заняты уборкою мусора, горелых балок и железных связей уничтоженного в пламени храма. Когда они по лестницам, переполненным мусором, поднялись вверх и вошли в то место, где находился алтарь сгоревшего соборного храма, то всех их поразило следующее зрелище. Престол, который был все время среди самого страшного пламени, стоял совершенно невредимым на своем месте: на нем лишь в двух или трех местах прогорела шелковая индития. Даже деревянный иконостас остался почти в полной сохранности, попортилась лишь его позолота, тогда как рядом с этим валялись в бесформенной массе расплавленные железные цепи, медное паникадило и железные толстые связи. Эта картина произвела на игумена, старцев и многих из любопытствующих и окруживших их братий столь сильное впечатление, что многие, под влиянием религиозного экстаза, стали рвать священную индитию на престоле с целью сохранить куски ее на память об этом необыкновенном явлении. Игумен Макарий, под тем же впечатлением, тут же высказал желание, чтобы престол храма оставался нерушимо на своем месте и в будущем храме, к постройке которого было немедленно приступлено. «Если Божия Матерь сохранила все это невредимым, – сказал о. Макарий, – то мы не вправе нарушить что-либо из сего».
На это печальное событие многие из братий посмотрели, однако, далеко не так, как внушал им игумен Макарий в вышеприведенном слове, а стали подыскивать свои объяснения причин постигшего несчастия и тем подали повод к толкам и брожениям умов в обители. Этого сорта иноки поставили данное событие в прямую причинную связь с совершенно случайным явлением, имевшим место в обители накануне, т. е. 6 августа[311], и стали даже обвинять игумена в нарушении якобы заветов глубокой старины. Об этом покойный игумен, хотя и знал, но выжидал времени, чтобы выступить с сильным словом обличения и положить всему конец. Случай к этому представился скоро же.
29 августа с юго-западной стороны Афона показались густые облака дыма, ясно видимые и в Пантелеимоновском монастыре. По ним сейчас же догадались, что монастырь постигло новое несчастие: горел на огромном пространстве лес благоустроеннейшего метоха обители «Крумица». Для тушения страшного пожара были отправлены многие из братий обители, которым после громадных усилий едва удалось потушить огонь только на четвертый день[312]. На следующий день, т. е. 30 августа, по окончании торжественной литургии и благодарственного молебна по случаю тезоименитства Государя Императора, когда братия, по обычаю, собралась в архондарик, чтобы приветствовать игумена, последний, поблагодарив братию за поздравления и пожелав Государю Императору счастливого и долголетнего царствования, обратился в ту сторону архондарика, откуда были видны клубы густого дыма, и, окинув всех присутствующих глазами, полными слез, прерывающимся от волнения голосом произнес: «Братия, имейте любовь между собою и постигающие нас несчастия принимайте с покорностию воле Божией безропотно». В тот же самый день, по окончании братской трапезы, о. Макарий счел благовременным обратиться к братии с особым словом вразумления и утешения.
«Вот и нас, братия, – говорил между прочим игумен, – в полунощи совершенно неожиданно для нас постигло огненное посещение от десницы Господней, привело нас в скорбь и страх своим угрожающим пламенем, истребляя на глазах наших наше главное молитвенное пристанище и жилище наше. И Господь весть, чем окончилось бы сие посещение, если бы Сам Он, наказующий и в самом наказании милующий, не остановил бы Своею десницею огненное стремление. Слава долготерпению Его к нам многогрешным! Слава щедротам Его человеколюбия!
Сие посещение послано было нам ради исправления и покаяния нашего. Но, к несчастью, не вняли мы воззванию Божию, не исполнили Его хотения. Вместо покаяния, вместо внимания к своей собственной совести и исправления собственных немощей, многие из нас, братия, начали изыскивать вины в других, приписывая Божие наказание как бы случаю, обвиняя того и другого из ближних и не сознавая истинной причины сего посещения – общей нашей неисправности пред Богом и несоблюдения обязанностей священного монашеского звания. Не того хотел и требовал Господь от нас. Жертва Богу дух сокрушен, а среди нас возник дух ропота, недовольства, изыскивания вины не собственной, а ближних. Так мало проявилось в нас любви братской и смиренного самообвинения. Посему мы навлекли на себя и вторичное наказание праведного Господа, снова вразумляющего нас и зовущего на покаяние. Возблагодарим долготерпение и щедроты Отца нашего небесного и потщимся ныне внять его отеческому наказанию. Смиренным признанием своих немощей укротим злоречивый язык наш, скорый на пересуды ближнего; сокрушением сердца, вниманием к сему монашескому званию, взаимною братскою любовию, преклонением на милость Господа; престанем от духа ропота и неудовольствия; исповедуем пред Господом свои собственные немощи и недостатки, последуя примеру святого апостола Павла, именующего себя первым из грешников; соединимся братскою любовию, и сия любовь соединит нас с Господом, ибо сказано: „В мире место Его“. И Сам Спаситель наш устами своими нам вещает в божественном Евангелии: „По сему узнают вси, яко мои ученицы есте, аще любовь имате между собою“».
Слово это произвело на присутствующих глубокое впечатление, и толки по поводу первого пожара в обители затихли совершенно.
Пережитые треволнения не прошли бесследно для нервно-впечатлительной натуры о. Макария, который, и после этого печального события хотя по-прежнему бодрился и старался нисколько не отступать от установленного им образа жизни, но силы видимо для всех начали изменять ему, он заметно ослабел, а в январе 1888 года слег даже в постель. Болезнь его приняла столь угрожающие симптомы, что не только окружающие о. Макария, но даже и он сам лично стал думать о близости своей кончины. Неожиданно, однако, для всех произошел перелом в болезни: о. Макарий быстро начал поправляться. Любящая братия и врачи теперь настойчиво советовали ему, во-первых, не утомлять себя чрезмерно монастырскими делами и пощадить свои слабые силы ради блага обители и для сего рекомендовали ему избрать преемника себе по управлению обителью и мало-помалу ввести его в круг тех сложных обязанностей, какие должен нести игумен такой обширной обители, какой считается ныне русский Пантелеимоновский монастырь на Афоне; во-вторых, реже служить литургии, по крайней мере не более трех раз в неделю, и, в-третьих, наконец, чаще делать поездки на Крумицу и вообще быть вне своего монастыря. Но из всех этих советов близко к сердцу о. Макарий принял первый, т. е. избрать и подготовить себе по игуменству преемника. Ему хорошо было известно, что между братством идут уже давно оживленные толки относительно возможных кандидатов на игуменский трон русского Пантелеимоновского монастыря, причем некоторые из представительных старцев обители решают этот трудный вопрос не без личных вожделений. Не желая поэтому задевать чье-либо самолюбие, о. Макарий решился результат выборов всецело отдать на волю Божию. Для сего сначала были намечены кандидаты из представительных старцев обители, с честию и усердием долгое время потрудившиеся для нее и пользующиеся в среде братства авторитетом и уважением. В число этих кандидатов попали о. архимандрит Иерон, игумен Симоно-Канонитской Ново-Афонской обители на Кавказе, о. Иларион, строитель этой обители, а ныне эконом ее, о. иеромонах Павел, эконом Пантелеимоновского монастыря на Афоне, о. Рафаил, духовник обители, о. Нафанаил, антипросоп монастыря, о. Михаил, доверенный монастыря в Ростове-на-Дону, о. Андрей и о. Виссарион, духовники обители. Из них о. Иерон и о. Михаил, как находившиеся вне обители, прислали письменные отказы еще перед выборами, имена же остальных шести кандидатов решено было подвергнуть избранию путем вынутия жеребия. Имена эти были написаны на бумажках и положены в ковчег из-под мощей св. великомученика, который и поставили на престол Покровского соборного храма. Пред вынутием жребия, по желанию о. Макария, был наложен на всю братию пост, совершены три всенощных бдения в честь Святой Троицы, Богоматери, великомученика Пантелеймона и дневного святого с произнесением нарочитых прошений, в которых все молились о том, чтобы Господь по сердцу своему избрал вождя многочисленному братству русского Пантелеимоновского монастыря. На третий день, после литургии, глубокий старец, иеромонах Авель, по приказанию о. Макария вынул из упомянутого ковчега один из шести билетиков с именем о. А ндрея, в миру Алексея Веревкина.
Когда имя избранника было провозглашено вслух всего братства, о. Андрей со слезами стал умолять игумена и братию снять с его слабых плеч непосильное иго, для несения которого у него нет ни силы, ни разумения. Обрадованный счастливым исходом выборов старец Макарий сказал в утешение избраннику: «Теперь, о. Андрей, не время отказываться. Не мы тебя избрали, а Сам Господь Бог, следовательно, ты, и к тому же монах, не должен противиться воле Божией». Смолк избранник при этих словах игумена-старца и земно поклонился всей братии в знак благодарности за оказанную честь. Вся братия, взволнованная предшествующими избранию толками и пораженная неожиданностью выбора, с радостию и в веселии вышла из храма и спешила на перерыв к старцу-игумену, чтобы поздравить его с счастливым выбором и пожелать избраннику мирного и благополучного управления игуменством на многие лета. Радость и ликования в обители были искренние и общие. Игумен и ревнители дальнейшего процветания славной Пантелеимоновской обители радовались, будучи уверены, что порядки жизни, завещанные и насажденные старцами, при новом игумене будут храниться нерушимо и обитель может спокойно идти по пути дальнейшего мирного преуспеяния.
Что касается других советов братии и специалистов докторов, то на них о. Макарий обратил весьма мало внимания. Сначала после болезни он несколько раз ездил на Крумицу, но всегда на очень короткое время, так как, привыкши к обители и постоянному труду, он тяготился бездеятельностью и неизвестностью за судьбу горячо любимой им братии. Возвращаясь из этих поездок, он с свойственною его темпераменту горячностию принимался за монастырские дела и исполнение всех своих сложных обязанностей по игуменству и уходил в них так, что забывал о себе и о своем здоровье. Когда кто-либо из братии напоминал ему заботиться о здоровье, о. Макарий с улыбкою говорил: «Я пожил уже достаточно, с меня довольно, пора и на покой, а если я вам нужен, то молитесь Богу, чтобы Он подкрепил меня».
К такой неустанной и энергичной деятельности, помимо врожденной любви к ней, у покойного игумена были побуждения и в обстоятельствах внешних данного времени, чувствительным образом отразившихся на материальном благосостоянии монастыря. Такими обстоятельствами нужно считать: 1) страшную и неожиданную бурю на море в день храмового Покровского праздника, во время которой были разбиты монастырские суда, стоявшие в виду обители на якоре, и выброшен на берег и разбит монастырский пароходик, находившийся под прикрытием мола, нарочито выстроенного монастырем для его защиты; 2) пожар, истребивший громадный корпус для аргатов или чернорабочих и 3) гибель вследствие аварии большого монастырского судна «Св. Пантелеймон» на Босфоре, шедшего из России с грузом полного продовольствия для обители на целый год и с некоторыми ценными приобретениями для строившегося в ту пору Покровского собора.
Провидению было угодно, наконец, еще раз напомнить старцу, что злоупотребление драгоценным даром Божиим – жизнию – не может оставаться не наказанным. В день Пятидесятницы о. Макарий служил по обычаю свою продолжительную литургию и намеревался приступить к совершению вечерни в честь Святого Духа. Сослужащие старцы, видя утомление о. игумена, стали советовать, чтобы он, по крайней мере, не читал сам длинных молитв, положенных в чине этой вечерни. «Нет, я уже прочту их сам в последний раз», – ответил им категорически о. Макарий и в положенное по уставу время прочел эти молитвы с замечательным воодушевлением, внятно и раздельно. Но лищь только окончилась вечерня, как о. Макарию сделалось дурно, и он на короткое время лишился языка…
Это легкое параличное состояние, как самому о. Макарию так и его окружающим, дало понять, что окончательная развязка – дело недалекого будущего. С этого времени о. Макарий молча и совершенно спокойно начинает готовиться к смертному часу. В последний раз он объехал некоторые монастыри на Афоне, побывал в своих любимых местах – на Крумице и в Фиваиде и, прощаясь с провожавшею его братиею, везде говорил одно и то же: «Ну, уже я у вас в последний раз». Смотря на его ясное и светлое лицо, на его спокойный и веселый тон речи, никому из окружающих старца и в голову не приходила мысль, что эта фраза, по-видимому случайно брошенная, станет скоро делом и они на самом деле не увидят более своего «батюшку» живым. Дома, в монастыре, и у себя в келлии он постоянно говорил всем окружающим его о близкой своей кончине и делал на этот случай соответствующие распоряжения, которые касались как важных сторон монастырского управления и быта, так и некоторых частных чисто келейных дел. Незадолго до своей кончины он дал приказание своему келейнику, чтобы его носильное платье было роздано на порте бедным ксиромахам. Но особенно памятным для братии навсегда останется канун и самый день кончины о. Макария.
18 число июня, приходившееся в 1889 году в следующее воскресение по неделе Всех Святых, совпало, по афонскому уставу, с местным праздником в честь Всех новых святых мучеников, пострадавших во время турецкого владычества. Поэтому положенное по нашему уставу празднество в честь чудотворной иконы Боголюбской Божией Матери по распоряжению о. игумена было перенесено на следующий день, т. е. на 19 июня. Оставить совершенно эту службу не желал покойный игумен, так как названная икона особенно свято чтится на его родине в Туле и пред этою иконою он горячо молился, ища у ней помощи и заступления, пред путешествием своим на Восток. 18 числа о. Макарий совершил литургию в Пантелеимоновском соборе, а после вечерни в приделе св. благоверных князей российских Владимира и Александра Невского прочел празднуемой иконе акафист, вместо обычного по воскресеньям акафиста в честь иконы Иерусалимской Божией Матери, находящейся над царскими вратами Покровского соборного храма, каковою иконою и благословил присутствующую братию. Только на следующий день поняли все, что это было последнее благословенье батюшки и что этим он хотел выразить последнее «прости» своему многочисленному семейству духовных чад, которых, таким образом, он оставлял под покровом Царицы Небесной, как единственной их заступницы и помощницы во всех их нуждах и скорбях.
Вечер этого дня о. Макарий был особенно в благом расположении духа: шутил с приходившими к нему по разным нуждам, был со всеми говорлив более обыкновенного и должного даже, так как предстояло еще окончить почту и отправить ее этою ночью на пароход. Никому из окружающих и в голову не приходило, что эти беседы прощальные, последние беседы, и что назавтра эти сладкоречивые уста навсегда умолкнут. Несколько сосредоточеннее и задумчивее сделался о. Макарий ближе к полуночи, когда почта уже оканчивалась. В это время, ни с того ни с сего, – так, по крайней мере, казалось окружающим его лицам, помогавшим ему в приготовлении почты, – о. Макарий попросил одного из иеромонахов написать письма[313] некоторым таким лицам, с которыми уже давно по разным обстоятельствам была прекращена переписка у обители. Попробовали было возражать, но покойный с нервным волнением в голосе спросил: «Что же, вам не хочется писать?». И тем окончательно обезоружил своих оппонентов. Письма были написаны и по адресам отправлены с той же почтой всего за несколько часов до блаженной кончины старца. Истинный смысл и этого события, как и многих других ему подобных, совершенных покойным как бы случайно, стал для всех ясен и понятен только на следующий день.
Этот последний вечер в жизни о. Макария окончился очень поздно. Пред своим вечным сном он едва ли да же сомкнул гла за. По крайней мере, когда гостинник (архондаричный) о. Валентин после отправлевия почты на пароход пришел доложить о. игумену о вновь прибывших в обитель гостях, то он застал о. Макария в своей келлии дочитывающим первый час…
Для совершения последней литургии о. Макарий без всяких колебаний назначил соборный храм Успения Пресвятой Богородицы. Литургия прошла по обычаю долго, и присутствующие в храме ничего особенного в совершителе ее не заметили, если не отметить особенного его умиления, сопровождавшегося слезами, что, впрочем, бывало нередко и раньше. После литургии о. игумен в обычное время раздал антидор молившимся с ним, затворил царские двери, потребил на жертвеннике часть оставшихся Св. Таин, что он делал всегда, вкусил антидора с теплотою и, омыв руки и уста, отошел с служебником в южную часть алтаря к окну, чтобы вычитать благодарственные молитвы по причащении. Сослуживший ему иеродиакон приступил к потреблению оставшихся Св. Даров и затем занялся уборкою священных сосудов и жертвенника. В это время до его слуха стало доноситься откуда-то хрипение, на которое о. иеродиакон сначала не обратил никакого внимания, но когда это хрипение стало усиливаться, то он, оставив жертвенник, пошел узнать причину его. Так как хрипение слышалось с того места, где находился игумен, то иеродиакон подошел к нему. О. Макарий, закрыв глаза плотно и держась одною рукою за подоконник, на который он склонил свою голову, дышал часто и весьма порывисто с хрипением. Лицо его было бледно и покрыто потом. Сознание хотя и не было еще потеряно, но язык был бездействен. Тотчас о. иеродиакон с подоспевшим в нему на помощь екклисиархом усадили о. Макария в пододвинутое кресло и по данному им знаку стали разоблачать его. Сделанный знак к разоблачению был последним проблеском сознания, которое после того более уже не возвращалось к о. Макарию.
Из храма в келию умирающий игумен был перенесен на ковре. Тотчас явился монастырский фельдшер и стали пробовать все меры, чтобы воротить умирающему сознание. Обратились к кровопускан и ю, но и эт о с редство не улу чш и ло положен и я о. Макария. Умирающий лежал без сознания и без движения, тяжко лишь дыша. Когда прибыли врачи-специалисты[314], за которыми послан был нарочитый гонец сейчас же после удара, то попытались воротить к жизни умирающего электричеством, но и эта попытка оказалась неудачною, как и прежние. Тогда, испробовав, таким образом, все человеческие средства, старцы обители, окружающие постель дорогого больного, решились обратиться за помощию к Единому Врачу душ и телес наших и приступили к совершению таинства елеосвящения. Остальная же братия, лишь только разнеслась по монастырю печальная весть о тяжкой болезни «любимого батюшки», по собственному почину, ударив в колокол, стала служить, как в нижнем Пантелеимоновском, так и в верхнем Покровском соборах молебен о здравии болящего. Все молились горячо и со слезами. Молитв своих о болящем не прекращала братия, и по возвращении из храма, став на добровольный канон и взывая ко Господу Иисусу: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй раба твоего». Но ни в искусстве опытных врачей, ни в молитвах о здравии о. Макарий более не нуждался. Он ждал и просил у своих оставленных им духовных чад молитв об упокоении и переселении его из этой юдоли скорбей и невзгод в недра Авраама, Исаака и Иакова, идеже несть болезнь, печаль и воздыхание, но жизнь бесконечная. В 3 часа пополудни, 19 числа июня, не стало более в живых великого старца русского Пантелеимоновского монастыря, о чем оповестил братию его печальный звон мощного монастырского колокола. Дрогнули сердца русских иноков этой обители, думавших всю свою труженическую жизнь провести под властною охраняющею рукою своего «батюшки». Слезы невольно катились по их суровым изможденным лицам… Звон колокола снова призывал братию на молитву, но уже не о живом, а об умершем. Каждый, осенив себя крестом с словами: «Царствие небесное нашему батюшке-труженику» и оставив свое послушание, спешил ко гробу дорогого усопшего, чтобы вознести свои молитвы о почившем, поклониться его праху и облобызать его похолодевшую десницу.
Покойника одели в монашеские одежды и зашили в мантию, но лицо его, спокойное и даже улыбающееся неземною улыбкою, было оставлено открытым. Как исключение[315], на шею его надета была епитрахиль, а на персях возлежало Святое Евангелие. Таким образом, каждый имел теперь возможность взглянуть на доброе лицо покойника. От гроба покойника вся братия пошла в храмы на слушание панихиды «о новопреставльшемся приснопамятном рабе Божием игумене священно-архимандрите Макарие». Незадолго до вечерни тело покойника, положенное в гроб[316], было перенесено из келлии в Покровский соборный храм, и там началось чтение евангелия, беспрерывно продолжавшееся до самого выноса к погребению. После вечерни в тот же день у гроба покойника была совершена архиерейская панихида епископом Агафангелом, пребывающим на Святой Горе на покое, с многочисленным собором иеромонахов обители. Печальная весть о блаженной кончине руссиковского старца о. Макария быстро разнеслась по всему Афону и проникла даже до подземельев Карулья[317]. Это известие подняло на ноги, можно сказать, всю Святую Гору. Лавра св. Афанасия афонского и монастыри Святой Горы выслали своих представителей в Пантелеимоновский монастырь, чтобы отдать дань должного почтения и уважения к личности усопшего, которого чтил и уважал весь Афон за высокие его качества души и сердца и за его святую подвижническую жизнь, и выразить свое соболезнование братии монастыря, понесшей столь дорогую и чувствительную для нее утрату. Скиты афонские последовали примеру своих монастырей. Настоятели многочисленных келлий, разбросанных по всему Афону, облагодетельствованные покойным о. игуменом или вышедшие из Руссика и считавшиеся его духовными детьми, сочли для себя священным долгом явиться лично в монастырь и поклониться праху дорогого почившего. Кавьеты-ксиромахи и карульские анахореты целыми толпами направились поклониться праху усопшего и помолиться за своего благодетеля, который никогда ни в чем не отказывал этим беднякам при своей жизни и не забыл о них даже и после смерти[318]. Одним словом, в эти дни имя о. Макария было у всех обитателей Святой Горы на устах, и Руссик стал центром, к которому отшельники святогорцы, стар и млад, ехали, шли пешком и даже ползли… Стечение богомольцев было настолько велико, что их не вмещали даже и многочисленные архондарики монастыря. Храмы с утра до глубокой ночи бывали в эти дни переполнены молящимися, а в день самых похорон многим из богомольцев пришлось стоять вне храма, чтобы хотя издали видеть печальную церемонию проводов на вечный покой скончавшегося приснопамятного игумена о. Макария.
Накануне похорон, в 6¾ ч. пополудни, монастырский колокол собрал братию и пришедших на поклонение гостей в храмы к заупокойному всенощному бдению, которое длилось почти семь часов. По шестой песни канона, непосредственно после пения кондака «Со святыми упокой», о. Андрей, преемник о. Макария по игуменству, вместо обычного уставного чтения произнес в похвалу почившего слово, которое произвело на присутствующих глубокое впечатление. В 4¼ ч. утра, 21 июня, началась в обоих соборных храмах заупокойная литургия, причем в Пантелеимоновском соборе литургию совершал епископ Агафангел. Окончивши литургию в верхнем Покровском соборе, священнослужители, по афонскому обычаю, разоблачились и вышли ко гробу в одних епитрахилях. После краткой заупокойной литии, поднявши носилки с гробом на плечи, стали опускаться вниз, чтобы чин погребения совершить в нижнем Пантелеимоновском соборе. Впереди процессии монахи несли фонарь и два запрестольных креста. Процессия двигалась по кривым и узким лестницам многоэтажного корпуса медленно, останавливаясь постоянно перед многочисленными параклисами для совершения литий. Когда, наконец, процессия выступила на монастырский двор, то навстречу ей с хоругвями и крестами вышел из Пантелеимоновского собора преосвященный Агафангел. По совершении краткой литии гроб был внесен в собор и поставлен в приготовленном месте. Владыка вступил на игуменский трон, а все иеромонахи заняли стасидии, по правую и левую сторону его. Количество священнослужителей, пожелавших участвовать в совершении чина погребения, выразилось в таких цифрах: 10 игуменов, 114 иеромонахов и 35 иеродиаконов.
Отпевание, которое о. Андрей предварил кратким словом[319] , продолжалось около четырех часов. Пение непорочных, канона и других песнопений было умилительное и неспешное. На прощание с почившим и последнее целование потребовалось около двух часов времени, так как не только братия и прибывшие из других монастырей, но даже все монастырские рабочие без исключения желали проститься с покойником и шли дать ему «последнее целование». Во время этого прощания участвовавшие в погребении иеромонахи произносили возглас: «Яко ты еси воскресение и живот», предваряемый восклицаниями иеродиаконов «Господу помолимся». После отпевания гроб с крестный ходом был вынесен из храма при печальном перезвоне колоколов, обнесен кругом его и поставлен у могилы, место для которой было указано самим покойником. По совершении краткой литии и по прочтении разрешительных молитв гроб опустили в могилу. Все присутствующие на погребении бросили на крышку гроба земли, которая, в буквальном смысле этого слова, скрыла дорогой прах от их взоров. Вот эта-то, горстями насыпанная, земля может быть поистине названа – terra levis, которую немногим счастливцам приходится получать за свой короткий жизненный путь.
После похорон все почетные гости были приглашены на архондарики помянуть усопшего, по русскому обычаю, хлебом и солью. Обширная монастырская трапеза не закрывала своих гостеприимных дверей целый этот день, желая накормить всех ксиромахов, келлиотов и кавьетов, явившихся отдать последний долг усопшему. На монастырской порте этим последним, кроме того, раздавали хлеб, сухари и деньги на помин души о. Макария. В этот же самый день со слезами на глазах и в сильном волнении преданнейший келейник покойного о. Иоанн, исполняя волю почившего своего старца, раздал на порте беднякам ксиромахам две поношенные ряски, две полуряски, схиму, старенькую шерстяную камилавку, потертые башмаки и несколько пар носильного белья. Это было единственное имущественное достояние покойника, которое он оставил после себя и которым он свободно мог распорядиться… Счастливцы со слезами радости приняли дорогое наследство «доброго батюшки».
Во время поминальной трапезы из Кареи прибыл в монастырь афонский каймакан, которому по телеграфу из Константинополя было приказано присутствовать на погребении о. Макария, бывшего, как известно, кавалером турецкого ордена Меджидие 4 степени[320]. Наше посольство в Константинополе также по телеграфу сделало распоряжение солунскому генеральному консулу, чтобы он, в качестве русского представителя, отправился на Афон в русский Пантелеимоновский монастырь ко дню погребения о. игумена Макария. За отсутствием консула, поручение г. посла взялся выполнить вице-консул солунский Н. Н. Демерик, который, хотя и нанял для исполнения возложенной на него миссии специальный пароход, однако же к самому погребению опоздал и явился уже спустя два дня после похорон.
На следующий день после погребения вся многочисленная братия монастыря собралась в большом архондарике (на русской половине) и выслушала последнюю волю своего любимого покойного игумена. Духовное завещание, найденное после смерти о. Макария, яркими чертами обрисовывает святую личность почившего и навсегда останется памятником его житейской опытности, мудрой предусмотрительности и искренно любящего сердца. Вот это завещание в полном виде:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Возлюбленнейшие о Господе Отцы и Братия!
Последнее слово мое вещаю Вам ныне, в он же день Господь судил мне оставить временную сию жизнь и перейти в вечность. Но, чада мои, присно мне возлюбленные, прежде нежели душа моя предстанет пред страшное и нелицеприятное судище Христово, прошу и молю Вас коленопреклоненно, простите меня за все мои ошибки и недостатки, равно как и я всех Вас прощаю и разрешаю, и вознесите ныне наипаче горячия сыновния Ваши мольбы ко Господу, да обрящу я милость у Него. Ибо хотя я, при помощи Божией, старался всегда исполнять должность свою по силе своей, возлагая всю надежду свою на Восполняющего недостающее и Изводящего честная от недостойного, но при всем том вполне сознаю, что далеко не соответствовал тяжелой и неудобоносимой своей обязанности и великому моему предместнику – Старцу блаженной памяти, о. Иерониму. Кроме же того, если и праведник, по словам Св. Писания, едва спасается, – то где аз грешный явлюся? И если человек неправ пред судом Божиим, аще и един день токмо жития его был на земли, – то что я могу сказать о себе, имев в жизни моей не един день, но десятки лет и исполнен быв многих забот?
Помяните ныне, возлюбленные мои чада, оные мои попечения и многие скорби, которые я имел ради Вашего блага и спасения, покройте мои великие недостатки Вашею любовью и восполните недостававшее во мне Вашим собственным тщанием, что будет достойно Вашего священного звания. Да ради Вашей любви ко мне помилует и приимет меня Господь. Молю убо Вас всех и каждого, – ныне всего более нуждаюсь в молитвенной Вашей мне помощи: не оставляйте и не забывайте меня Вашими теплыми о мне молитвами и не отринет единодушную Вашу любовь Бог любви, но и мне отраду и милость сотворит и Вам щедротами Своими воздаст за благоприятную пред Ним сыновнюю Вашу любовь.
Ради собственного Вашего блага, прошу и убеждаю Вас исполнять усердно поминовение имен благодетельских, чтобы синодики, заведенные в Обители, неопустительно читались, как положено. Ибо оставление или небрежение относительно сего нашего долга весьма ответственно для нас пред Господом. Будем помнить милость благодетелей наших и их помощь во время нужд Обители, – ибо их благочестивое благотворение поддерживает и восполняет наши нужды, особенно в тяжелые для Обители времена. Сие нам никогда забывать не должно и необходимо воздавать, как обязались, молитвою за их милость. Судьбы будущие Обители неизвестны и заключаются в деснице Божией. Также памятовать должно, что многие приносят Обители свои посильные жертвы часто из последних средств, даже с лишением и ограничением своих нужд. Крайне грешно будет наше неисполнение их усердия. Сему долгу – совести внимайте, ибо за это спросится с нас на суде Божием.
Как во дни моего с Вами земного пребывания, многократно просил и увещевал я Вас, во имя заповеди Христовой и ради собственной Вашей пользы временной и вечной, хранить между собою мир и любовь братскую, и взаимное снисхождение друг ко другу, и общее согласие и единодушие, всячески избегая всякого нестроения внутреннего и разногласия. О сем ныне, хотя и безгласно, чрез сие письменное мое к Вам увещание и слезное отеческое моление, напоминаю, прошу и молю Вас: храните мир, любовь и взаимное братское единомыслие; не ищите ка ж дый своего „я“ и, ради такого богопротивного себялюбия, не забывайте Вашей общей пользы, общего блага и чести Обители и братии. Где мир, любовь – тамо Бог, а где Бог – тамо всякое добро. Мир и единодушие составляют твердое ограждение и благоустроение всякого общества, при внутреннем же несогласии падает всякий дом и всякое общество.
Прошу и увещеваю Вас, возлюбленные братия – сохраните издревле установленный порядок общежития, постоянного исповедания и открытия своих помыслов и своего сердечного устроения игумену или духовнику и, по разрешении, приобщайтесь Святых Животворящих Таин, как всегда бывало. Этим поддерживается духовный строй и порядок души каждого в отдельности. Не нарушайте же сего спасительного доброго установления, которое мы здесь наследовали от Отцов предшественников.
Еще мое усердное завещание Вам, отцы и братия! Врата обители да не затворяются никогда для нищих и убогих и всякого требующего. Сам Господь засвидетельствовал воочию всех нас, воздавая обильно Своими щедротами Обители за незатворение ее врат и милостыни для всех нуждающихся. Сие наблюдайте неизменно, как было, и не ограничивайте Вашей милостыни и после меня.
Поручаю Вас, как всегда, Покрову и заступлению и милости Царицы Небесной, Преблагословенной Матери Господа нашего Иисуса Христа Бога истинного, Ему же со отцом и Пресвятым Духом подобает всякая честь и слава и поклонение и благодарение во веки. Аминь.
Игумен Русского св. Пантелеймона монастыря Архимандрит Макарий».По выслушании воли почившего игумена вся братия здесь же в архондарике скрепила своими подписями акт избрания в игумены о. Андрея, который 29 июня и был торжественно возведен на игуменский трон (¢nqroniasmÑj).
Весть о блаженной кончине о. Макария быстро облетела всю Россию и у всех знавших и слышавших о его подвижнической жизни вызвала самые искренние сожаления. Русский Пантелеимоновский монастырь на Афоне получил по этому поводу весьма много писем с выражением соболезнования о понесенной им утрате из разных концов России. Эти письма служат неоспоримым свидетельством как той широкой популярности, которою пользовалось у нас имя покойного старца, так и того глубокого уважения, какое питали к нему русские люди. «Мы лишились духовного светильника, – писал на Афон его высокопревосходительство обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев, – тем ярче светившего светом добрых дел, чем они были смиреннее, мы лишились неустанного молитвенника за Русскую землю». «С великой скорбию, – говорит в своем письме высокопреосвященный митрополит Киевский Иоанникий, – приняли все известие о блаженной кончине усопшего о. Макария. Видно угодно было Господу послать серп и созревшую пшеницу принять в житницу свою. Да будет Его святая воля. Но вся православная Россия поминает и будет поминать всегда с вами старца Макария. Он был вам всем светильник горячий и святой. Но огонь, коим горел сей светильник – огонь Господень и в Его воле возжигать и погашать и паки возжигать светильники свои, да светит людям». «С глубокой скорбью, – писал в своем письме покойный митрополит московский Леонтий, – узнал о кончине блаженной памяти о. архимандрита Макария. Пантелеимоновская обитель лишилась великого старца, администратора и подвижника. Постигаю скорбь братии. Не одна ваша обитель, не один Афон оплакивают усопшего труженика, но и вся, можно сказать, Россия».
Очерк наш, за составление которого мы принялись в девятый день по кончине о. архимандрита Макария, своим появлением в свет затянулся настолько, что мы теперь можем сказать несколько слов и о судьбе его костей. По обычаю Православного Востока, практикующемуся и на Афоне с глубокой древности, кости всякого умершего инока через три года со дня его кончины вырываются из земли, обмываются в воде с вином, насухо вытираются и складываются в усыпальнице в ямы или особые лари, а череп с надписью имени почившего ставится на полках в хронологическом порядке. Установленные три года для изъятия из земли останков почившего игумена Макария исполнились 19 июня 1892 года. Кости незабвенного старца, по словам «Душеполезного Собеседника», «были вырыты накануне, т. е. 18 числа, и оказались чистыми и светлыми, что здесь (т. е. на Афоне) принимается как свидетельство благополучного состояния души почившего в загробном мире»[321]. День этот был вместе с тем и днем молитвенного чествования почившего старца игумена в обители. Для того, чтобы придать этому чествованию большую торжественность, братия монастыря пригласила отслужить заупокойные всенощное бдение и литургию с панихидою бывшего Вселенского Патриарха Иоакима III, пребывающего на покое на Святой Горе, которому сослужили Преосвященный Досифей, о. архимандритигумен Андрей, 10 иеромонахов и 7 иеродиаконов. Во время великого выхода за литургиею Патриарх с коленопреклонением произнес молитву о упокоении души почившего, а по окончании панихиды совершил краткую литию на его могиле, где были сложены в особом сосуде кости и череп, прочел разрешительную грамоту и, благословив череп, облобызал его. То же спешили сделать все сослужащие ему и массы иноков-богомольцев, хорошо помнивших доброго своего благодетеля-старца. Вид костей приводил в восторг и умиление всех почитателей о. Макария… Кости эти, сложенные в особый ящик, не попали в общую усыпальницу, а благоговейно хранятся ныне в самом монастыре.
Заключение К характеристике внутреннего устройства быта святогорских монастырей и личности о. Иеронима, духовника русского Пантелеимоновского монастыря
Предлагаемые вниманию наших читателей документы: 1) Канонизм Святой Горы и 2) Авто-биография духовника русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне о. Иеронима[322] – составляют дополнение или приложения к обширному очерку под заглавием «Русские на Афоне», печатавшемуся в течении нескольких лет на страницах журнала «Странник». По мысли составителя названного очерка, первый из этих документов должен заменить для читателей его краткую характеристику внутреннего устройства монашеского быта современных насельников Святой Горы и их отношений к местным властям – духовной (т. е. к Великой Церкви) и светской (т. е. к турецкому султану), чтобы рассказ о положении русских иноков на Афоне был доступен полному и всестороннему пониманию читателей. Издаваемый нами «Канонизм Святой Горы», составленный святогорскими отцами и одобренный турецким правительством, хотя и не был принят Карейским протатом к практическому употреблению, но в действительности он обнимает все стороны этого быта и весьма немногим разнится от ныне действующего «канонизма», достать копию с которого нам не уда лось. Греческий подлинник издаваемого «канонизма», при всех усилиях с нашей стороны и тщательных поисках даже в Карейском протате, мы не нашли, а посему и не могли исправить в переводе его двух-трех довольно темных мест.
А. Дмитриевский С.-Петербург, 10 января 1895 годаПриложение Общий канонизм[323] святой горы Афонской, составленный протатом
1.
Все приходящие на Святую Гору и желающие монашествовать, какого бы рода и народности они ни были, считаются верными подданными могущественной Оттоманской империи.
2.
Н 20 монастырей Святой Горы разделяются на киновии и идиоритмы; каждая киновианская обитель имеет игумена, избираемого пожизненно братством, по древним обычаям священного места, но увольняемого им же, когда он (т. е. игумен) не исполняет обязанностей, налагаемых законами его игуменского звания. Имеет же при себе игумен и симпракторов (сотрудников), вместе с коими сообща управляет обителью, по особому на сие канонизму для киновии. Каждая обитель идиоритм имеет 2 эпитропа, избираемых другими проэстосами на год: эти имеют (т. е. заведывают) содержанием, приходо-расходом и официальною печатью обители. В конце же года и игумены киновии и эпитропы идиоритмов обязаны дать отчет пред проэстосами о годовом управлении обители.
3.
Каждая обитель есть самоуправляющаяся и независимая относительно внутреннего управления, а относительно общих дел, то оные производятся антипросопами 20 монастырей, составляющих синаксис (или протат). Антипросопы эти должны быть равны между собою. Председательствует же в синаксисе антипросоп Великия Лавры, а в отсутствие его в иерархическом порядке, по древнему существующему порядку, согласно с коим освящено обычаем место каждого, т. е. Лавра, Ватопед, Ивер, Хиландарь, Дионисиат, Кутлумуш, Пандократор, Ксиропотам, Зограф, Долиар, Каракал, Филофей, Симоно-Петра, св. Павел, Ставроникита, Ксеноф, Григориат, Есфигмен, св. Пантелеймон (Руссик) и Костамонит.
4.
Антипросопы 20 монастырей будут собираться дважды в год тактически 15 апреля и 15 октября[324]. Собрание продолжается месяц. В это время антипросопы должны собираться ежедневно, работать со тщанием и оканчивать дела в продолжение месячного срока, в случае же, когда дела не окончатся, дается сроку 15 дней и распускается. Когда же встретятся важные и особенные дела, то синаксис может быть созван и чрезвычайно и продолжится до окончания дел.
5.
В собрании синаксиса эпистасия должна дать на бумаге изложение (рапорт) своих действий, а также и имеющихся дел в хронологическом порядке; затем уже синаксис приступает к обсуждению и окончанию их.
6.
Обсуждения в синаксисе должны производиться беспристрастно, без смущения, мирно и благоприлично. В случае же уклонения от сего кого-либо из антипросопов проэпистат сейчас же призывает его к порядку. Синаксис должен вести протоколы заседаний и обсуждений, в коих будут вноситься мнения каждого антипросопа, потом на следующем заседании эти протоколы прочитываются, пропечатываются печатию священного протата, а подписываются ответственными эпистатами и грамматиком.
7.
Полнота (επαρτια) синаксиса считается, когда будут налицо ⅔ антипросопов, т. е. 14, которые и будут заниматься своею работою, а отсутствующие уже не имеют права представлять что-либо против решений, имеющих законную (авторитетную) силу по большинству.
8.
Каждый монастырь должен посылать в определенное время своих проэстосов и игуменов, а если они заняты, то посылает антипросопов из более знающих и опытных в местных делах. Никакому монастырю не дозволяется возлагать обязанности антипросопа на другой монастырь, и если будет продолжать отсутствие (т. е. антипросоп какой-либо обители), то мнение монастыря не будет приниматься во внимание.
9.
Священный синаксис есть признанная власть места, имеющая право определять эпитропов в Константинополь и Солунь согласно с императорским фирманом, чтобы чрез них доводить разные дела прямо до честнейшего правительства и поддерживать сношения синаксиса с достопочтенными властями гражданскими и церковными. Эпитропы эти, определяемые на год, должны быть из более знающих и опытных в местных делах и незазорного поведения и дел, и по отставке их, как обычно, если они окажутся годными, остаются на своих местах и на следующий год, в противном же случае заменяют их другими, а те должны оказать послушание и сдать своим преемникам архивы.
10.
По древнему обычаю места, единожды в год назначаются эпистаты, а на значение их должно быть по порядку, какого монастыря ряд, и за ка ж дого эпистата монастырь его должен дать поручительство. Четыре же эпистата будут иметь печать священного синаксиса по одной части (ибо она четырехчастная); они же будут выправлять и все местные подати и правительственные; в конце же года, при собрании священного синаксиса, пред ним должны быть рассмотрены приходо-расходные книги и все и всякие годовые счеты, согласно оценке священного протата, и если найдется какое-либо злоупотребление их (т. е. эпистатов), то они должны восполнить общине, в случае же их упрямства должны восполнить их поручители монастыря, а они, как такие, удаляются навсегда от общественных дел.
11.
Обязанности епистасии и ее работы определяются особенным канонизмом.
12.
Никто из обитателей Святой Горы никогда не может считаться владельцем ни малейшего клочка земли, кроме 20 монастырей, коим принадлежат и все подведомственные владения: келлии и скиты. Когда же кто-либо из обитателей подведомственных владений имеет нужду сделать поправки или построить что-либо вновь, таковые обязаны объяснить монастырю, от кого они зависят, таковую нужду и затем, по предварительном дозволении и рассуждении его, производить работы, расходы на каковые должны причитаться на счет производителя их.
13.
Келлии, принадлежащие каждому монастырю, уступаются ими по омологии на 3 лица; в случае смерти первого, второе лицо, делаясь первым, уплачивает монастырю своему дань, называемую «три меридиан», по существующим обычаям, третье же лицо становится вторым, на место третьего вписывается в омологию монах – постриженник той келлии. Когда же в омологии записано прямо «синодия», то платить в монастырь дань 5 пиастров. Когда же умрут все три лица без законных преемников, то келлия со всеми принадлежностями своими переходит, по естественному праву, в распоряжение монастыря, коему она принадлежит.
14.
Жители участков, принадлежащих монастырям, обитают за поручительством монастырей, которым принадлежат эти участки. Посему когда какой-либо келлиот или аскет (отшельник) вздумает продать свою келлию или калибу, то должен иметь на сие дозволение своего монастыря и представить ему такое лицо (в покупщики), за которое монастырь мог бы поручиться. Когда же кто-либо из вышесказанных продаст келлию или калибу, то платит своему монастырю подать, по существующему издревле обычаю, с их ценности.
15.
Каждый монастырский (т. е. человек) и келлиот монах или отшельник, отправляясь в мир по послушанию, обязан иметь свидетельство от того монастыря, которому он принадлежит, а кто не будет иметь таковой рекомендации, тот будет задержан.
16.
Монастыри по своим делам или при разногласии между двумя монастырями обращаются письменно в эпистасию, сперва излагая ей свои требования. Если же эпистасия не сможет окончить их дел, то они имеют право апеллировать в синаксис 20 монастырей, который, приняв во внимание протокол эпистасии, и если не сможет решить дела, то должен при рапорте препроводить каймакану или прямо досточтимому правительству. А скитяне и келлиоты в каждом деле и разногласии обязаны прежде всего обратиться к своим монастырям, которые, если не решат дела, то должны оное представить, при изложении, в эпистасию и так далее, как указано выше.
17.
Приходящие монашествовать в монастыри Святой Горы обязаны полнейшим образом сообразоваться с существующими в монастырях порядками и обычаями в одежде и образе жизни. В случае же, если кто-либо из таковых, не возлюбив обычаев и прочего, станет жить по аппетиту собственного желания, то таковой сперва должен быть уговариваем, аще же не послушает, то будет удален. Поправки же в монастырях и в их имениях будут, по обсуждении проестосов, на средства обители или частного лица, но таковые лица, удаляясь из обители, не имеют права ни гроша потребовать с обители за расходы при постройках. Те из монахов, которые, при поступлении в обитель, не внесли никакой денежной суммы, удаляясь из обители, не имеют права требовать что-либо от нее, как бы в воздаяние своих трудов для оной; в случае же, если они вздумают требовать пособного воздаяния судебным порядком, то иск их не будет принят в судилищах, согласно с императорскими приказами. Если же кто из монахов вложил денежную сумму при поступлении, то во время удаления или изгнания его из обители имеет право получить свои деньги, но при сем должны быть приняты во внимание его пребывание в обители и услуги ей, а также возраст, в каковом он поступил в монастырь, и затем согласно со всем вышесказанным, должна быть сделана скидка с капитала, вложенного им, от 30 до 50 %.
18.
Посылаемые в разные места монастырями монахи для сборов подаяний или милостыни обязаны, по своем возвращении, представить оные в целости монастырю, против же самочинников, удерживающих таковые у себя, будет поступлено, как должно, согласно с существующими императорскими указами. Имущество, остающееся после умерших монахов, никто из их сродников по плоти не может требовать, так как оно исключительно принадлежит монастырю, в коем он принял монашеский образ, – согласно с имеющимися императорскими приказаниями.
19.
Каждый монах, оставивший свое обиталище и шляющийся из одной обители в другую или по келлиям и калибам, употребляет свое время на деяния противные монашеской жизни, таковой, после первого и второго увещания, наказывается должным образом или же изгоняется.
20.
Сообразно с императорскими приказами, никто из монахов, удалившийся из своей обители, не может быть принят в другую без аполитирия (т. е. увольнительного свидетельства).
21.
Каждый монастырь имеет свою печать, признанную священным синаксисом. Также каждый скит имеет одну только печать, признанную тем монастырем, коему он принадлежит. Таковые скитские печати должны иметь на себе название (титло) своего монастыря. Никому другому: ни келлиотам, ни отшельникам не дозволяется иметь официальной печати на имя его келлии или калибы. Преступающий же сие будет строго наказан и преследуем как святотатец.
22.
В спорах о земле, находящейся на Святой Горе, возбуждающихся между монастырями, и когда по поводу их обратятся к синаксису, то он обязан принимать во внимание положение дел за пятидесятилетие пред сим и отдавать право тому, кто за это время бесспорно владел землей. В случае спора между монастырями о землях на их местах, находящихся вне Святой Горы, и когда они пригласят священный синаксис как третейского судью, то он должен поступать по вышесказанному.
23.
Дань афонского полуострова, определенная (макту́) в 72 000 пиастров, уплачивается по частям прямо в малее́ (государственное казначейство).
24.
Все приобретенные и имеющие приобрестися недвижимые имения вне Святой Горы после 1257 года (гиждры), по изданным тогда императорским фирманам, так как не пользуются уже правом льгот, – то должны платить за них узаконенные подати, а монахи, якоже и прочие смертные, т. е. подданные Турецкой империи.
25[325].
Не пользуются правом льготы военные одежды, ибо и в них монахи, согласно императорских приказов, будут сообразоваться с нуждами, имеющими быть указанными во время войны.
26.
Обитающие в монастырях и в принадлежащих иным участках разделяются на три категории и обязаны уплачивать узаконенные подати, сообразно с существующими распоряжениями.
27.
Святая Гора в гражданском отношении зависит от державной Оттоманской империи, к правительству коей относится во всех политических делах места, в духовном же зависит от Вселенской Константинопольской Патриархии, юрисдикция коей простирается только на чисто религиозные дела. И если подадут повод особы или монастыри, то нужно, чтобы были принимаемы во внимание сообщения и представления священного синаксиса, ибо никто из противомудрствующих догматам Восточной Церкви не будет принят во Святой Горе. Если же возникнет дело, имеющее характер противоцерковный, по коему, после решения синаксиса, будет подана просьба от заинтересованного в Патриархию, то она должна сперва потребовать решение синаксиса, кое принимает во внимание, и если найдет оное основанным (утвержденным) на праве и согласным местным обычаям и священным канонам, то рекомендует заинтересованным сообразоваться с оным, аще же найдет решение синаксиса недостаточным, то указывает синаксису эти недостатки и рекомендует исправление. А если заинтересованные не удовольствуются, то дело поступает к правительству. Патриархия никогда не имеет права самовольно вмешиваться во внутреннюю административную систему монастырей и синаксиса, но только по просьбе оных.
28.
Все императорские фирманы и прочие документы общины (кинота) и монастырей имеют законность и силу в тех делах, для коих они изданы. Привилегии и льготы Святой Горы подтверждаются.
Примечания
1
Государственный архив Тульской области (ГАТО). Ф. 256. О. 1. Д. 2820. Л. 173.
(обратно)2
Данные из метрических книг прихода (ГАТО. Ф. 256. О. 1. Д. 2820. Л. 129).
(обратно)3
Линк И. В. Города Тульской губернии. Ч. I. Историко-статистический взгляд на города Тульской губернии. Тула, 1841. С. 113–114.
(обратно)4
Троицкий Н. И. Святые храмы города Тулы. Тула, 1888; Тульские епархиальные ведомости. 1868. № 16.
(обратно)5
ГАТО. Ф. 518. О. 1. Д. 7199. Л. 50.
(обратно)6
ГАТО. Ф. 21. О. 4. Д. 15. Л. 30–30 об.; Ф. 156. О. 1. Д. 11. Д. 10. Л. 18.
(обратно)7
Русская Пантелеимоновская обитель на Афоне принадлежит к числу 20 святогорских монастырей. Живя своею особой самостоятельной внутренней жизнью, в то же время она принимает самое живое и непосредственное участие в делах, касающихся всей Афонской Горы целокупно. Как член Карейского протата или синода (в просторечии кинота), где выдаются подобные дела, Русская Пантелеимоновская обитель на Афоне подает равноправно с остальными обителями Св. Горы свой решающий голос, но зато в тех случаях, когда она сама является нарушительницей общесвятогорских интересов, она становится подсудной и обязана защищаться пред этим судилищем. Вот поэтому-то, приступая к изложению судьбы русской общины на Афоне, нам необходимо было бы для большей ясности в рассказе предпослать очерк внутреннего устройства Св. Афонской Горы, но сделать это мы не могли по следующим соображениям: 1) этот очерк нас отвлек бы далеко от прямой цели и 2) интересующиеся могут составить понятие об этом устройстве на основании обширной истории Афона преосвященного Порфирия Успенского. Для читателей же нашего очерка внеобходимых случаях мы помещаем разъяснения в подстрочных примечаниях к нему и для желающих обстоятельно уяснить себе сущность этого устройства в конце очерка намерены напечатать в I приложении целиком: «Общий канонизм Святые Горы Афонския, составленный Протатом».
(обратно)8
Главный хранитель этих документов – архив Русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне – доселе не разобран и не приведен в порядок. При всем нашем желании проникнуть в него, мы получили решительный отказ и поэтому вынуждены были довольствоваться лишь теми документами, которые случайно остались на руках частных лиц.
(обратно)9
Школа эта сначала находилась недалеко от квартиры Сушкиных, потом переведена была в 5-ю линию Васильевского Острова в дом Макарова на пятый этаж. «Занимались, – по описанию о. Макария, – три просторные комнаты. Первая спальная и кабинет, вторая – библиотека, где нам преподавались уроки, и третья – зала для посетителей и танцевальный класс. Кругом были коридоры, затем большая кухня, где мы обычно оставляли свои верхние одежды».
(обратно)10
По этому поводу о. Макарий рассказывает в своей автобиографии не лишенный интереса для его характеристики факт. «Голод заставлял, – пишет он, – прибегать к непозволительному средству брать из стола просфоры и кушать, что не утаилось от зоркого глаза няни брата Петра Ивановича и было передано покойный матери. В добавок к нестерпимому голоду мне не дали ужинать, вследствие чего я был очень раздражен и, несмотря на свой десятилетний возраст, делал большие возражения матери и плакал».
(обратно)11
Здесь несколько подробностей, не имеющих значения и интереса, мы их опускаем.
(обратно)12
Значительно позже, после уже поступления о. Макария в монахи, отношения Василия Ивановича к брату радикально изменились. Его отец Макарий называл даже ангелом. «Милым моим братьям кланяюсь до земли за сосуд, – пишет о. Макарий к матери от 11 октября 1852 года. – Не знаю, как брата Василия Ивановича и благодарить; он стал по мне, как ангел Господень, его не оставит и Царица Небесная за утешение меня, грешного. Право, как ребенок я теперь всякой малости рад, а особо от вас. Сосуд прекрасный, у нас в обители первый. Поблагодари, матушка, его за меня». Братья Василий Иванович и Петр Иванович навещали, и даже неоднократно, о. Макария на Афоне для свидания с ним.
(обратно)13
Характеристика К. Леонтьева. – Гражданин. 1889 г. № 191.
(обратно)14
Гражданин. 1839 г. № 191.
(обратно)15
Ibid.
(обратно)16
После поездки с матерью в Киев Михаил Иванович нередко и потом бывал в этом городе. Разница этих новых посещений от прежних до 1847 года, как это видно из его дневника, заключается в том, что кроме приобщения Св. Тайн, он теперь еще беседует «с ангеловидным Парфением схимонахом, духовником митрополита». Кроме того, нарочито потом ездил он в Оптинскую пустынь и «имел удовольствие беседовать с отцом Макарием, чудным старцем, а равно с Иоанном схимником, у которых приял благословения». «Воистину живут, как ангелы Божии!» – восклицает восторженный паломник.
(обратно)17
Гражданин. 1889 г. № 191.
(обратно)18
Здесь слово «интрига» нужно понимать не в дурном смысле, а в смысле простого ухаживанья, соединенного с любезностями и комплиментами. Иному толкованию мешает собственное признание о. Макария о соблюдении непорочности тела до пострижения в монахи и тот для всех очевидный и убедительный факт, что отец Макарий был иеромонахом и архимандритом афонского рукоположения, а на Афоне и доселе рукополагаются в иерархические степени только одни «девственники» или люди, соблюдшие свою телесную чистоту. См. ниже его письмо к родителям от 16 марта 1853 года.
(обратно)19
В Курске Михаил Иванович встретил афонского схимонаха Селевкия, находившегося в то время в России для сбора милостыни русскому Пантелеимоновскому монастырю на Афоне. О. Селевкий охотно согласился быть спутником М. И. и провожал его до Константинополя. См.: Рассказ святогорца схимонаха Селевкия о своей жизни и о его странствованиях по святым местам. СПб., 1860. С. 41.
(обратно)20
Загородный небольшой монастырь, находящийся верстах в восьми от Киева, где летом проводят время киевские митрополиты.
(обратно)21
Обстоятельная биография этого замечательного духовника и старца содержится в брошюре: Сказание о жизни и подвигах старца Киево-Печерской лавры иеросхимонаха Парфения. Киев, 1856.
(обратно)22
О. иеромонах Феофан состоял в то время в числе членов иерусалимской духовной миссии, а потом был епископом тамбовской епархии. Потом он проживал на покое в одном из монастырей этой епархии.
(обратно)23
Странноприимный дом был устроен близ сиротского приюта и освящен в 1850 году 15 октября, в присутствии Михаила Ивановича и его сотоварищей.
(обратно)24
Дневник о. Макария нравственную распущенность, царившую на одесских бульварах в это время, рисует в ужасающих красках. Толпы женщин легкомысленного поведения, по словам дневника, встречались нашим паломникам «на каждом шагу».
(обратно)25
Под 17 декабря о. Макарий пишет о том же спутнике следующее: «Мы были у обедни и товарищи, но С-цов не был. За это нужно положить несколько поклонов, он не согласился, и мы опять поссорились».
(обратно)26
«Может быть, вы уже читали в „Северной Пчеле“ рецензию на мои письма? – пишет Святогорец Серафим к своим друзьям из Москвы от 1850 г. 7 марта. – Спасибо Булгарину: он отозвался о моем сочинении как нельзя лучше. Вышла только первая часть, а вторая печатается. В субботу на Масленице был я у Высокопреосвященнейшего митрополита Филарета. – продолжаете он да льше в том же письме. – Он принял меня чрезвычайно ласково, много расспрашивал о Святой Горе, оценивал мои письма и делал на них свои замечания. Я просидел у него около часа. На деюсь и еще побывать, и не однаж ды, у этого гениа льного человека» (Письма Святогорца. Ч. III. 1883. С. 24).
(обратно)27
Нужно, однако, заметить, что митрополит Московский Филарет не скрыл перед автором «Писем о Святой Горе Афонской» замеченных им недостатков. Покойному митрополиту не понравились в этой книге чрезмерная идеализация в описании жизни святогорских иноков, а главным образом язык ее, напоминающий ему «язык журналов» того времени (Арх. Савва. Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита московского. М., 1887. Т. V. Ч. 1. С. 85), что, по понятиям митрополита Филарета, истого пуританина относительно чистоты и приличия языка, когда речь ведется о предметах священных, равнялось прямому порицанию.
(обратно)28
Письма Святогорца. М., 1883. Ч. III. С. 33, 103–104.
(обратно)29
«Константинополь я оставил, – пишет о. Серафим, – 3 марта (1851 год), в 4 часа вечера; со мною вместе было несколько старооскольских поклонников, о которых печатано в «Северной Пчеле» прошедшего 1850 году, что они отправляются в числе 20 человек, что везут с собою на Афонскую Гору иконостас и что между ними есть живописцы. Но эти сведения неполны, потому что, кроме живописца, между ними есть прекрасные певчие (6 человек). Часть этих путешественников уже на Афоне, а живописец и певчие со мною. Можешь после этого представить, как весело мое странствие в дружном сопутствии таких людей! Да, я очень рад моим спутникам и благодарю Бога за утешение, которое Он дает мне в них и в гармоническом их пении (Письма Святогорца. Ч. III. С. 34). «Около вечерни мы появились на соседственных высотах Руссика, где тотчас были замечены некоторыми из братства. Весть о появлении нашем в виду обители потрясла иноков невыразимою радостью; ибо они более уже года со дня на день ожидали моего прибытия из России. Братья высыпали за порту и в стройных рядах шли к нам навстречу. В это время мои спутники – певчие и я спрыгнули со своих мулов, сгрудились и концерт, «Слава в вышних Богу! грянул с нашей стороны. Живописные холмы своим нагорным эхом вторили торжественным нашим звукам, на которые Руссик отозвался с своей стороны родным приветом» (Там же. С. 49).
(обратно)30
Письмо Михаила Ивановича из Одессы к родителям от 23 января 185 1 г. было сле дующего содержания: «Христос посреди нас! Милостивейший государь, любезнейший батюшка Иван Дионисьевич! Милостивейшая государыня, любезнейшая матушка Феодосья Петровна! Божиею милостию здравствуйте о Господе! Сим честь имею известить, любезнейшие и бесценнейшие родители! Получивши разрешение, мы сейчас отправляемся за границу. Итак, дра жайшие родители, припадаю к стопам ног ваших и прошу ваших святых молитв и благословений в напутствие, чего имею надеяться, что оными не оставите. Да, будет ли еще угодно Богу нам встретиться в этой земной жизни? Буди его святая воля! А потому, как человек в продолжение всего времени имел, быть может, противу вас какие-либо недостатки всеми чувствами и оными оскорбил, простите меня Бога ради и благословите. Прощайте, бесценнейшие и милые родители! Прости, любезное отечество и родина святая! Прости все милое, родное сердцу! Нас будет разделять необозримое пространство вод и земли, и Провидение Святое удостоит ли недостойного достигнуть святых мест и принесть как благодарность за подание жизни и всего бытия, так и раскаяние эа прошедшее и настоящее проведенное время в оскорблении Бога моими скверными грехами противу религии и совести и паки настоящим зрением увидать вас, бесценнейшие батюшка и матушка, удостоюсь ли? Бог весть! Целую вас и мысленно заключаюсь в ваши объятия. Ваши чувства верно растворились, а дух внемлет моим воззваниям. Грустно и тяжело работаться на земле, но надежда на Творца вселенной все превозможет и за родительскими молитвами не покинет на чужбине. Прощайте еще раз! Уже время, за черту России зовут. А вы, возлюбленнейшие родители, не оставьте в ваших святых молитвах и благословениях о странниках в земле чуждой: о Михаиле и Евграфе, а в случае надобности помогите нам. И как мы все ходим под Божиею властию, то, Бог весть, – климат новый, к которому я непривычен, и суждено будет отойти в вечность мне, то, дражайшие родители, что будет нужно исполнить по религии – не откажете. И с тем вместе будет, быть может, какая загробная записка, то прошу покорнейше по оной исполнить в силу моего предсмертного послания: оно весьма ограничено. Надеюсь на вас, родители, что не откажите. Требую заочно вашего родительского благословения и молитв вовеки нерушимо. Честь имею быть вам, при засвидетельствовании глубочайшого почтения и пожелании доброго здравия и всех благ, мы же, сколько сил есть, у всех святых мест будем о вас приносить мольбу. Остаюсь вам, милостивый государь и государыня, слуга покорный и преданный сын М. Сушкин». Письмо это сохранилось и в черновом виде, но без конца, где говорится о смерти. Оно характерно во многих отношениях и мы нарочито привели его целиком.
(обратно)31
Этот портрет мы надеемся воспроизвести и приложить к нашему очерку.
(обратно)32
Здесь, очевидно, о. Макарий был введен в заблуждение проводником. Несомненно, что в данном случае он был на обычном турецком кладбище, с которым лишь молва связала могилу последнего из византийских императоров.
(обратно)33
В письме в матери с Афона от 19 декабря 1851 года по поводу своей болезни он делает следующее воспоминание о своем совершенном путешествии: «Вот Богу угодно было: проехали пустыни, невыносимые жары – все Бог покрывал. Нельзя без ужаса вспомнить, если бы хворал там».
(обратно)34
«Я отправляю Евграфа, – пишет о. Макарий к матери с Афона в феврале 1652 года, – и с ним иерусалимские вещи, которые я поручаю братцу, ибо в ваши лета теперь не до занятия. Мелочные вещи кому угодно давать воля ваша». Но Феодосья Петровна, мать о. Макария, лично «разобрав эти вещи разослала родным и знакомым, и все остались довольны» (Письмо от 24 апреля 1852 года).
(обратно)35
Не об этом ли кресте «трех древ» упоминает о. Макарий в письме к отцу от 10 апреля 1852 года? Родители присланный им крест с Афона «изволили отдать в Церковь». (Письмо от 24 апреля 1852 года).
(обратно)36
На мою просьбу к о. Пахомию рассказать что-нибудь об их путешествии с о. Макарием на Синай он обыкновенно отвечал: «Ничего нет особенного… Разве он монах был? – наивно задавал себе вопрос о. Пахомий. – Путешествовал так, как все православные миряне», – заключал о. Пахомий и тут же передавал нечто такое, что прямо указывало, что путешествие Михаила Ивановича было особенное, не похожее на путешествие «простых мирян».
(обратно)37
В письме к матери с Афона от 1852 года о. Макарий рекомендует Евграфа так: «В дороге он был для меня хорошим спутником», а в письме к ней же от 2 апреля того же года пишет: «Я ему благодарен, он за мною смотрел хорошо».
(обратно)38
Странствие Василия Григоровича-Барского по святым местам востока. СПб., 1887. Ч. III. С. 296.
(обратно)39
Слово это происходит от греческого ιδιόρρυθμος, что значит своеобыгный. В идиоритмах, «подчиняясь в главных основаниях монастырской жизни общему уставу, монахи имеют право жить гораздо свободнее, чем в киновиях: общего обязательного стола нет, каждый может есть в своей келье (хотя в трапезе каждый день готовится какое-нибудь самое простое кушанье для неимущих посетителей, для работников и для монахов, не желающих есть у себя в келье). Сверх того один монах может быть лично очень богат, а другой не имеет ничего и т. д. Всех своих денег отдавать в общую кассу, как в киновиях, монах своеобычного монастыря не обязан. Всем выдается из монашеских кладовых и погребов нечто общее, масло, мука, сыр, яйца и т. п., а сверх того каждый может приобретать и поддерживать свои средства как хочет»… Некоторые из монахов этих монастырей или проэстосы «занимают в монастыре по пяти, шести и десяти хороших комнат; имеют в банках где-нибудь или в своих сундуках свои большие деньги, сверх того вклада, который они внесли в кассу обители для получения лучших комнат и других привилегий. Они одеваются в шелковые рясы, сидят в келье на широкой турецкой софе, едят мясо в скоромные дни, а в постные рыбу, являются представителями обители, ездят изредка в Афины, Стамбул, Одессу, Кишинев и т. д. Таких людей найдется (в Ватопеде, например) на 200 с лишком монахов не более десяти или двенадцати. Остальные люди бедные, которые исполняют в обители различные работы (или, говоря по-монашески, послушания): служат при церкви, варят кушанье, месят хлебы, рубят дрова и т. д. Все они получают, кроме определенной провизии, еще небольшое жалованье из монастырской кассы и на сторону поэтому работать не могут… Он [т. е. монах идиоритма] имеет больше свободы. Во-первых, он не обязан ходить на всевозможные службы в церковь, подобно киновиату; может, не спросясь, прочесть молитвы дома, это предоставляется его совести; во-вторых, он свободен в выборе пищи, одежды, общества» и т. п. «В своеобычной обители один монах может пригласить другого пообедать с ним вместе в келье, побеседовать, помолиться вместе… может гулять, когда кончат работу, сколько угодно; нельзя только, не спросясь у начальства, пойти в другой монастырь или в афонский городок в Карею. Нельзя, разумеется, не содержать постов, нельзя слишком часто не присутствовать при церковном богослужении и т. п.». Напротив, в общежителъных (κοινόβιον) монастырях царствует строжайший коммунизм: никто не имеет ни права личной собственности, ни денег при себе, ни пищи в своей комнате без особого на то разрешения начальства, да и то очень редко, в случае путешествия, болезни или вообще чего-нибудь исключительного… Без разрешения духовника монахи не имеют права беседовать по двое, по трое в кельях своих, – и за этим смотрят строго, особенно относительно молодых… В киновиях, особенно в греческих, которые с иных сторон еще строже русских, не позволено, например, иметь вечером лампы или свечи без спроса, для чтения даже иеромонахам, которые, благодаря своему сану и постоянному утомительному подвигу должного богослужения, всегда имеют кое-какие привилегии: нельзя, без спроса духовника или игумена, выйти за ворота (т. е. монастыря)». (Русский Вестник. 1873. Кн. IV. С. 651–654, прим.) Кроме этих двух главных видов монашеской жизни на Афоне, мы встречаем здесь и несколько иных. В настоящем очерке нам нередко придется говорить о келлиотах, кавиотах и ксиромонхах, которые суть не что иное, как названия иных родов иноческой афонской жизни. Келлиотами именуются монахи, живущие не в монастырях, а в особых довольно обширных домах, построенных на земле, купленной у одного из 20 афонских монастырей, поделивших между собою весь афонский полуостров. Эта покупка совершается по особой грамоте, называемой омологиею, в которой покупатель выговаривает у монастыря право иметь особую церковь, небольшое количество братии, не свыше, однако, 15 человек, рассадить виноградник, масличные деревья и огороды для продовольствия братии, завести скот и построить домашние пристройки, необходимые в обиходе. Упомянутая омология заключается на трех лиц: на старца или правителя келлии и на двух его учеников, которые, по смерти старца, в порядке старшинства, занимают его место и наследуют его права и достояние. При этом при переходе келлии от старца к его ученикам этими последними уплачивается условленная плата монастырю и в омологию вписывается новое лицо для того, чтобы эта келлия не была отобрана в собственность монастыря, а находилась бы преемственно в одних руках. Отсюда некоторые келлии на Афоне насчитывают до 600 лет своего существования и более. Жизнь монашеская и чин церковный в этих келлиях – монастырские киновиальные, но без того строгого ригоризма, какой мы видим в монастырях. Интересы келлиотов защищают монастыри, на землях которых построены их келлии. Кавиоты или калибиты – это отшельники, имеющие небольшие домики (ναλύβα), построенные на земле какого-нибудь монастыря. При этих домиках церквей нет, не имеется и земель для виноградников и огородов. Владелец его имеет право лишь принять к себе на временное сожительство, в качестве квартиранта одного подобного ему кавиота или ксиромаха. После смерти владельца, калиба поступает в собственность того монастыря, на земле которого она построена, и от воли обители зависит передача ее в другие руки. В параллель кавиотам и келлиотам, имеющим, хотя небольшие, но собственные денежные средства, на Афоне существует еще род отшельников, именуемых ксиромахами (ξηρό μακός), которые не располагают никакими денежными средствами. Живут они большею частью в собственных пещерах или землянках и изредка на скопленные деньги имеют возможность нанимать теплый угол у кавиотов, в качестве квартирантов. Одежду, мягкий хлеб, сухари и изредка деньги они получают из монастырей, а на другие надобности принуждены зарабатывать средства вытачиванием ложечек или крестиков, вязаньем четок, шитьем одежды и башмаков и т. п. ремеслами. К числу ксиромахов можно отнести и всех анахоретов Карулья.
(обратно)40
Протатом называется на Афоне собрание представителей или антипросопов 20 святогорских монастырей по делам, касающимся Святой Горы вообще.
(обратно)41
Карея – небольшой торговый городок, находящийся в центре Афона.
Святая Афонская Гора его ублажает, яко строгого хранителя общежительных иноческих уставов» (Инок Парфений (Агеев). Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле. Ч. IV. С. 260–261).
(обратно)42
Подробная биография этого игумена написана также иноком Парфением. «Игумен Герасим имеет удивительный дар рассуждения, – пишет Парфений. – Двести человек у него духовных чад и всеми управляет не властительски, но отечески… Никогда у него келия не затворяется, яко врачебница… проводивши всех, и сам исходит из келии. Прежде посещает болящих братий, потом обходит все келии и посещает всех рабочих и рукодельщиков; потом исходит вне монастыря и посещает всю братию, трудящуюся на разных послушаниях, и сам с ними трудится… На трудах братию никогда не понуждает, но еще удерживает и часто приказывает отдыхать. В церкви всегда является прежде всех… Пищи, кроме общей братской трапезы, не употребляет. Часто на трапезе говорит, изустные поучения и дает братии наставления, а иногда и обличает братские немощи и недостатки; но имя ничье не объявляет, только дает понимать. А говорит всегда со слезами и с отеческою любовию и всю братию приводит в слезы… И не только одни его чада почитают, но и вся Святая Афонская Гора его ублажает, яко строгого хранителя общежительных иноческих уставов» (Инок Парфений (Агеев). Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле. Ч. IV. С. 260–261).
(обратно)43
Обстоятельный биографический очерк о. Аникиты, прочитанный в заседании Императорской российской академии 29 октября 1838 года, напечатан отдельной брошюрой под заглавием: О жизни и трудах иеромонаха Аникиты, в мире князя С. А. Шихматова. СПб., 1853. Изд. 2-е. Интересные биографические данные сообщает об о. Аниките его любопытный дневник: «Путешествие иеромонаха Аникиты (в мире князя С. А. Ш.-Шихматова) по святым местам Востока в 1834–1835 годах», изданный священником В. Жмакиным за прошлый 1891 год в журнале «Христианское Чтение». № 1–2, № 5–6, № 7–8, № 9–10 и № 11–12; инок Парфений в своем известном «Сказании о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле». М., 1855. Ч. I V. С. 241–246; ч. I. С. 150–152; ч. II. С. 218–222; Святогорец Серафим в «Письмах о Святой Горе Афонской». М., 1883. Ч. I. С. 51–53 и др.
(обратно)44
Ширинский-Шихматов П. А. О жизни и трудах иеромонаха Аникиты, в мире князя Сергея Александровича Шихматова. Христианское Чтение. 1891. № 5–6. С. 530.
(обратно)45
Инок Парфений (Агеев). Сказание о странствии по России, Молдавии, Турции и св. Земле постриженика Святой Горы Афонской инока Парфения. М., 1856. Ч. II. С. 220.
(обратно)46
Святогорец Серафим. Письма о Святой Горе Афонской. С. 53.
(обратно)47
Христианское Чтение. 1891 г. № 5–6. С. 531; № 11–12. С. 454.
(обратно)48
Инок Парфений (Агеев). Сказание о странствии по России, Молдавии, Турции и св. Земле. Ч. II. С. 221.
(обратно)49
Давыдов В. П. Путевые записки, веденные во время пребывания на Ионических островах, в Греции, Малой Азии и Турции в 1835 году. СПб., 1840. Ч. II. С. 191.
(обратно)50
Инок Парфений (Агеев). Сказание о странствии. Ч. II. С. 223.
(обратно)51
Ширинский-Шихматов П. А. О жизни и трудах иеромонаха Аникиты, в мире князя Сергея Александровича Шихматова. Христианское Чтение. 1891. № 11–12. С. 448.
(обратно)52
Инок Парфений (Агеев). Сказание о странствии. Ч. II. С. 221.
(обратно)53
Христианское Чтение. 1891 г. № 11–12. С. 449.
(обратно)54
Там же.
(обратно)55
Там же. С. 450–453.
(обратно)56
Перед выездом в Афины о. Аникита вручил возвращенные ему Пантелеимоновскими старцами 3000 левов о. Феодору, присоединив к ним еще 4000 левов, собранные на тот же предмет в Одессе А. С. Сундием, и упросил старцев Ильинского скита построить на эти деньги параклис в честь св. Митрофания (Христианское Чтение. 1891 г., № 11–12. С. 454, 450, прим.).
(обратно)57
Христианское чтение. С. 460. О жизни и трудах иером. Аникиты в мире князя С. А. Шихматова. С. 66.
(обратно)58
Биографические сведения о личности игумена Павла сообщает инок Парфений в своем «Сказании о странствии» (Ч. I V. С. 234–241; ч. II. С. 107–110).
(обратно)59
«Живет во Св. Горе Афонской более двадцати лет в совершенном нестяжании, – говорили афонские монахи об о. Арсении иноку Парфению, – в глубочайшей пустыне, не имеющий никакого телесного утешения: пищу употребляет самую постную, не ест ни рыбы, ни сыру, ни масла, а спит весьма мало, разве один час в сутки, и то сидя. Любовь же имеет неограниченную, и столько милостив, что часто и книги свои отдает на какую кому нужную потребу. Он нас и держит во Святой Горе Афонской, а ежели бы не он, то от таких великих скорбей половина бы ушли паки в Россию, но он никому не дает благословения; а кто что без благословения его сделает или куда пойдет, то все страдают и пропадают» (Сказание о странствии. Ч. II. С. 119–120).
(обратно)60
По обычаю Восточной Церкви, в духовники назначаются лишь искусные в духовной жизни старцы иеромонахи и над ними епископ прочитывает особенную на сей случай имеющуюся в Архиратиконе молитву, которую избираемый выслушивает, стоя на коленах.
(обратно)61
Много данных о личности о. Иеронима сообщает инок Парфений в своем «Сказании о путешествии» (Ч. II. С. 168–173; ч. I V. С. 264–270; и др.). Этими сведениями и во многих местах буквально воспользовался А. Ковалевский для своей брошюры «Иеросхимонах Иероним, духовник русского на Афонской Горе Пантелеимонова монастыря» (М., 1887).
(обратно)62
О. Иероним страдал грыжею, приступы которой производили мучительную боль, часто беспокоили его, мешали ему иногда исполнять свои обязанности и, наконец, от этой же болезни он и сошел в могилу.
(обратно)63
Сказание о странствии. Ч. II. С. 170.
(обратно)64
К. Н. Леонтьев, бывший консул, умный публицист, статьи которого по восточному вопросу читаются с большим интересом и в настоящее время, и хороший романист, жил последние годы в Оптиной пустыни в качестве простого рясофора, где и скончался 12 ноября 1891 года.
(обратно)65
О. Иоанникий родился в 1803 г. в Старом Осколе Курской губернии от набожных купцов Павла Григорьевича и Марфы Афанасьевны Соломенцовых.
(обратно)66
Гражданин. 1889 г.
(обратно)67
«Когда изучишь монахов с доброжелательством и в то же время с беспристрастием, – пишет К. Леонтьев, – то монашество начинает казаться каким-то „самованием“ по определенному образцу, при помощи Божией и при руководстве наставников… Чувствуешь, что по изволению своему, по усердию, по искренности веры и любви к идеалу, человек сделал много, одержал над собою много побед в том или другом отношении; видишь, догадываешься, что „самование“ это у него было усердное, нередко даже жестокое, беспощадное к самому себе… Но что же делать, если у одного натура золотая, у другого – медная, у иного деревянная и глиняная, и чаще всего смешанная какая-нибудь: золото – в одном, железо – в другом, глина – в третьем. Заслуга невидимая перед Богом, быть может и равная, но, видимый перед людьми, результат не тот. Опытные старцы руководители, следя за внутренней борьбой, зная, что кому тяжело, отлично понимают все эти оттенки… И мы со стороны, если хотим быть добросовестными судьями и не смущаться, должны выучиться понимать, что нельзя и требовать от всех натур равной и одинаковой чистоты окончательного монашеского образа». (Гражданин. 1889 г. № 192).
(обратно)68
Гражданин. 1889 г. № 246.
(обратно)69
Инок Парфений следующими чертами описывает жизнь иноков русского монастыря: «Каждый день исповедуют свои помыслы отцам своим духовным. Каждую неделю причащаются Св. Тайн Тела и Крови Христовой. Пищи же употребляют весьма мало. Хлеба и пищи подают всем поровну; всегда бывает в простые дни одна пища вареная и каждому – своя чаша; другая что-либо из овощей: или соленые маслины, или ино что. Своей части мало кто съедает. Иногда поставляют и вино, но мало его кто пьет, и то пополам с водой. В праздники же два варения бывает. В понедельник, среду и пяток всегда бывает одна трапеза и то сухоядение; во вторник и четверток – с деревянным маслом, в субботу же и неделю иногда подают и сыр (козий) соленый. Млека же и коровьего масла никогда не бывает. С маслом готовят только два дни на сырной недели, два дни на Пасхе, рыбы же вкушают в великие праздники, егда бывает всенощное бдение. Квасу же не знают – какой он. Егда же не бывает вина, то пьют воду; в келиях же своих ничего не имеют, ниже воды, ниже чем украшают, ниже когда светильника вжигают, ниже лампады, ниже кто может запереть келию, егда изыдет на послушание, ниже когда нагревают, да и печей нету, только некоторые русские себе поделали. В келиях каждый имеет только нужную одежду и постелю, одну икону, одну книгу для чтения и то не каждый; да и время не имеется – когда и читать; чтение бывает более в церкви и на трапезе и на общем послушании, в келии же более занимаются молитвою и поклонами. Церковное же правило такое: к вечерни со всех послушаний сходятся в монастырь. Которые далеко, те там и читают. И строго от игумена наказано, чтобы церковного правила отнюдь не оставлять, потому что монаху настоящее послушание есть молитва, а прочее послушание есть поделие, только ради скуки и уныния. И потому к вечерни все поспевают в монастырь» (Сказание о странствии. Ч. II. С. 196–197).
(обратно)70
«Рыбные ловли на Дунае, – по словам о. Серафима, – были брошены как слишком опасные для пребывающих там иноков, по многим отношениям их к миру» (Письма Святогорца. Ч. III. С. 56).
(обратно)71
Письма Святогорца. Ч. III. С. 52–53. Несколько писем иеромонаха Сергия, известного под именем Святогорца и др. к игумену Антонию Бочкову (Издание общей истории и древностей российских при М. Университете. М., 1874. С. 17).
(обратно)72
Там же. С. 54–55.
(обратно)73
1 октября 1849 года были отправлены в Россию сборщиками милостыни о. Иоиль, Нефонт и Сильвестр, в схимничестве Селевкий, который весьма обстоятельно и простодушно описал потом в своем «Рассказе о своей жизни и о странствовании по святым местам» все свое настоящее путешествие и те чудеса, которые он творил при помощи святогорских камешков (с. 194, 201, 216 и др.). Плодом путешествия о. Селевкия по России были 4000 рублей, привезенные им в обитель (с. 218), и 50 золотых, врученные потом духовнику (с. 221) после одного видения. Кроме сего о. Селевкий привез не мало вещей, пожертвованных для храма (с. 213) и для монахов (с. 217) и нередко пересылал деньги в письма х, в бытность свою по сбору в Россию (с. 206). Бесспорно, нес пустыми руками вернулись в обитель и прочие сборщики.
(обратно)74
Несколько писем Святогорца и других к игумену Антонию (с. 8–12).
(обратно)75
Кратка я, но метка я характеристика о. Серафима сделана о. игуменом Антонием Бочковым в предисловии к упомянутой в предыдущем примечании брошюре.
(обратно)76
Об этом влиянии писем Святогорца о Святой Афонской Горе на русских людей свидетельствуют схимонах Селевкий в своем рассказе «О своей жизни и о странствовании по святым местам» (с. 171) и даже покойный митрополит Московский Филарет (Арх. Савва. Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского. Т. V. Ч. I. С. 85).
(обратно)77
О. Иларион – уроженец «Скотыни». Как бедный сирота, он был принят на воспитание сначала родными, а потом валашским князем Александром Ралисом, который и усыновил его. В 1821 году князю Александру, по повелению султана Махмута, отрубили голову, и о. Иларион снова остался сиротою. В это время приняла в нем участие княжна Мурузы Смарагдица, которая и отдала его на воспитание к епископу Мелетию, заведовавшему в то время константинопольской школой. Когда преосвященный Мелетий был сделан митрополитом Солунским, то он рукоположил о. Илариона в дьякона. От рукоположения в иерея и даже епископа ученый о. Иларион решительно отказался и до конца своей жизни прожил в скромном сане иеродиакона, пользуясь почетом и любовью не только греческой братии, но и русской. О. Иларион, по убеждению, был горячий русофил и всегда поддерживал русских. Схиму о. Иларион принял в 1832 году, а скончался в 1886 году.
(обратно)78
Гражданин. 1889 г. № 196.
(обратно)79
Там же.
(обратно)80
Там же. № 243.
(обратно)81
Как в статьях, написанных об о. Макарии по поводу его смерти, по преимуществу, на Святой Горе среди тамошних иноков в устных рассказах сложились целые легенды, переполненные самыми нелепыми подробностями об обстоятельствах пострижения о. Макария в иночество. Мы весьма рады, что имеем возможность поместить целиком собственноручное письмо о. Макария, устраняющее всякие неправильные суждения о лицах, принимавших непосредственное участие в этом событии, весьма важном в его жизни.
(обратно)82
Письмо из Смирны, как равно и остальные письма о. Макария, писанные им во время путешествия по Востоку, до нас не дошли.
(обратно)83
«Многие, – пишет К. Леонтьев, – и понять не могут – зачем же это умирающего постригать? Ведь он жить уже по-монашески не будет. Обетов самоотвержения – уже исполнить на этой земле не в силах. Это какой-то бессмысленный, старый обычай, какая-то формальность, самообольщение, которое понятно было в суеверные времена Иоанна IV и Бориса Годунова, но теперь!? И „теперь“, и тогда, во времена московских царей, основы и общий дух православия были неизменны… И тогда и теперь умирающие постригаются не для того, чтобы жить на земле по-монашески, а для того, чтобы чистыми предстать пред страшным судилищем Господним. Пострижением уничтожаются и омываются все прежние грехи, а тех новых, в которые будет неизбежно впадать живой монах, оставшийся опять на земле, умирающий уже совершить не успеет. Однажды я, – продолжает К. Леонтьев, – у этого самого отца Макария спросил: „Что такое пострижете – таинство это или только священный обряд?“ „Оно относится к таинству покаяния и есть его высшая степень“, – отвечал он. Я никогда не встречал такого определения в катехизисах и, не будучи сам богословом, могу в этом случае ручаться по совести только за достоверность моего свидетельства, а не за догматическую правоту афонского аскета. Быть может, вопрос этот относится к числу тех не решенных еще окончательно высшим церковным авторитетом вопросов, которых, по мнению иных русских богословов, еще существует довольно много в системе восточно-православного учения (так думает, между прочим, о. Иванцов-Платонов). И эта неоконченность системы восточно-православия не только не должна пугать нас, но, напротив того, она должна нас радовать, ибо такое положение дел ручается за то, что Церковь Православная может не только еще продолжать свое земное существование посредством одного строгого охранения, но и жить, т. е. развиваться далее на незыблемых апостольских корнях своих» (Гражданин. 1889 г. № 243). Вопрос о значении чина пострижения был предметом довольно оживленного обсуждения на страницах «Церковного Вестника» за 1889 год.
(обратно)84
Если не ошибаемся, первое письмо от отца о. Макарий получил в апреле месяце 1852 года (см. письмо к матери от 4 мая 1852 года).
(обратно)85
Мать посылает о. Макарию свое благословение, желает ему укрепления в подвиге, забыть мир и не скучать, со слезами на глазах заявляет, что она сама не скучает о нем (письмо от 24 апреля 1852 года), просит у сына благословения (письмо 15 июня 1852 года), ищет у него прощения за те наказания, какие она делала ему в дни детства его (письмо 3 апреля 1852 года), становится за него самым неотступным ходатаем перед отцом и беспрекословной исполнительницей всех его желаний (см. ниже в частности письмо от 29 января 1853 года).
(обратно)86
«Платье мое: шуба лисья – она уже истаскана, – перина и кой-какая мелочь, что оставлено в Одессе, я, – пишет о. Макарий, – отдал ему, равно и шинель. А вас прошу отдать сукно на память. Прошу вас, благословите и не соблазнитесь на это, Господь мне возвестил на сердце, да по-моему, – что я чувствую, если бы в состоянии был, сделал бы более» (Письмо от февраля 1852 года).
(обратно)87
Письмо от 24 апреля 1852 года.
(обратно)88
Письмо от 29 октября 1852 года.
(обратно)89
Письмо от 29 января 1853 года. «Я получил от Евграфа Ивановича письмо, – пишет о. Макарий, – он благодарит вас, и я с своей стороны благодарю Господа Бога за внушение вам в мысль. Как вы освободили его, так да освободит Господь вас в воздушном путешествии».
(обратно)90
Письмо от 4 мая 1852 года.
(обратно)91
Письмо от 20 октября 1852 года.
(обратно)92
Письмо от 4 мая 1852 года; письмо от 15 июня 1852 года.
(обратно)93
Письмо от 24 апреля 1852 года.
(обратно)94
Письмо от августа 1852 года.
(обратно)95
К осени приступы лихорадки стали повторяться чаще, поэтому старцы отправили о. Макария для поправления на келлию о. Серафима Святогорца. «Здоровье мое, – пишет о. Макарий от 20 октября, – помаленьку идет вперед. Я уже начал опять послушание, только еще церковное, т. е. канонархат, а живу в полчаса ходу от монастыря на келлие с Святогорцем для воздуха. Ибо здесь в пустыне да и правила монастырские уменьшены, особо по службе, кроме канона келейного, т. е. 13 четок и 100 поклонов земных и пищу можно употреблять полегче. Я уволен на 10 дней, а после уже опять в обитель. Но здесь без дела скучно». Выбор данного места для новоначального энтузиаста монаха был сделан удачно во всех отношениях и, конечно, не без мудрого совета о. Иеронима. Здесь во второй раз после Одессы о. Макарий встретился лицом к лицу с восторженным поклонником Святой Горы и любителем тихой пустынной жизни. «В свободное время, посвящая приличным занятиям аскетической жизни, о. Серафим дал в увлекательном слове и на деле своему случайному не менее восторженному сожителю и ученику не мало уроков высшего аскезиса. Всю жизнь о. Макарий хранил благоговейную память об о. Серафиме и за его назидательные уроки был ему весьма благодарен. Что же касается благорастворенности воздуха, необходимого для поправления здоровья больного, то лучшего места, как Космодемьянская келлия о. Серафима, трудно было и указать. «Местность восхитительная, заоблачная, – описывает положение своей келлии о. Серафим, – что по временам расстилается ниже живописного моего холма, отделяя меня с моею келлиею от низменных юдолей святогорского прибрежья… Признаюсь – это настоящей эдем, потому что кругом фруктовый сад самый роскошный: кроме пустынных кринов, пленительных роз, незабудок и прочих сельных цветов, также душистых кипарисов, кроме виноградных лоз, вьющихся по моим террасам, здесь есть черешня, сливы двоякого рода, персики, дули, груши, яблоки, разного рода орешник, смоквы или винные ягоды, миндаль, разные произведения огородных нив. А виды-то! А даль-то, в своем живописном разнообразии и с безграничною равниною Эгейских вод! Особенно вечер здесь упоителен, тем более вечер лунный, – это высокое наслаждение души, при таинственном созерцании дивного Творца в бесконечном разнообразии Его творений!» (Письмо Святогорца к друзьям своим о Святой Горе Афонской. М., 1883. Ч. III. С. 56).
(обратно)96
Письмо от 3 апреля 1852 года.
(обратно)97
«Трапеза постная. Рыба не существует, кроме субботы и воскресенья». Письмо от 16 июня 1852 года.
(обратно)98
Общее письмо к родителям от того же числа и года.
(обратно)99
Письмо от 3 апреля 1852 года; письмо от 24 того же года и месяца. «Вы пишете, что, как умели, так и написали. О, матушка, что мне политика. Она уже мне приторна. Что может быть утешительнее ваших слов в христианском духе. Вы молитесь, благословляете, желаете утверждения мне в обители – что же мне нужно? Я этого и ищу. Может ли ваше сердце и душа говорить противное. Члену своего сердца, духа и плоти преклоняю главу мою до лица земли и благодарю с чувствами неизреченной радости за ваше внимание ко мне недостойному, не жалею я о мире, прискучил он мне и в последнее время чуть не завлек в свои сети, но видно помощь Божия и ваши молитвы удостоили меня монашества» (Письмо от 15 июня 1852 года).
(обратно)100
«За вас я, – пишет о. Макарий матери, – обязан молиться день и ночь, а вы у меня просите извинения, что во время малолетства оскорбляли меня. Милая добрая матушка, быть может, это, т. е. ваши наставления, и привело меня (в монастырь)» (Письмо от 3 апреля 1852 года). «Быть может, – замечает он в другом письме, – твои молитвы меня впустили под кров Божия Матери» (Письмо от августа 1852 года). «Не плачь, моя родная! Матерь Божия тебя утешит и за меня грешного, что ты вручила меня Ей и на ее жребий» (Письмо от 3 апреля 1852 года).
(обратно)101
Письма от февраля 1852 года; 11 октября 1852 года; 13 октября 1854 года и др.
(обратно)102
Письмо от февраля 1852 года.
(обратно)103
Письмо от 11 октября 1852 года.
(обратно)104
Письмо от 11 октября 1852 года.
(обратно)105
Письмо от 20 октября 1852 года.
(обратно)106
Письмо от 11 октября 1852 года.
(обратно)107
Письмо от 15 июня 1852 года.
(обратно)108
Письмо от 27 ноября 1852 года.
(обратно)109
Письмо от 15 июня 1852 года.
(обратно)110
Письмо от 17 сентября 1852 года.
(обратно)111
Из этого письма и именно из слов его: «Хотя я и писал вам, кажется, с прошлым письмом, но тогда по собственному внушению, а теперь по просьбе другого», – видно ясно, что мысль о странноприимном доме или принадлежит ему лично, или навеяна была духовником. Он и забыл, что и в первом письме он ссылался на письмо из Тулы. Очевидно, он желал замаскировать свой собственный план об учреждении такого дома.
(обратно)112
Эту фразу о. Макарий и на склоне своих лет любит часто повторять. «Когда мне случалось, – пишет К. Леонтьев, – в тяжкие минуты какого-нибудь нравственного или телесного изнеможения открывать душу этому умному, благородному и святому человеку, и он говорил мне: „Понудьте себя, – только понуждающие себя восхищают Царствие Небесное“, я чувствовал, что он, этот герой самоотвержения о Боге, имеет право мне так говорить!» (Гражданин. 1889 г. № 191).
(обратно)113
Письмо от 16 марта 1853 года.
(обратно)114
Здесь о. Макарий намекает на то обстоятельство, что Иван Дионисьевич, как городской голова, более прочих должен печься о мире и благополучии вверенного ему обществом города.
(обратно)115
Метаниею на Востоке называют монастырь, в котором в первый раз инок делает поклон – метание (metannoia) игумену о принятии его в число братства.
(обратно)116
Письмо от 19 декабря 1851 года. Та же просьба и почти одними и теми же словами повторяется в письмах о. Макария от 3, 24 апреля и от 4 мая 1852 года.
(обратно)117
В письме от 15 июня выражается восторг сына по поводу этой первой жертвы родителей в русский Пантелеимоновский монастырь и указывается, но крайне неразборчиво, в чем состояло это пожертвование.
(обратно)118
Письмо от 11 октября 1852 года.
(обратно)119
Письмо от 20 октября 1852 года.
(обратно)120
Письмо от 13 октября 1854 года.
(обратно)121
Русский монастырь Св. великомученика и целителя Пантелеймона на Святой Горе Афонской. М., 1886. Изд. 7. С. 107.
(обратно)122
Параклисом называются на Афоне небольшие храмы, рассеянные по углам обширных монастырских зданий. Они устрояются для ранних литургий с целью облегчить монашествующим поминовение многочисленных имен благодетелей и поклонников.
(обратно)123
Письмо от 11 октября 1852 года.
(обратно)124
Письмо от 17 сентября 1852 года; письмо старцев, писанное рукою святогорца Серафима, того же года и числа.
(обратно)125
«Церковная утварь и прочия драгоценные украшения – это дар и жертва благодетелей Сушкиных» (Русский монастырь Св. великомученика и целителя Пантелеймона на Святой Горе Афонской. С. 82).
(обратно)126
Письмо от 17 сентября 1852 года.
(обратно)127
Письмо от 27 ноября 1852 года; письмо от 29 января 1853 года и др.
(обратно)128
Письмо от 18 января 1856 года.
(обратно)129
Письмо от 12 января 1854 года.
(обратно)130
На наш вопрос к Ивану Ивановичу, брату о. Макария, нет ли каких известий в письмах последнего о состоянии монастыря во время наших войн Крымской и 1877 года, мы получили от него такой любопытный ответ: «А что в их обители происходило когда, он никогда не писал нам ничего… был очень скрытен о. архимандрит Макарий, но монаху так и должно быть. Доброе молчание ни в чем ответ» (Письмо от 18 января 1890 года).
(обратно)131
«1853 года мая 16 дня. По случаю разрыва и наступления войны и я бедный, – пишет Святогорец в своих келейных записках, – должен оставить и оставляю, конечно, бесценный Афон на время, дондеже мимо идет гнев Господень. Если продлит Бог жизни, одно мое желание и есть, – умереть на Афоне» (Письмо Святогорца о Святой Горе Афонской. С. 157. Ср. с. 68).
(обратно)132
Там же. С. 106.
(обратно)133
Это сведение заимствовано нами из дневника событий в Пантелеимоновском монастыре, оставшегося в рукописи о. Мины.
(обратно)134
Письма этого между 22 письмами о. Макария, присланными нам Иваном Ивановичем, мы не находим.
(обратно)135
Письмо от 18 января 1856 года.
(обратно)136
Там же.
(обратно)137
«Тебе Владыке и Пречистой Матери твоей угодно было возвестить старцам о сем, – пишет в том же письме о. Макарий, – несколько позже, сколько ни возражал и ни просил оставить меня еще в общем послушании». Следовательно, о. Макарий не без возражений и убеждений решился принять хиротонию.
(обратно)138
В объяснение причин поступления о. Макария в монашество К. Леонтьев, между прочим, пишет и следующие слова, которые совпадают со словами вышеприведенного письма. «Любовь к столь торжественному и столь трогательному православному богослужению, говорит он, тоже сильно действует на молодых религиозных мечтателей. Само собою разумеется, что, при самом искреннем смирении и сознании своей греховности, набожный юноша, поступая в монахи, не может не мечтать иногда и о том, что, быть может, он удостоится стать со временем иеромонахом, что он сам будет совершать и великие и страшные таинства», как он будет произносить в храме те самые возгласы, которые теперь его со стороны так сильно потрясают. Люди, отбившиеся от Церкви, отвычные от истинного «дедовского» несентиментального православия, и понять уже не в силах всей сладости подобных мечтаний, но кто не утратил настоящей веры или кого Господь помиловал и возвратил опять к ней какими бы то ни было, Ему известными, путями, тот понимает подобные желания, тот завидует служащему иеромонаху такою завистию, какую никакая заповедь запретить не может – завистию доброю, любящею, чистою ревностью по Господним таинствам и по службе Великой и Священной Апостольской Церкви нашей. Я уверен, что покойный старец архимандрит Макарий, еще будучи красивым щеголем – Мишей Сушкиным, мечтал об этом безнадежно и робко» (Гражданин. 1889 г. № 192).
(обратно)139
Письмо от 16 марта 1853 года.
(обратно)140
Русский Вестник. 1873 г. Кн. 4. С. 682. Статья эта подписана псевдонимом «Н. Константинов» и принадлежит перу уже известного К. Леонтьева.
(обратно)141
Гражданин. 1890 г. № 192.
(обратно)142
Там же. № 246.
(обратно)143
Там же. № 192.
(обратно)144
Там же. № 246.
(обратно)145
Границей святой Горы от «мира» считается небольшой ручей, текущий по кустам, неподалеку от того места, где оканчивается низменный перешеек и начинается первая афонская крутизна. – Примеч. К. Леонтьева.
(обратно)146
Гражданин. 1889 г. № 246.
(обратно)147
Мы считаем весьма уместным поместить это небольшое слово о. Макария здесь целиком, так как оно в значительной степени дополнит сделанную нами характеристику личности о. Иеронима. Вот это слово: «И так любвеобильнейший отец и великий благодетель наш, сострадательный ко всем помощник, люботрудный ктитор обители, верный наставник ко спасению и стяжатель редкого дара умной молитвы, духовного рассуждения и других дарований и добродетелей, – течение свое ты совершал на земле силою укрепившего и обогатившего тебя Христа, преплыл житейское море многоразличных искушений, бед и болезней, благодатию Его окрыляем, и обрел себе милостию Божиею ничем не возмущаемый покой. Но что за сонмы окружают тебя? Виждь, отче и наставниче наш: се чада твоя приидоша к тебе, не кончину твою зрети, но от медоточивых уст твоих глаголы живота вечного слышати, а ты спишь, сомкнув очи и уста свои. Восстани и благослови! Увы, он бездыханен!.. Отче, умолкли твои приветливые слова, с которыми всех встречал ты, слова сострадания, одобрения и утешения, с которыми всех отпускал от себя. Увы, какая плачевная утрата! Где наш отец? Где наш наставник? Кого мы лишились? Отче, отче! Пробудись и вонми: бедность просит милостыню, странник жаждет твоего утешения, больной ждет твоих молитв и утешения, падший в искушение ждет отрады в своей беде. Но нет, верно ни мой голос, ни голос всех нас не сильны возбудить тебя. После 33-летнего странничества твоего в отечестве и после 50-летней жизни иноческой и духовнической на Святой Горе, жизни многополезной и благоплодной и с тем вместе многоскорбной и многоболезненной, ты возлег на долгий покой и крепкий сон до гласа трубы архангельской. Давно желал и жаждал ты разрешиться от уз плотских и денно-нощно молился о том; любовь же к тебе всех чад твоих как бы пересиливала твою молитву общим молитвенным воплем о продлении жизни твоей для пользы и блага их. А теперь видно пришло время пересилить твоей молитве усердную молитву всего братства. Успокойся же, непрестанный труженниче, до общего возбуждения, после которого да подаст тебе всеблагий Мздовоздаятель и вечное упокоение со святыми. Но Владыко живота и смерти! Ты зриши нашу скорбь, слышиши стенания сердец наших, зриши токи слез, орошающих очи наши, дерзаем Тебе рещи: где имамы наставника и советника ко спасению нашему? Где обрящем утешение в скорбях и напастях, после взятия Тобою сего мудрого наставника, опытного руководителя и любвеобильного пестуна нашего? Сего ради, припадаю молим Тя, благоутробне Господи: приими в руце Твоего владычного защищения нас осиротевших в живом поучении слова Твоего и истины, и буди нам Сам, со всеблагою Матерью Твоею, руководителем и вождем нашего спасения, живота и света. Сотвори милость Твою с преставльшимся от нас отцем нашим: не вниди в суд с рабом Твоим, прощавшим всех; аще бо беззакония назриши, Господи, то кто постоит, аще и един день жития его будет на земле? Дадим убо последнее целование незабвенному нашему отцу и мудрому наставнику, оросим прах его словами, с возношением теплых молитв о упокоении его в недрах Авраамовых. Ты же, отче наш, молим тя последним нашим прошением: аще даст тебе Господь дерзновение к престолу величествия Своего, не забуди нас чад своих, посещая души и сердца наши, испрошением благодати от Господа нашего Иисуса Христа. Прости нас, руководитель наш, иди с миром в обитель небесную! В устах и сердцах наших не умолкнет сей стих: вечная твоя память, достоблаженный отец наш, приснопоминаемый! Аминь» (Ковалевский А. Иеросхимонах Иероним. М., 1887. С. 29–30).
(обратно)148
Отрывок из этих записок напечатан отдельной брошюрой под заглавием «Из келейных записок русского афонского старца. Изд. 2-е. М., 1888.
(обратно)149
Эта иконописная школа просуществовала в монастыре недолго, так как обученные в ней лучшие мастера не оставались в обители, а уходили на келлии и там самостоятельно занимались живописью, снабжая за известную плату произведениями своей кисти и Пантелеимоновский монастырь. Школа эта для монастыря доставляла таким образом хлопоты и требовала больших расходов, но пользы ему не приносила. Вот почему ныне на Афоне в Русском монастыре не существует никакой школы иконописи и присылаемые с Афона русским Пантелеимоновским монастырем иконы в Россию пишутся, по заказу обители, художниками греками, живущими на келлиях.
(обратно)150
Говоря о литографском станке на Афоне, нельзя не упомянуть здесь талантливой личности о. архидиакона Лукиана, мирно доживающего свой век на ближайшей к монастырю келлии. Первые литографские работы на Афоне были делом рук или его самого или же учеников, работавших под его непосредственным надзором. О. Лукиан недурной живописец. Его кисти принадлежат многие иконы, хранящиеся в монастыре, и даже картины, украшающие монастырские архондарики или гостиные.
(обратно)151
Его биографический очерк напечатан отдельной брошюрой под заглавием: Воинов И., священник. Русского на Афоне Пантелеимоновского монастыря иеромонах Арсений. Изд. 3-е. М., 1890.
(обратно)152
Личность о. Пантелеймона заслуживает некоторого к себе внимания со стороны наших читателей. О нем мы скажем подробнее в своем месте, в главе «Издательская деятельность русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне», здесь же отметим, что на первых порах своего вступления в монастырь он за грамотность и недурной почерк был сделан руководителем монастырской канцелярии и пользовался вполне расположением к себе старцев монастыря.
(обратно)153
Часть этих писем издана в особых брошюрах: «Письма в Бозе почившего афонского старца иеромонаха о. Арсения к разным лицам в 2-х выпусках».
(обратно)154
Гражданин. 1888 г. № 296.
(обратно)155
Весьма интересные сведения сообщаются об о. Паисии в корреспонденциях «Нового Времени» за 1888 г. № 4. С. 540 и № 4. С. 547.
(обратно)156
О. Паисий когда-то был шалопутским пророком. После отречения от прежних заблуждений, уже на Афоне описал свою небезупречную в нравственном отношении жизнь в этой роли в особой брошюре: «Вразумление заблудшим и исповедь обратившегося от заблуждения» (Одесса, 1886). 151 Николаева Л. Абиссинская миссия архимандрита Паисия и Н. И. Ашинова. Одесса, 1889.
(обратно)157
Карейская монашеская школа, как гласит находящаяся на ней надпись, окончена постройкою 15 апреля 1814 года.
(обратно)158
Прекрасную характеристику личности о. Матвея сделал преподаватель волоколамского духовного училища П. Соколов, посетивший Святую Гору лично, в статье: «Русские монахи-археологи на Афоне» (Московские Ведомости за 1890 год. № 25. С. 7).
(обратно)159
О. Агафодор из купеческого сословия пришел подвизаться на Афон с двумя другими своими братьями, которые имеют иеромонашеский сан, от природы люди весьма талантливые. Старший брат о. Мина, скончавшийся в 1888 году, долгое время состоял личным секретарем о. Макария и после своей смерти оставил до 30 книг всевозможных заметок и дневников. Ему мы многим обязаны при составлении настоящей своей работы. Второй брат о. Уриил – анахорет отшельник, талантливый иконописец, под руководством которого воспиталось несколько весьма дельных живописцев.
(обратно)160
Кукузелем называется знаменитый греческий певец, живший на Афоне в лавре св. Афанасия, как полагают, в XII столетии.
(обратно)161
Syrie, Palestin, mont Athos. Voyage au pays du passe, edit. XII. Paris, 1878. P. 323–326.
(обратно)162
Сказанного достаточно (лат.).
(обратно)163
Довольно обстоятельно описание этого посещения сделано очевидцем его известным о. Серафимом Святогорцем «Нынешний русский Пантелеимоновский монастырь на Святой Горе Афонской». СПб., 1852.
(обратно)164
Рассказ Святогорца схимонаха Селевкия о своей жизни и о странствовании по святым местам: русским, палестинским и афонским. СПб., 1860. С. 229.
(обратно)165
Русского на Афоне Пантелеимоновского монастыря иеромонах Арсений. М., 1890. С. 20.
(обратно)166
Изд. 7. М., 1886. С. 160.
(обратно)167
Описание этого приезда см. в книге: Русский монастырь св. Пантелеймона на Св. Горе Афонской. С. 136–159 и более обстоятельно в отдельной брошюре: «Двухдневное пребывание на Св. Горе Афонской Его Императорского Высочества великого князя Алексея Александровича». СПб., 1868.
(обратно)168
Приезд на Афон сего епископа описан в особой брошюре под заглавием: «Посещение Афона русским архипастырем Полтавским, а прежде настоятелем Соловецкого монастыря во время бомбардирования оного англичанами». Одесса, 1869. Достойное замечания совпадение. Нынешний игумен о. Андрей рукоположен в иеромонаха этим же преосвященным Александром и в тот же день, когда о. Макарий был возведен в сан архимандрита.
(обратно)169
Имея в своем распоряжении монастырскую печать, игумен делал даже долги от имени монастыря.
(обратно)170
Чиновник этот г. Аристокли-паша состоит и доселе на государственной службе и преподает философию в одном из высших турецких учебных заведений. Ему приписывается составление «канонизма Святой Горы», предложенного Патриархом Иоакимом II Афону, который долго и упорно отказывался принять оный. Но Патриарх настоял на своем и добился признания и утверждения его со стороны турецкого правительства, которое недавно обнародовало его в книге «Дестур» или в собрании законов. Практического значения этот «канонизм» не имеет на Афоне и до настоящего времени.
(обратно)171
Руссик в этом деле прибег даже к посредничеству русского посла в Константинополе графа Н. П. Игнатьева, который и оказал влияние на окончательное решение этого вопроса в Патриархии.
(обратно)172
Русский Вестник. 1873 г. Кн. I V. С. 665.
(обратно)173
«Какое бы мнение ни дал по сему делу Всероссийский Синод, – писал покойный митрополит Московский Филарет от 8 июня 1866 года, – вероятнейшее последствие то, что обе стороны (т. е. греки и болгары) будут недовольны и не примут оного; следственно, пользы не будет, советующая сторона будет оскорблена, и мир между Церквами и народами, более или менее, потерпит ущерб» (Савва, архиепископ. Собрание мнений и отзывов митрополита Филарета по делам Православной Церкви на Востоке. СПб., 1886. С. 362).
(обратно)174
Превосходную характеристику понимания публицистами Востока не существующего у нас панславизма дает нам К. Леонтьев в своей прекрасной статье «Панславизм на Афоне». «Русский пчел разводит на Святой Горе, – пишет К. Леонтьев, – может быть, по русской методе. Он панславист! А сын его? Сын, почти обманом сманивший отца сюда, о! сын его, конечно, агент Игнатьева, Фадеева, Каткова. Уважают греки русских духовников? Панславизм.
Берут греки других монастырей из греческих иноков Руссика, живущих дружно с русскими, игумена. Панславизм».
Берут скитские андреевцы в свою русскую среду одного грека монаха ученого, чтобы учить русскую молодежь свою по-гречески… Какова хитрость. Каков панславизм! Богат Зограф болгарский? Панславизм, потому что болгары и русские одно и то же. Богат Ватопед греческий? Панславизм, потому что имения его в России. Бедны греческие монастыри: Ксеноф, Симон-Петр, Эсфигмен? Опасно, – их подкупят. Волнуются запорожцы? Бунт! Интрига! Панславизм! Помог русский консул грекам – дурно сделал. Зачем вмешался? Не помог – еще хуже. Видите, и права греков не хотят поддержать. Болен русский консул… Он ничего почти не ест, говорят люди. Слухи ходят даже, что он хочет постричься. Вздор! Больной человек, воспитанный по-европейски, как все эти проклятые русские чиновники, не смеет болеть на Афоне; для этого есть воды всеспасительной Германии… Возможно ли верить, что ему приятно с монахами? что за скука! Мы, эллины, вот тоже европейцы, однако никогда туда не ездим, хотя от нас Афон и ближе. Кто же ныне уважает монашество?! Кто ж верит в мощи, благодать, чудеса, в исповедь и покаяние?» (Русский Вестник. 1873 г. Т. IV. С. 683). К этой превосходной характеристике г. Леонтьева нужно прибавить лишь то, что и современные восточные публицисты не пошли дальше в понимании сущности панславизма у нас, о котором они ежедневно трактуют и так и сяк.
(обратно)175
В настоящее время все газеты и журналы, печатающиеся в Константинополе, подчинены строгой и весьма стеснительной правительственной цензуре и поэтому крайне пусты и бессодержательны.
(обратно)176
Московские Ведомости. 1875 г., № 7.
(обратно)177
Здесь, очевидно, разумеются монастыри, получающие из России деньги с бессарабских своих имений. Ватопед, по словам К. Леонтьева, получает от 90 000 до 150 000 руб. серебром, Зограф от 50 000 до 60 тысяч руб., Ксиропотам (?) и Святопавловская обитель имеют в России имения с обеспеченными доходами (Русский Вестник. 1873 г. Кн. I V. С. 165). Греческий Иверский монастырь владеет в Москве Никольским монастырем, который приносит ему богатые доходы.
(обратно)178
Русский Вестник. 1873 г. Кн. I V. С. 677.
(обратно)179
К. Леонтьев пишет здесь сущую правду, потому что многочисленные статьи его, напечатанные в русских газетах и журналах, подписывались псевдонимом:
В. Константинов.
(обратно)180
Русский вестник. 1873 г. Кн. I V. С. 677.
(обратно)181
Газета эта с № 4 уже начинает заниматься церковными вопросами и помещает передовую статью под таким заглавием: «Tό πατριαρχείον ο ‘Αθος». «Пообещавшись, – говорится в этой статье, – что мы желаем заняться всеми вопросами, которые касаются нашей церкви и народа, мы полагаем, что время исследовать события, происходившие в последнее время на Афоне, события некрасивого свойства» и т. д.
(обратно)182
Для образца мы возьмем наудачу несколько номеров этой газеты и сделаем перевод юмористических телеграмм, какие помещались в них. «Афон, 1 ноября. Близ монастыря св. Пантелеймона обнаружена святыми отцами священного собора небольшая дырочка (τρυπίτσα), равная носу иголки, и доказано, что это большой ход, которым русские святотатственно намерены таскать в свое отечество народность и православие. Совершена литания о заключении дырочки». «Оттуда же того же дня. Вчера показался большой рой муравьев, выходящий, как бы густое облако, из некоей трещины одного старого дерева близ монастыря св. Пантелеймона. Это нечто иное, как русские, превращенные в муравьев, чтобы нас усыпить и взять у нас эллинизм и православие, но отцы бодрствуют над муравьями. В нынешние «мирные прошения» прибавлено следующее прошение: περ έξλοθρευσεως τών μορμήγχων. «Оттуда же. Полночь. Совершается торжественная литания об удалении и уничтожении русских монахов. Возлагаем надежду нашу на Бога, что он услышит нашу смиренную молитву и всех их проклятых τούς αναθεματισμενους уничтожит ради эллинизма и православия» (№ 35. Νοεμβρ. 8). «Афон. Октября 9. Русские встают ночью и таскают мешками в Россию эллинизм и православие. Поспешайте! Погибает эллинизм, погибает православие». «Оттуда. Сегодня. Составилось большое скопище мышей и комаров, злоумышляют против Эллинизма и православия. Известите Бутира, Иалема, Ананию, Икиади, Психари, Каратеодори, Каллиади, Маврогени и Хиа, чтобы они стояли на страже, потому что погибает эллинизм, погибает православие» (№ 31, октября 11). В этом роде писались и все другие статьи, газеты.
(обратно)183
Христианское Чтение. 1874 г. Кн. VIII–IX. С. 835–836.
(обратно)184
По поводу вопроса об Афонском монастыре Св. Пантелеймона. СПб., 1874. С. 54.
(обратно)185
Письмо о. Иеронима от 1 марта 1874 года к отцам в Москву.
(обратно)186
По поводу вопроса об афонском монастыре св. Пантелеймона. СПб., 1874. С. 59.
(обратно)187
Во все время так называемого Пантелеимоновского процесса русская братия молилась в своих церквах о даровании мира и тишины особыми, нарочито на сей случай составленными прошениями и молитвою. Вот эти прошения на великой ектении:
«О еже благословити доброе намерение и дело рабов твоих и благоизволити благополучно начати и спешно, кроме всякого препятия, во славу Твою скончати, силою, действом и благодатно Пресвятого Духа, Господу помолимся». «О еже ко благом утщанию рабов своих благопоспешство, со всяким довольством, силою действом и благодатию Пресвятого Своего Духа подати, Господу помолимся».
«О еже приставит делу сему Ангела-Хранителя, еже невидимо отразити вся противныя вещи видимых и невидимых врагов и во всем благопоспешство и мудрость к совершению, силою действом и благодатию Пресвятого Своего Духа подати, Господу помолимся». На сугубой ектении:
«Во всем поспешествуяй и всем во благое, Господи, милостивно и рабом Твоим, нам, ныне Тебе молящимся, поспешествуй, Спасе, и во благополучное совершение делу их спешно произвестися благослови, молимтися всемогий Владыко, услыши и помилуй». «Ангела Твоего Хранителя постави делу сему, благоуветливе Господи, и еже воспятити вся препятия видимых и невидимых врагов, поспешство же во всем ко благополучному совершению, молимтися, преблагий Спасе, услыши и помилуй». «Во славу Твою вся творити повелевый, Господи, рабом Твоим, благословением Твоим поспешство благополучное к совершению подаждь, молимтися, даровитый Творче, услыши и помилуй».
По сугубой ектении возглас: «Паки и паки колена преклоньше, Господу помолимся» и молитву сию, а в праздничные дни без коленопреклонения. Молитва. «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, приими недостойное моление наше в оставление грехов и беззаконий наших, ими же раздражихом Твое человеколюбие и прогневахом Твою благость, и отврати от нас гнев свой праведно на ны движимый, и утоли вся нестроения ныне сущия, и подаждь мир, тишину любовь же и утверждение рабом Твоим, их же честною Твоей искупил еси кровию, славы ради имене Твоего, утверждения же и укрепления Церкви Твоея, да вси славим пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».
(обратно)188
Члены этого совета, по крайней мере некоторая часть его, относились к русским афонским инокам весьма враждебно и не стеснялись в заседаниях совета произносить возмутительные инсинуации на них. Образчиком этого рода речей может служить «чтение» в заседании синода и смешанного совета 21 августа 1874 года, вышедшее потом в Афинах отдельной брошюрой под таким заглавием: «Ανάγνωσμα εν τη κατά την κά Αυγούστου συνεδριάσει της ιεράς συνοδοί καϊτού εθνικού συμβολιουύπό την προεδρείαν της Α θειοτάτης Παναγιωτητος του οικουμενικού υπό πατριάρκου Ίωακείαμ του Β' περί του ςητήμαος της εν τώ άγιωνόμω όρει ιεράς μονής τού αγίου Παντελεήμονος». Εν Αθην. 1874 έτ. (Чтение на заседании Св. Синода и Национального совета 21 августа под председательством Его Святейшества Вселенского Патриарха Иоакима II по вопросу священного на Афоне монастыря св. Пантелеймона. Афины, 1874.) Весьма веские возражения на это чтение были напечатаны в газете «Вυζάντις» № 1824 и в «Московских Ведомостях», № 271 и далее за тот же 1874 год.
(обратно)189
То же самое говорится и в письме о. Арсения из Москвы от 22 июля к тому же профессору Ф. А. Терновскому.
(обратно)190
Здесь о. Пантелеймон, очевидно, имеет в виду бурное заседание 18 сентября 1874 года по вопросу о национальности и подданстве игумена русского Пантелеимоновского монастыря. Святейший Патриарх Иоаким II, находя несправедливым и пристрастным требование, чтобы игумен русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне был грек и непременно турецкий подданный, на чем настаивали протатский канонизм и некоторые члены смешанного совета, так как в других монастырях Святой Горы хотя игумены греки по происхождению, но далеко не все они подданные султана, предложил отсрочить рассуждения о подданстве игумена до выработки общего канонизма для всей Святой Горы. Это предложение Патриарха вызвало целую бурю со стороны членов смешанного совета, не расположенных к русским афонским инокам, так что пять членов его: И. Икиади, К. Каратеодори. С. Маврогени, А. Психари и Каллиади вышли из состава смешанного совета. Данным предложением Вселенского Патриарха остались весьма недовольны и русофобские газеты «Neológoj» и «Qr£kh», поспешившие обвинить Патриарха в панславизме и членов синода и остальных членов смешанного совета в подкупе русскими деньгами. Чрезмерное усердие этих органов печати в данном случае и их неприличные выходки против главы Константинопольской Церкви и почтенных членов синода и совета не остались не замеченными в сферах оттоманского правительства, которое чрез официальный орган «Turquie» сделало этим греческим газетам серьезное внушение. «Считаем своим долгом, – говорит газета «Turquie», – выразить свое сожаление, что два здешних греческих органа продолжают свое дело (т. е. рассуждения по поводу выхода пяти членов из смешанного совета) с излишней энергией, – только волнующей общественное мнение, и даже позволяют себе наложить пятно на искренность Вселенского Патриарха и большинство членов названных учреждений. Они забывают, что ныне восседающий на константинопольской кафедре был недавно возведен на нее, по всеобщему избранию как духовенства, так и народа, чего, конечно, не могло бы случиться, если бы опыт прошлого не убедил всех в высоких способностях и преданности этого архипастыря интересам церковной общины» (Христианское Чтение. 1874 г. Кн. XI. С. 388).
(обратно)191
К великому удовольствию Вашему, мы можем засвидетельствовать, что надежды этого рода греческой нации не сбылись. В лице нынешнего гуманного и высокопросвященного посла нашего при Оттоманской порте А. И. Нелидова русские иноки монастыря св. Пантелеймона имеют сильного покровителя и неустанного защитника их интересов.
(обратно)192
Письмо о. Пантелеймона из Константинополя к профессору Терновскому от 26 августа 1875 года.
(обратно)193
Русский монастырь св. великомученика и целителя Пантелеймона на Святой Горе Афонской. 7-е изд. М., 1886.
(обратно)194
В числе представителей от кинота находился и ныне здравствующий симонопетрский игумен – архимандрит Неофит, который во все время процесса был на стороне русских и открыто говорил в их защиту пред членами протата. Это обстоятельство сблизило о. Неофита с покойным о. Макарием, который, памятуя его услуги, до самой кончины был с ним в дружеских отношениях и даже выхлопотал для него пред Св. Синодом Русской Церкви право сделать в России сбор милостыни на устройство ветхой и бедной, а в 1891 году в мае месяце сгоревшей до основания обители. (См. нашу заметку о пожаре этой обители в «Церковных Ведомостях» за 1891 г. № 30.) О. Неофит два года находился в пределах нашего отечества, был принят повсюду весьма радушно и возвратился на Афон не с пустыми руками…
(обратно)195
По словам корреспондента «Московских Ведомостей», прежде переголосования экзархи предложили братии подписать две бумаги по выбору. На одной было написано: «Подчиняемся решению Великой Церкви и согласны приступить к выборам игумена», а на другой: «Не подчиняемся решению Великой Церкви и не согласны приступать к выборам игумена». Первая бумага была покрыта будто бы 415 подписями, а вторая 118 (Московские Ведомости. 1875 г. № 203).
(обратно)196
Нужно заметить, что перевод настоящей грамоты, хотя близок к подлиннику, но имеет немало шероховатостей и даже неточностей.
(обратно)197
Русский монастырь св. Пантелеймона на Святой Горе Афонской. 7-е изд. М., 1986. С. 237–239.
(обратно)198
Syrie, Palestin. mont Athos, voyage au pays du passe. P. 327–328.
(обратно)199
Московские Ведомости. 1875 г. № 210.
(обратно)200
Там же. № 239.
(обратно)201
Из слов о. Макария к братии по поводу его поставлен в игумена.
(обратно)202
Обе эти грамоты в русском переводе напечатаны в «Московских Ведомостях». 1875 г. № 272.
(обратно)203
Московские Ведомости. 1875 г. № 267.
(обратно)204
Полный текст этой грамоты напечатан в Константинопольской газете «Μικρά Ασία» (№ 195за 1875год).
(обратно)205
Граф Н. П. Игнатьев высоко ценил о. Макария и свое уважение к его выдающимся достоинствам выразил по поводу его смерти в телеграмме на имя о. Иеронима, архимандрита – игумена Симоно-Канонитского монастыря на Кавказе. Вот эта телеграмма: «Мир праху, вечная память доблестному подвижнику архимандриту Макарию, верному служителю церкви. Кончина глубоко опечалила меня. Да пребудет благословение отцов Иеронима и Макария незабвенным» (Игнатьев. 22 июня).
(обратно)206
Покойный о. Макарий в этих видах составил особое слово, которое в рукописи ходило по рукам между братиею. «Нам, – говорилось в этом слове, – нужно забыть все, сделанное попущением Божиим собратиями нашими. Рцем братиям и сердцем и усты глагол любви, ненавидящим нас простим вся во имя Господа, всем хотящего спастися, и воспримем отныне путь любви братственного снисхождения и о Христе едином. Не будем смотреть один на другого с завистию, злобою и ненавистью, не будем говорить любопретельно… Если сравнить, то ничего мы не понесли противу бывших испытаний с предшественниками нашими всех веков иноческого бытия. Не будем обвинять кого-либо, кроме своих недостатков, а будем лучше благодарить Господа, что мы есмы чада Божией любви, а не гнева, что он милосердый по благости своей благоволил нам узреть Его неизреченную милость, великое заступление Царицы Небесной и помощь св. страстотерпца Пантелеймона, яко не по грехам нашим воздать есть нам. Великая Церковь в лице своих высокосвященных пастырей и избранных в содействие благочестивых христиан смотрела на наше дело беспристрастно и после долговременной борьбы с человеческими страстями благоволила дело нашей горькой распри по всей справедливости законов не только церковных, но и человеческих. Оно не умрет в истории!».
(обратно)207
Московские Ведомости. 1875 г. № 210.
(обратно)208
Эта министерская телеграмма, посланная из С.-Петербурга в 4 часа пополудни, получена в Солуни в 8 часов вечера.
(обратно)209
Настоящее черновое письмо о. Макария мы имели в неоконченном виде.
(обратно)210
Очевидно, здесь разумеется признание греческих афонских монахов подданным и турецкого султана в 1430 году 1 мая и их обязательство платить харачь или подать.
(обратно)211
Разумеется политика графа Н. П. Игнатьева.
(обратно)212
Θράχη. № 1034.
(обратно)213
Прекрасный и обстоятельный разбор этой статьи сделан Н. Константиновым в «Русском Вестнике» за 1873 год (кн. I V. С. 684–701).
(обратно)214
Θράχη от 8 августа 1877 года, № 1083.
(обратно)215
Для знакомства с языком этой газеты приведем начало статьи под заглавием «Акафист России». Вот оно: «А, наконец, спала отвратительная маска! Наконец, разорвалось покрывало обмана! Наконец, исчезло жалкое пугало и явился нагой и отвратительный вид Скифа в мрачном своем безобразии! Снял воинские доспехи благоговейного крестоносца, под которым скрывал коварный злодейский свой умысел. Сбросил, романическую мантию рыцаря свободы, и показался, наконец, мрачный и коварный, кровожадный сармат, варварский и дикий сын Урала и Волги» и т. д. (Neologoj от 4 марта 1878 г. № 164). Дальнейшие выписки из этой цинически кощунственной статьи мы прекращаем, имея в виду условия нашей цензуры.
(обратно)216
Текст этой депеши был напечатан в греческом переводе в константинопольской газете «Neologo j» от 16 августа 1877 года, № 2554.
(обратно)217
Сведения эти мы заимствуем из брошюры, разосланной благодетелям по заключении мира, весной 1878 года: «О состоянии Афона во время войны Русско-турецкой». К этой брошюре мы нередко будем отсылать ниже наших читателей.
(обратно)218
Экзарх, между прочим, посоветовал о. Макарию не поминать на богослужении Русский Императорский Дом. Поэтому до окончания войны читались так ектеньи: «О благочестивых и богохранимых царях и князях Господу помолимся», «Еще молимся о милости жизни и т. д. ктиторов и благодетелей св. обители сей: Александра, Марии» и весь Царствующий Дом поименно.
(обратно)219
Θράκη, от із ноября 1877 года.
(обратно)220
Из донесения о. Макарию антипросопа от 3 июля.
(обратно)221
з брошюры, разосланной после войны благодетелям.
(обратно)222
Полный текст «прелиминарного» правового договора напечатан в Правительственном Вестнике. 1878 г. № 51.
(обратно)223
«Ανατογ άστήρ». № 26. 31 марта 1878 г.
(обратно)224
Θράχη. № 1251. 25 марта 1878 года.
(обратно)225
Афонская газета «Ηρμήξ» от апреля 1878 года пишет по поводу этой статьи следующее: «С удовольствием извещаем, что замечания Θράχη на 22 § трактата св. Стефана обратили особенное внимание Патриархии, и по полученным нами удостоверениям священный синод займется этим вопросом на сей неделе».
(обратно)226
Νεολογός. № 2715. 27 марта 1878 года.
(обратно)227
Перевод этой депеши помещен в «Московских Ведомостях». 1878 г. № 80. Газета «Ηρμήξ», воспроизводя на своих страницах это место циркуляра лорда Солсбери, относит XXII статью «к русским монахам» на Афоне.
(обратно)228
Прав. Вестн. 1878 г., № 71.
(обратно)229
Перевод протоколов этого заседания мы заимствуем из Московских Ведомостей. 1887 г. № 187.
(обратно)230
Правительственный Вестник. 1873 г., № 163.
(обратно)231
Московские Ведомости 1878 г., № 176.
(обратно)232
Об этих непохвальных качествах ильинских скитников говорит, хотя и весьма сдержанно, даже официальная брошюра: «Русский общежительный скит св. пророка Илии на Афонской горе», вторично изданная в Одессе в 1889 году на средства скита для раздачи русским поклонникам. С. 27–32.
(обратно)233
Письмо Гладкова к старцам Руссика от 27 октября 1873 г.
(обратно)234
«Не знаю, что и делать и как поступить, чтобы низвергнуть негодных обладателей, – откровенно сознавался о. Иннокентий в письме к Гладкову. – При том же боюсь, чтобы не пала на меня вся беда за нарушение нынешнего спокойствия, хотя только наружного и, кажется, недолговременного» (Письмо от 15 сентября 1873 года).
(обратно)235
Письмо от 15 сентября 1873 года.
(обратно)236
Письмо от 24 августа 1873 года.
(обратно)237
Письмо г. Гладкова к старцам от 1 и 5 сентября 1873 года.
(обратно)238
Письмо г. Гладкова к о. Иннокентию от 16 октября 1873 года.
(обратно)239
Письмо о. Макария от 30 октября 1873 года; ср. письмо о. Иннокентия от 27 октября того же года.
(обратно)240
Письмо старцев к Гладкову от 22 сентября 1873 года.
(обратно)241
Письмо от 27 октября 1873 года.
(обратно)242
Письмо от 15 декабря 1873 года.
(обратно)243
Здесь о. Андрей разумеет секретную переписку о. Иннокентия, захваченную у последнего в келлии. Эту переписку в копиях о. Андрей отправил при этом письме на просмотр о. Иеронима. Она состояла из 8 писем о. Иннокентия, 5 писем Гладкова и одного письма о. Макария.
(обратно)244
Письмо о. Андрея к о. Иерониму от 7 декабря 1873 года.
(обратно)245
Это желание построить особую келлию о Иннокентий высказал в письме от 3 июля 1873 г. к о. Филарету, у которого для этой надобности он просил 800 руб. серебром.
(обратно)246
Письмо это нам известно в черновике и без точной даты его отправки по назначению.
(обратно)247
В правление сего о. Андрея совершилось в Ильинском скиту чудо, заактированное собственноручными подписями настоятеля и важнейших старцев его, свидетелей чудесного явления. Акт этот, нигде доселе не напечатанный, надписывается так: «Сказание о знамении, явленном от иконы Божией Матери Тихвинския, находящейся в русском общежительном Ильинском ските на Афонской Горе, коей мера и подобие с чудотворной иконы в Тихвинской обители» и дословно гласит следующее:
«1877 года, февраля 17 дня, в четверток на второй неделе святыя четыредесятницы, после отправленных часов в соборной церкви во имя св. пророка Илии, в третьем часу дня (по-европейски 8 часов утра), увидели мы нижеподписавшиеся семь человек на иконе Божией Матери Тихвинской, находящейся в кивоте, за престолом в алтаре сея соборныя церкве, ясный мокрый след слез, пролитых из правого глаза Божией Матери чрез всю икону вниз и кои все остановились на раме иконы, а на левом глазе стояла одна большая капля слезы, которая минут через 10 при нас скатилась на полвершка вниз. И мы в это время сии слезы вытерли ватою начисто и самую икону вынимали из кивота для осмотрения ее с обеих сторон, и она оказалась совершенно сухою, а после поставили оную на свое место и, все вышедши, заперли церковь, с тем, чтобы туда никто не входил. После же через три часа, в половине седьмого, как только перетокали (окончили удары в деревянное ручное било деревянным молотком) на вечерне, мы вошли в церковь и вновь увидели на сей иконе не совсем ясные засохшие от времени следы слез, пролитых из обоих очей Божией Матери: из правого глаза чрез всю икону вниз, кои остановились в значительно заметной мокроте на правой ланите, груди и внизу на раме, а из левого глаза по иконе вниз и кои все остановились на правой благословляющей ручке предвечного младенца Спасителя, а ниже ручки не пошло по иконе ни одной капли, тогда как вся ручка была замочена слезами, подобно как бы в ту минуту значительно облита водою. И на сей ручке слезы стояли, как мы смотрели, более часа, что было достойно удивления. И в то же время мы увидели на левом глазе одну большую каплю слезы, которая чрез четверть часа при нас скатилась по иконе вниз вершка на три. Но во все это время на обеих глазах была от слез очень заметная мокрота. По видении сем, мы опять все эти слезы вытерли, а после того уже слез от иконы не видели. В истинном показании всего этого и свидетельствуем собственноручной подписью и приложением нашей Ильинской обители печати. 21 февраля 1877 года.
Подлинное подписали:
Русского общежительного скита св. пророка Илии
Настоятель, Иеросхимонах Андрей.
Иеромонах Паисий.
Иеросхимонах Каллист
Иеромонах Ливерий.
Иеродиакон Феоктист.
Монах Мануил.
Монах Герасим».
(обратно)248
Обстоятельные сведения о ските можно почерпнуть из следующих брошюр: Серай, новый русский скит св. апостола Андрея Первозванного на Афоне. СПб., 1858; Общежительный русский скит св. апостола Андрея Первозванного. Одесса, 1875; Происхождение и основание общежительного скита во имя св. апостола Андрея Первозванного на Святой Горе Афонской. Одесса, 1885; Краткий исторический очерк русского на Афоне Свято-Андреевского общежительного скита с приложением повествования о чудесах от принадлежащей сему скиту иконы Божией Матери «В скорбех и печалех утешение». Одесса, 1890.
(обратно)249
Многосторонняя и плодотворная деятельность о. Феодорита подробно описана в «Кратком историческом очерке русского на Афоне Свято-Андреевского общежительного скита». С. 18–24.
(обратно)250
Из донесения антипросопа о. Нафанаила к о. Макарию от 28 марта 1878 года.
(обратно)251
Покойный о. Мина сохранит для нас весьма любопытные замечания на некоторые параграфы серайского канонизма, выработанного в это время Ватопедским монастырем. Эти замечания принадлежат поборнику строгих киновиальных начал и древнемонашеского старчества, покойному духовнику русского Пантелеимоновского монастыря о. Иерониму. Вот эти замечания на некоторые параграфы:
§ 1. «Управление состоит из дикея и 16 других равноправных ему, а в других правилах и более его. Где же тут общежитие?».
§ 6. «Шестой член – чистый идиоритм, ибо представляет ежегодное избрание, и потому неизбежное волнение, а бедный дикей в стороне. Какое же тут старчество?».
§ 9. «Дикей должен совещаться с эпитропами, а если так, то для чего же еще нужен собор? Разве для того, чтобы сделать многоначалие, т. е. республиканское правление?».
§ 13. «В этом члене дается власть собору над дикеем. И тут выражена аристократия, а не киновея. Из сего произойдут презорства, подозрение и нескончаемые смуты».
(обратно)252
«За последний совет, мне сообщенный – удержать за собой духовное управление и старчество, – писал от 5 февраля 1879 года о. Феодорит старцам Руссика, – мною прежде было заявлено в братском соборе, когда три раза приглашали и просили принять начальство. На мое заявление все были согласны, так и учрежденное правление я согласился признать с некоторыми изменениями, которые сочел несогласными с местными и церковными правилами».
(обратно)253
Все эти сведения заимствуются из бумаги Ватопедского монастыря в Андреевский скит от 15 апреля 1879 года за № 136.
(обратно)254
Письмо из Ватопедского монастыря в Андреевский скит от 17 апреля 1878 года за № 138.
(обратно)255
Письма с Востока в 1849–1850 годах. СПб., 1851. Ч. I. С. 278–279.
(обратно)256
В Старом Руссике живет немного братии, человек не более 20, так как устав здесь соблюдается с большею строгостью, чем даже в самом монастыре, и потому не всякий может вынести строгость его. Братия Старого Руссика воздерживается от употребления елея в пищу в течение пяти дней недели через целый год.
(обратно)257
Кроме параклиса св. Саввы Сербского в том же корпусе имеются еще два параклиса в честь 42 мучеников в Аммории и в честь св. великомучениц Варвары, Екатерины, Александры, Параскевы и всех прочих святых мучениц.
(обратно)258
Подробная история основания этой обители находится в книге архимандрита Леонида: «Абхазия и в ней ново-афонский Симоно-Канонитский монастырь. М., 1885. Ч. II. С. 99–138.
(обратно)259
Подлинная эта инструкция носит такое заглавие: «О Кавказе. Взгляд на избираемое место, дарованное по ходатайству его высокопревосходительства г. посла Н. П. Игнатьева Государем Императором Всероссийским для водворения афонского монашества, 1875 г.», и сообщена нам любезно о. иеродиаконом Пантелеимоновского монастыря на Афоне о. И., которому и считаем долгом принести свою глубокую благодарность как за это сообщение, так за некоторые другие.
(обратно)260
В подлиннике сделано следующее примечание: «Все древние святые отцы выбирали место для монастырей по преимуществу самое красивое, что замечено и современными путешественниками».
(обратно)261
См. одиннадцатый пункт сей инструкции.
(обратно)262
Акт этот подписан главнокомандующим кавказской армией генерал-фельдмаршалом великим князем Михаилом, и начальником кавказского горского управления генерал-лейтенантом Комаровым.
(обратно)263
О Пицундском Софийском храме подробные сведения можно находить в книге наместника Троице-Сергиевской московской лавры, архимандрита Леонида: «Абхазия и ее христианские древности. М., 1887». С. 30–41; в брошюре Н. Мурзакевича «Пицундский Успения Пресвятой Богородицы монастырь на восточном берегу Черного моря. Одесса, 1876»; Записки Императорского Одесского общества истории и древностей 1877 года, т. X.
(обратно)264
На этот храм обращали свое внимание еще императоры Александр I и Николай I. В 1844 году была даже ассигнована сумма в 35 198 р. 50 к. на его возобновление, но осуществить желание покойных императоров удалось лишь наместнику Кавказа, великому князю Михаилу Николаевичу. В 1869 году Пицундский храм освящен и предлагался Киево-Печерской обители в заведование, но она почему-то отказалась. На свое попечение взяла было этот храм московская Троице-Сергиевская лавра, выславшая положенное по штату количество монахов, получавших от правительства жалованье, но пред войной 1877 года и она оставила его. Монахи лаврские возвратились в свою обитель. Храм Пицундский оставлен был на произвол судьбы, пришел в запущение и в таком виде оставался до 1885 года.
(обратно)265
Душепол. Собеседник. Вып. 20. 1888 г. С. 220–221. М.
(обратно)266
Эти отзывы см. в книге архим. Леонида: «Абхазия и в ней ново-афонский Симоно-Канонитский монастырь. М., 1885», с. 136–137 в брошюре М. Сизикова «Путешествие на Кавказ и пребывание несколько дней в Ново-Афонском Симоно-Канонитском монастыре». М., 1874.
(обратно)267
Замечательно, даже враги монашества и люди, весьма нерасположенные к афонским русским инокам, не могут надивиться быстрым культурным успехам этих последних в Абхазии, в стране еще недавно дикой и заброшенной. Образчиком подобных статей может служить весьма тенденциозная статья некоего М. Ремезова «По своим краям» в Русской Мысли в VIII кн. за 1892 г. С. 105–108.
(обратно)268
Посадки масличных деревьев, а также некоторые сорта виноградных лоз перенесены на Кавказ с Афонской Горы.
(обратно)269
Около 20 десятин засевают теперь пшеницей, овсом и гречихою и все это родится в изобилии! Кроме того в монастыре устроены прекрасные молочные фермы, благодаря обилию скота крупного и мелкого и роскошных пастбищ, кирпичные заводы для выделки черепицы, здания для кузницы, столярной, портняжной, сапожной, для выделки виноградного вина и т. п.
(обратно)270
Железная дорога передвижная, приобретена обителью в 1884 г. в Тифлисе по весьма сходной цене.
(обратно)271
Новое Время. 1889 г. № 4880. Ср. ту же газету: № 3870. 1886 г.; № 5458. 1890 г.; Гражданин., № 296. 1888 г.; Русский Вестник. 1892 г. VIII кн. С. 91–94 и др. Абхазцы, окончившие хорошо курс в монастырской школе, поступают в учительскую семинарию, по окончании которой делаются учителями среди своих соплеменников и таким образом естественно становятся и проповедниками между ними христианского вероучения и просвещения.
(обратно)272
Из ненапечатанного слова о. Макария, произнесенного 1877 г. 11 февраля, к братии, по поводу открытия Пантелеимоновской часовни при Богоявленском московском монастыре.
(обратно)273
Подробные сведения о построении и освящении петербургского Афонского храма содержатся в брошюре: «Духовное торжество и сердечная радость между петербургскими почитателями афонской святыни». Изд. 2. СПб., 1889.
(обратно)274
См. духовное завещание о. Макария: Душеполезный Собеседник. Вы п. IX. 1889 г. С. 231.
(обратно)275
Беру первую попавшуюся мне под руки пачку брошюр, тщательно завернутых в бумагу и приготовленных для раздачи паломникам, и в ней перечисляю, для ознакомления читателей с характером и содержанием этих брошюр, названия их. Все брошюры в 16 и 24 долю листа печатаны на хорошей бумаге, четким шрифтом и нередко украшены подходящими к тексту рисунками. Вот какие брошюры составляют взятую мною случайно связку: 1) Акафист св. великомученику Пантелеймону (72 с. в 32 долю листа). 2) Путеводитель по Святой Афонской Горе (72 с.), 3) при нем имеется атлас видов (24) монастырей и скитов Святой Горы. 4) О кончине мира (32 с.). 5) Указание пути в царство небесное (18 с.). 6) Краткие мысли на каждый день (94 с.). 7) Бог в природе (36 с.). 8) Какой вред приносит человеку табак (16 с.). 9) Беседа о молитве (32 с.). 10) Глухая исповедь (20 с.). 11) Данное на потребу (30 с.). 12) Догмат о святых иконах по Стефану Яворскому (63 с.). 13) О необходимости поминовения усопших (34 с.). 14) Беседа архиепископа Никанора в неделю блудного, при поминовенин поэта Пушкина (42 с.). 15) Житие св. апостола Фомы (16 с.). 16) Сказание о жизни и подвигах старца Даниила г. Ачинска (51 с.). 17) Житие св. Петра, сборщика податей (8 с.). 18) Житие св. Нифонта (16 с.). 19) Житие св. Филарета милостивого (32 с.). 20) Жизнь преподобного Петра Афонского (33 с.). 21) Афонские современные подвижники (40 с.). 22) Путь ко спасению в исполнении заповедей Христовых (46 с.). 23) Житие пр. Афанасия Афонского (51 с.) 24) Святая Гора Афон, земной удел Божией Матери (26 с.). 25) Душеполезное чтение (31 с.). 26) Молва мира сего и безмолвие (72 с.). 27) Житие св. Дмитрия мироточивого (40 с.). 28) Слово пр. Исихия, пресвитера иерусалимского о трезвении и молитве (61 с.). 29) Обетования Богоматери благоговейным насельникам Святой Горы Афона (31 с.). 30) Слово св. архиепископа Александрийского «о исходе души и страшном суде» (24 с.). 31) Животворящий Крест Христов (24 с.). 32) Кончина мира, страшный суд и вечность мук (64 с.). 33) О необходимости и пользе частого причащения пречистых Таин Христовых и о приготовительном к нему покаянии (40 с.). 34) Житие св. Григория, архиепископа Омиритского (40 с.). 35) Житие св. Нины, просветительницы Грузии (34 с.). 36) О Божием мире (48 с.). 37) Беседы о покаянии (48 с.). 38) О Божием слове (63 с.). 39) Святый великомученик Пантелеймон (32 с.). 40) Догмат о святых церковных постах по Стефану Яворскому (78 с.). 41) Ад и рай (24 с.). 42) Беседа архиепископа Никанора «О трех старцах или о том, что должно изучать и знать веру христианскую» (16 с.). 43) Его же. Что такое святой Афон для православной России? (16 с.). 44) О пьянстве и других богопротивных привычках: курении табаку, сквернословии, пении мирских песен, игрищах, катаниях, суеверии и божбе (112 с.). 45) Описание знамений и исцелений Благодатию Божиею от святых мощей и Животворящего Креста (140 с. 46) Духовное торжество и сердечная радость между петербургскими почитателями афонской святыни (56 с.). В распечатанной пачке до полного узаконенного количества недостает четырех брошюр.
(обратно)276
В связке, случайно взятой мною, находятся 52 листка разного наименования: 1) Письма иеромонаха Арсения к разным лицам (32 с.). 2) Путь к спасению (4 с.). 3) Замечательное обращение старообрядки (8 с.). 4) Кладбище – весьма назидательный учитель (4 с.). 5) Замечательное сновидение (4 с.). 6) Торжество Божия правосудия (8 с.). 7) Правила для благочестивой жизни (8 с.). 8) Дивная христианская кончина отрока (4 с.). 9) Христианин – храм Божий (8 с.). 10) Обращение к православию черкеса и татарина (4 с.). 11) На что пост? (4 с.). 12) О чтении духовных книг (8 с.). 13) Сказанье об иконе Божией Матери, именуемой «Избавительница» (8 с.). 14) Сказание об Иверской иконе Божией Матери (4 с.). 15) Чудесное исцеление от паралича (4 с.). 16) Кто наследует живот вечный (4 с.). 17) Седьм таинств церковных (4 с.). 18) На новый год (8 с.). 19) Пророческий сон младенца (4 с.). 20) Как душу спасать (8 с.). 21) Друзья до гроба и за гробом (8 с.). 22) Не отчаивайся в спасении (8 с.). 23) Четвертая заповедь Божия (8 с.). 24) Скорби ведут нас на небо (4 с.) 25) Милостыня – самая большая и ценная у Бога добродетель (4 с.). 26) Христианское звание (8 с.). 27) Обязанности гражданские общественные (4 с.). 28) Беседа о молитве (8 с.). 29) Святый великомученик и целитель Пантелеймон (4 с.). 30) Не дела только, но и помыслы будет судить Господь (4 с.). 31) Указание пути в царство небесное (8 с.). 32) Никакие дела, время и место не могут препятствовать вам молиться (4 с.). 33) Как утвердить в себе памятование смерти, живя в мире среди житейской суеты (4 с.). 34) Как утвердить в себе веру в Бога (4 с.). 35) Преосвященный Антоний, архиепископ воронежский (8 с.). 36) Беседы и наставления преосвященного Антония (8 с.). 37) Краткое объяснение тридцатитрехлетнего Креста Господа нашего Иисуса Христа (4 с.). 38) Две главнейшие за поведи Божии (8 с.). 39) Дивные знамения благодати Божией (8 с.); 40) Действие благодати Божией на обращающегося грешника (8 с.). 41) Что такое жизнь и как должно жить? (8 с.). 42) Нечто о милостыни нищим (4 с.). 43) Моление сладчайшему Господу Иисусу при исходе души из тела (4 с.). 44) Господь награждает добродетельных в сей жизни (8 с.). 45) Молитва к Богородице пред иконою «Достойно есть» (2 с.). 46) Крест Христов и крестное знамение (4 с.). 47) Плач о грехах (4 с.). 48) Пути промысла Божия (4 с.). 49) Покаяние и исповедь (8 с.). 50) Размышление о смерти (4 с.). 51) О покаянии (4 с.). 52) Умная молитва – долг мирян (4 с.). 53) Св. Нифонт, епископ города Констанции (8 с.). 54) Святая Гора Афон, земной жребий Божией Матери (4 с.). 55) Моление ко св. великомученику и целителю Пантелеймону (2 с.). и 56) Пребывание в Москве Афонской святыни и исцеления от нее (4 с.). В данной связке количество листов превышает нормальную цифру на шесть листков.
(обратно)277
Все эти брошюры составляют прямые извлечения из II части «Бесед с молоканами» иеромонаха Арсения, издания Пантелеимонова монастыря на Афоне.
(обратно)278
В каких грандиозных размерах было задумано это предприятие, мы видим из письма о. Арсения на Афон от 28 августа 1864 года. «Машину для печатания, – пишет он о. Иерониму, – не советуют нам покупать, ибо за ней много хлопот, и нужен около нее опытный машинист, а всего около машины нужно пять человек, знающих свое дело. Бывают случаи, что приглашают и стороннего механика в случае большого расстройства в машине. Вместо машины советуют нам купить два стана, стоящие около 500 рублей оба. На них можно печатать по 1200 листов в день на каждом. Устройство их – самое простое. Церковного шрифта надеюсь скоро купить и послать вам. А о словолитне говорят, что и думать не надо. Это многосложнейшая и хлопотливейшая статья и ценная». Словолитня действительно была оставлена; но дело о машине для печатания обсуждалось долго и после. В письме от 16 сентября того же года о. Арсений пишет на Афон: «Славянского шрифта постараюсь поболее купить, если возможно, а о печатной машине, вероятно, о. Мелетий похлопочет. Жду его сюда, по письму его. Не нужно ли нам здесь хотя из жалования подыскать человека, который мог бы устроить у нас книгопечатание? Имеющийся у нас человек знает ли хорошо дело это? Постараюсь поспешить послать в Одессу, что есть нужное для отправки в обитель». В письме следующего периода говорится по тому же поводу следующее: «Церковного шрифта о. Мелетий заказал здесь пудов двадцать или поболее. Что делать, – будем печатать нужное для себя. А если бы потребовалась печатная машина, т. е. станок, то всего лучше купить, выписав чрез константинопольских агентов, оттуда, где более делают эти вещи, и обойдется против здешнего вполовину дешевле. Шрифта крупного не отливают, а заказал, какой могли найти в словолитне». В конце концов покупка печатной машины не состоялась, и печатались брошюры и листки на обычных печатных станках, о которых говорил о. Арсений в первом своем письме.
(обратно)279
В 1857 году в Константинополе было дозволено напечатать на болгарском языке Апостол и Евангелие экзарху Александру Стоиловичу, но с непременным условием «устранить воспоминание императорской российской фамилии и оскорбительные выражения против Оттоманской державы» (Арх. Савва. Собрание мнений и отзывов митрополита Филарета по делам Православного Востока. С. 181). Митрополит Филарет по этому поводу высказал свои опасения относительно могущего произойти отсюда «более вреда, нежели по первому виду представляется». «Стоит труда, – писал по сему случаю великий иерарх Русской Церкви, – сделать опыт доставить болгарам из России нужнейшие богослужебные книги, напечатанные так, чтобы враги православия не могли указать на них, как на противные политическому положению Турции» (Там же. С. 182). Но мысль эта осталась без осуществления на деле в России. Вторичная попытка к изданию церковно-богослужебных книг для южных славян относится к 1866 году и принадлежит Осману-паше, который задумал выполнить свое намерение в Сараеве в Боснии в тамошней турецкой сербской типографии. Отзывчивый на все, касающееся дел Православной Церкви, московский владыка и на сей раз не замедлил предостеречь православных и затею Османа-паши назвал «оскорбительною и вредною для православия» (с. 360), хотя в то же время бороться с этой затеей отсоветовал и предоставил это дело ведать Вселенскому Патриарху (с. 361). Мысль русских иноков на Афоне завести для печатания церковно-богослужебных книг для славян Балканского полуострова типографию шла, следовательно, навстречу желаниям и планам московского владыки и едва ли даже не без цели угодить ему.
(обратно)280
У некоторых из афонских иноков было желание этими книгами своей типографии снабжать и русский народ. При печатании славянскихкниг, пишет на Афоне о. Арсений от 11 октября 1864 г., нельзя не просить раз и навсегда дозволения печатать так: «печатано с дозволения Святейшего Константинопольского Патриарха», – таковые книги, полагаю, и в России не были бы преследуемы как не цензурованные.
(обратно)281
Греческие копии с этого прошения, а равно и с ответа на него Патриарха, любезно сообщены Вам почтенным грамматиком и библиотекарем монастыря о. Матвеем.
(обратно)282
Из корреспонденции министерской газеты «Северная Почта» за 1866 год, перепечатанной в книге: «Описание знамений и исцелений от святых мощей и части Животворящего Древа Креста Господня, принесенных со Святой Афонской горы». М., 1880. С. 52–57.
(обратно)283
Из письма о. Арсения к о. Иерониму в 1867 году.
(обратно)284
Из письма о. Арсения на Афон без даты.
(обратно)285
Письма о. Иеронима к о. Арсению от 15 апр. 1790 года.
(обратно)286
«Теперь на мне такая обуза: печатание книг и образов, – откровенно писал старцам в обитель о. Арсений. – С художниками постоянно неприятности; всякий хочет кое-как сделать и поскорее деньги взять, а станешь говорить, что не так, – и выговорить не дадут. Все одного покроя. Я их перепробовал. От неприятных хлопот и забот, чтобы не захворать. Все это у меня действует на голову. К тому же дела разного куча, письменного. Теперь очень серьезное дело – собрание чудес от святых мощей бывших. После напечатания книжки их очень много, более 100. Есть надежда, что отпечатают. Не хочется опустить дело это, оно поведет к славе Божией и обители нашей и на пользу многих православных. Прошу вашего благословения на этот предмет, который потребует уделить много времени, а у меня его и без того нет. Что делать? У меня два стола завалены бумагами, служение молебнов много берет времени. Много исполняется не так, как бы я желал, но нет времени заняться предметом». Письмо от 17 ноября, кажется, 1868 года. В другом письме к старцам о своем московском житье, в Троице-Сергиевской лавре, о. Арсений пишет следующее: «Здоровье заметно ослабевает. Как-то Господь поможет все кончить? Отдыха ни малейшего не могу иметь, при всем желании хотя некоего успокоения. Утром с 5 часов встаем и, по неотступной просьбе, отправляемся в дома служить молебны. Потом возвращаемся в лавру, служим молебны приходящим, а вечером тоже в домах служим молебны, или отправляюсь по прочим необходимым делам обители. Возвращаюсь в лавру вечером, по большей части в 10 часов и занимаюсь, сколько могу, необходимейшими письмами и прочими делами, так что ни помолиться Богу в уединении, ни сходить в церковь совершенно нет времени». Можно найти время, если отказать требующим отслужить молебны, но совесть воспрещает. Да и как будем молиться Богу, отказав жаждущим помолиться и исцелиться от святыни? Только в праздники отказываю утром и хожу к литургии» (Письмо от 1865 года). Те же жалобы на постоянные недосуги и множество хлопот наполняют письма о. Арсения и к другим лицам.
(обратно)287
О значении типикарей в церковно-богослужебной практике на Афоне подробнее см. в нашем исследовании: Дмитриевский А. А. Современное богослужение на Православном Востоке: историко-археологическое исследование. Киев, 1891.
(обратно)288
В случайно попавшем нам под руки «Каталоге» 1890 г., и притом весьма неполном, помещены названия более чем двухсот изданий, причем некоторые из этих наименований в несколько томов (напр., Добротолюбие в 5 томах; Беседы с молоканами в 2 частях; Душеполезные размышления в 10 томах и т. д.).
(обратно)289
«Беседа о пьянстве» в три издания разошлась около 40 000 экз., брошюра «Какой вред приносит человеку табак», напечатанная в первый раз в Одессе в 1888 году (число экземпляров этого издания мы не знаем), была перепечатана дважды в Москве – в 1889 году в 40,000 экз. и в 1891 году в 30 000 экземпляров; брошюра «О вреде курения табаку» в первом изд. в Одессе вышла в 26 000 экз., а во втором и третьем изданиях в Москве 1890 и 1891 годов по 10 000 экземпляров.
(обратно)290
Письмо это имеет следующую дату отправителя: «1889 г. 10 августа».
(обратно)291
О литературной деятельности о. Серафима см. у преосвященного Порфирия: История Афона. Ч. III. Отд. II. СПб., 1892. С. 531–532.
(обратно)292
Там же. С. 532–534.
(обратно)293
На страницах афонского ежемесячника напечатано несколько глубоко назидательных поучений, произнесенных о. Макарием к братии по разным случаям. Покойный о. Макарий был неленностный проповедник Слова Божия и не лишен да же дара красноречия, а посему весьма часто поучал вверенную его попечению братию. От него в рукописях осталось весьма много поучений, которые благоговейно хранящая его память братия, мы надеемся, издаст в свет «на память о почившем игумене».
(обратно)294
О. Паисий не умеет писать, но с его слов составлена брошюра: «Вразумление заблудшим и исповедь обратившегося от заблуждения», изданная русским Пантелеимоновским монастырем уже четыре раза.
(обратно)295
«Я, – пишет о. Селевкий о Святогорце Серафиме, – отвечал (вопрошавшим), что Святогорец умер и Господь сохранил его мозг в голове за его дивные и святые мысли, что косточки его желты и благоуханны, а из главы истекает миро» (Рассказ. С. 234); «Схимонах отец Тимофей 12 лет хранил молчание. Келия его была наверху над отхожими местами и полна клопов. У него не было ни кроватки, ни постели, а служило ему вместо кровати кресло и над головою лежала псалтирь. Когда он бывало сидит на скамейке, то у него на коленах лежит чурочка, в которой выдолблены две ямочки, а в них – масляные зерна. Он берет по одному зернышку, перекладывает из одной ямки в другую, а сам творит Иисусову молитву. Дивный был старец! Я часто беседовал с ним. Бывши у него однажды в келии, я говорю ему: „о. Тимофей, благослови меня обмести стены твоей келии от клопов“. А он мне сказал в ответ: „Нет, отче, клопы для меня полезны: у меня пухнут ноги, а они вытягивают из них дурную кровь“. – А мы и ничтожную боль, и даже укушение блохи не можем стерпеть. – Отец Тимофей был самовольный мученик: за то какая была его кончина! Почти целый месяц он каждый день приобщался Св. Таин и скончался мирно и тихо. Откопаны косточки его желтые, как воск. И у меня была его кость в сундуке, и как я бывало открою сундук, так и пойдет благоухание неизреченное…» (Там же. Прилож. С. 21); «Схимонах Захарий – сапожник и портной. Пожил недолго. Косточки его чистые» (с. 28); «Схимонах Афанасий был на послушании на метохе. Раз он стоял ночью на молитве, вдруг видит подле себя сатану в виде ангела. Он ударил его четками, и сатана заушил его и отец Афанасий оставался глух до самой кончины своей. Он подвизался очень ревностно. Косточки его откопаны чистые и желтые» (с. 29); «Схимонах Синесий – милая душа. Он трудился на келлии Благовещения; там завсегда живут человек шесть старцев и он всем служил. Над ним часто смеялись и поносили его. А кто спросит: „о. Синесий, откуда ты родом и я кто ты?“, он отвечал: „Я дома пас свиней, да и то не годился, – и выгнали меня. И я пришел на Афон как-нибудь прокормиться“. А завсегда находился он в слезах в молитвах и трудах. До самой смерти он был послушником. А какая у него была любовь ко всем! Нет сил моих описать. Любовь его меня очень пленяла. Он часто говорил мне: „Всех надо любить, и за всех надо молиться“. И еще часто говаривал: „Аще кто не имеет самоукорения, тот не может достигнуть до совершенства“. Он был большой ревнитель к службе и к правилу. Косточки его откопали желтые и благоуханные» (с. 31). В таком роде написано о. Селевкием и множество других характеристик.
(обратно)296
Рассказ святогорца схимонаха Селевкия о своей жизни и о странствовании по святым местам: русским, палестинским и афонским. Приложение. С. 39.
(обратно)297
«Не мало удивляемся, – писал о. Макарий к о. Пантелеймону в Оптинскую обитель 17 апреля 1879 года – что тебя страшит Афон. От молодых ногтей ты полагал тут начало, пользовался всеобщею любовию братии, по силам своим проходил послушание. Неужели одно брюхо ставит тебя в такое положение? Правда, что Высочайшие награды будут расширять твои очи, но все это ненадолго. Какой-нибудь десяток лет, а там и старость. Но, конечно, рассуждать лучше, нежели испытывать гнет нападений вражеских».
(обратно)298
Григорович В. И. Очерк путешествия по Европейской Турции. М., 1877. С. 76.
(обратно)299
Вследствие разговора викарного владыки с митрополитом, «я, – пишет о. Арсений к старцам обители, – и не хотя должен был при рапорте представить митрополиту отпечатанные описания благодатных исцелений. Митрополит остался недоволен, что о сем доселе не было доведено до сведения его, и сказал, что цензор (добрейший наш о. Макарий) не имел права без Св. Синода дозволить печатать описание чудес. Дело это теперь начато официальным порядком. Передано оное митрополитом ректору Духовной академии, председателю цензурного комитета архимандриту Иоанну, который считается умнейшим и ученейшим у Вас в России и в то же время он неприступный человек. По запросу его оказалось, что при печатании чудес в типографии не соблюдено никакого порядка; не выдано мне билетов, в чем, вероятно, и меня обвинят. Словом, так все спуталось, что сохрани Господи, помилуй! К тому же опасность есть, чтоб в газетах не было критики на чудеса. Ныне свобода печатания, а здесь противников Божиих множество. Вот в каком положении. О себе лично я мало забочусь, а более о чести святыни и обители. Вам я уже писал, что поначалу вовсе не думал я о печатании чудес, а посоветовал мне это добрейший о. Макарий, цензор. Сохрани его, Господи, от неприятности и фактора типографии раба Божия Александра, усердного к обители. Прошу помолиться за них» (Письмо на Афон. 1865 г.).
(обратно)300
«Описание чудес, – пишет о. Арсений в одном из своих писем на Афон, – предмет очень важный, требующий большой осмотрительности, чтобы не дать ответа пред Богом и не быть посрамленным пред людьми. Что вы изволите сказать о тех чудесах св. великомученика Пантелеймона, в коих говорится о пожертвованиях обители? Полагаю, по нынешнему времени, для многих это будет соблазнительно. О сем ваше мнение сообщите мне» (Письмо о. Арсения 1866 г.).
(обратно)301
Письмо о. Арсения на Афон от 29 декабря 1877 года.
(обратно)302
Правило это заключается для схимонахов в 1200 поясных и 100 земных поклонах по четке, из коих последние оставляются лишь в праздничные, субботние и полиелейные дни. Для простых монахов канон состоит в половинном количестве поклонов, а новоначальные полагают только 300 поклонов.
(обратно)303
Красковский И. Ф. Макарий афонский, игумен и священноархимандрит Афонского св. Пантелеимоновского монастыря. М., 1889. С. 47.
(обратно)304
В последнее время у о. Макария выработался обычай спать тонким сном в своем кресле, так что достаточно было скрипнуть дверью, чтобы бодрость немедленно вернулась к нему, и наоборот, он быстро засыпал, когда удалялся посетитель.
(обратно)305
В понедельник, в среду и пятницу в Пантелеимоновской обители бывает одна трапеза.
(обратно)306
«Хоросом» называется медный или серебряный узорчатый круг, состоящий из двух полукругов, огибающий многоярусное с цепями паникадило, спущенное в него из купола. На хоросе в ячейках расставлены свечи, зажигаемые в великие праздники.
(обратно)307
Мы имеем в настоящее время весьма любопытное письмо о. Иеронима от 30 августа 1875 г., характерными чертами обрисовывающее пред нами отношения двух великих старцев друг к другу, которому и даем здесь место. «Высокопреподобнейший о. игумен Макарий, желаю вам о Господе радоватися! По получении визирского утверждения все мы русские как бы оживились надеждою на благоустроение нашего общества. Дай-то, Господи! О подробностях хода нашего дела здесь пишут вам, с дозволения моего, другие. А я скажу вам по поводу вашего смущения: „Что скажут братия, особенно передовые, относительно затрат?“ Это меня весьма удивило. Отвечаю укором вашему легкомыслию. По какому праву вы изволите приписывать себе, или свободному своему произволу затраченное в доверенном нами вам общем нашем процессе? Все вами сделано с нашего ведения и совета. Да и самое игуменство потребовалось нам не для о. Макария, а для нашего общества. Не случись в это время между нами о. Макария, так, без сомнения, другой занял бы это место, ибо оно, т. е. игуменство, принадлежит монастырю, а не личности. Итак, посему вы должны все приписывать обществу, а у этого общества, в это время был и старец, коего вы называете духовником Иеронимом, коего вы всегда слушали и слушаетесь. Вот на него-то вы имеете полное право возлагать все тяжести нашего процесса, и это будет воистину так, ибо без моего согласия вы ничего (в ходе нашего дела) не делали важного. Итак, прошу вас, не возноситесь, приписывая себе большую ответственность. Да и жалеть нечего, лишь бы Бог дал нам благоустроиться во славу Его и на спасение душ наших. Аминь. До оповещения вас нашею телеграммою не приезжайте сюда (т. е. на Афон). Потерпите, покуда все здесь успокоится и приведется в порядок. Будущность положения нашего на Афоне пусть вас не ужасает. Если и попустится для нас что тяжелое, то это будет на пользу нам русским. Братия все, благодаря Бога, мирны и спокойны, ожидают с нетерпением конца враждебной нам тяжбы и вашего скорого возвращения, из числа коих аз первый. Бог терпения да пребудет с вами и с нами. Ожидающий вас грешный ваш духовник и собрат. Иероним».
(обратно)308
Четьмой называется постройка, состоящая из столбов с наложенными на них крест-накрест довольно прочными драницами, обмазанными тиной и оштукатуренными известью.
(обратно)309
Во все время пожара стояла полная тишина в воздухе, тогда как в противоположной стороне Афонского полуострова всю ночь дул сильный ветер.
(обратно)310
На Афоне все игумены и с давних времен носят архиерейскую с источниками мантию.
(обратно)311
6-го августа отбыл с Афона турецкий пароход «Victoria», нарочито нанятый одною высокообразованною дамою Е. М. М., единственный сын которой на ходился в числе послушников русского Пантелеимоновского монастыря, с целью повидаться с сыном, не желавшим покидать Афона. В компании ее находились две-три другие русские женщины, пожелавшие хотя бы и издали видеть Святую Гору, и русский вице-консул в Дарданеллах г. Югович. Монастырь принял гостей радушно. На пароход были привезены мощи св. великомученика Пантелеймона, отслужен пред ними молебен с акафистом, все женщины исповедались у о. духовника Рафаила и в праздник Преображения приобщились Св. Таин, которые были нарочито оставлены для них от литургии и принесены на пароход. Вечером 6-го августа, пред отправлением парохода, посетил путешественниц о. игумен Макарий и благословил их. Пароход проводили трезвоном с монастырской колокольни (см. брошюру: Четыре дня на пароходе у берегов Святой Горы. Рассказ путешественницы, издаваемый в пользу курского благотворительного общества. Курск, 1888). В этом пребывании парохода с женщинами под афонской горой и в посещении его игуменом и усмотрели некоторые иноки обители нарушение заповеди Богоматери, будто бы запретившей женщинам приезд к ее «жребию». Пожар настоящий был, по их мнению, наказанием монастырю за нарушение этой заповеди.
(обратно)312
О пожаре на Крумице обстоятельные сведения сообщает И. Ф. Красковский в своей книге «Макарий Афонский, игумен и священноархимандрит Афонского св. Пантелеимоновского монастыря». М., 1889. С. 140.
(обратно)313
В числе этих писем было и письмо к известному организатору духовной миссии в Абиссинию о. Паисию, который, как мы уже знаем, был долгое время управляющим Константинопольского Пантелеимоновского подворья. Ценя его заслуги для обители на этом скромном посту, сознавая неподготовленность, немощь образования и принимая во внимание его преклонный возраст и сырую комплекцию телосложения, о. Макарий долго и горячо убеждал о. Паисия не принимать на себя роли организатора этой трудной миссии. Но настойчивая и непреклонная казацкая натура о. Паисия, подстрекаемая жаждой почестей и сана, не поддалась кротким убеждениям любящего сердца и о. Паисий выехал из монастыря недовольный. Между тем покойный старец глубоко жалел о. Паисия, повсюду следил за ним с отеческой любовью и скорбел о нем при возвращении его в Россию, когда Абиссинская миссия на берегах еще Красного моря потерпела неудачу… (Все это мы знаем из переписки, которую мы лично вели с покойным о. Макарием.) Пусть же теперь это предсмертное письмо о. Макария послужит замогильным призывом к братскому взаимопрощению двух старцев, при жизни искренно любивших друг друга.
(обратно)314
В настоящее время на Афоне имеется три доктора-специалиста, из коих один вольнопрактикующий живет на Карее, другой в Ватопедском монастыре и третий в Иверском монастыре. Первый получил это содержание от карейского синода, и два прочие содержатся на средства названных обителей.
(обратно)315
Обычно монахи, без различия иерархического звания, зашиваются в мантию от головы до ног.
(обратно)316
Тела простых умерших иноков по одеянии их в монашеские одежды полагаются обыкновенно на носилки, на которых приносятся в храм для отпевания и оттуда к приготовленной для погребения могиле. Опускается тело усопшего, по афонскому обычаю, непосредственно в яму без гроба и засыпается землею. Чтобы череп не был раздавлен, голову покойника обкладывают камнями, которые ставятся в перпендикулярном положении. Это делается в тех видах, чтобы тело умершего было ближе к земле и скорее подверглось бы тлению, для чего в некоторых местах покойника даже обливают водою. Для о. Макария и в этом отношении было сделано некоторое отступление от общего обычая. Тело о. Макария было положено в наскоро сколоченный гроб особого устройства: бока, дно и крышка были сделаны не из целых досок, а из кусков их, наподобие рам, которые обтянули голубым коленкором. С этим гробом и опустили его тело в могилу, выкопанную внутри монастыря с правой стороны Пантелеимоновского собора, повыше могилы о. Иеронима.
(обратно)317
Карульем называется скалистая северо-восточная часть Афона, выступающая в Эгейское море. Сюда удаляются на безмолвие и уединенную жизнь многие афонские анахореты и проводят здесь жизнь в суровом аскетизме. Они не строят себе домов или келлии, а живут в «вертепах и пропастях земных» в буквальном смысле. Пробраться к этим анахоретам нелегко и требуется много смелости и отваги. Обитатели Карулья выходят из своих пещер редко и по особо важным делам, причем выход на Гору и обратный спуск в пещеру они совершают при помощи каната, висящего над бездною, от одного взгляда на которую у непривычного человека кружится голова… Путешественнику по этим лестницам приходится нередко висеть над бездной, упираясь в выдолбленные в скале ямы. Карульские анахореты проводят время в исполнении монастырских канонов, в чтении Слова Божия и святоотеческой, по преимуществу аскетической литературы, а также в занятиях ремеслом: они делают четки, вытачивают изящно кресты и ложечки из масличного и каштанового дерева, вяжут половые щетки и т. п. Эти вещи сбываются ими или в монастыри для раздачи паломникам, или в монастырские лавки на Карее. На вырученные от продажи деньги покупают они одежду и самое необходимое для их несложного домашнего обихода. Пища их – весьма суровая. Черные сухари, размоченные в воде, вареная фасоль, перец, бами и колокитья и т. п. растительные вещества, с великим трудом и тщательным уходом выращенные ими на той же каменистой почве, для удобрения которой необходимо бывает натаскать сверху горы хорошей земли, – вот что составляет их постоянную пищу, изредка они лакомятся октаподами, актиньями, крабами, морскими ежами и подобными морскими обитателями, на охоту за которыми они выходят самолично, спускаясь к морю по канату. Мягкий хлеб и свежую рыбу иногда привозят им рыбаки, которые кладут все это в корзины, спущенные на веревках к морю. В эти же самые корзины по субботам полагается милостыня, которую имеют обыкновение раздавать некоторые афонские монастыри чрез особого, на это послушание назначенного монаха. Для исповеди и приобщения Св. Таин эти анахореты выходят по субботам из своих пещер и направляются в ближайшие скиты или келлии, имеющие храмы, и чаще всего к подобным же анахоретам, которым при помощи благодетелей, изредка посещающих эти опасные для жизни места, удалось выстроить маленькие церковки. Таким-то образом карульцы не выходят в «мир», что на их языке обозначает вообще Афонскую Гору и в частности городок его Карею, по несколько лет кряду.
(обратно)318
См. ниже духовное завещание о. Макария.
(обратно)319
Все слова, произнесенные о. Андреем у гроба почившего о. Макария, напечатаны в «Душеполезном Собеседнике». 1889 г. С. 233–239.
(обратно)320
Кроме турецкого ордена, покойный о. Макарий за несколько месяцев до своей кончины получил, по представлению архиепископа Херсонского и Одесского Никанора, от русского правительства орден Анны 2-й степени, а раньше он имел наперсный крест из кабинета Его Величества с украшениями.
(обратно)321
Душеполезный Собеседник 1892 г. Вып. IX. С. 268; Церковные Ведомости. 1892. № 32. С. 1119.
(обратно)322
Издатели сочли необходимым напечатать указанную автобиографию в отдельном выпуске серии «Русский Афон». – Примеч. ред.
(обратно)323
Канонизм этот хотя и выработан афонским протатом и утвержден турецким правительством, но почему-то потом не был принят на Афоне в действующую практику. Ныне действующий канонизм Святой Горы, за весьма немногими исключениями, сходен с настоящим, и поэтому читатели наши и по издаваемому, официально признанному канонизму могут хорошо ознакомиться с существующими порядками жизни святогорских монастырей. К сожалению, нам не известен греческий подлинник данного канонизма, а русский перевод его не всегда вразумителен и чист.
(обратно)324
Ныне антипросопы заседают в киноте однажды в неделю по пятницам, а в важных случаях имеют и два заседания в неделю. Ввиду этого антипросопы афонских монастырей проживают постоянно в Карее в «конаках», построенных для них монастырями.
(обратно)325
Перевод этого члена сделан неудобовразумительно.
(обратно)
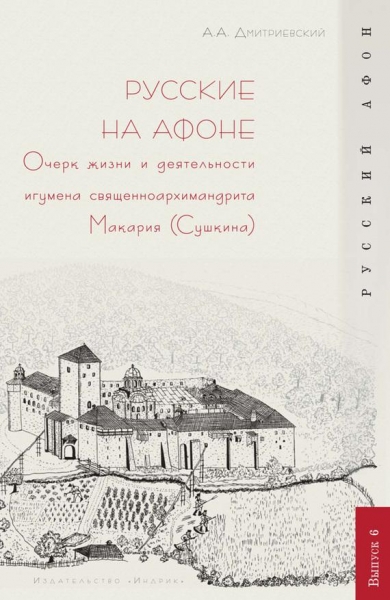


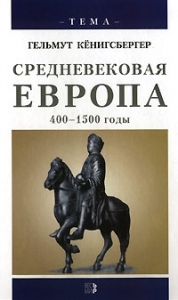
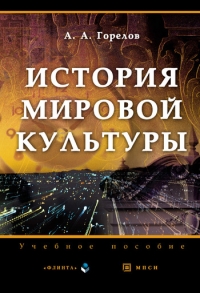


Комментарии к книге «Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)», Алексей Афанасьевич Дмитриевский
Всего 0 комментариев