Джон Роберт Сили Британская империя. Разделяй и властвуй!
© ООО «Издательство Алгоритм», 2013
Лекция 1 Основная тенденция английской истории
Я твердо держусь того принципа, что история, оставаясь научной в своем методе, должна преследовать практическую цель. Другими словами, она должна не только ознакомить читателя с прошлым, но и выработать его взгляд на настоящее, его представление о будущем. Если этот принцип правилен, то изучение английской истории должно заканчиваться некоторым поучением: из него должны вытекать широкие выводы, оно должно представлять в таком виде общую тенденцию всех событий Англии, чтобы дать нам возможности мыслить о будущем и предугадывать предназначенную Англии судьбу. Для англичан это тем более важно, что роль их родины в мировых событиях нисколько не уменьшается по мере развития истории.
Таким странам, как Голландия и Швеция, простительно считать свою историю в некотором смысле законченной. Когда-то они были велики, но условия их величия исчезли, и в настоящее время они занимают лишь второстепенное место. Поэтому их интерес к своему прошлому имеет или сентиментальный, или чисто научный характер; единственный практический урок, вытекающий для них из истории, это урок отречения от широких замыслов. Англия же неуклонно становилась все больше и больше, по крайней мере, абсолютно, если не всегда относительно. В настоящее время она гораздо больше, чем была в восемнадцатом столетии; в восемнадцатом столетии она была больше, чем в семнадцатом; в семнадцатом – больше, чем в шестнадцатом. То удивительное величие, которого она достигла, делает для нее вопрос о будущем крайне важным и вместе с тем тревожным, ибо очевидно, что громадное колониальное расширение английского государства подвергает его новым опасностям, от которых прежде, будучи незначительным островом, оно было свободно.
Поэтому интерес английской истории должен неуклонно увеличиваться вплоть до настоящего времени, а так как будущее вырастает из прошлого, то история прошлого Англии должна заключать в себе пророчества относительно ее будущего.
Между тем наши авторы популярных книг по истории, по-видимому, смотрят на это иначе. Еще Аристотель говорил, что драма завершается, а эпическая поэма оканчивается постепенно. История Англии в том виде, как она популярно излагается, не только не имеет определенного развития, но так постепенно сходит на нет, делаясь все бледнее и бледнее, скучнее и скучнее, что можно думать, будто Англия, вместо того чтобы неуклонно делаться могущественнее, уже целое столетие или два умирает от старческой дряхлости. Но может ли это быть так? Можно ли допустить поток затеряться и испариться среди песчаной пустыни? Вопрос этот приводили на память следующие строки Вордсворта:
It is not to be thought of that the flood Of British freedom, which to the open sea Of the world’s praise, from dark antiquity Hath flowed «with pomp of waters unwithstood», Roused though it be full often to a mood Which spurns the check of salutary bands, That this most famous stream in bogs and sands Should perish, and to evil and to good Be lost for ever.[1]Эта печальная судьба, о которой не смеет подумать поэт, постигает если не самый поток британской свободы, то его отражение в наших популярных исторических сочинениях.
Положим теперь, что мы хотим исправить эту ошибку; как в таком случае мы должны поступить? Такой вопрос не мешает задать себе в начале учебного года студентам-историкам, особенно тем из них, для которых этот год является началом их академического курса.
Вас просят подумать об истории Англии в ее целом и посмотреть, не найдете ли вы в ней какое-нибудь значение, какую-нибудь систему, не сможете ли вы формулировать те выводы, к которым она приводит. До сих пор вы, может быть, учили имена, года, перечисление королей, битв и войн. Настает время, когда вы должны задать себе вопрос: для чего изучалось все это? Для какой практической цели собраны и запечатлены в памяти все эти факты? Если они не ведут к великим истинам, имеющим одновременно и общенаучное, и важное практическое значение, то история – не больше, как забава, и едва ли она может стать в ряду с другими науками.
Всякого, кто долго занимался историей, преследует идея развития и прогресса. Мы непрерывно двигаемся вперед, каждый в отдельности и все вместе. Англия в настоящее время уже не та, какой была при Стюартах или при Тюдорах. История последних столетий особенно подтверждает взгляд, что это движение прогрессивно, что оно клонится к чему-то лучшему. Но как определить и как измерить это движение? Если мы желаем изучать историю в том рациональном духе, с той определенной целью, какую я рекомендую, мы должны серьезно остановиться на этом вопросе и прийти к какому-либо его разрешению. Мы не должны довольствоваться теми неопределенными цветистыми заключениями, какими историки старой школы, погубившие себя исключительно повествовательным направлением, привыкли, ради формы, оканчивать свои писания.
Эти неопределенные цветистые заключения состоят обыкновенно из ссылки на так называемое поступательное движение цивилизации. Точного определения понятия цивилизации при этом не дается; о ней говорится метафорами, как о свете, о дне, постепенно подвигающемся от бледного рассвета к своему полудню; ее противопоставляют отдаленному неопределенному периоду, называемому «сумраком времен». Но будет ли свет цивилизации становиться все ярче и ярче или, подобно действительному дневному свету, перейдет постепенно в сумерки, после которых настанет ночь; не исчезнет ли он на время вследствие внезапного затмения, как это было со светом цивилизации Древнего мира? Все эти вопросы остаются без ответа. Да и какого ответа можно ожидать от теории, не имеющей в себе ничего серьезного и созданной ради риторических прикрас?
Эта теория цивилизации представляет очень хороший пример плохого философствования. Нужно объяснить целую массу явлений, о которых неизвестно даже, принадлежат ли они к одному и тому же роду, но которые вступают в поле зрения в одно и то же время, – и что же? Все эти явления покрываются одним словом, которое, подобно сети, связывает их. Определять это слово тщательно избегают и, говоря о нем, употребляют метафоры, дающие понять, что оно означает живую силу, имеющую неведомые неограниченные свойства, так что достаточно малейшего намека на нее, чтобы объяснить самые удивительные, самые разнообразные явления. Так поступают со словом «цивилизация». Его употребляют для объяснения множества явлений, не имевших, по-видимому, другой связи между собою, кроме частого одновременного проявления в истории; сюда относят смягчение нравов, технические изобретения, религиозную терпимость, появление великих поэтов и художников, научные открытия, конституционную свободу. Предполагается, хотя никогда не было доказано, что все это составляет одно целое, имеет одну скрытую причину, а именно: действие духа цивилизации.
Без сомнения, можно, принявшись за эту теорию, придать ей более связный вид. Мы могли бы исходить из одного принципа – из свободы мысли, и проследить все последствия, могущие произойти от нее. И научные открытия, и технические изобретения, при наличности некоторых других условий, могут явиться результатом свободы мысли; открытия и изобретения, сделавшись общим достоянием, изменят образ человеческой жизни, придав ей более сложный, современный характер; такую перемену мы можем назвать поступательным движением цивилизации. Но политическая свобода не имеет никакого отношения ко всему этому. В Афинах была свобода до Платона и Аристотеля, а потом она исчезла; в Риме была свобода в то время, когда мысль была груба и невежественна, и наступило рабство, когда мысль стала просвещенной. Поэтический гений также не имеет отношения к свободе мысли: поэзия в Афинах падает, лишь только там начинается философия; в Италии был Данте до эпохи Возрождения, но не было Данте после нее. Если мы подвергнем тщательному анализу то неопределенное суммарное целое, которое мы называем цивилизацией, то найдем, как указывает и происхождение слова, что главную его часть составляют элементы, вытекающие из соединения людей в гражданские общества или государства; однако надо помнить, что другая часть этого целого только косвенно связана с этими элементами и более непосредственно зависит от иных причин. Развитие науки, например, является очень важным элементом цивилизации, но, как я только что указал, оно не изменяется в постоянном соответствии с изменением гражданского благоустройства, хотя в большинстве случаев для развития его требуется известный его modicum. Нельзя забывать, что область воздействия законов и королей на человеческий удел крайне ограниченна. В связи с этим история может выбрать себе или более широкую, или более узкую функцию – она может взять на себя или исследование всех причин человеческого благосостояния, или же ограничиться гражданским обществом и той стороной человеческого благосостояния, которая зависит от него. По какой-то безотчетной традиции историки обыкновенно выбирали последнее. Проглядите все известные исторические сочинения, и вы увидите, что авторы их всегда, более или менее сознательно, ставили на первом плане государство, правительство, их внутреннее развитие, их взаимные отношения. А между тем совершенно верно, что события этого рода не всегда бывают самыми важными событиями в истории человечества. В период, описанный Фукидидом, может быть, самыми важными явлениями были философская деятельность Сократа и артистическая – Фидия, а между тем Фукидид ничего не говорит ни о том, ни о другом; он распространяется о войнах и интригах, которые в настоящее время кажутся мелочными. Это не есть результат узости взгляда. Фукидид живо сознает беспримерную славу города, который он описывает, но он согласен обсуждать эту славу только постольку, поскольку она является результатом политических причин, о чем свидетельствует и приведенная цитата. Он с известной целью и обдуманно ограничивает себя определенными рамками. Дело в том, что для успешности работы необходимо делить и подразделять поле исследования. Если вы обсуждаете все сразу, то, конечно, у вас является блестящее разнообразие сюжетов, но вы не достигаете успеха; если же вы желаете получить результат, то должны сосредоточить свое внимание на одном ряде явлений. Мне кажется благоразумнее удержать историю в ее старинных пределах и обсудить отдельно важные стороны, опущенные из этой схемы. Итак, я признаю, что история должна иметь дело с государством, что она должна рассматривать рост и изменения организованного общества, общества, действующего через посредство должностных лиц или народных собраний. По самой природе государства каждое лицо, живущее на известной территории, обыкновенно считается его членом; но история занимается отдельными личностями только в качестве членов государства. Тот факт, что кто-либо в Англии делает научное открытие или пишет картину, сам по себе не является событием в истории Англии. Отдельные личности имеют значение в истории не по своим внутренним заслугам, а по своему отношению к государству. Сократ был гораздо более велик, чем Клеон, но Клеон играет более значительную роль в истории Фукидида. Ньютон был более великим человеком, чем Гарлей,[2] а между тем Гарлей приковывает к себе внимание историка царствования королевы Анны.
После этого объяснения вы видите, что предложенный мною вопрос: каково общее направление, или какова цель истории Англии? – гораздо определеннее, чем это могло казаться с первого взгляда. Задавая его, я не имел в виду ни общего прогресса, предстоящего повсюду, а следовательно, и в Англии, человеческой расе, ни даже тех его явлений, которые исключительно свойственны Англии во всем объеме этого понятия. Ибо под Англией я подразумевал только государство или политическое общество, имеющее место своего пребывания в Англии. При таком строгом ограничении вопроса он может показаться вам менее интересным; может быть, это и так, но зато он становится гораздо более доступным обработке.
Итак, в каком же направлении, к какой цели подвигалось английское государство? В ответ на этот вопрос готовы сорваться слова: «свобода», «демократия». Но словам этим сильно недостает определенности. Свобода, несомненно, представляла главную черту, отличавшую Англию от континентальных государств, но по существу свобода для Англии была не столько целью, к которой она стремилась, сколько достоянием, которым она давно уже пользуется. Уже борьба семнадцатого столетия даровала или, во всяком случае, обеспечила за Англией свободу. Позднее в Англии происходит движение, которое часто, хотя и не вполне правильно, называют движением за свободу и что мы, если угодно, можем назвать демократизацией. Существует ходячее мнение, что в новейшей английской истории, если в ней вообще можно подметить определенную тенденцию, сказалось только одно стремление к демократизации – стремление, благодаря которому сначала средний класс, потом постепенно и низшие классы получали долю влияния в общественных делах.
Несомненно и с достаточной ясностью эта тенденция обозначилась лишь в девятнадцатом столетии; в восемнадцатом она едва заметна: в то время можно было проследить только самое ее начало. Она особенно обращает на себя наше внимание потому, что долгое время была главным предметом политических разговоров и споров. Но история должна смотреть на вещи с некоторого расстояния и обозревать более широкое поле. Если мы с отдаления проследим за последние века прогресс английского государства – этого большого управляемого общества английской нации, то нас гораздо больше поразит другое изменение; будучи не только значительнее, но даже и заметнее, оно обсуждалось гораздо меньше, так как происходило более постепенно и не возбуждало сильной оппозиции. Я имею в виду простой и наглядный факт распространения английского имени в других странах земного шара – основание Великой Британии.[3]
Есть нечто крайне характерное в том индифферентизме, с каким англичане относятся к могучему явлению разлития их расы и расширения их государства. Они покорили и заселили полсвета, как бы сами не отдавая себе в том отчета. И, совершая это громадное дело в восемнадцатом столетии, они не дали ему затронуть свое воображение и оказать влияние на их образ мыслей. Даже и теперь они продолжают считать себя просто расою, занимающей остров на запад от европейского материка. Самая манера выражаться постоянно изобличает, что они не считают колонии своей действительной принадлежностью; так, когда их спрашивают о размере английского населения, им и в голову не приходит включать в него население Канады и Австралии. Этот укоренившийся взгляд, мне кажется, повлиял и на наших историков: благодаря ему они упускают верную точку зрения при описании восемнадцатого столетия. Они придают слишком большое значение парламентской борьбе и агитации за свободу, т. е. событиям, которые в восемнадцатом столетии являлись лишь слабым отражением событий семнадцатого. Они не замечают, что в том столетии история Англии разыгрывается не в Англии, а в Америке и в Азии. Я точно так же убежден, что, рассматривая настоящее положение дел и еще более заглядывая в будущее, мы должны остерегаться слишком выдвигать на первый план собственно Англию, чтобы не потерялось на заднем плане картины то, что мы называем английскими владениями.
Позвольте же мне с некоторой точностью описать перемену, о которой я говорю. В последние годы царствования королевы Елизаветы (1558–1603) Англия не имела положительно никаких владений вне Европы, потому что все колониальные проекты, начиная с попытки в царствование Генриха VIII и до попыток Джильберта и Ралея (Gilbert, Raleigh),[4] были одинаково неуспешны. Самой Великобритании еще не существовало: Шотландия была отдельным королевством, а в Ирландии англичане составляли лишь колонию среди чуждого населения, жившего в родовом быте. Со вступлением на престол Стюартов начались одновременно два процесса, из которых один закончился при королеве Анне, последнем члене этой династии, другой же продолжается с тех пор непрерывно. Первый процесс состоял во внутреннем соединении трех королевств, и хотя технически он завершился гораздо позже, но может считаться делом семнадцатого столетия и династии Стюартов. Второй процесс – создание Великой Британии, заключающей в себе громадные владения за морем, – начался с дарования хартии Виргинии в 1606 году.[5] В семнадцатом столетии он сильно подвинулся, но только в восемнадцатом пред лицом целого мира предстала Великая Британия в ее гигантских размерах, с ее обширной политикой. Посмотрим, что она представляет из себя в настоящее время.
Оставляя в стороне некоторые мелкие владения, имеющие главным образом характер морских или военных станций, мы находим, что Великая Британия состоит, кроме Соединенного королевства, из четырех территорий, населенных преимущественно англичанами и подвластных короне, и пятой большой территории, также подвластной короне и управляемой английскими должностными лицами, но с населением совершенно чуждой расы. Первые четыре суть: 1) область Канады (Dominion of Canada);[6] 2) Вест-Индские острова, к которым я причисляю и некоторые территории на континенте Центральной и Южной Америки; 3) группа южноафриканских владений, из которых самое значительное – Капская колония, и 4) австралийская группа, к которой, ради удобства, я должен прибавить Новую Зеландию. Пятое – зависимое владение – есть Индия.
Британская империя
Прежде всего посмотрим на населенность этих областей. Колонизация началась сравнительно недавно, и потому население во многих местах редко. Области Канады с Ньюфаундлендом в 1881 году имели несколько больше четырех с половиной миллионов жителей, то есть население их равнялось приблизительно населению Швеции. Вест-индская группа обладала населением, превышавшим полтора миллиона, то есть обладала почти таким же населением, какое в то время имела Греция. Южноафриканская группа – около миллиона и трех четвертей, но из них европейской крови значительно менее половины. Австралийская группа вмещала в себя около 3 миллионов, т. е. несколько превосходила Швейцарию. Это составит в общем десять и три четверти миллионов, или около 10 миллионов английских подданных европейской и, главным образом, английской крови, живущих вне Британских островов.[7]
Население обширного, зависимого владения Индии равнялось почти ста девяноста восьми миллионам, а туземные государства, признающие верховную власть Англии, имели около пятидесяти семи миллионов. Все вместе составит население, приблизительно равное населению всей Европы, за исключением России.
Во всяком случае, нам сразу бросается в глаза, что огромное население Индии не составляет части Великой Британии в том смысле, как те десять миллионов англичан, которые живут вне Британских островов. В жилах этих десяти миллионов течет английская кровь, и потому они связаны с Англией самыми тесными узами. Население Индии принадлежит чуждой англичанам расе и религии; оно соединено с Англией лишь связями завоевания. Еще подлежит вопросу, увеличивает ли в настоящее время обладание Индией могущество Англии, и вообще может ли оно его увеличить когда-нибудь; а между тем нет никакого сомнения, что факт обладания Индией чрезвычайно повышает грозящие Англии опасности и ее ответственность. Колониальная империя находится совершенно в ином положении: она располагает основными условиями устойчивости. Существуют вообще три связи, соединяющие государства: общность расы, общность религии и общность интересов. Двумя первыми связями английские колонии, очевидно, связаны с Англией, и одно это делает уже связь их прочной. Эта связь сделается неразрывной, если окажется, что и общность интересов существует между ними, а убеждение в этом в настоящее время, по-видимому, растет. Когда мы думаем о Великой Британии будущего, мы должны гораздо больше иметь в виду колониальную, чем Индийскую империю.
Это соображение делается особенно важным, если мы оцениваем империю не по ее населению, а по площади ее территории. Десять миллионов англичан за морем уже представляют собою кое-что; но это почти ничто в сравнении с тем, что мы увидим в будущем, и даже в близком будущем, ибо эти десять миллионов разбросаны на громадном пространстве, которое заполняется с несравненно большей быстротой, чем растет население самой Англии. Я приведу расчет, который поможет вам оценить всю важность этого обстоятельства. Густота населения Великобритании выражается 125 жителями на квадратный километр; в Канаде она менее полчеловека. Представьте себе на минуту, что густота населения Канады равняется густоте населения Великобритании, и вы увидите, что население этой области превысит биллион. Такое положение дел, без сомнения, настанет еще очень не скоро, но все же громадный прирост населения не заставит себя долго ждать. Лет через пятьдесят число англичан, живущих за морем (если только империя не распадется), будет равно числу англичан, живущих на родине, и все вместе составит гораздо больше ста миллионов. Эти цифры, может быть, покажутся вам скорее поразительными, чем интересными. У вас может явиться вопрос: следует ли радоваться такому громадному росту расы, и не лучше ли было бы для Англии подвигаться вперед в нравственном и умственном отношении, чем в численности населения и в расширении владений? Не отличались ли в истории великими подвигами в большинстве случаев малочисленные нации? Я оставляю открытым вопрос относительно того, должна ли Англия радоваться своему распространению или сожалеть о нем. Еще не настало время отвечать на этот вопрос. Но одно совершенно ясно и теперь, – это громадность значения подобного роста. Дурно это или хорошо, но несомненно – это великий факт новой истории. Было бы величайшим заблуждением воображать, что он имеет исключительно материальный характер, то есть что он не влечет за собою никаких нравственных и умственных последствий. Люди не могут переменить своего местожительства, переселиться с острова на континент, с 50-го градуса северной широты к тропикам и на Южное полушарие, из старого общества в новую колонию, из громадных промышленных городов к сахарным плантациям и на пустынные овечьи пастбища в страны, где еще бродят первобытные, дикие племена, – не изменив своих понятий, привычек и своего образа мышления, даже не изменив отчасти, в течение нескольких поколений, своего физического типа. Мы уже знаем, что жители Виктории и Канады не вполне похожи на англичан, и можем ли мы думать, что в двадцатом столетии, когда население колоний сравняется с населением метрополии, – при условии, что связь между ними сохранится и сделается еще теснее, – сама Англия не подвергнется значительным видоизменениям и преобразованиям? Итак, к добру ли или к злу, но рост Великой Британии представляет собою событие громадной величины.
С точки зрения будущего это, очевидно, величайшее событие. Но событие может быть великим, будучи вместе с тем столь простым, что о нем мало что можно сказать: оно может почти не иметь истории. Именно так обыкновенно и смотрят на «исход» англичан; считают, что он произошел самым простым, неизбежным образом, что он представлял собою только беспрепятственное занятие пустых стран нацией, у которой оказался наибольший избыток населения и наибольшая морская сила. Я покажу, что это – громадное заблуждение; я покажу, что этот исход составляет пространную, полную и крайне интересную главу истории Англии. Я решаюсь утверждать, что в восемнадцатом столетии он определял весь ход событий, что главная борьба Англии от времен Людовика XIV до Наполеона была борьбой за обладание Новым Светом; только благодаря тому, что мы не замечаем этого, большинство из нас считает восемнадцатое столетие английской истории малоинтересным. Великим центральным фактом этого периода надо считать создание Англией в разное время двух различных колониальных империй. Судьба так сильно толкает Англию к занятию Нового Света, что, создав одну империю и лишившись ее, она создает вторую почти против своего желания.
Цифры, которые я вам сообщал, относятся исключительно ко второй английской империи, к той, которой Англия владеет и теперь. Когда я говорил о десяти миллионах английских подданных, живущих за морем, я не упомянул, что сто лет назад у Англии был ряд других колоний, достигших уже трех миллионов населения, что колонии эти отпали и образовали федеративное государство, население которого в течение столетия увеличилось в шестнадцать раз и в настоящее время равняется населению своей старой метрополии вместе с ее колониями. Перед нами величественное событие: Англия теряет империю, и из этой империи возникает новое государство, английское по расе и характеру, которое так быстро растет, что в течение одного столетия делается населеннее всех европейских государств, кроме России. Утрата американских колоний оставила в умах англичан сомнение и опасение, которые значительно определяют их взгляд на будущность Англии.
Если «исход» англичан составлял величайшее явление в Англии восемнадцатого и девятнадцатого столетий, то важнейшим вопросом ее будущего является вопрос о судьбе ее второй империи: можно ли предполагать, что с ней случится то же, что случилось с первой? В разрешении этого вопроса и лежит то поучение для англичан, которое, как я сказал вначале, должно вытекать из изучения английской истории.
За четверть века до декларации независимости Тюрго сказал: «Колонии подобны плодам: они держатся на дереве только до тех пор, пока не созреют. Как только Америка будет в силах о себе заботиться, она сделает то же, что сделал Карфаген». Неудивительно, что, когда это предсказание так замечательно сбылось, предложение, из которого оно было выведено, превратилось в умах англичан в доказанный принцип. В этом, без сомнения, лежит причина, почему они так равнодушно и без чувства удовлетворения смотрели на рост Второй империи. «Что нам за дело, – говорили они, – до ее обширности и быстрого роста? Она растет не для нас». И к убеждению, что удержать ее невозможно, они прибавили убеждение, что и не следует желать ее удерживать: историки американской войны с тем странным оптимистическим фатализмом, к которому историки вообще склонны, считали для себя обязательным заключение, что потеря колоний была не только неизбежным, но и счастливым для Англии событием. Я не стану теперь рассматривать, основательны ли подобные взгляды. Я хочу лишь указать на то, что в будущем перед Англией лежат две альтернативы и что выбор между ними является несравнимо важнейшим вопросом из всех, подлежащих ее решению. Четыре указанные группы колоний могут сделаться четырьмя независимыми государствами, причем два из них – области Канады и вест-индская группа – могут предпочесть не оставаться независимыми, а войти в состав Соединенных Штатов. Во всяком случае, английское имя и английские учреждения останутся в значительной мере преобладающими в Новом Свете, самое же отпадение может произойти так мирно, что отношения к прежней метрополии останутся дружественными. Однако подобное отпадение поставило бы Англию на уровень ближайших континентальных держав: она все еще имела бы значительное население, но население меньшее, чем Германия, и едва равное населению Франции, тогда как два государства – Россия и Соединенные Штаты – сделались бы величинами высшего порядка; у России было бы сразу вдвое большее население, чем у Англии, Соединенные Штаты очень скоро достигли бы того же. Торговля Англии подверглась бы новым опасностям.
Другая альтернатива – Англия окажется в силах совершить то, что так легко удалось Соединенным Штатам: она создаст федерацию из стран, отдаленных друг от друга. В таком случае она станет наряду с Россией и Соединенными Штатами, т. е. в первом ряду по численности населения и обширности территории, она окажется выше других континентальных государств. Мы ни в каком случае не должны принимать на веру, что это желательно. Величина не есть необходимое величие: оставаясь во втором ряду по величине, Англия, быть может, в нравственном и интеллектуальном отношении займет место в первом; в таком случае лучше пожертвовать материальным величием. Не имея права предрешать вопрос, следует ли Англии удержать свою империю, мы тем не менее считаем крайне желательным прийти после серьезного обсуждения к тому или другому его положительному решению.
С целью достигнуть такого решения я предлагаю вам рассмотреть исторически ту тенденцию к расширению, которую так долго выказывает Англия. Мы воспитаем в себе более серьезное отношение к этому явлению, когда увидим, как глубоко, настойчиво и необходимо было оно в национальной жизни Англии; мы взглянем на него с большей трезвостью, когда убедимся, что отпадение первых колоний Англии явилось не естественным результатом расширения, подобно лопанью мыльного пузыря, а результатом временных, устранимых и уже устраненных условий.
Лекция 2 Англия в восемнадцатом столетии
В восемнадцатом столетии расширение Англии особенно быстро подвигалось вперед. Чтоб понять природу этого расширения и оценить, как много энергии и жизненности народа было на него потрачено, всего лучше ознакомиться с историей восемнадцатого столетия. История этого периода, если я не ошибаюсь, получит с этой точки зрения совершенно новый интерес.
Я постоянно замечаю и на популярных исторических сочинениях, и на случайных ссылках на восемнадцатое столетие, какое слабое и смутное впечатление оставил этот период в народной памяти. В большей части его мы не видим ничего, кроме застоя. Войны, по-видимому, не ведут ни к чему, и мы не видим проявления какой-либо новой политической идеи. Нам кажется, что период этот создал мало, и мы склонны, пожалуй, считать его счастливым, но отнюдь не достопамятным. Неясные фигуры Георга I (1714–1727), Георга II (1727–1760), долгое и бесцветное управление Вальполя (Walpole), Пельгама (Pelham),[8] торговая война с Испанией, битва при Деттингене и Фонтенуа,[9] скудоумный первый министр Ньюкестль (Newcastle), скучные распри из-за Вилькса,[10] злосчастная американская война – повсюду мы находим отсутствие величия, прискорбную заурядность, плоскость и в людях, и в делах. Но всего больше недостает им единства.
Соответствующий период во Франции также не может похвалиться величием, но в нем есть единство; он понятен; мы можем определить его одним словом, как век приближения революции. Что же представляет собою восемнадцатое столетие в Англии, и к чему оно привело? Что приближалось тогда?
Но спрашивается: стоим ли мы на верном пути, чтоб открыть единство рассматриваемого исторического периода? Мы имеем несчастную привычку распределять исторические события по царствованиям. Мы делаем это механически даже и тогда, когда признаем или даже преувеличиваем незначительность монарха. Первые Георги были, по моему мнению, вовсе не так ничтожны, как часто предполагают, но даже и самый влиятельный монарх редко имеет право дать веку свое имя: много ошибочных понятий возникло из выражения «век Людовика XIV». Итак, прежде всего, приводя в порядок и подразделяя какой-либо период истории, мы должны отбросить такие бесполезные заглавия, как: «Царствование королевы Анны», «Царствование Георга I», «Царствование Георга II». Вместо них мы должны стараться установить деления, основанные на действительной стадии прогресса национальной жизни. Мы должны считать периоды не от короля до короля, а от одного великого события до другого. А чтобы сделать это, мы должны оценивать события, измерять их значение, что не может быть достигнуто без близкого с ними знакомства и тщательного анализа. Когда по отношению к какому-нибудь событию мы убедимся, что оно может стать в ряду руководящих событий национальной истории, то мы должны приступить к расследованию причин, вызвавших его. Таким образом, каждое событие принимает характер определенного развития, а каждое такое развитие образует главу в национальной истории, которая получает название от руководящего события.
Для простой иллюстрации этого принципа возьмем царствование Георга III. Что за нелепость считать этот длинный шестидесятилетний период исторически единым только потому, что в продолжение всего этого времени королем был один человек! Какой же принцип при делении этого периода должны мы выставить вместо личности короля? Очевидно, великие события. Одна часть этого царствования составит самостоятельную главу, как период потери Америки, другая – как период борьбы с французской революцией. Но в истории нации бывают и мелкие, и крупные деления. Кроме глав, есть тома и части. И это должно быть так, ибо при ближайшем исследовании великих событий мы замечаем, что они связаны между собою; события, хронологически близкие, обладают сходством; они составляют группы, каждую из которых можно рассматривать как одно сложное событие; такие сложные события дают название частям точно так, как более простые события дают названия отдельным главам истории.
Европа в XVIII веке
В некоторых периодах истории процесс деления так легок, что мы совершаем его почти бессознательно. Значение событий бросается в глаза, и связь их очевидна. Читая о царствовании Людовика XV во Франции, вы чувствуете, что читаете о падении французской монархии. Но есть части истории, к пониманию которых не так-то легко найти ключ; в таких случаях появляются то недоумение и тот недостаток интереса, который англичане чувствуют, когда оглядываются на восемнадцатое столетие. В большинстве таких случаев виноват сам читатель: он почувствовал бы интерес к данному периоду, если бы имел ключ к его пониманию; а чтобы найти ключ, надо искать его обдуманно.
Итак, нам предстоит взглянуть на великие события восемнадцатого столетия, рассмотреть каждое из них, с целью отметить точное его значение, а затем, сравнивая их между собою, раскрыть скрытую в них общую тенденцию. Говоря о восемнадцатом столетии, я выражаюсь неточно, так как имею, собственно, в виду период, начинающийся революцией 1688 года и кончающийся миром 1815 года. Какие же великие события случились во время этого периода? Революций не происходило. Из внутренних беспорядков мы знаем только два неудачных восстания якобитов в 1715 и 1745 годах. Произошла смена династии, но совершилась она спокойно, парламентским актом. Все крупные события одного рода – это внешние войны. Войны эти ведутся в большем масштабе, чем все предыдущие войны Англии со времени Столетней войны четырнадцатого и пятнадцатого веков. Они имеют также более формальный, деловой характер, чем прежние войны, потому что Англия впервые имеет настоящую армию и флот. Великий английский флот получил определенную форму во время республиканских войн, а начало английской армии, основанной на Mutiny Bill,[11] относится к царствованию Вильгельма III. Между революцией и битвой при Ватерлоо можно насчитать семь больших войн, которые вела Англия; самая короткая из них продолжалась семь лет, а самая долгая – около двенадцати. Из ста двадцати шести лет шестьдесят четыре года, то есть более половины, были заняты войной. Больший масштаб этих войн по сравнению с предыдущими явствует из того бремени, которое они наложили на страну. И до этого периода часто Англия вела войны, однако в начале его на ней не лежало сколько-нибудь значительного долга, – долг ее не доходил до миллиона; в конце периода, в 1817 году, государственный долг Англии возрос до 840 миллионов. При этом надо иметь в виду, что даже эта громадная сумма не выражает собою всех расходов на войны. 840 миллионов не выражают стоимости войн; они составляют только ту часть расходов, которую нация не могла сразу покрыть своими средствами; а средствами этими была выплачена сразу громадная сумма. Один этот долг, распределенный на 120 лет, составит ежегодный военный расход в семь миллионов, тогда как ежегодный расход на управление в течение большей части восемнадцатого столетия не превышал семи миллионов.
Этот ряд великих войн должен быть признан характерной чертой рассматриваемого периода, ибо войны не только начинаются с его началом, но, по-видимому, и прекращаются вместе с ним. После 1815 года у Англии были местные войны в Индии и войны в некоторых колониях, но за весь последующий период, равный половине рассматриваемого, Англия только раз вела европейскую войну, подобную тем войнам, какие в предыдущий период возникали семь раз, но и эта война продолжалась всего два года.
Сделаем краткий обзор этих семи войн. Прежде всего, возгорелась европейская война, в которую Англия была вовлечена революцией 1688 года. Война эта всем хорошо известна, ибо история ее изложена Маколеем. Эта война продолжалась восемь лет, от 1689 до 1697 года. Затем следует большая война, получившая название войны за испанское наследство; она останется навсегда памятна Англии благодаря победам герцога Мальборо (Marlborough).[12] Она продолжалась одиннадцать лет, от 1702 до 1713 года. Следующая большая война в настоящее время почти совсем забыта, так как она не выдвинула ни одного полководца и не достигла определенного результата. Однако мы все слышали о битвах при Деттингене и Фонтенуа, хотя, может быть, немногие из нас могли бы верно объяснить причину, вызвавшую эти сражения, и достигнутый ими результат. А между тем и эта война, так называемая война за австрийское наследство, длилась девять лет, от 1739 до 1748 года. Вслед за нею идет Семилетняя война, в которой мы, конечно, не забыли побед Фридриха. В английской части этой войны мы все помним один великий инцидент, битву на Авраамских высотах (Heights of Abraham), смерть Вульфа (Wolfe) и завоевание Канады.[13] А между тем на примере этой войны можно также заметить, как сильно изгладилось из нашей памяти восемнадцатое столетие. Мы совершенно забыли, что эта победа была одной из длинного ряда побед, казавшихся современникам баснословными, опьянивших нацию славой и поставивших Англию на такую высоту величия, какой раньше она никогда не достигала. Мы уже забыли, что в продолжение всей остальной части восемнадцатого столетия нация смотрела на эти два или три блестящих года,[14] как на счастье, которое никогда не повторяется, и как долго англичанин хвалился, что «язык Чатама[15] был его родным языком, и великое сердце Вульфа было сердцем его соотечественника».
Это была четвертая война. Она представляет разительный контраст с пятой, о которой англичане молчаливо согласились упоминать как можно реже. Эта пятая война, называемая американской, тянулась, начиная с первых проявлений вражды и до Парижского мира, восемь лет, – от 1775 года до 1783 года, – велась она в Америке действительно довольно постыдно; но под конец она сделалась великой морской борьбой, в которой Англия боролась почти одна против всего света и из которой благодаря победам Роднея[16] она вышла с несколько восстановленной репутацией. Шестая и седьмая суть две великие войны против революционной Франции, которые мы едва ли забудем, хотя нам следовало бы яснее разграничивать их между собою, чем мы это делаем. Первая продолжалась девять лет, от 1793 до 1802 года, вторая – двенадцать, от 1803 до 1815 года.
Немногим приходила мысль связать эти войны и попытаться найти в них единство плана и цели. Задавшись такой целью, мы прежде всего чувствуем себя безнадежно сбитыми с толку. В одной войне дело, по-видимому, идет об испанском, в другой – об австрийском наследстве и об имперской короне. Положим, здесь есть еще некоторое сходство; но какое отношение имеют эти вопросы о наследстве к заявленному испанцами праву обысков вдоль Мексиканского залива, к вопросу о границах Акадии,[17] к принципам французской революции? Насколько случайными кажутся нам причины столкновений, настолько же поражает нас и характер разбросанности самих войн. Враждебные действия вспыхнули к Нидерландах или в сердце Германии, а война ведется где попало или повсюду: в Мадрасе, при устье реки Св. Лаврентия, на берегах Огайо. Маколей говорит о вторжении Фридриха в Силезию: «Чтоб он мог ограбить соседа, которого обещал защищать, чернокожие должны были сражаться на Коромандельском берегу, а краснокожие скальпировать друг друга у Великих озер Северной Америки». Такова сложность, которую представляют эти войны при первом взгляде.
Но присмотритесь поближе – и вы найдете в них некоторое единство. Так, из семи рассматриваемых войн Англии пять были с самого начала войнами с Францией, а остальные две, хотя первая из них велась сначала против Испании, а другая – против собственных колоний, вскоре превращались в войну с Францией и оставались таковыми до конца.
Это один из тех общих фактов, которые мы ищем. Обыкновенно не замечают всего значения этого факта благодаря тому, что вся середина восемнадцатого столетия слишком неясно осталась в памяти. Англичане хорошо помнят, что как раз на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого столетий у них были две большие войны с Францией; хорошо помнят и две другие войны, бывшие почти на рубеже семнадцатого и восемнадцатого столетий; но большая война между Англией и Францией, около половины восемнадцатого столетия, забыта; забыта и предшествовавшая ей война с Испанией, перешедшая в войну с Францией, и служившая заключением ее – война с Америкой, также перешедшая в войну с Францией. Эти войны группируются очень симметрично, и весь период выделяется как век гигантского состязания между Англией и Францией, нечто вроде второй Столетней войны. Действительно, в те времена и вплоть до эпохи, хорошо нам памятной, вечный раздор между Англией и Францией настолько казался естественным законом природы, что о нем даже редко говорили. Современные войны, сливаясь с неясным воспоминанием о Креси (1346), Пуатье (1356) и Азенкуре (1415),[18] создавали в умах целых поколений впечатление, что война между Англией и Францией была всегда и всегда будет. Но это – несомненно ложный вывод. В шестнадцатом и семнадцатом столетиях Англия и Франция не были такими постоянными врагами. Оба государства часто находились в союзе против Испании. В семнадцатом столетии англо-французский союз был почти общим правилом.
Елизавета и Георг IV были союзниками, у Карла I была супруга-француженка, Кромвель действует заодно с Мазарини, Карл II и Яков II ставят себя в зависимость от Людовика XIV.
Но не было ли это постоянное возобновление войны с Францией в XVIII в. случайным, не есть ли оно прямое следствие близости Франции и неизбежности столкновений с нею? При тщательном изучении вопроса вы найдете, что это была не случайность и что войны связаны между собою как по внутренним причинам, так и по времени. Случайностью скорее является временное прекращение войны; возобновление же ее естественно и неизбежно. Правда, был за это время один долгий мир, продолжавшийся двадцать семь лет, после Утрехтского мира. Он был естественным результатом того истощения, в каком осталась Европа после войны за испанское наследство, которая, при сравнительно меньшей силе европейских государств того времени, почти равнялась великой борьбе с Наполеоном. Но зато все войны, следующие за этим перемирием, могут быть рассматриваемы как одна война, прерываемая случайными перемириями. Во всяком случае, три войны между 1740 и 1783 годами: война за австрийское наследство, Семилетняя война и американская война, поскольку они суть войны между Англией и Францией, тесно связаны между собою и составляют как бы военную трилогию. Я обращаю ваше особое внимание на это обстоятельство потому, что эта группа войн, если мы будем рассматривать ее как одно событие, объединенное великой целью и результатом, дает нам ту руководящую черту, которой так недостает этому периоду. Только слепота и извращенность понятий заставляют нас не замечать всей грандиозности этой фазы английской истории и обращать наши взоры на мелкие внутренние происшествия, парламентские распри, партийные интриги и придворные сплетни. Восшествие на престол Георга III случайно совпадает с серединой этого периода, и нам кажется благодаря детскому способу распределения истории, что оно создает деление там, где в действительности никакого деления нет, а существует, наоборот, необыкновенно явная непрерывность. В парламентской и партийной политике вступление на престол Георга III действительно составляет значительную эпоху, английские же историки всегда предпочитают писать историю парламента, а не историю государства и народа: в результате мы оказываемся введенными в заблуждение и остаемся совершенно слепы к одному из величайших и самых достопамятных поворотов в английской истории. Я утверждаю, что эти войны представляют одну великую и решающую борьбу между Англией и Францией. Взгляните на факты. De jure первая из этих трех войн окончилась Ахенским договором в 1748 году, за которым последовал восьмилетний мир между Англией и Францией. De facto было вовсе не так. Каково бы ни было значение договора в Ахене в деле примирения других европейских держав, принимавших участие в войне, договор этот едва ли на минуту прекратил борьбу между Англией и Францией, ибо великий вопрос о границах английских и французских поселений в Америке, о пределах Акадии и Канады также горячо оспаривался после договора, как и до него. И оспаривался не только на словах, но и оружием, как будто война все еще продолжалась. Больше того: то же самое можно сказать и о споре из-за другой границы, вдоль которой в то время также встречались англичане и французы, именно на границе их владений в Индии. Замечателен факт, на который, однако, мало обращают внимания, что некоторые из наиболее достопамятных столкновений между англичанами и французами, из всех имевших место в течение их долгого соперничества, некоторые из классических событий в английской военной истории случились именно в эти восемь лет, когда между Англией и Францией номинально был мир. Мы все слышали, что французы построили форт Дюкень (Fort Duquesne) на реке Огейо, что английская Виргинская колония послала для нападения на него отряд из 400 человек под предводительством Георга Вашингтона, тогда еще совершенно молодого человека и британского подданного, что Вашингтон был окружен и принужден сдаться. Мы слышали также о поражении и смерти генерала Бреддока (Braddock).[19] Еще лучше помним мы борьбу между Дюпле (Dupleix) и Клайвом (Clive)[20] в Индии, защиту Аркота и другие подвиги, результатом которых было основание британской Индийской империи. Все эти события составляли часть отчаянной борьбы за первенство между Англией и Францией – и что же? Большая часть из них случилась после Ахенского договора в 1748 году и до начала второй войны в 1756 году. Итак, мы имеем одну большую войну, начавшуюся в 1741 году или немного раньше и продолжавшуюся до Парижского мира в 1763 году, то есть около 20 лет. Она окончилась самым ужасным поражением, какое когда-либо в новейшие времена испытывала Франция, исключая 1870 год, – поражением, решившим судьбу Бурбонского дома. Но пятнадцать лет спустя, еще при жизни того великого государственного человека,[21] который указал Англии пути к победе, Англия и Франция снова ведут между собою войну. Франция вошла в сношения с восставшими английскими колониями, признала их независимость и оказала им помощь войсками. Опять в течение пяти лет продолжается борьба между Англией и Францией и на суше, и на море. Но следует ли это считать совершенно новой войной или отголоском той, которая только что затихла? Ни для кого ни на минуту не было тайной, что Франция теперь мстит Англии в час бедствия за все, что претерпела от нее. Возмездием за потерю Канады было создание Соединенных Штатов. Выражаясь словами, сделавшимися со временем столь знаменитыми, «она призвала к существованию новый мир для того, чтобы восстановить равновесие в старом». Таким образом, эти три великие войны связаны между собою гораздо яснее, чем могло казаться с первого взгляда. Но насколько действительно тесна их связь, мы увидим лишь тогда, когда узнаем, каково основание вражды этих наций, и убедимся, что одно и то же основание служило подкладкой всех трех войн. При поверхностном взгляде это кажется не так. Война между Англией и Францией никогда не ведется исключительно между этими державами, а всегда перемешана с другими войнами, которые ведутся одновременно. Эти крайне сложные комбинации составляют характерную черту восемнадцатого столетия. Какое отношение, например, может иметь взятие Квебека к борьбе между Фридрихом и Марией-Терезией из-за Силезии? Эта запутанность отношений дает большой простор историческим ошибкам и преждевременным обобщениям. Спорный вопрос всегда может быть истолкован совершенно ошибочно; например, заметив, что в Семилетней войне все протестантские европейские державы были заодно, мы могли бы заключить, что протестантизм взял верх в Индии или в Канаде над католицизмом; но мы оказались бы на очень ложном пути.
Я уже сказал, что расширение Англии в Новом Свете и в Азии составляет формулу, суммирующую для нее историю восемнадцатого столетия. Теперь я говорю, что великая тройная война середины XVIII века – это великий, решительный поединок между Англией и Францией из-за обладания Новым Светом. Современники этого не понимали, да и позже это редко замечали. Объяснением этой второй Столетней войны между Англией и Францией, наполнившей восемнадцатое столетие, служит тот факт, что эти державы соперничали за обладание Новым Светом, а тройная война всей середины столетия явилась решающей кампанией в этой великой мировой войне.
Англия не потому овладела Северной Америкой, что нашла ее незанятой и что у нее было больше судов, чем у других наций, на которых она могла перевезти в Америку больше колонистов. Англия не отвоевала Америки у какой-либо другой державы, уже обладавшей ею, но у нее был конкурент в деле колонизации, – конкурент, который в некоторых отношениях опередил ее; конкурентом этим была Франция.
Говоря коротко, история Северной Америки сводится к следующему. Около того самого времени, когда Яков I дает хартию 1606 года на основание Виргинии и Новой Англии (1630),[22] французы основывают несколько севернее две колонии, Акадию и Канаду, и снова около того самого времени, когда Вильям Пенн (Perm) получил от Карла II свою хартию для Пенсильвании, француз Ла-Саль (La Salle) совершает один из замечательнейших подвигов в деле открытий: прокладывает себе путь от Великих озер к истокам Миссисипи и, спустившись в лодках по всему течению громадной реки вплоть до Мексиканского залива, открывает обширную территорию, которая сейчас же делается французской колонией под названием Луизианы.[23]
Таковы были взаимные отношения Англии и Франции в Северной Америке в то время, когда революция 1688 года открыла войну, которую я называю второй Столетней войной между Англией и Францией. Англия имела ряд цветущих колоний, тянувшихся от севера к югу вдоль восточного берега; Франция обладала двумя великими реками: рекой Св. Лаврентия и Миссисипи. Политический пророк, сравнивая положение двух колонизирующих держав во времена английской революции (и даже значительно позже) и замечая преимущество, сопряженное с владением двумя такими реками, имел бы полное основание предсказать, что Северная Америка сделается скорее достоянием Франции, чем Англии.
Для нас в высшей степени важно заметить, что в тот век Франция и Англия не только в Америке, но и в Азии продвигались бок о бок. Завоевание Индии английскими купцами кажется единственным в своем роде и сверхъестественным; но мы сильно ошибемся, если предположим, что было нечто специфически английское как в оригинальности самой идеи, так и в энергии, с которой она была приведена в исполнение. Что касается плана покорения Индии, то он был задуман французами; французы первые заметили, что покорить ее возможно, и нашли способ, как это сделать; французы первые принялись за дело и до известной степени приблизились к осуществлению задуманного плана.
Действительно, в Индии они гораздо сильнее опередили англичан, чем в Северной Америке. В Индии англичане с самого начала чувствовали их сравнительное превосходство и сражались в духе отчаянной самозащиты. Изучая историю английского завоевания Индии, я нахожу, что англичан побуждало к нему не честолюбие и не желание расширить торговлю, а с начала и до конца, – то есть с первых усилий Клайва (Clive) и до того времени, когда лорд Уэльзли, лорд Минто и лорд Гестингс (Lord Wellsley, Lord Minto и Lord Hastings)[24] утвердили власть Англии над всем громадным полуостровом, – побудительной причиной английских операций был страх перед французами. За каждым движением туземных государств англичане видели французскую интригу, французское золото, французское честолюбие и, пока не овладели всей страной, не могли отделаться от чувства, что французы выгонят их оттуда, – чувства, унаследованного от времен Дюпле и Лабурдоне.[25]
Итак, факт непосредственного состязания из-за приза неисчислимой стоимости вполне достаточно объясняет, почему возгорелась между Англией и Францией вторая Столетняя война. Этот факт является коренной причиной войн, хотя истинная почва раздора не всегда была ясна даже для самих воюющих, а еще менее – для остального света. В этом веке, как и в других, между такими близкими соседями часто возникали случайные причины разногласия, сами по себе достаточные для объявления войны, и только в трех указанных войнах середины восемнадцатого столетия обе нации открыто и сознательно воевали из-за вопроса о Новом Свете. В предшествующих войнах – в войнах Вильгельма III и Анны – другие причины действуют сильнее или, во всяком случае, не менее сильно: раздоры из-за Нового Света тогда еще не достигли достаточного напряжения. В последующих войнах, т. е. в тех двух, которые следовали за французской революцией, вопрос о Новом Свете опять отодвигается на задний план: к этому времени Франция уже окончательно выпустила из своих рук и Америку, и Индию; она может только делать отчаянные попытки вновь завладеть ими. Но в трех войнах, между 1740 и 1783 годами, Англия и Франция борются исключительно из-за Нового Света.
В первой войне успехи их почти равны; во второй – Франция получает роковой удар: в третьей – она замечательным образом мстит за полученное унижение. Это знаменательная глава в истории Великой Британии, ибо это первая великая борьба, в которой империя сражается как одно целое, и колонии вне Европы не только идут на буксире за метрополией, но сами принимают активное и руководящее участие. Нам следовало бы отчетливо отметить это событие в календаре восемнадцатого столетия. Главнейшие и самые решающие моменты этой борьбы относятся ко второй половине царствования Георга II.
Но и в предыдущих войнах с Людовиком XIV, и в позднейших – против французской революции, как выясняется при внимательном изучении, истинным яблоком раздора между Англией и Францией, гораздо в большей степени, чем можно было предполагать, являлся Новый Свет. Колониальный вопрос все больше и больше разрастался в течение всего семнадцатого столетия, тогда как другой жгучий вопрос того века – спор между двумя вероисповеданиями – отступал на задний план. Так, читая о войне Кромвеля с Испанией, мы задаем себе вопрос: на кого нападает Кромвель – на великую католическую державу или на обладательницу Нового Света. В том же веке две великие протестантские державы, Англия и Голландия, которые должны были бы в интересах религии идти рука об руку, оказываются ведущими жестокие войны, как две соперничающие колониальные державы. Открытие и заселение Луизианы в 1683 году выдвигает Францию в первый ряд колониальных держав – и что же? Через шесть лет после этого начинается «вторая Столетняя война» между Англией и Францией.
В первой из этого рода войн, хотя ее и называют в истории Северной Америки «первой междуколониальной войной», колониальный вопрос не играет большой роли. Он явно выступает во второй войне – в войне за испанское наследство. Название это не должно вводить нас в заблуждение. Много говорилось о жестокой гибели людей и богатств, бывшей результатом вмешательства Англии в совершенно ей чуждый испанский вопрос и ее страха перед призраком французского преобладания, – страха, не имевшего в себе ничего реального. Много говорилось о том, насколько лучше было бы для Англии посвятить свои силы цивилизаторскому делу – торговле. Однако прочтите у Ранке[26] о том, как возгорелась эта война, и вы найдете, что именно торговля и вовлекла Англию в нее. Испанское наследство касалось Англии уже потому, что Франция грозила, утвердив свое влияние в Испании, наследовать ее монополию в Новом Свете и безвозвратно преградить доступ в него Англии. В связи с этими крупными практическими результатами этой войны для Англии явились колониальные успехи: завоевание Акадии и договор – ассиенто,[27] после которого Англия впервые сделалась державой, ведущей в больших размерах торговлю невольниками.
Точно так же и в английских войнах против французской революции и Наполеона обладание Новым Светом было всегда одной из основ вражды.
В американской войне Франция мстит Англии за свое изгнание из Нового Света; при Наполеоне она употребляет титанические усилия, чтоб вернуть там свое утраченное положение. Такова именно точка зрения, которой Наполеон постоянно держится относительно Англии. Он видит в ней не остров, не европейское государство, а мировую империю, целую сеть зависимых владений, колоний и островов, на одном из которых ему самому суждено было впоследствии найти себе темницу и могилу. Когда в 1798 году ему поручена была война с Англией, он, конечно, прежде всего обратил внимание на Ла-Манш и Ирландию. Однако то, что он увидел там, его не удовлетворило; а между тем несколькими месяцами позже в Ирландии вспыхнуло страшное восстание, и если бы в это время победитель Италии неожиданно высадился там во главе французской армии, он нанес бы Англии самый тяжелый удар, какой она когда-либо испытала.
Однако мысли Наполеона были заняты другим. Он помнил, как близка была Франция одно время к покорению Индии, пока Англия[28] не приостановила ее успехов, а потому он решил и убедил в том директорию, что лучший способ борьбы с Англией представляет занятие Египта и одновременное подстрекательство султана Типу[29] к войне с калькуттским правительством. Он действительно приступил к исполнению этого плана: вся борьба переносится с Ла-Манша в беспредельные пространства Великой Британии, и когда вскоре после этого ирландцы поднимаются, то, к великому своему разочарованию, узнают, что Франция вместо Бонапарта может предложить им только генерала Гумберта (Humbert) с войском в 1100 чел.
Когда война эта окончилась Амьенским договором в 1802 году, то оказалось, что результаты ее составляют знаменательную эпоху в истории Великой Британии. Прежде всего Египет был совершенно очищен Францией, и план нападения на Индийскую империю, задуманный Бонапартом, не удался: союзник его Типу – «гражданин Типу», как его называли – потерпел поражение и был убит, а генерал Бейрд (Baird) двинулся с английскими силами по Красному морю, чтобы, соединившись с генералом Гетчинсоном (Hutchinson), изгнать французов из Египта. В колониальном мире Англия в то же время осталась владетельницей Цейлона и Тринидада.
Посмотрим теперь, была ли и последняя война, продолжавшаяся от 1803 до 1815 года, до известной степени войной из-за Нового Света. По-видимому, нет: с самого ее начала Англия имеет такое превосходство на море, что Наполеону никогда не удалось бы снова пробраться в Новый Свет. И тем не менее я думаю, что Наполеон намеревался сделать именно это. Во-первых, посмотрите на возникновение войны и на причину, вызвавшую ее. С самого начала это была война из-за острова Мальты. По Амьенскому договору Англия обязалась в определенный срок очистить Мальту, но потом, исходя из некоторых оснований, о которых нет надобности сейчас говорить, отказалась сделать это. Но почему же Наполеон хотел, чтоб она очистила Мальту, и почему Англия отказалась от этого? Потому что Мальта была ключом к Египту, и Англия имела основание предполагать, что Наполеон вновь займет Египет и что опять возобновится борьба за Индию. Таким образом, война эта была все-таки войной из-за Индии, хотя благодаря третьей коалиции она и была перенесена в Германию.
Сохранением за собою Мальты Англия действительно раз и навсегда предотвратила нападение на Египет, и однако сама она не сознавала, чего добилась. Она все еще продолжала думать, что Индия переполнена французскими интригами, продолжала считать мараттского и афганского владетелей, а также и персидского шаха марионетками, управляемыми французами, только потому, что у них на службе было много французских офицеров. Вероятно, большая Мараттская война 1803 года казалась лорду Уэльзли эпизодом из войны с Францией, и, вероятно, Артур Уэльзли полагал, что при Асеи и при Аргауме он наносит удары тому же неприятелю, с которым позже боролся при Сатаманке и при Ватерлоо.[30] Дело в том, что намерения Наполеона в этой войне для нас затемняются благодаря неудаче, которой закончилось задуманное им морское предприятие, и успешности его германского похода, который вовсе не входил в первоначальный план его действий. Наполеон уклонился по тому направлению, которого он не имел раньше в виду; однако и континентальная система, и насильственный захват Испании и Португалии (двух обладательниц Нового Света) говорят нам, что он все-таки не забывает своей первоначальной цели.
Кроме того, полковник Малисон в своем сочинении «Позднейшая борьба Франции на востоке»[31] показывает, какую опустошительную каперскую войну Франция была в силах вести на Индийском океане, опираясь на остров Св. Маврикия, еще долго после того, как морские силы ее были уничтожены при Трафальгаре. Покорением острова Св. Маврикия и утверждением его за Англией окончилась вторая Столетняя война между Францией и Англией – война из-за Нового Света.
Этот общий обзор войн восемнадцатого столетия должен показать вам, что тезис, признающий расширение наиболее характерной чертой в истории Англии XVIII века, имеет более обширное значение, чем это может показаться с первого взгляда. Первоначально этот тезис мог быть понят вами в том смысле, что завоевания Канады, Индии и южной Африки представляют по существу большее значение, чем такие европейские и внутренние события, как войны Мальборо, наследование Брауншвейгского дома, восстание якобитов или даже война против французской революции. Теперь же вы видите, что наш тезис должен быть понят шире, именно: крупные события, не имевшие, как казалось, никакого отношения к росту Великой Британии, на самом деле были тесно связаны с ним и представляли лишь последовательные моменты в великом процессе. Первоначально этот тезис можно толковать в том смысле, что европейская политика Англии в XVIII столетии представляет меньше значения, чем ее колониальная политика. На самом же деле он означает, что европейская политика и колониальная политика суть лишь две стороны одного и того же великого национального развития. Вот это-то я и желаю доказать. Только такое понимание связывает европейские дела с колониальными, военные действия с общим мирным расширением страны, с тем промышленным и коммерческим ростом, который в XVIII столетии превзошел все, что было прежде достигнуто Англией. Чтобы понять это, необходимо рассмотреть особенный характер английской колонизации в Новом Свете.
Лекция 3 Империя
Хотя мы и свыклись с выражением «колониальная империя», тем не менее в сопоставлении этих двух слов есть нечто странное. Слово «империя» как будто звучит слишком воинственно и деспотически, когда мы говорим об отношении метрополии к колониям.
Есть два различных вида колонизации. Первый можно назвать естественным в том смысле, что он аналогичен явлениям в мире природы. «Колонии походят на плоды, которые висят на дереве, пока не созреют», – сказал Тюрго. Колонизация, говорят другие, походит на роение пчел или на брак и переселение в новый дом взрослого сына. И действительно, мы находим в истории примеры такой легкой, естественной колонизации. Первоначальные переселения часто принадлежали к колонизации этого рода. На первых страницах европейской истории, в ранних сказаниях Греции и Италии, рисующих перед нами греко-италийскую ветвь арийской семьи в момент занятия ею территории, арены ее будущего величия, мы видим, как под влиянием примитивных понятий совершается этот легкий процесс. В них мы читаем об установлении ver sacrum, по которому все дети, родившиеся в течение одной весны, посвящались божеству, принимавшему переселение взамен жертвоприношения.[32] Когда посвященные делались взрослыми, они изгонялись из пределов отечества и иногда селились и основывали город на том месте, где останавливалось какое-нибудь случайно обогнавшее их животное: они видели в нем путеводителя, посланного Богом. Говорят, что от такого священного животного получили свое название некоторые города, например, Бовианум и Пиценум.
Такую колонизацию, пожалуй, можно назвать естественной, но из подобной системы не могла вырасти колониальная империя. Поэтому греческая αποιχια, хотя она и переводится словом «колония», представляла собою нечто, по существу, отличное от современной колонии. Под колонией мы разумеем общество, не только вышедшее из метрополии, но остающееся политически с нею связанным связью зависимости. Греческая αποιχια не была таким зависимым обществом. Технически αποιχια совершенно независима от метрополии, хотя по чувству родства и находилась с нею в постоянном союзе. Зависимость отнюдь не была неизвестна грекам, и греческие государства нередко учреждали в соседних общинах подчиненные им правительства. Но эти зависимые общины никогда не были колониями, и колония в свою очередь не являлась никогда зависимым владением.
Латинская colonia, без сомнения, достаточно зависима, но она представляет собою совершенно своеобразное учреждение: назначением ее является создание в завоеванной стране гарнизонов без затрат на содержание в ней армии. Поэтому нет надобности рассматривать здесь латинскую систему колонизации.
Замечателен и для нас очень важен тот факт, что старая первобытная система греков никогда не оживала в новейшие времена. Колонизация, начавшаяся с открытием Америки Колумбом или, вернее, с момента завоевания Канарских островов Бетанкуром (Bethencourt) в 1404 году, приняла со временем огромные размеры. Она населила территорию, более чем во сто раз превосходящую те немногие островки и полуостровки Средиземного моря, которые были заняты первобытными греческими авантюристами, – и что же? В течение всего этого процесса метрополия никогда не дозволяла добровольным переселенцам образовывать независимые общества. Какие бы льготы ни получали первые авантюристы, Кортес и Пизарро, какие бы обширные права – собирать армии, вести войну и заключать мир – ни были дарованы английской Ост-Индской компании, государство всегда удерживало в своих руках верховный контроль, и только успешное восстание могло освободить от него колонии. Коринф, по-видимому, никогда не считал возможным сохранить свою власть на расстоянии Сицилии; но ни испанскому, ни португальскому, ни голландскому, ни французскому и ни английскому правительствам никогда и в голову не приходило, что их переселенцы могут претендовать на независимость на том только основании, что они скрываются в пампасах Южной Америки или на архипелагах Тихого океана.
Новая система колонизации может считаться менее естественной, чем древняя, если под словом «естественная» мы разумеем «инстинктивная»; но если мы хотим этим термином выразить ее «рациональность» (что, конечно, совсем иное), то нам не следует называть ее неестественной лишь потому, что она не похожа на роение пчел или размножение растений. Во всяком случае, мы не должны тотчас впадать в обличительный тон, говоря: «Смотрите, какой контраст между человечной мудростью Древнего мира и тиранией готических Средних веков! Гот никогда не ослабляет, даже на дальнем расстоянии, своей варварской системы принуждения, тогда как кроткий, развитый грек, руководимый природой, сознает, что взрослое дитя имеет право быть независимым, и потому благословляет его и напутствует».
Быть может, если мы рассмотрим обстановку новейшей колонизации, то найдем, что она выросла из своей обстановки так же неизбежно, как инстинктивная система выросла из условий Древнего мира.
Занятие земель по ту сторону океана путем создания новых общин совершенно отлично от постепенного разлития расы по непрерывной территории или по территориям, отделенным узкими морями. Для последнего могут быть достаточны ничтожные побуждения и умеренные усилия, первое же требует громадной механической силы. Мы видим, что Колумб нуждается в помощи государства на каждом шагу. Его снарядило государство, оно же уплатило все издержки, сопряженные с его открытием. Сверх того мы замечаем, что, когда открытие уже сделано, европейцы не чувствуют непреодолимого побуждения воспользоваться им. Шлюзные затворы раскрылись, но вода еще не хлынула: в то время в Европе не было излишка населения, ищущего выхода: находились только единичные авантюристы, готовые отправиться за золотом. Колумб не мог сделать ни шагу, пока не доказал государям, что открываемая территория принесет им доходы. При таких обстоятельствах, т. е. когда в помощи нуждались постоянно, государству было легче поддерживать свой авторитет.
Можно заметить также, что новейшее государство должно почти неизбежно колонизовать иным способом уже потому, что оно само отличается от греческого государства. Ум грека в такой мере отожествляет государство с городом, что на его языке, как вам известно, существует только одно слово для обозначения того и другого. Аристотель, хотя ему были известны такие государства-страны, как Македония и Персия, – по-видимому, в своей «Политике» вовсе не принимает их в соображение. Он нередко устанавливает принципы, из которых видно, что он не в состоянии смотреть на них как на государства в настоящем смысле слова, именно потому, что они – не города. С другой стороны, современное понятие о государстве – многие из нас не знают, насколько оно ново и как постепенно оно складывалось – требует, чтобы люди одной нации, говорящие на одном языке, имели одно правительство.
Ясно, что эти различные понятия о государстве влекут за собою и различные понятия о последствиях эмиграции. Если государство есть город, то тот, кто выходит из города, выходит из государства. Отсюда греческий взгляд на колонию был естествен для греков, ибо греки, устраивая новый город (πολιζ), тем самым неизбежно основывали новое государство. Если же государство есть нация (заметьте, не страна, а нация), то самое это понятие дает достаточные основания для общего обыкновения современных государств считать, что их переселенцы не выходят из государства, а берут его с собою. Существовало сознание, что там, где англичане, там и Англия, где французы, там Франция, и поэтому-то владения Франции в Северной Америке были названы Новой Францией, и одна группа английских владений получила название Новой Англии.
Из этого же контраста в понятии о государстве вытекает и другая причина различия в системе колонизации. Причина эта так важна, что ее следует формулировать особо: организация новейшего государства допускает беспредельное территориальное расширение, тогда как организация древнего государства его не допускала. Греческая πολιζ, будучи на самом деле городом, не могла быть так видоизменена, чтобы превратиться в нечто большее. Я никогда не устану цитировать то место в «Политике», которое имеет столь громадное значение для изучающего политическую науку: там Аристотель утверждает, что государство должно иметь умеренное население, ибо «кто был бы в состоянии командовать им во время войны, если бы население его было чрезмерным, и какой герольд, кроме Стентора, мог бы обращаться к нему с речью?»
Между тем современное государство, раз приняв размеры страны, допускает и дальнейшее разрастание. В эпоху начала колонизации европейское государство или вовсе не имело народных собраний, как Франция и Испания, или его национальное собрание, как в Англии, было представительным, т. е. по самой своей организации избегало затруднений, связанных с созывом всех граждан.
Я привожу эти общие соображения о природе новейшей колонизации с той целью, чтобы мы могли понять, что такое английская империя и как необходимо было ее возникновение. Крупное выселение из Англии, не сопровождающееся увеличением английского государства, – дело вполне возможное. Но под Великой Британией мы разумеем разрастание не только английской национальности, но и английского государства. Простой факт присутствия населения английской крови в Канаде и в Австралии не представляет еще собою созидания Великой Британии, подобно тому, как в древности распространение греческого населения в Сицилии, Южной Италии и вдоль западного берега Малой Азии не создало роста греческого государства. То был рост национальности, но не государства, – рост, который не придал грекам новой силы и не оказал им никакой помощи, когда на них напали и их покорили македоняне. Точно так же в настоящее время мы видим непрерывный поток эмиграции из Германии в Америку, но Великой Германии не создается: переселенцы, хотя несут с собою и сохраняют отчасти и свой язык, и свои понятия, но не несут своего государства. Для Германии это объясняется тем, что выселение из нее началось слишком поздно, когда Новый Свет был уже размежеван на отдельные государства, в которые и должны были войти ее переселенцы. Аналогичное явление в Греции вытекало из того понимания государства, которое отожествляло его с городом. Что же касается Великой Британии, то она представляет действительное расширение английского государства, так как она распространяет за морями не только английскую расу, но и авторитет английского правительства. Мы называем ее империей за неимением лучшего названия. Правда, она походит на великие империи прошлого в том отношении, что представляет собою агрегат провинций, из коих каждая имеет правительство, высланное из главной политической квартиры и составляющее род делегации от верховного правительства. Тем не менее она вовсе не походит на великие империи Старого Света, каковы персидская, македонская, римская или турецкая: она, в общем, не основана на завоевании, жители ее отдаленных провинций почти всецело принадлежат к той же нации, как и жители господствующей страны. Она походит на них своей обширностью, но не носит того насильственного военного характера, который обрекал большинство империй на быстрый упадок.
Теперь мы можем видеть, при каких условиях возникла Великая Британия. Она одна пережила семью великих империй, родившихся от соприкосновения западных государств Европы с новыми мирами, внезапно раскрытыми Васко да Гамой и Колумбом. Англия делала то же, что делали Испания, Португалия, Франция и Голландия. Подобно Великой Британии, некогда существовали Великая Испания, Великая Португалия, Великая Франция и Великая Голландия, но по разнообразным причинам эти четыре империи погибли или сделались незначительными. Великая Испания исчезла, а Великая Португалия утратила свою наиболее обширную провинцию, Бразилию; утрата эта произошла полвека назад в силу борьбы за независимость, – борьбы, подобной той, которая отторгла от Англии ее американские колонии. Великая Франция и значительная часть Великой Голландии погибли в войне и потонули в Великой Британии. Великая же Британия, потерпев жестокий удар, продолжает существовать до настоящего дня, являясь единственным памятником почти исчезнувшего порядка вещей. Вместе с тем она отличается от этих бывших империй одним существенным пунктом.
Страны, внезапно открывшиеся для Европы на исходе пятнадцатого столетия, распадаются на три категории. В странах, открытых Васко да Гамой, существовали большей частью древние и обширные государства, о ниспровержении которых и не помышляли первые авантюристы. Колумб, напротив, открыл материк, на котором оказались только два организованных государства. Но и те быстро обнаружили свою непрочность. Отношение к новым странам, установленное Колумбом, было самое странное и насильственное, когда-либо возникавшее между двумя расами человечества; оно повело к лютой борьбе, составившей одну из ужаснейших страниц в летописях мира. В этой борьбе равенства не было. Американская раса уступала в силе европейцам, как овцы уступают волкам. Даже там, где она была многочисленна и имела политическую организацию, как в Перу, она не была в состоянии бороться; ее государства были сокрушены, правящие династии истреблены, и население обращено в рабство. Таким образом, вся страна была захвачена вторгнувшейся расой и разделена, как добыча. Здесь пришельцы не доказывали шаг за шагом, как это было в Индии, своего военного превосходства над туземной расой, – здесь они сразу завладели ею, как партия охотников, внезапно напавшая на стадо антилоп. В Америке повсюду мы видим одно и то же, но все ее страны можно разделить на две категории. Между странами Центральной и Южной Америки, подпавшими главным образом под власть испанцев и португальцев, и североамериканскими территориями, сделавшимися в результате добычей Англии, была значительная разница. В Мексике, Перу и других частях Южной Америки туземное население, хотя и слабое по сравнению с европейцами, было многочисленно; оно считалось миллионами, достигло земледельческой стадии и имело города. Индейские племена, бродившие по территориям Северной Америки, теперь составляющим Соединенные Штаты и область Канаду, были гораздо менее значительны. Вычислено, что «все индейское население территории Соединенных Штатов к востоку от Скалистых гор после открытия Америки никогда не превышало, если оно когда-либо достигало, трехсот тысяч человек». Так что в то время, как в Новой Испании европеец, хотя и господствующий, жил среди населения, состоявшего из туземных индейцев, европеец в Северной Америке вполне заступил место туземной расы, оттесняя ее по мере своего движения и абсолютно не сливаясь с нею.
Англии удалось, в конце концов, завладеть лучшей частью областей, открытых Васко да Гамой и Колумбом. С одной стороны выросла Индийская империя, с другой – Колониальная империя. Но из стран второй категории, т. е. из диких стран, лишенных могущественных государств, Англия заняла те, которые были сравнительно мало населены; доставшаяся ей впоследствии австралийская территория находилась в тех же условиях. Это обстоятельство имеет крайне важные последствия.
Я уже имел случай заметить, что сущность Великой Британии заключается в распространении английского государства, а не в распространении английской национальности. Однако для Великой Британии крайне характерно, что она представляет собою одновременно распространение и английской национальности. Если национальность распространяется без расширения государства, как было с греческими колониями, то плодом этого явления может, правда, оказаться усиление нравственного и умственного влияния народа, но возрастания политического могущества при этом не бывает. С другой стороны, когда государство переступает границы своей национальности, владычество его может сделаться шатким и искусственным. Таково положение большинства империй; таково же положение английской Индийской Империи. Английское государство в Индии могущественно, но английская нация составляет лишь незаметную каплю в океане азиатского населения. Распространяясь по новым территориям, нация рискует встретить там другие национальности, которых ей не удастся ни уничтожить, ни вполне изгнать, даже если она и сможет завоевать их. В таких случаях ей предстоят большие непрерывные трудности. Подчиненные или конкурирующие национальности не могут быть вполне ассимилированы и непрестанно служат причиной слабости и опасности. К счастью для нее, Англии в процессе ее расширения удалось, в общем, избежать этой опасности: она занимала такие части земного шара, которые по своей малолюдности давали полный простор новым поселениям. В них хватало земли для каждого, кто желал там селиться, а туземные расы были настолько неразвиты, что не могли противостоять даже мирной конкуренции, не говоря уже о материальной силе английских переселенцев.
Это справедливо в общем. Английская империя, как целое, свободна от той слабости, которая привела к падению большинство империй, представлявших собою механический насильственный конгломерат чуждых национальностей. Иногда утверждают, что Великая Британия является, в сущности, слабым союзом, который не вынесет малейшего удара. На чем основан этот взгляд, я рассмотрю далее, а пока замечу, что Великая Британия, несомненно, обладает одним основным элементом силы, которого недостает большинству империй и некоторым республикам. Так, Австрия раздроблена национальным соперничеством германца, славянина и мадьяра; Швейцарский Союз соединяет в себе три языка; английская же колониальная империя по существу и в широком смысле является сплошь английской.
Конечно, здесь необходимы значительные оговорки. Только в одной из четырех великих групп, – в австралийских колониях, – наше утверждение почти не требует ограничений. Природная австралийская раса стоит на такой низкой ступени этнологической лестницы, что не может внушать никаких опасений. Однако если мы включили в эту группу Новую Зеландию, то уже должны принять во внимание племена маори, которые занимают Северный остров и беспокоят англичан, подобно тому, как в прошлом веке их беспокоили горные кланы в северной части Британского острова; при этом надо помнить, что маори отнюдь не принадлежат к тому типу людей, на которых можно смотреть с презрением, хотя общая численность их не превышает сорока тысяч и население быстро уменьшается. Обращаясь к другой группе – к североамериканским колониям, состоящим главным образом из Канады, – мы находим, что ее ядро было первоначально приобретено не путем английской колонизации, а путем завоевания французских колоний. Следовательно, здесь с самого начала, и притом в тяжкой форме, существовали национальные затруднения. Первоначальная Канада французов впоследствии стала известна под названием Нижней Канады, а со времени учреждения Канадской области (Dominion of Canada[33]) она носит название провинции Квебек. Население ее простирается почти до полутора миллиона, тогда как население всей Канадской области равняется четырем с половиной миллионам. Здесь французы-католики перемешаны с главной массой населения, состоящего из англичан-протестантов. Еще не так давно присутствие этого чуждого населения дало о себе очень чувствительно знать в раздорах, по существу похожих на те, которые национальный вопрос породил в Австрии. Канадское восстание, ознаменовавшее первые годы царствования королевы Виктории, было в действительности национальной войной (внутри) Британской империи, хотя оно облеклось в маску борьбы за свободу; это указано вполне ясно лордом Дургамом (Lord Durham) в начале его знаменитого донесения о Канаде: «Я ожидал увидеть борьбу между правительством и народом, а нашел, что это была война двух наций в одном государстве; я нашел не борьбу принципов, а борьбу рас».[34] Но следует заметить, что и здесь чуждый Англии элемент уменьшается и, вероятно, в конце концов, будет затоплен английской иммиграцией; кроме того, враждебность этого элемента значительно смягчена введением федеральных учреждений.
В третьей, вест-индской, группе разница в национальности также значительна. Это почти единственная область английской империи, в которой замечаются последствия специфического явления в истории Нового Света – невольничества негров. Это та самая область, где оно впервые появилось в обширных размерах, как непосредственный результат открытия Америки. Пока невольничество продолжалось, оно не вызывало национальных осложнений, так как окончательно порабощенная нация – более не нация и восстание рабов – это нечто совершенно иное, чем возмущение угнетенной национальности. Но теперь, когда рабство уничтожено и бывшие рабы, отмеченные цветом и физическим типом, явно говорящим о резко отличной национальности, стали свободными и заявляют требования на гражданство, – теперь этим колониям начинают угрожать затруднения, связанные с различием национальностей. Однако в вест-индской группе подобные затруднения в настоящее время не являются в серьезной форме ввиду того, что большинство колоний разбросано по небольшим островам и не соединено между собою общностью чувств.
Самые серьезные национальные осложнения встречаются в четвертой, или южноафриканской группе. Здесь осложнения двух родов. В этой группе было два завоевания, одно наслоившееся на другое. Сначала голландцы поселились среди туземных рас, а затем голландская колония была завоевана англичанами. Это напоминает Канаду, где между индейцами поселились французы, которые затем были завоеваны англичанами. Но в Африке имеют место две особенности. Во-первых, туземные расы здесь не исчезли и не уступили численностью белым; они гораздо многочисленнее их и проявляют такую способность к объединению и к прогрессу, какой никогда не выказывали краснокожие. Так, по росписи 1875 года оказывается, что общее население Капской колонии равнялось почти трем четвертям миллиона; из них две четверти миллиона были туземцы и лишь одна четверть – европейцы, а за этим туземным населением, живущим среди европейцев, стоит несметное туземное население, углубляющееся во внутренность огромного материка. Другое затруднение возникает из того факта, что первоначальными поселенцами были не англичане, а голландцы. Это затруднение не уменьшается с годами, не проявляет тенденцию к исчезновению, как в Канаде. В Канаду англичане иммигрировали быстро; оказавшись значительно энергичнее французов и размножаясь гораздо сильнее их, они придали постепенно всему обществу преобладающий английский характер, так что восстание французов в 1838 году можно считать конвульсией отчаяния упадающей национальности. Ничего подобного не было в Южной Африке: англичане не иммигрировали туда с такой быстротой, какая необходима, чтобы придать населению новый характер.
Таковы оговорки, которыми необходимо квалифицировать общее положение, что Великая Британия по национальности однородна. Эти оговорки не опровергают истинность общего положения. Если англичане на самих Британских островах вполне сознают себя единой нацией, несмотря на то что в Уэльсе, в Шотландии и в Ирландии есть кельтическая кровь и слышатся звуки кельтических, совершенно непонятных для англичан, языков, то мы вправе допустить, что и живущие в английских колониях многочисленные французы и голландцы, кафры и маори не нарушают ее этнологического целого.
Это этнологическое единство имеет весьма важное значение, когда мы хотим составить себе мнение об устойчивости империи и об ее шансах на долгое существование. Есть три главные силы, связывающие народ и образующие из него одно государство: общая национальность, общая религия и общие интересы. Эти силы могут действовать в различных степенях интенсивности; они могут также действовать в отдельности или в совокупности. Когда доказывают, что Великая Британия представляет собою союз, который будет недолговечен и скоро распадется, то основываются на том факте, что она не связана общностью интересов. «Что общего могут иметь обитатели Австралии или Новой Зеландии, живущие по ту сторону тропика Козерога, с англичанами, живущими выше 50-го градуса северной широты? Кому же не ясно, что два столь отдаленных общества не могут быть долго частями одного политического целого?» Соображение это приобретает особенно веское значение, когда мы сопоставим его с фактом отпадения американских колоний от Англии в XVIII столетии, вызванного невыносимостью союза с метрополией. Однако, признавая значение этого соображения, мы можем заметить, что если между Англией и ее колониями и недостает одной из трех связей, то две другие, во всяком случае, находятся в наличности. Многие империи, в которых враждебные национальности и религии были связаны искусственно, существовали тем не менее целые века; Великая же Британия не есть обычная империя, хотя мы ее часто так и называем. Соединяющие ее узы отличаются большей жизненностью. Это узы крови и религии. Возможно, конечно, представить себе такие обстоятельства, при которых эти узы могут порваться; тем не менее они очень крепки, и для их расторжения потребуется громадное усилие.
Карта мира в XVII в.
Я распространился в этой лекции о существенной природе английской колониальной империи ввиду того, что есть много двусмысленности как в слове «колониальная», так и в слове «империя». Английские колонии не походят на колонии, которые мы встречаем в греческой и римской истории; английская империя не есть империя в обыкновенном смысле слова. Она не состоит из народов, связанных между собою насильственно, но представляет собою в общем одну нацию, и потому она собственно не империя, а обыкновенное государство.
Это основной факт, и, желая заглянуть в будущее и узнать, способна ли английская колониальная империя на продолжительное существование, мы должны основываться на нем.
Чтобы понять прошлое, я говорил подробно о целом ряде империй, возникших как следствие открытия Нового Света, ибо к этому ряду относится и английская империя. Я сетовал, что Англию в восемнадцатом веке рассматривают большей частью как европейское государство, а не как американскую и азиатскую империю; другими словами, слишком много говорят о Великобритании и слишком мало – о Великой Британии. Этот же неправильный взгляд распространяется и на Великую Францию, Великую Голландию, Великую Португалию и Великую Испанию: они существовали в том же столетии и также прошли не замеченными нашими историками, как и Великая Британия.
Основной характерной чертой европейских государств восемнадцатого и семнадцатого столетий является тот факт, что каждая из пяти первых западных держав Европы имеет свою империю в Новом Свете. Между тем, на эту черту реже всего указывают. До семнадцатого века этот порядок вещей только еще начинался, а после восемнадцатого столетия он уже перестал существовать. Громадные, неизмеримые результаты открытия, сделанного Колумбом, развивались чрезвычайно медленно; прошло все шестнадцатое столетие, прежде чем западные нации Европы стали заявлять претензии на свою долю в Новом Свете. До конца этого столетия не существовало независимой Голландии, потому a fortiori не могло быть и Великой Голландии; Англия и Франция также не имели еще тогда колоний.
Правда, Франция замышляла уже основать колонию в Северной Америке, о чем до сих пор свидетельствует название Каролины, заимствованное от французского короля Карла IX, однако испанцы соседней Флориды помешали французам.[35] Несколько спустя основанная близ той же местности колония сэра Вальтера Ралея (Raleigh) исчезла совершенно, не оставив по себе следов. Таким образом, в течение почти всего этого столетия новые страны находятся в руках двух держав, наиболее содействовавших их открытию, – в руках Испании и Португалии, причем взоры Испании были преимущественно обращены на Америку, а взоры Португалии – на Азию, пока в 1580 году оба эти государства не слились в союз, длившийся около шестидесяти лет. Голландцы выступают соперниками из-за империи главным образом в течение семи лет, с 1595 по 1602 год; за ними, в первые годы семнадцатого века, следуют французы и англичане.
В девятнадцатом веке соперничество этих пяти держав в Новом Свете уже кончено. Оно прекращается по двум причинам: вследствие ряда войн за независимость, благодаря которым заатлантические колонии отделились от метрополий. И вследствие колониальных завоеваний Англии. Я уже описал вторую Столетнюю войну, во время которой Великая Франция была поглощена Великой Британией. Великая Голландия также потерпела значительные утраты: она должна была расстаться с мысом Доброй Надежды и с Демерарой,[36] уступив их Англии; однако Великая Голландия существует до настоящего времени: она владеет, между прочим, островом Явой с населением в девятнадцать миллионов. Падение Великой Испании и Великой Португалии произошло в девятнадцатом столетии на глазах еще ныне живущих людей. Если бы мы оценили события не столько по вызываемому ими возбуждению среди современников, сколько по их влиянию на будущее, то мы назвали бы этот момент одним из важнейших в истории земного шара, так как он служил началом независимой жизни почти всей Южной и Центральной Америки. Случилось это в 20-х годах прошлого столетия, и было результатом ряда восстаний; вникая в их происхождение, мы находим, что они были следствием удара, нанесенного Испании и Португалии вторжением Наполеона. Таким образом, оказывается, что одним из главных, если не самым главным, результатом деяний Наполеона было падение Великой Испании и Великой Португалии и установление независимости Южной Америки.
Следствием всех этих могучих переворотов – о которых, я полагаю, лишь немногим из вас что-либо известно – является то, что западные державы Европы, за исключением Англии, были снова отторгнуты от Нового Света. Конечно, это только приблизительно верно. Испания до последних лет XIX века владела Кубой и Порторико, Португалия имеет обширные владения в Африке, Франция начала основывать новую империю на севере этого материка. Тем не менее мировое положение этих четырех держав существенно изменилось. Они опять стали преимущественно европейскими государствами, какими были, прежде чем Колумб перешел Атлантический океан. Я докажу вам сейчас на двух примерах громадность этих перемен. Испания в семидесятых годах пережила тревожные дни. Она изгнала Бурбонскую королеву и временно испробовала республику. Это, без сомнения, важная перемена на Пиренейском полуострове, но она вызвала удивительно мало возбуждения в остальном мире. Случись что-либо подобное в восемнадцатом или семнадцатом веке, потрясение было бы ощутимо в значительной части планеты: каждая территория, от Мексики до Буэнос-Айреса, от тропика Рака и до тропика Козерога, вероятно, была бы охвачена восстаниями и междоусобицами. Точно так же бедствие, постигшее недавно Францию, разразись оно в восемнадцатом веке, потрясло бы реку Св. Лаврентия, Великие озера Северной Америки и Миссисипи и повлияло бы на политику князей Декана и долины Ганга, а может быть, нарушило бы равновесие всего Индостана. Между тем теперь катастрофа ограничилась одной Францией: в других местах земного шара она возбудила сочувствие, но не затронула интересов. Итак, мы видим, что в семнадцатом и еще более в восемнадцатом веке Новый Свет был связан совершенно своеобразно с пятью западными европейскими державами.
Эта связь видоизменяет и определяет все бывшие в этом периоде войны и договоры, все международные сношения Европы. В предыдущей лекции я указал на то, что происходившая в этих двух столетиях борьба между Англией и Францией останется для нас непонятной, если мы будем обращать внимание только на Европу, ибо воюющими сторонами были собственно две мировые державы – Великая Британия и Великая Франция. Теперь я прибавлю, что в истории этого периода мы должны всегда читать вместо «Голландия», «Португалия», «Испания» – «Великая Голландия», «Великая Португалия» и «Великая Испания». Я утверждаю также, что этот порядок вещей исчез: испанская империя, а в главных своих чертах и португальская и голландская империи последовали за французской. Но Великая Британия сохранилась. Она одна пережила целое семейство империй, получивших начало вследствие влияния, оказанного открытием Нового Света на строй и политические идеи Европы. Всем этим империям грозили различные опасности, которых до настоящего времени избежала одна только Великая Британия. Но и она испытала удары, и до сих пор ей грозят опасности. Поэтому-то перед нами открывается великий вопрос будущего: в состоянии ли Великая Британия настолько видоизменить свою неудовлетворительную конституцию, чтобы избежать падения?
Лекция 4 Старая колониальная система
Я уже заметил, что, сравнивая древнюю греческую колонизацию с новою системой, мы можем первую назвать в известном смысле системой естественной. Однако и новую систему можно тоже рассматривать как естественную. По понятиям греков, государство должно по самой своей сущности быть небольшим, и, следовательно, перенаселение, с их точки зрения, может быть урегулировано только путем основания другого государства. Но разве есть что-нибудь противоестественное в противоположном взгляде на государство, как на организм, способный к беспредельному росту и расширению? Зрелый плод падает с дерева и дает начало новому дереву, это вполне естественно; но разве менее естественно превращение желудя в огромный дуб с сотнями сучьев и тысячами листьев? Милет, окруженный городами-братьями, напоминает нам о первом методе растительного размножения; Англия, разрастающаяся в Великую Британию, напоминает о втором.
А между тем должно же было быть нечто неестественное в той системе, против которой сто лет назад возмутились колонии Англии, а несколькими годами позже – колонии Испании и Португалии.
Дело в том, что идея простого расширения редко была понимаема и проводима в жизнь.
Попробуем выработать себе несколько понятий о Великой Британии, об английском государстве, распространившемся беспредельно, не подвергаясь изменению. Нередко спрашивают: какая польза в колониях? Но подобный вопрос был бы вовсе невозможен, если бы колонии действительно являлись простым расширением метрополии. Выполнимо ли такое распространение – в этом еще можно усомниться, но не подлежит никакому сомнению, что если оно выполнимо, то оно желательно.
Мы с самого начала должны признать, что всякая незанятая территория на земном шаре доставляет тем, кто завладел ею, богатство в абсолютном смысле этого слова. Эпитафия, гласившая, что Колумб даровал Леону и Арагонии новый мир, почти буквально справедлива. Он даровал некоторым лицам громадное поместье, и если все же бедняки не стали богатыми, а несчастные благоденствующими, то вина падает на неправильное распределение и управление дарованным богатством. Своим открытием Колумб ввел европейские народы во владение поместьем таких огромных размеров, что каждый нищий в Европе мог бы сделаться земельным собственником.
Однако надо помнить, что использовать все эти богатства и насладиться их обладанием возможно было лишь при одном условии. Собственность может существовать только под охраной государства. Чтобы сделать земли Нового Света обеспеченной собственностью, нужно было создать там государства. При отсутствии государства поселенцы рисковали погибнуть от руки индейцев или подвергнуться нападению со стороны поселенцев враждебной национальности. С другой стороны, положим, что в Новом Свете установились бы законы и правительства, подобные европейским, и собственность сделалась бы столь же обеспеченной. В таком случае бедняку в Европе, для которого жизнь стала в тягость, а приобретение земли в густонаселенных странах не под силу, стоит только переселиться в Новый Свет, где земля дешева, и он сразу, как богатый наследник, делается состоятельным человеком.
Итак, не может быть спора о значении организованных государств в малонаселенных частях земного шара. Но, спрашивается, почему же эти государства должны быть непременно английскими колониями? Что мешает селиться англичанам в колонии, принадлежащей другой европейской державе, или в независимом государстве? К чему же хлопотать Англии о содержании собственных колоний?
Это вопрос странный по существу, и его никогда не задавали бы в Англии, если бы не имело место одно исключительное обстоятельство. Большинство людей любит жить среди своих соотечественников, под законами, религией и учреждениями, к которым оно привыкло, не говоря уже о тех вполне реальных неудобствах, которым подвергаются лица, отправляющиеся на житье в среду народа, говорящего на другом языке. Факты показывают, что, несмотря на свободу иммиграции, число англичан, отправляющихся ежегодно на жительство в совершенно чуждые им государства Нового Света, – южноамериканские республики и Америку, – очень незначительно. Поэтому вопрос о ценности обладания колониями не поднимался бы вовсе, и все сознавали бы, что учреждение колоний – единственный путь сделать богатства Нового Света доступными родному населению, если бы… не существовало Соединенных Штатов. Соединенные Штаты для Англии почти столь же удобны, как и собственные колонии; английский народ может там селиться, не жертвуя своим языком, своими главнейшими учреждениями или привычками. Соединенные Штаты так обширны, так благоденствуют и так ослепляют наши взоры, что мы упускаем из виду их исключительное отношение к Англии и забываем, что если они для англичан почти столь же удобны, как и колонии, то это объясняется только тем, что они создались из английских колоний. Желая сделать отвлеченную оценку колоний, мы только запутаемся, если будем иметь в виду этот единичный факт, и потому в наших рассуждениях нам следует пока совершенно игнорировать Соединенные Штаты.
Итак, колонии в отвлечении являются значительным увеличением национальной земельной собственности. Колонии – это земли для безземельных, богатство и благосостояние для тех, которые находятся в стесненных обстоятельствах. Это очень простой взгляд, а между тем он упускается из виду; он чересчур прост, чтобы быть понятым. История представляет множество примеров того, как народ, стесненный недостатком простора, неудержимыми толпами переходил свои границы и потоком разливался по соседним странам, где иногда находил и земли, и богатство. Мы же можем положительно утверждать, что никогда в древние времена ни один народ не бывал так скучен благодаря недостатку простора, как английский народ в настоящее время. Такое густое население, какое мы видим в современной Англии, явление совершенно исключительное, по крайней мере для Европы. Мы постоянно говорим, что Англия страдает от избытка населения, а рост населения довольно постоянен, и мы с тревогой спрашиваем себя: что же будет лет через пятьдесят? «Территория, – говорим мы, – есть величина постоянная; у англичан 120 000 кв. миль; они уже теперь переполнены народом, а между тем население удваивается приблизительно через каждые семь-десять лет: что же станет с ним?» Вот вам любопытный пример английской привычки не принимать в расчет колоний. Как! Англия мала, всего каких-нибудь жалких 120 000 кв. миль? Я нахожу, что дело обстоит совсем иначе. Я нахожу, что территория, управляемая королем, почти беспредельна. Исключим Индию, в значительной мере закрытую для иммиграции, – и все же территория, подвластная королю, окажется значительно пространнее Северо-Американских Штатов, которые постоянно приводятся как пример страны, не обремененной населением и представляющей безграничный простор для расширения. Правда, метрополия этой великой империи страдает от чрезмерного населения, но ведь для облегчения этого гнета англичанам нет нужды, подобно готам или туркам, захватывать территории своих соседей; им даже не приходится подвергаться риску и значительным лишениям: им стоит только занимать беспредельные территории Канады, Южной Африки и Австралии; там уже говорят на родном их языке, исповедуют их религию и установлены их законы. Если в Уильтшире или Дорсетшире господствует пауперизм, то в Австралии есть никому не принадлежащее богатство; с одной стороны, мы видим людей, лишенных собственности, с другой – собственность, ожидающую владельца. А между тем англичане не могут в своих умах сочетать эти два факта и в тревоге, почти в отчаянии ломают себе головы над проблемой пауперизма; когда же кто-нибудь заговорит об их колониях, они наивно спрашивают: какой прок в них?
Объяснение этого недомыслия надо, несомненно, искать в отсутствии системы в приемах мышления о предметах подобного рода, но отчасти виновато в нем и то, что на колонии никогда не смотрели как на простое распространение английского государства и английского народа по новым территориям. Их рассматривали одновременно и как английскую собственность (правда, ненадежную), и как нечто, стоящее вне Англии; поэтому все, что переходило от метрополии к колониям, считалось потерянным для Англии. Это ясно видно из аргумента, столь часто приводимого против эмиграции в крупном масштабе, о которой говорят, что, будучи, быть может, выгодна для переселенцев, она пагубна для самой Англии, которая благодаря ей лишается лучшей, самой выносливой части своего населения. Употребляя выражение «лишается», враги эмиграции не представляют себе, что переселенцы могут остаться англичанами и могут еще принести пользу английскому государству. Сравните этот взгляд на эмиграцию с тем, который господствует в Соединенных Штатах, где постоянное движение на запад, постоянное заселение новых «территорий», которые со временем делаются «штатами», не считается признаком или причиной ослабления, не толкуется как истощение жизненности, а, напротив, считается наглядным доказательством силы и лучшим способом ее увеличивать.
Таким образом, сейчас Англия еще не представляет собою Великой Британии. Когда я говорю о создании Великой Британии в восемнадцатом веке, я до известной степени извращаю действительность. В лице колониальной империи Англия положила основание Великой Британии, и в конце концов из нее может образоваться Великая Британия; но ничего подобного первоначально не имелось в виду, и даже позже не поняли истинного значения того, что произошло. Колония понималась в то время не как распространение метрополии, а как нечто совсем иное. Мы снова вынуждены задаться вопросом: в чем же именно состояло тогда понятие о колонии?
Я уже указал на то, что в шестнадцатом веке не было естественного оттока населения из Европы в Новый Свет. Европа не была перенаселена; не ощущалось настоятельной нужды в большом просторе. Каким же образом у тех, кто жил в эпоху открытий, могла зародиться столь естественная для нас мысль о территориальном расширении государства? Мы видим, что государственные люди того времени не знали, как поступить со вновь приобретенными землями, и даже сомневались в том, возможно ли извлечь из них какую-нибудь выгоду. Себастиан Кабо (Cabot)[37] получает покровительство Генриха VII, но, когда оказывается, что он не привозит пряностей, его забывают, и он меняет английскую службу на испанскую.[38] Таким образом, та же самая причина, которая вызывала необходимость в помощи государства, повела к особенно материалистическому воззрению на дело переселения. Государство больше всего нуждалось в доходах, поэтому на новые страны смотрели скорее как на источник богатства, которое нужно перевезти в Европу, чем как на новую арену для европейской цивилизации.
Я прежде говорил о типе естественной колонизации, подразумевая под этим колонизацию, возникающую как результат распространения расы по беспредельным территориям в ту эпоху, когда политические учреждения последней находятся в младенчестве. Колонизация XVI века представляет собою нечто иное.
Она возникла как следствие открытия в отдаленных странах баснословного богатства, открытия, совершенного нациями, привыкшими к ограниченному пространству и к суровому правительству. В колонизации первого типа государство почти отсутствует, и все дело совершается отдельными личностями или скорее племенами, которые, основывая новые поселения, создают тем самым новые государства. В колонизации второго рода государство занимает первое место – оно заведует поселениями, снабжает их, держит их в подчинении и в результате ожидает получать от них какую-нибудь прибыль. С первого взгляда эта последняя система может показаться менее материальной; она предполагает, что государство покоится не только на местных, но и на родственных узах; однако на практике она оказалась более материалистической, ибо смотрит на колонии исключительно глазами правительства, то есть с чисто фискальной точки зрения. Так, при первом заселении Америки понятие об испанской колонии, как расширении самой Испании, переплеталось с совершенно иным представлением о ней, как о владении, принадлежащем Испании. Первое понятие чувствовалось инстинктивно, но не имело себе реальных прецедентов, ибо тогда казалось немыслимым, чтобы две части одного и того же государства были разделены всей шириной Атлантического океана; второе понятие, наоборот, не представляло практических затруднений, ибо вовсе не было ново. В Средние века бывали примеры того, что государства имели владения, отделенные от них морем, и, вероятно, можно было бы доказать, что испанский совет обеих Индий руководствовался прецедентами Венеции в ее сношениях с Кандией и с владениями на Адриатическом море. Понятие о зависимом владении у Венеции было чисто эгоистическое и коммерческое. Она вовсе не смотрела на него как на составную часть республики, а как на живой инвентарь, входящий в богатства республики.
Из смешения этих двух радикально не соответствующих теорий возникла новая колониальная система. Она была первоначально установлена Испанией, а затем более или менее видоизменена другими европейскими державами. Этим же понятием руководится и современное английское общество, когда задает вопрос: какая польза Англии от колоний? Сам вопрос предполагает, что задающие его мыслят о колонии не как о части своего государства, а как о принадлежащем ему владении. Возбуждение подобного вопроса относительно признанной части политического тела мы сочли бы нелепостью. Кому приходит на ум спрашивать: вознаграждает ли Англию Корнуэльс или Кент за те деньги, которые она на них тратит? Стоит ли содержать эти графства? Узы, скрепляющие между собою части государства-нации, суть узы иного рода. Они не основаны на расчете прибылей и убытков; они в основе аналогичны с семейными узами. Такие же узы должны были бы связать нацию с ее колониями, если бы на последние смотрели как на непосредственное распространение нации. Если бы Великая Британия действительно уже существовала, то Канада и Австралия были бы для Англии тем же Кентом или Корнуэльсом. Но раз англичане отвергли эту точку зрения на колонии и вышедшие из Англии переселенцы перестают принадлежать английскому обществу, то нам придется составить иное понятие об отношениях Англии к ее колониям. Мы должны будем или смотреть на колонии подобно древним грекам, то есть считать их взрослыми детьми, вступившими в браки и устроившимися на чужбине, признавая, таким образом, распадение семейного союза неизбежным в силу обстоятельств; или же если – как на том настаивает современное государство – связь должна поддерживаться во что бы то ни стало, то сам характер этой связи должен измениться. Она должна быть основана на выгоде. Вот в таком случае действительно должен ставиться вопрос: какая польза в колониях? И отвечающий должен будет привести доказательства, что колония, рассматриваемая как собственность или как место для помещения общественных капиталов, окупается.
Подобная материальная связь может иногда служить хорошим основанием для союза между двумя странами, но при условии, что получаемая ими польза обоюдна. В таком случае образуется обыкновенно федерация, и бывало много примеров, где страны, лишенные родственных уз, удерживались вместе чувством общности интересов. Примерами служат Австрия и Венгрия, а равно немецкие, французские и итальянские кантоны Швейцарского Союза. Такой же характер могла бы принять и английская империя, но для этого надо, чтобы не только Англия чувствовала, что колонии для нее прибыльны, то есть что она получает от них выгоду, которую перестала бы получать, если бы они сделались независимыми, но чтобы и колонии, со своей стороны, также сознавали, что метрополия им оплачивается, то есть что они получают выгоду от связи с нею. В настоящее время весьма легко представить себе существование такого сознания общности интересов между Англией и даже самыми ее отдаленными колониями, ибо расстояние в наши дни почти уничтожено паром и электричеством. В первое же время после открытия Нового Света подобная общность интересов была менее возможна. Атлантический океан составлял тогда для практических целей несравненно более глубокую и широкую бездну, через которую установить взаимный обмен услуг было нелегко. Вот почему старая колониальная система вообще не носила характера равноправной федерации.
Принято считать, что старые колонии приносились в жертву интересам метрополии. Мы должны остерегаться принимать такое заявление без оговорки. Полагают, например, что восстание американских колоний Англии было вызвано эгоистическими поступками метрополии, убивавшими их торговлю и не дававшими им взамен этого никаких выгод. Это далеко не верно. Между Англией и ее американскими колониями существовал настоящий обмен услуг. Взамен торговых привилегий Англия давала свою защиту. В середине восемнадцатого века, то есть в то время, когда начался американский спор, в долгу оставались скорее колонии, чем метрополия. Англия была вовлечена в две жестокие войны главным образом из-за своих колоний, и окончательный разрыв произошел не столько вследствие давления Англии на колонии, сколько вследствие давления колоний на Англию. Правда, Англия облагала их податями. Но это было сделано для уплаты долга, в который она вошла из-за колоний, и не без горечи Англия убедилась, что сама дала возможность своим колониям обходиться без себя, уничтожив, в их интересах, владычество французов в Северной Америке.
Тем не менее, совершенно верно, что старинная колониальная система ставила колонии скорее в положение завоеванной страны, чем в положение федеративного государства.
Обычно употребляемые наши выражения явно это показывают. Мы говорим о колониальных владениях (possession) Англии или Испании. Но в каком же смысле может одно население называться владением другого? Такое выражение подразумевает почти рабство, но отнюдь не применимо к тем случаям, когда хотят только сказать, что это население подчинено тому же самому правительству, как и другое. В основании этого выражения, несомненно, скрывалось понятие о колонии, как о поместье, которым надо было воспользоваться в целях благоденствия метрополии.
Отношение Испании к ее колониям сделалось типом, который другие государства постоянно имели в виду как образец. Туземное население обращается в рабство; в некоторых местностях оно принуждается к насильственным работам кациками, превращенными в государственных чиновников; в других – оно вымирает от непосильного труда и заменяется неграми; владычица-метрополия извлекает из колонии постоянный доход и управляет ею посредством хитрого механизма – разделения: поселенцы сдерживались при помощи духовенства и рабского населения, с которым метрополия обращалась отечески в надежде воспользоваться им при случае – такова была типичная колониальная система. Она вовсе не годилась как образец для колонии, подобной Новой Англии, – колонии, которая не приносила никаких доходов, не имела ни подчиненных индейцев, ни золотых и серебряных рудников. И однако правительство не могло забыть прецедента выгодных колоний: Карл II ссылается на него даже в 1663 году Воззрение на колонию как на владение делается установившимся принципом.
Подобная система является по существу варварской, ибо одна община обращается с другой как со своей собственностью, конфискует плоды ее промышленности не взамен даруемых ей благодеяний, а на основании безусловного права завоевания или какого-либо другого права. Даже в тех случаях, где подобные отношения покоятся открыто на факте завоевания, они настолько безнравственны, что могут существовать долгое время только в обществе, стоящем на варварской стадии развития. Так, если допустить, что Англия приобрела Индию путем завоевания, она не может, да и не хочет владеть ею исключительно ради своих собственных денежных выгод. Она не получает с нее никакой дани; Индия не является для Англии доходной статьей, и англичанам было бы стыдно, если бы, управляя ею, они каким-либо образом жертвовали ее интересами в пользу своих собственных. Следовательно, a fortiori было бы варварством приложение старого понимания к колониям, ибо это значит обходиться с соотечественниками, которые связаны с Англией лишь узами родства, как с побежденным врагом или, точнее, хуже, чем цивилизованная нация может позволить себе обращаться с побежденным врагом. Вероятно, и при старой колониальной системе это понятие проводилось бессознательно и неумышленно. В шестнадцатом веке оно открыто применялось к завоеванным владениям; а так как колонии Испании были в известном смысле ее завоеванными владениями, то легко понять, как бессознательно и ненамеренно это варварское начало вкралось в колониальную систему Испании, развилось в ней и отравило ее в позднейшие времена. Понятно также, что пример, поданный Испанией, и установленные ею прецеденты повлияли и на другие европейские государства – Голландию, Францию и Англию, – вступившие на поприще колонизации столетием позже.
Результатом этого было то, что некоторые из этих государств, например, Франция, наложили на свои колонии железный авторитет своей власти. В Канаде французские поселенцы подвергались суровой регламентации, от которой они были свободны, пока оставались во Франции. Ничего подобного не было в английских колониях. Их жители были подчинены известным установленным ограничениям в деле торговли, но вне этого они были безусловно свободны. Унося с собою свою национальность, они везде пользовались правами англичан. Мистер Меривэль замечает, что старая колониальная система не допускала ничего подобного тому, что существует в современной коронной колонии, где англичане управляются административно, без представительных собраний. Хотя при старой системе собрания не были установлены формально, но они вырастали сами собою, ибо для англичанина, по самой природе его, собрания были необходимы. Так, старинный историк колоний, Гетчинсон, пишет в 1619 году: «В этом году палата представителей внезапно появилась в Виргинии».
Действительно, в те времена английское правительство не грешило излишком вмешательства. Колонии были в такой мере предоставлены самим себе, что некоторые из них, особенно в Новой Англии, с самого начала во многих отношениях держали себя как совершенно независимые государства. Еще в 1665 году, то есть всего сорок лет спустя после основания первого поселения и за сто лет до декларации независимости, Массачусетс не считал себя на деле подвластным Англии. «Они говорят, – пишет один комиссионер, – что, пока ими уплачивается одна пятая золота и серебра, согласно условиям хартии, они ничем не обязаны королю, кроме долга вежливости».[39]
Итак, старая английская колониальная система вовсе не была на практике тиранической, и когда произошел разрыв, то тягости, на которые жаловались американцы, хотя и существовали, были, однако, менее обременительны, чем те, которые налагались на колонии и до и после этого, а между тем они повлекли за собою такие крупные последствия. Слабая сторона системы состояла не в том, что она вмешивалась слишком много, а в том, что практикуемое ею вмешательство было таково, что легко могло возбудить недоброжелательство. Она требовала очень малого, но то, чего она требовала, было несправедливо. Она допускала полную свободу во всех областях жизни, кроме одной, именно торговли; здесь она вмешивалась, облагая колонистов в пользу торговцев из собственно Англии. А это значило – ставить метрополию в ложное положение, дать ей право обращаться с колониями как с владением или как с поместьем, которое должно работать на пользу англичан, оставшихся на родине. Никакое требование не могло вызвать более вражды. Если это и не есть требование господина, обращенное к рабу, то, во всяком случае, оно походило на требование лендлорда, не живущего в своем поместье, предъявленное к его арендаторам, в судьбе которых он ничуть не заинтересован. Однако лендлорд по крайней мере предоставляет арендаторам право пользования принадлежащей ему землей. «А что же такое, – мог сказать всякий массачусетский колонист, – дала нам Англия, чтобы получать постоянную ренту с нашей промышленности? Хартия Якова I предоставила нам право пользования землями, которых Яков I никогда и не видывал, которые ему не принадлежали; землями, которые мы могли бы занять для себя без всякой хартии и не встретив сопротивления».
Таким образом, старая колониальная система являлась нерациональным смешением двух противоположных понятий. Она присваивала себе право управлять колонистами в силу того, что они были англичанами-братьями, а управляла ими, как будто они были побежденными индейцами. Вместе с тем, обращаясь с ними, как с завоеванным народом, она предоставляла им такую свободу, что они могли легко восстать.
Я уже показал, как могло возникнуть первоначально это странное смешанное понятие о колониях. Не особенно трудно понять и то, как англичане, однажды усвоив его, удерживали его и не смогли найти дороги к созданию более правильного представления. Если бы при тогдашнем положении мира они задумали преобразовать свою систему, то естественно пришли бы к мысли полного отделения колоний, ибо аналогия со взрослыми детьми вполне приложима к колониям, когда они настолько удалены от метрополии, что интересы их становятся отличными от ее интересов. При таких обстоятельствах всякий реальный союз и всякое предъявление авторитета со стороны метрополии лишаются своей силы, почему наиболее пригодной системой является греческая, предоставляющая колониям независимость и связывающая их только постоянной дружбой. Английские колонии в семнадцатом веке были, по крайней мере в мирное время, слишком отдаленны, чтобы составлять реальный союз с метрополией. Это настолько верно, что нам кажется скорее трудным понять, как могло отпадение Новой Англии так долго откладываться, и я думаю, что причину этого надо искать в существовании в Северной Америке на исходе семнадцатого века французских владений. Когда началась великая колониальная борьба между Францией и Англией, колонии сплотились теснее с Англией, и мы можем себе представить, что, если бы Канада не была отвоевана у французов в 1759 году и если бы война с французами не прекратилась, а сделалась, напротив, ожесточеннее, колонии не издали бы декларации о независимости, их связь с Англией не была бы расторгнута, а была бы упрочена. Необходимость в союзе первоначально не ощущалась, затем в течение некоторого времени она сознавалась весьма сильно, и наконец, когда под влиянием внезапного облегчения всякое внешнее давление было устранено, мысль о преобразовании колониальной системы сразу заменилась мечтой о независимости.
При таких обстоятельствах метрополия, естественно, старалась сохранить старую колониальную систему возможно дольше; она сознавала, что трогать ее опасно, что малейшее изменение в ней могло порвать узы, соединяющие колонии. Ненавистные права метрополии упорно сохранялись потому, что они уже существовали, и потому, что всякое изменение их к лучшему казалось метрополии невозможным.
Вероятно также, что более здоровые отношения тогда не могли быть ясно поняты. Я описывал колонии, как естественный выход для излишнего населения, как средство, дающее возможность всем, кому тесно на родине, жить спокойно на просторе, не жертвуя тем, что должно было быть всего дороже, – своей национальностью. Но как же мог возникнуть такой взгляд у англичанина, жившего сто лет назад? Англия тогда не была обременена избытком населения. Во всей Великобритании во время американской войны было, может быть, не более двенадцати миллионов жителей. Если и тогда в колониях жилось привольнее, чем на родине, то, с другой стороны, любовь к родной почве, господство привычек, страх и неохота к переселению – все это действовало тогда неизмеримо сильнее. Мы не должны воображать, что тот постоянный поток эмиграции, который мы теперь наблюдаем, существовал с самого открытия Нового Света или даже с того времени, когда у Англии создались цветущие колонии. Движение это началось лишь по заключении мира в 1815 году. При старой колониальной системе обстоятельства были совсем иные, и о них можно составить себе понятие из того, что нам известно об истории колоний Новой Англии. Со времени основания их в 1620 году в течение двадцати лет, до Долгого парламента (1640),[40] туда действительно стремились переселенцы непрерывным потоком, но на это были специфические причины: англиканская церковь была тогда непреклонна, а Новая Англия дала у себя убежище пуританизму, браунизму[41] и индепендентству. В связи с этим, лишь только начался Долгий парламент, течение прекратилось, и затем в продолжение целых ста лет эмиграция из Старой Англии в Новую Англию была до того незначительна, что она, говорят, не перевешивала противоположного движения колонистов, покидающих Новую Англию.[42]
При подобных обстоятельствах могли быть колонии, но не могло быть Великой Британии. Материальное основание Великой Британии могло быть положено, т. е. могли быть заняты обширные территории, и соперничающие нации могли быть изгнаны из них. В этом материальном смысле Великая Британия действительно была создана в семнадцатом и восемнадцатом столетиях, но тогда недоставало идеи, согласно которой должна быть оформлена эта материальная масса. В этом направлении сделан один шаг, именно – в основу Великой Британии был положен принцип, что, так или иначе, колонии составляют нечто общее с метрополией, что Англия должна в известном смысле сопровождать их за море и что они могут отделиться от Англии только путем войны.
То же самое можно сказать и о колониях других держав в восемнадцатом столетии. Великая Испания, Великая Португалия, Великая Голландия и Великая Франция, точно так же, как и Великая Британия, являли собою искусственные здания, лишенные органического единства и жизни.
Вследствие этого все они были недолговечны; казалось, что и Великой Британии не суждено жить долго и что она должна погибнуть раньше, чем многие из ее соперниц. Испанские колонии в Америке, основанные за сто лет раньше английских, не отделились так скоро. Декларация о независимости 1770 года была не только самым замечательным, но и первым по времени возмущением со стороны колоний против метрополии.
Если Великая Англия в конце концов избежала окончательного падения, то этим она не была обязана мудрости своих правителей. Когда полная несостоятельность старой колониальной системы стала очевидной, Англия не отказалась от нее и не создала лучшей системы. Новая империя выросла постепенно из тех же причин, которые вызвали к существованию старую, и выросла при той же самой системе. Опыт научил англичан не мудрости, а отчаянию. Они видели невозможность сохранить при старой системе свои колонии, но не заключили из этого, что нужно изменить систему, а пришли к выводу, что рано или поздно им придется лишиться колоний.
Наконец, с сороковых годов девятнадцатого столетия начинается торжество свободной торговли. В числе других стеснений она осудила на гибель старую колониальную систему целиком. Система эта была отменена, но вместе с тем выросло убеждение, что колонии бесполезны, и чем скорее они эмансипируются от Англии, тем лучше. Конечно, это учение было бы основательно, если бы общие мировые условия в девятнадцатом веке оставались те же, какими они были в восемнадцатом и семнадцатом столетиях. Наши деды находили, что из колоний можно сделать только одно употребление – извлекать из них торговые выгоды. Что же оставалось метрополии, когда она отказалась от монополии?
Последовал период спокойствия, в течение которого шаткие узы, скреплявшие империю, не испытывали никакого напряжения. При таких благоприятных обстоятельствах естественная связь оказалась достаточной для предупреждения катастрофы. Англичане во всех частях света еще помнили, что они – люди одной крови, одной религии, что у них одна история, один язык, одна литература. Этого было достаточно, пока ни колониям, ни метрополии не приходилось приносить очень тяжких жертв друг ради друга. Такое спокойное время благоприятствует росту совершенно иного воззрения на империю. В основе этого воззрения лежит убеждение, что расстояние уже не оказывает теперь того важного влияния на политические отношения, какое оно оказывало прежде.
В восемнадцатом столетии не могло быть в истинном смысле слова Великой Британии благодаря расстоянию между метрополией и ее колониями и между самими колониями. Этого препятствия более не существует. Наука дала политическому организму новое кровообращение – пар и новую нервную систему – электричество. Внесение этих новых условий вызывает необходимость пересмотра всей колониальной задачи. Они прежде всего делают возможной реализацию старинной утопии о Великой Британии. Больше того: они делают эту реализацию необходимой. В прежнее время крупные политические организмы были стойки только тогда, если они были организмами низкого типа. Так, Великая Испания оказалась более долговечной, чем Великая Британия, именно потому, что она управлялась деспотически. Великая Британия наскочила на скалу парламентской свободы, которая была невозможна в таком большом масштабе, тогда как деспотизм был вполне возможен. Если бы в то время можно было даровать колонистам права представительства в английском парламенте, то было бы нетрудно избежать раздора. Но это считалось немыслимым, почему Бёрк (Burk) дает на это ответ в хорошо известном месте своего сочинения, где он осмеивает мысль о созыве представителей с такого громадного расстояния. В настоящее время эта идея отнюдь не кажется смешной, несмотря на всю затруднительность исполнения ее деталей. Те самые колонии, которые тогда отложились от Англии, дали с тех пор пример федеральной организации, в которой обширные и часто скудно и недавно заселенные территории легко уживаются в союзе с более старыми обществами, и все целое во всех его частях наслаждается в полной мере парламентской свободой. Соединенные Штаты разрешили задачу, существенно похожую на ту, которую старая английская колониальная система не в состоянии была разрешить; они показали, что государство может испускать из себя постоянный поток эмиграции; из бахромы поселений вдоль Атлантического океана можно населить целый материк вплоть до Тихого океана, нимало не опасаясь, что отдаленные поселения заявят вскоре претензии на независимость или откажутся от уплаты налогов на общие расходы.
Далее, разрастание государства, возможность которого была, таким образом, доказана Соединенными Штатами, является в настоящее время еще более необходимым, чем в восемнадцатом столетии. Дело в том, что те самые изобретения, которые делают возможным существование громадных политических союзов, превращают государства, обширные по старой шкале размеров, в незначительные, второстепенные. Если Соединенные Штаты и Россия продержатся еще с полстолетия, то совершенно затмят такие старые государства, как Франция и Германия, и оттеснят их на задний план. То же самое случится и с Англией, если она все еще будет считать себя только европейской державою, как старое Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии, каким его оставил Питт. Англия оказалась бы действительно в жалком положении, если бы предстала перед этими обширными государствами нового типа в виде искусственного союза колоний и островов, разбросанных по всему земному шару, населенных различными национальностями и не соединенных между собою никакими узами, кроме той случайности, что все они равно признают власть английского короля. Но я уже показал, что то, что я называю английской империей, не есть искусственное здание, что это, если исключить Индию, не есть собственно империя; это – огромная английская нация, но нация, рассеянная на таком широком протяжении, что до наступления века пара и электричества ее крепкие естественные узы расы и религии казались порванными расстоянием. Но, как скоро наука уничтожила расстояние, как скоро было доказано, примерами Соединенных Штатов и России, что политические союзы на громадных площадях сделались возможными, Великая Британия воспрянула не только как реальность, но как реальность сильная и здоровая. Она будет принадлежать к наиболее сильному разряду политических союзов. Если она не будет сильнее Соединенных Штатов, то, во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что она будет могущественнее того громадного конгломерата славян, немцев, туркмен и армян, православных, католиков, протестантов, магометан и буддистов, который мы называем Россией.
Лекция 5 Влияние Нового Света на Старый
В одной из предыдущих лекций я показал, что история Англии восемнадцатого века сразу приобретает единство и что все крупные войны того времени сливаются в один связный ряд, лишь только мы припомним, что именно тогда создавалась Великая Британия в противовес Великой Франции. Это толкование я распространил далее и обратил ваше внимание на то, что в восемнадцатом и семнадцатом столетиях обширными колониями владеют не только Англия и Франция, но также Испания, Португалия и Голландия. Я уверен, что при изучении истории этих двух веков вами будет очень полезно всегда помнить, что в течение большей части этого периода все пять государств Западной Европы являлись собственно не европейскими, но мировыми державами: они постоянно вели между собою спор из-за великого, но отнюдь не европейского вопроса, который поэтому легко может быть упущен из виду ученым, фиксирующим свое внимание исключительно на Европе, – из-за вопроса об обладании Новым Светом.
Этот факт, если им достаточно проникнуться, вносит много единства в политическую историю этих наций и сводит к простой формуле большинство войн и союзов того времени. Теперь я хочу показать вам, преимущественно на примере Англии, что сами европейские державы, вследствие связей с Новым Светом, подверглись значительным видоизменениям не только во взаимных отношениях, но и во внутреннем строе. Мы увидим, что строй Англии нового времени в том виде, как он сложился после эпохи Средних веков, может быть охарактеризован одним общим положением: Англия расширилась в Великую Британию.
На расстоянии тридцати лет произошли два великих события – открытие Нового Света и Реформация. Эти два великих события, тесно сплетаясь с двумя другими – усилением великих европейских государств и закрытием Востока, вызванным турецким завоеванием, – создали ту глубокую перемену, которую мы принимаем за окончание Средних веков и начало Нового времени. Из двух великих событий одно по своему действию было гораздо быстрее другого. Реформация разыгралась быстро и на самой авансцене истории. С лишком полстолетия длится борьба между Габсбургским домом и Реформацией, первоначально в Германии, где Габсбургскому дому оказывает помощь Франция, затем в Нидерландах, где ему помогают то Франция, то Англия. Между тем в то же самое время на заднем плане происходит занятие Нового Света, которое не приковывает к себе внимания историков, поглощенных изучением Европы. Подвиги Кортеса и Пизарро, по-видимому, не оказывают никакого влияния на европейскую борьбу. Лишь в исходе шестнадцатого столетия, когда набеги Франсиса Дрека (Fransis Drake) и его товарищей[43] на испанские поселения в Центральной Америке окончательно принудили Испанию к решительному шагу против Англии, то есть только ко времени испанской Армады начинает заметным образом ощущаться воздействие Нового Света на Старый.
Начиная с этого времени европейские дела оказываются под одновременным влиянием двух великих причин: Реформации и Нового Света; Реформация действует с уменьшающейся силой, а влияние Нового Света все растет и растет. Характерной чертой семнадцатого века является совместное действие обеих причин во все продолжение его. Иллюстрацию этого, как я выше заметил, мы видим в войне Кромвеля, направленной против Испании; эта война двойственна: она кажется нам ударом, наносимым католицизму протестантизмом, на самом же деле это столкновение из-за владений в Новом Свете, – столкновение, которое окончилось завоеванием Ямайки. Другую иллюстрацию той же характерной черты XVII века представляет союз Франции и Англии против Голландии (1672): одна протестантская держава, с явного одобрения Шафтсбери, политика кромвелевской школы, напала на другую только потому, что в Новом Свете их интересы сталкивались. Однако к концу XVII века Реформация, как политическая сила, падает, и в течение восемнадцатого столетия господствующим является влияние Нового Света. Это-то и придает восемнадцатому столетию тот прозаический, коммерческий характер, которым оно отличается. Религиозный вопрос со всем его величием погребен, и его место заступил вопрос колониальный с его мирскими, материальными соображениями.
Новый Свет, рассматриваемый как безграничная территория, открытая для населения, должен был действовать на европейские нации двояко. Прежде всего он должен был оказывать чисто политическое влияние, то есть действовать на их правительства; столь спорная территория должна была являться постоянным поводом к войне. Это действие Нового Света мы и разбирали до сих пор и видели, что войны восемнадцатого столетия, и в особенности война между Англией и Францией, возгорались главным образом от этой причины. Но вместе с тем Новый Свет должен был проявить свое влияние и на сам строй европейского общества, изменяя его занятия и образ жизни, изменяя его промышленный и экономический характер. Следовательно, явление расширения Англии обнимает собою и ее превращение.
Англия теперь становится по преимуществу морской, колонизирующей и промышленной страной. По-видимому, господствует мнение, что она всегда была таковой и, по характеру ее народа, не могла быть иной. В поэме Рюкерта божество, посещающее через каждые пятьсот лет одну и ту же местность, находит там то лес, то город, то море, и на вопрос: «Откуда это взялось?» – получает ответ: «Так было всегда, так и будет всегда». Подобный не исторический способ мышления, такая наклонность считать неизбежным все то, к чему мы привыкли, часто проглядывает в отзывах о духе англосаксонской расы. Что англичане могли бы и не быть такими, какими они теперь являются, что они на самом деле были другими, кажется им настолько непостижимым, что они пытаются объяснить себе, почему они всегда были такими же, не убедившись предварительно в том, действительно ли это так. Англичанам кажется ясным, что они – великая странствующая, трудящаяся, колонизирующая раса, рожденная от морских разбойников и викингов. Они полагают, что море – их по велению самой природы, и, плавая по этой большой дороге, покоряют и заселяют землю.
Северная Америка в XVII–XVIII вв.
Однако в действительности лишь со времен Елизаветы Англия впервые находит свое призвание в торговле и владычестве на морях.
Островное положение и тот факт, что Британские острова на западе и на севере смотрят прямо в Атлантический океан, заставили англичан вообразить, будто бы само положение страны неизбежно делало их всегда морской нацией. Предки их прибыли на эти острова на судах, а затем были покорены нацией морских разбойников. Но надо помнить, что Англия – не Норвегия, где узкие полоски удобной земли заставляют народ искать пропитание на море. Англия во времена Плантагенетов не была владычицей морей, и в то время ее едва ли можно было назвать морским государством. Правда, у Англии Средних веков иногда во время войны появлялся флот, но он снова постепенно таял, лишь только водворялся мир. Постоянные жалобы на разбои в Ла-Манше показывают, каким слабым авторитетом пользовалась Англия даже в своих собственных водах. Справедливо было замечено, что Средние века не знали постоянных армий; они не знали и постоянного флота; исключения составляют только некоторые итальянские города-государства. В те времена флоты создаются и падают: когда вспыхивает война, правительство дает разрешение всем торговым судам действовать в качестве каперов, и торговые суда становятся не только каперами, но и пиратами. Хотя при Плантагенетах английская нация была войнолюбивее, чем впоследствии, но ее честолюбие было направлено более на ведение сухопутной войны, чем морской. Тогда слава английской армии вполне затмевала славу английского флота; мы помним победы при Креси и Пуатье, но забыли победу при Слюйсе.[44] Дело в том, что морское величие Англии гораздо более недавнего происхождения, чем большинство из нас воображает. Оно берет свое начало со времени междоусобных войн семнадцатого века и подвигов Роберта Блека. Его погоня за принцем Рупертом через Гибралтарский пролив вдоль восточного берега Испании[45] считается первым, после крестовых походов, появлением английского флота в Средиземном море. Конечно, у Англии были моряки-герои и до Блека – Франсис Дрек, Ричард Гренвиль и Джон Хокинз (John Hawkins),[46] но флот Елизаветы был еще флотом младенческим, да и сами герои немногим отличались от флибустьеров. До периода Тюдоров мы находим лишь зародыш флота.
В XV столетии английская история, за исключением кратковременного царствования короля Генриха V, обнаруживает слабость Англии на море, и до этого времени ничтожество флота – явление постоянное, а успехи его – исключение: так продолжается до царствования Эдуарда IV (1461–1483), у которого впервые явилась мысль о постоянном флоте.
В области открытий и других событий на море слава Англии создалась в Новое время. Правда, она приняла участие в грандиозном деле открытий пятнадцатого и шестнадцатого столетий, однако она отнюдь не может претендовать в нем на первенствующее место, хотя ею было сделано тогда многообещающее начало: первым судном, приставшим к берегам континента Америки, было судно из Бристоля; английские моряки увидели Америку приблизительно на год ранее, чем ее увидел сам Колумб. В то время казалось, что Англия будет соперничать с Испанией. Правда, командир Кабо[47] не был англичанином, но ведь и Колумб не был испанцем. Затем Англия снова отстает. Генрих VII был до крайности скуп; Генрих VIII попал в водоворот Реформации. В первом поколении великих мореплавателей английских имен не встречается. Фробишер (Frobicher), Ченселлор (Chancellor)[48] и Франсис Дрек (Drake) появляются в океане, когда Колумб уже полвека покоится в своей могиле. До времен испанской Армады Англия не могла претендовать на высокое место среди народов, славных морскими войнами, открытием и заселением новых стран. Это место досталось Испании не столько по заслугам, сколько по счастливой прихоти судьбы, пославшей ей Колумба; по всей справедливости, слава принадлежит Португалии, которая имела полное право жаловаться на блестящее вмешательство Колумба. Она могла бросить ему укор, что, поскольку цель состояла в открытии Индии, она была на истинном пути и совершила открытие, а он заблуждался и не достиг цели.[49]
После этих двух наций, но гораздо ниже их, можно поставить Англию и Францию, из коих первенство, мне кажется, принадлежало последней. Это обстоятельство несколько скрадывается в английских историях благодаря естественному желанию авторов выставить национальные подвиги в возможно ярком свете. Только позднее, когда уже началось морское преобладание Англии, никакая нация не могла с нею соперничать, так как она смело решилась оспаривать у Испании первенство, которым та пользовалась в течение большей части столетия. Но даже в исходе шестнадцатого столетия, когда значительная часть американского материка была уже разделена на испанские вице-королевства, а Португалия отправляла своих губернаторов в Индийский океан, когда испанские миссионеры уже посетили Японию, когда знаменитый португальский поэт уже шестнадцать лет прожил и написал эпическую поэму в стране, которая до этого казалась баснословной, – даже тогда англичане были еще новичками в морском деле и не имели поселений.
От морских дел обратимся к промышленности и торговле. Мы снова увидим, что и в этой области успех Англии нельзя приписать естественному призванию, вытекающему из врожденных способностей. Успехами в промышленности Англия обязана тому особенному отношению, в котором она находилась к великим производительным странам земного шара. Обширные жатвы собираются там, где земли много, а население редко, но такие страны не в состоянии обрабатывать свой сырой материал, потому что все руки заняты земледелием и нет рук для обрабатывающей промышленности. Хлопок Америки и шерсть Австралии идут в Англию, где они находят не только свободные руки, но и главное орудие промышленности – каменный уголь, который добывается в изобилии и притом вблизи самого моря. Но все эти факторы – недавнего, даже очень недавнего происхождения: царство угля началось с появлением машин, т. е. во второй половине восемнадцатого века. Обширные сельскохозяйственные страны сделались известными лишь после открытия Нового Света, и ими можно было вполне воспользоваться не ранее как через два с половиной столетия, когда были введены железные дороги. Следовательно, ясно, что промышленное значение Англии создалось в самые новейшие времена. Англия Плантагенетов занимала совсем иное экономическое положение. Промышленность, правда, существовала и тогда, но народ того времени далеко не поражал неутомимым трудолюбием и практическим складом ума; характеристика англичанина, написанная в пятнадцатом столетии, ясно говорит об этом: «ему редко приходится утомлять себя усиленным трудом, и потому он ведет жизнь более духовную и утонченную».[50]
Главным источником богатства Англии в то время были ее выгодные сношения (magnus intescursus) с Фландрией. Она производила шерсть, которая обрабатывалась во Фландрии; Англия для Фландрии была тем, чем теперь служит Австралия для западной части Йоркшира. Лондон был Сиднеем того времени; Гент и Брюгге были тем, чем теперь являются Лидс и Брадфорд.
Так, в общем, шло дело до эпохи Елизаветы. В эту эпоху, около того самого времени, когда началось морское величие Англии, она делается одновременно великой промышленной страной. Промышленность Фландрии погибла во время грандиозной катастрофы – религиозной войны Нидерландов с Испанией. Фламандские фабриканты стали толпами переселяться в Англию и придали новую жизнь промышленности, давно уже сосредоточившейся в Нориче. Тогда начался так называемый норичский период английской промышленной истории, протянувшийся на все семнадцатое столетие. Особенность этого периода состоит в том, что Англия сама обрабатывала свой собственный продукт – шерсть. В это время она не была уже преимущественно производительницей сырья, какой мы ее видим ранее, но и не сделалась еще страной преимущественно обрабатывающей, какой является теперь; она была страной, которая обрабатывала то, что сама производила.
Но современное промышленное величие Англии покоится не только на обрабатывающей промышленности. Ей принадлежит транспортная торговля мира, и потому она является его биржей и деловым центром. Транспортная торговля сделалась достоянием Англии, как великой морской державы. Поэтому, очевидно, Англия не могла пользоваться ею в Средние века, когда еще не была морской страной. Да вряд ли можно говорить о транспортной торговле Средних веков: эта торговля предполагает значительное движение по морям, а такое движение началось только после открытия Нового Света. Ранее торговые операции сосредоточивались в центральных провинциях Западной Европы, в Италии и в имперских городах Германии. Деловыми людьми пятнадцатого века были: Медичи во Флоренции, Фуггеры в Аугсбурге, основатели банка Св. Георгия в Генуе.
Англия Средних веков с точки зрения торговых дел была не передовой, а скорее отсталой страной. Главнейшие коммерческие страны должны были смотреть на нее сверху вниз. Как Англия настоящего времени смотрит на старомодную торговлю и банковую систему государств, подобных Германии и Франции, так должны были смотреть на ее коммерческий мир итальянцы Средних веков. Со своей городской жизнью, широкими деловыми сношениями и ловкими дельцами, они должны были ставить Англию и Францию в разряд старинных земледельческих и феодальных стран, лежащих вне главного течения передовых идей.
Но даже и позже, когда уже произошла великая перемена, вследствие которой Италия и Германия, в свою очередь, остались позади и поток торговых дел вошел в новое русло, Англия заместила их не сразу. Их непосредственной преемницей была Голландия. В течение значительной части семнадцатого столетия мировая транспортная торговля находилась в руках Голландии – Амстердам был мировой биржей. Против голландской монополии Англия борется при Кромвеле и в начале царствования Карла II. Лишь к исходу столетия Голландия начинает проявлять признаки слабости; только теперь Англия получает решительный перевес в торговле.
Сопоставляя все эти факты, мы приходим к заключению, что та Англия, которую мы теперь знаем, – господствующая морская, торговая и промышленная держава, – получила свое начало лишь в новые времена, что эти ее атрибуты проявляются ясно не ранее восемнадцатого века и что семнадцатое столетие является той эпохой, когда Англия постепенно претерпевает метаморфозы. Если же мы спросим себя, к какому времени нужно отнести самое начало превращения, то ответ очень легок и ясен. Это было в век Елизаветы – т. е. эта было как раз в то время, когда Новый Свет начинал оказывать свое влияние на Европу; из этого совпадения эпох яснее всего выступает тот факт, что Англия с самого начала своим новейшим характером и особенностями своего величия была обязана Новому Свету. Не кровь викингов делает англичан повелителями моря, не промышленный дух англосакса делает англичан великими фабрикантами и купцами, но гораздо более специальное обстоятельство, которое начало оказывать свое действие после того, как в продолжение многих веков англичане были народом земледельческим и пастушеским, воинственным и равнодушным к морю.
Школа Карла Риттера много говорила[51] о трех стадиях цивилизации, определяющихся географическими условиями: потамической (речной), которая протекает вдоль рек, талассической (морской), возникающей около внутренних морей, и океанической. По-видимому, эта теория внушена той переменой, которая произошла вслед за открытием Нового Света, когда на самом деле талассическая стадия европейской цивилизации перешла в океаническую. До этого времени торговля держалась Средиземного моря, океан был пределом, границей и отнюдь не широкой дорогою. Правда, на узких северных морях происходил торговый обмен, дававший жизнь Ганзейскому союзу, но Средиземное море было главной квартирой индустрии и цивилизации. Средние века настолько шли по стопам Древнего мира, что в их эпоху Италия, как и раньше, продолжала пользоваться естественными преимуществами по сравнению со странами, лежащими поэту сторону Альп. Франция и Англия значительно подвинулись вперед, но итальянцу пятнадцатого столетия они все еще казались в значительной степени варварскими, интеллектуально провинциальными и второстепенными странами. Это происходило оттого, что на деле они являлись странами внутренними, удаленными от моря, тогда как Италия пользовалась всеми выгодами цивилизующего его значения. Величие Флоренции основывалось на ее шерстяных фабриках, величие Венеции, Пизы и Генуи – на заграничной торговле и владениях; во Франции и в Англии в то время царили феодализм и сельские нравы. Подле итальянских республик Франция и Англия казались Фессалией и Македонией около Афин и Коринфа.
Колумб и португальцы все это изменили – Атлантический океан сменил Средиземное море. С этого момента владычество Италии ниспровергнуто. Отношение между причиной и следствием здесь отчасти затемняется благодаря тем бедствиям, которые одновременно постигают Италию. Случайно политическое падение Италии совпадает с этим моментом. Иноземец перешел через Альпы; Италия сделалась полем в великой борьбе между Францией и Испанией; она была завоевана, раздроблена, порабощена; с того времени слава ее более не возрождалась. Такая катастрофа и ее очевидная причина – иноземное нашествие – не позволяют нам видеть те меньшие влияния, которые могли действовать одновременно в том же направлении. Между тем не подлежит сомнению, что, не случись вовсе нашествия врагов, период упадка Италии наступил бы в то же самое время. Скрытый источник, питавший ее энергию и славу, иссяк благодаря открытию Нового Света. Ее можно бы было сравнить с одним из тех портов Кента, от которых отступило море. Там, где некогда кипели жизнь и движение, должны были неминуемо наступить смерть и тишина, независимо от иноземца, перешедшего через Альпы. Правда, Средиземное море не отступило, но оно раз навсегда утратило тот характер, который имело со времен Одиссея. Оно уже не было больше центральным морем человеческих сношений цивилизации, – главным, если не единственным, морем во всеобщей истории. Случилось, что вскоре после того, как торговля стала охватывать Атлантический океан, она была сметена со Средиземного моря метлой турецкой морской силы. Так, Ранке замечает, что торговля Барселоны, по-видимому, мало пострадала от новых открытий, но что она начала быстро упадать приблизительно с 1529 года вследствие морского преобладания турок, вызванного успехами Барбароссы, союзом Франции с Солиманом и основанием Варварийских владений. Ясно, что европейской цивилизации было предопределено сделаться из талассической океанической.
Результатом было то, что центр движения и интеллектуального преобладания стал переходить на западный берег Европы. Цивилизация снимается с почвы Италии и Германии. Где она развернет свои палатки – это еще неизвестно, но, во всяком случае, далее к западу. Заметьте, как рельефно эта перемена выступает в истории шестнадцатого века. В начале его гений мира сосредоточивается в Италии и в Германии. В первой мы видим золотой век новейшего искусства, соперниками итальянцев являлись только германцы; Микеланджело полемизирует с теми, которые предпочитают maniera Tedesca. Реформация принадлежит Германии. Франция и Англия довольствуются тем, что приветствуют Возрождение и Реформацию. Но в исходе шестнадцатого века мы постепенно замечаем, что цивилизация перекочевывает. Италия и Германия сначала вступают в соревнование со своими соперниками, но слава их уже закатилась, и европеец привыкает постепенно искать великие дела в других странах. В семнадцатом столетии почти все гениальное и выдающееся сосредоточивается в западных морских государствах Европы.
Это были именно те государства, которые боролись между собою из-за обладания Новым Светом. Испания, Португалия, Франция, Голландия и Англия занимают такое же положение на берегах Атлантического океана, какое в древние времена занимали на берегах Средиземного моря Греция и Италия. Теперь эти новые государства начинают проявлять подобное же умственное превосходство. Прозябавшие прежде монотонно в деревнях, они заняты теперь широкими планами завоеваний, проблемами колонизации и торговли. Я уже указал вам, какое влияние эта перемена оказала на английскую нацию. На голландцах она проявила свое влияние столь же резко и притом гораздо быстрее. Первая половина семнадцатого столетия была золотым веком Голландии.
Взглянем на причины, вызвавшие этот подъем благосостояния.
Нидерланды, возмутившиеся против Филиппа II испанского, состояли, как вам известно, не только из семи провинций, образовавших Голландскую республику и составляющих в настоящее время Голландию, но также из тех провинций, которые известны теперь под названием Бельгийского королевства. Эти последние во времена восстания были самыми цветущими провинциями. Они были великим промышленным районом – Ланкаширом Средних веков. Первая группа, голландские провинции, далеко не были так славны. Они составляли приморскую область, занимавшуюся преимущественно ловлей сельдей. Результатом восстания было то, что Испания удержала бельгийскую группу, которая с того времени стала известна под названием Испанских Нидерландов, но ей не удалось сохранить за собою голландскую группу. После нескончаемой войны Испания вынуждена была, наконец, признать ее независимость. Во время этой борьбы благоденствие бельгийских провинций, как я уже указал, пало. Фламандские мануфактуристы выселились и основали шерстяные фабрики в Англии. Обратно приморские провинции, бедные в начале войны, разбогатели к ее концу и сделались первой коммерческой страной в мире. Чем же можно это объяснить? Они лежали на берегу моря, а море являлось путем к Новому Свету. Направив свою энергию на море раньше англичан, они опередили их, война же с испанцами оказалась для них даже выгодной: она дала им доступ к малонаселенной и слабо защищенной американской империи Испании. Мир был изумлен, увидев, что маленькое государство с бесплодной почвой и скудным населением не только успешно отстаивало свою независимость против Испании, но успело в то же время, ведя неравную борьбу, основать великую колониальную империю в обоих полушариях. Вместе с тем тот толчок по пути интеллектуального развития, который море дало всем западным державам, нигде не обнаружился так ясно, как в Голландии. Эта маленькая нация заняла первое место не только в торговле, но и в науках: она приютила Липсиуса, Скалигера и Декарта и произвела Греция, Пита Гейна и Ван-Тромпа.[52]
Это было одним из самых поразительных, пожалуй, даже единственным, столь ярким действием Нового Света. Результаты этого влияния в Голландии не были так громадны, как в Англии: величие Голландии, не обладая достаточно широким базисом, было недолговечно, но зато явления в ней были более внезапны, и связь их с причиной была гораздо яснее.
Таково было влияние Нового Света на Старый. Оно сказывается не только на войнах и политических союзах того времени, но и на экономическом росте и на метаморфозе западных европейских государств. Цивилизация неоднократно подвигалась вперед на фоне великих исторических событий, в которых участвовали подряд несколько поколений. Такова была в Древнем мире война между Европой и Азией; таковы были крестовые походы в Средние века. Таковой же для западных европейских держав является борьба из-за Нового Света. Она более, чем все другое, содействовала тому, что эти именно нации стали во главе умственного прогресса, и Англия обязана своим исключительным величием преимущественно своим успехам на этом поприще.
Я закончу несколькими замечаниями о главных причинах, передавших в руки Англии окончательную победу в этой борьбе пяти государств. Мы уже видели, что Испания и Португалия опередили Англию на целое столетие и что Голландия вступила в борьбу также раньше Англии. Затем почти целое столетие Франция и Англия сражаются между собою за Новый Свет почти с равными шансами. И, однако, изо всех этих держав только одна Англия является в настоящее время обладательницей сильной колониальной империи. Отчего это так?
Недостатки империй Голландии и Португалии приблизительно одинаковы: обе страны строили свое колониальное здание, обладая слишком ограниченным базисом. Причины упадка Голландии очевидны, и о них много говорилось. Правда, она вознаградила себя за бедствия, понесенные ею в продолжение восьмидесятилетней войны с Испанией, создав, как я только что описал, колониальную державу; но затем, когда начались морские войны с Англией, а потом полувековая борьба с Францией, сопровождавшаяся соперничеством на морях с Англией, Голландия начала падать. В начале восемнадцатого столетия она обнаруживает признаки упадка, и после Утрехтского мира Голландия, все еще победоносная, хотя окончательно ослабленная, складывает оружие.
Португальцев постигло другое несчастье. Они с самого начала сознавали недостаточность своих средств и сожалели, что не удовлетворились менее честолюбивыми замыслами – не ограничились приобретениями на северном берегу Африки. В 1580 году им был нанесен удар, которого никогда не испытывала ни одна из ныне существующих европейских держав. Португалия со всеми своими мировыми владениями и торговыми станциями подпала под иго Испании и находилась в подчинении у нее в продолжение шестидесяти лет. За это время ее колониальная империя, перешедшая к Испании, подвергалась нападениям со стороны Голландии и сильно пострадала. Португальские писатели обвиняют Испанию в том, что она со злорадством смотрела на потери Португалии и сделала ее козлищем отпущения. Достоверно то, что восстание 1640 года и основание новой Португалии под домом Браганцы были главным образом следствием этих колониальных утрат. Однако за успех восстания Португалии пришлось расплачиваться своими владениями: она уступила остров Бомбей Англии в вознаграждение за оказанную ей помощь. Новая Португалия не могла уже сравняться с первой – колыбелью принца Генриха, Варфоломея Диаза, Васко да Гамы, Магеллана и Камоэнса, прославивших ее в истории Европы.[53]
Заметим попутно, что и эта страница истории семнадцатого века говорит нам о влиянии Нового Света на Старый: как возвышение Голландии в начале столетия, так и революция в Португалии в середине его были вызваны событиями в колониях.
Что касается неудач Испании и Франции, то было бы нелепо пытаться объяснить их какой-нибудь единичной причиной. Однако нам, быть может, удастся констатировать одну крупную причину, которая в обоих случаях могла более других содействовать тождеству результатов.
Испания утратила свою колониальную империю лишь недавно. Основав ее целым столетием раньше Англии, она удерживала ее без малого целое полстолетия после того, как Англия потеряла свою первую империю. Сравнивая Испанию с Англией, мы видим, что она уступает Англии в том, что раньше этой последней прекратила поиски новых колоний. Причину этого надо искать в странном упадке жизненности, который поразил Испанию во второй половине шестнадцатого века: сокращение населения и расстроенные финансы иссушили в ней всякую силу, а вместе с тем и способность к колонизации.
Во Франции такого упадка мы не замечаем. Франция лишилась своих колоний вследствие целого ряда неудачных войн, так что вам может показаться, что нет нужды углубляться в этот вопрос, что все объясняется военным счастьем. Но мне сдается, что обе державы, то есть и Испания, и Франция, делали одну и ту же политическую ошибку, которая явилась главной причиной их неудач: у обеих было слишком много дел на руках.
Между Испанией и Францией, с одной стороны, и Англией – с другой, существовало основное различие: Испания и Франция были глубоко замешаны в европейских распрях, тогда как Англия всегда находила возможным держаться в стороне от них. Действительно, Англия, как остров, находилась ближе к Новому Свету; она принадлежала ему или, во всяком случае, могла по желанию причислять себя то к Новому, то к Старому Свету. Испания, пожалуй, пользовалась таким же выбором, если бы не ее завоевания в Италии и не роковой брак, сочетавший ее с Германией. В том самом шестнадцатом веке, когда она заводит колонии в Новом Свете, она оказывается вовлеченной в сложные дела Испанской империи, которая была осуждена заранее, так как ее доходы не соответствовали расходам. Она была уже почти банкротом, когда Карл V отрекся от престола, а между тем в то время она могла еще располагать цветущим состоянием Нидерландов. Когда же вскоре за тем она лишилась этих провинций, утратив беднейшую их часть и разорив более богатую, когда она вступила в хроническую войну с Францией, когда после восьмидесятилетней войны с голландцами ей пришлось в течение четверти столетия вести войну с Португалией, – тогда Испания неминуемо должна была впасть в банкротство и политическое одряхление. Эти непосильные тяготы в связи с недостатком индустриальных талантов у испанского народа, темперамент которого воспитался в постоянных религиозных войнах, привели к тому, что нация, которой был дарован новый мир, не сумела воспользоваться полученным даром.
Если мы обратимся к Франции, то еще яснее увидим, что она утратила Новый Свет вследствие своей постоянной раздвоенности между политикой колониального расширения и политикой европейского завоевания. Если мы сравним между собою семь великих войн, бывших между 1688 и 1815 годами, то нас поразит тот факт, что большинство их для Франции были двойными войнами: с одной стороны, Франция вела войну с Англией, а с другой – с Германией. Это результат ее двойственной политики, от которой она сама и страдает. У Англии почти всегда одна цель в виду, и она ведет одну войну; Франция ведет две войны разом, из-за двух различных целей. Чатам, говоря, что может покорить Америку в Германии, показал тем самым, что понял ошибку, которую делала Франция, раздробляя свои силы; он ясно видел, что, субсидируя Фридриха, можно истощить силы Франции в борьбе с Германией и тогда захватить ее беззащитные владения в Америке. Подобным же образом Наполеон раздваивается между Новым и Старым Светом: он имеет в виду унизить Англию и возместить утраты, понесенные Францией в колониях и в Индии, а между тем покоряет Германию и вторгается в Россию. Он утешает себя мыслью, что через посредство Германии нанесет удар английской торговле, а через Россию ему, быть может, удастся пробраться в Индию. Англия так не раздваивается. Раз удалившись из территории Франции в XV веке, Англия оказалась слабо связанной с европейской системой; она не ведет с тех пор хронической войны со своими соседями. Она не ищет императорской короны и не гарантирует Вестфальского трактата. Наполеон своей континентальной системой исключил ее из Европы, и она показала, что может обойтись и без континента. Таким образом, руки у нее были всегда свободны, а торговля неизбежно влекла ее помыслы к Новому Свету. В конце концов это преимущество сделалось решительным. Она не была вынуждена поддерживать европейскую гегемонию, как Франция и Испания; ей не пришлось противостоять чужой гегемонии на своей собственной территории, как пришлось Голландии и Португалии, а позднее и Испании. Ничто не мешало ей, ничто не отвлекало ее от спокойного роста колонизации. Одним словом, из пяти держав, которые состязались за обладание Новым Светом, успех выпал не той, которая с самого начала проявила наибольшее призвание к колонизации, не той, которая превосходила других смелостью, изобретательностью и энергией, а на долю той, которая была меньше всех связана Старым Светом.
Лекция 6 Торговля и война
Соперничество из-за Нового Света между пятью западными морскими державами Европы – вот формула, суммирующая большую часть событий семнадцатого и восемнадцатого столетий. Это одно из тех обобщений, которые ускользают от нашего внимания, пока мы изучаем историю каждого государства в отдельности.
Для занимающегося историей было бы чрезвычайно полезно изучать новейшую Европу так, как уже принято изучать Древнюю Грецию. Там мы постоянно имеем перед собою сразу три или четыре государства: Афины, Спарту, Фивы, Аргос, не говоря уже о Македонии и Персии, и это наводит нас на поучительные сравнения и на полезные размышления о широких исторических направлениях. Такой взгляд на Древнюю Грецию создался под влиянием того, что она представляла собою не государство, а совокупность государств. Очевидно, наши историки недостаточно ясно сознают это, иначе они писали бы только отдельные истории Афин, Спарты и т. д., а не историю всей Греции, как целого. Позвольте попросить тех из вас, кто знает историю Греции, применить к западным государствам Европы тот взгляд, каким вы привыкли смотреть на Древнюю Грецию. Вы привыкли представлять себе ее, как группу государств, теснящихся по берегу одного общего моря, усеянного островами и имеющего по другую сторону большие территории, малоизвестные и населенные чуждыми расами. Вы рассматривали все эти государства в их совокупности, а не каждое в отдельности, и следили за тем, какое влияние на весь эллинский мир в его целом имела сложная игра интересов между отдельными городами-государствами. Пять держав, какие мы имеем в виду, – Испания, Португалия, Франция, Голландия и Англия – были подобным же образом расположены вдоль северо-восточного берега Атлантического океана и имели также одно общее стремление, – стремление к тем сокровищам, которые заключал и скрывал в себе этот океан. Если государства эти кажутся вам слишком обширными, океан – безграничным и поселения – настолько разбросанными, что вы не в состоянии собрать их в один фокус, то вообразите себе карту в небольшом масштабе, и на ней поместятся все эти государства. Но прежде всего вам надо стать выше приемов обычного хронологического рассказа и неуклонно следовать принципу выбора фактов и группировки их не во времени и не на основании их биографической связи, а по внутреннему сходству их причинности. Великая борьба пяти государств из-за Нового Света отличается от борьбы древних греческих государств тем, что она не стоит изолированной. Вызванная открытием Колумба, она как бы наслаивается на другую борьбу, которая в то время идет повсюду между европейскими государствами и которая сама по себе достаточно запутанна; особенно сложно эта новая борьба переплетается с великой религиозной борьбой Реформации. Как поразительно запутана эта паутина событий! Что же в таком случае должна делать наука? Без сомнения, она должна прежде всего отделить и привести в порядок все те последствия, какие могут быть отнесены к одной причине. Для этого придется пренебречь хронологическим порядком и связным повествованием. Следуя такому методу, наука найдет в шестнадцатом, семнадцатом и восемнадцатом столетиях, как я уже раньше указал, две великие причины, из которых каждая имела множество следствий; причины эти суть: Реформация и тяготение к Новому Свету. Эти две великие причины следует изучать в отдельности и проследить каждую из них через весь длинный ряд произведенных ею действий; только после этого можно приступить к рассмотрению взаимодействия обеих причин. Прежде всего мы должны рассмотреть в отдельности те явления, которые произвело в пяти западных государствах их тяготение к Новому Свету.
Почему должен был Новый Свет оказать на эти государства какое-либо глубокое воздействие? Почему его влияние не ограничилось побуждением их к новой торговой деятельности и постепенным расширением их кругозора в связи с ростом знания? В предыдущей лекции я уже показал, что это последнее влияние он действительно оказал, я обратил ваше внимание на то, как в течение шестнадцатого столетия центр цивилизации передвигается от Средиземного моря к берегам Атлантического океана; в первые годы XVI века внимание приковано к Италии и Германии, где живут Рафаэль, Микеланджело, Ариосто, Макиавелли, Дюрер, Гуттен и Лютер, но в конце этого столетия и в следующем взоры наши также естественно обращаются к западу и к северу. Мы видим Сервантеса и Кальдерона в Испании; Шекспира, Спенсера и Бекона – в Англии; Скалигера и Липсиуса, затем Гроция – в Голландии; Монтеня и Казобона – во Франции; судьбы мира находятся в руках Генриха IV, королевы Елизаветы, принца Оранского, и с течением времени мы все больше и больше привыкаем ждать всего великого от этой части Европы и смотреть на Италию и на Средиземное море как на отжившие области. Все это было вполне естественно: можно было предвидеть, что соприкосновение с Новым Светом вызовет подобные последствия. Мы привыкли приписывать древнюю цивилизацию влиянию Средиземного моря, потому и теперь мы готовы признать, что Атлантический океан, сделавшись после открытия стран по ту сторону Средиземным морем, должен был оказать подобное же влияние, но в больших размерах. Но почему дело этим не ограничилось, почему должно было обнаружиться более глубокое влияние? Это нам далеко не ясно с первого взгляда, и, чтобы понять это, мы должны вникнуть в своеобразный характер соприкосновения между Старым и Новым Светом; теперь, когда мы уже несколько познакомились с новейшей колонизацией, сделать это для нас легче.
Постараемся представить себе, как мог бы Новый Свет повлиять на Старый при иных обстоятельствах, чем те, какие в действительности имели место. Что было бы, если бы Америка состояла из многих могущественных и твердо установившихся государств, подобных государствам Европы? В таком случае отношения между государствами Нового и Старого Света могли бы походить или на наши отношения к Китаю, или на наши отношения к Японии. Эти государства могли бы отнестись к нам с недоверием, как Китай, и в результате или получилось бы полное отсутствие сношений, или произошла бы с нашей стороны, удачная или неудачная, попытка заставить их силою войти в сношения с нами. Если же американские государства оказались бы благожелательными и либеральными, подобно Японии, то скоро возникли бы сношения, обмен мыслей и взаимная выгода. Но ни в том, ни в другом случае не имели бы места важные политические последствия, ибо мало вероятия, чтобы в те времена, когда сообщения были еще так затруднены, произошло слияние европейской политической системы с системой американской, или образовался союз европейских государств с американскими. Оба мира знали бы о существовании друг друга, но оставались бы замкнутыми друг для друга, и отношения их между собою были бы похожи скорее на отношения Англии к Китаю и Японии или к Индии и Персии в семнадцатом столетии, чем на ее нынешние отношения к двум первым государствам.
Но таких государств в Америке не оказалось, за исключением Мексики и Перу, которые чрезвычайно скоро были наводнены испанскими авантюристами. Новый Свет был не в силах держать Старый в почтительном отдалении, и потому началась эмиграция из Старого Света в Новый.
Этот факт сам по себе чрезвычайно важен. Он означает, что Атлантический океан сделался для Западной Европы не только Средиземным морем, но чем-то большим. Грекам Средиземное море дало торговлю, сношение с иноземцами, движение и обмен мысли, но оно (за исключением, может быть, лишь известного времени) не могло обеспечить средств к безграничному выселению. Правда, выселение и тогда происходило, но в несравненно меньшем размере. Организованные государства, из коих некоторые были абсолютно замкнуты, охраняли противоположный берег. Однако факт эмиграции как таковой для Европы имеет скорее социальный, чем политический характер. Переселение само по себе есть дело частных лиц, и, как таковое, оно не касается правительств, хотя оно и может оказать на них большое влияние; переселение пуритан в Новую Англию, без сомнения, заметно повлияло на гражданскую борьбу в Англии, но тем не менее влияние это оставалось косвенным.
Другая возможность – правительства могли закрыть глаза на все дела Нового Света. В таком случае великие авантюристы, может быть, сами основали бы государства, и тогда воздействие Нового Света на Старый было бы чрезвычайно ограниченно. Материк Америки так обширен и был так мало населен, что, каково бы ни было дальнейшее поведение авантюристов, оно не могло оказать никакого влияния на Европу, и правительства последней могли бы без всякой тревоги взирать на них. И Новый Свет оказал бы так же мало влияния на Старый, как в настоящее время оказывают на Европу южноамериканские государства: в них может бушевать революция, но для Европы она останется незамеченной: действие ее испаряется на безграничной, редконаселенной территории.
Размышляя о том, что могло бы быть, мы приходим к более ясному пониманию того, что действительно было. Из предыдущего видно, что Новый Свет не мог не повлиять сильно, но влияние его могло не иметь непосредственно политического характера. Новый Свет сделался политической силой громадной величины только благодаря вмешательству европейских правительств и благодаря их контролю над всеми государствами, основанными их подданными. Неизбежным следствием этого их отклонения было совершенное преобразование политического положения самой Европы под влиянием существенного изменения интересов и взаимоотношения пяти великих европейских государств. Я особенно выдвигаю этот факт, ибо мне кажется, что его слишком мало замечали, он является основным фактом, на который опирается настоящий курс лекций. Одним словом, Новый Свет в семнадцатом и восемнадцатом столетиях не лежит вне Европы; он внутри ее, как начало, порождающее бесконечные политические перемены. Это больше не изолированная область, лежащая вне интересов историков; наоборот, это непрестанно действующий фактор чрезвычайной важности – фактор, который историк должен всегда иметь в виду. Влияние его, долгое время боровшееся с влиянием Реформации, с начала восемнадцатого столетия берет верх, вызывая явления, сильно воздействующие на политику европейских государств.
Историки этого времени имели в виду главным образом два (или, может быть, три) великих движения: Реформацию с ее последствиями и эволюцию государственных форм, которая привела Англию к свободе, а Францию – к деспотизму, вызвавшему революцию: к этим двум движениям они присоединяют временные, возникавшие в Европе гегемонии, как, например, возвышение Австрийского дома, Бурбонов и Наполеона. Вот эти-то движения служат как бы рамкой, в которой историки располагают все выдающиеся события. Но эти исключительно европейские рамки слишком узки. В них нет места для множества самых важных событий, и, может быть, именно то движение, которое не входит в них, является значительнее и, во всяком случае, действует непрерывнее и продолжительнее, чем те явления, которые могут быть в них помещены. Каждый взгляд на Европу сам по себе верен. «Европа – это великая церковь и империя, распадающаяся на отдельные государства и национальные или свободные церкви», – говорят те, которые фиксируют свое внимание на Реформации; «это – группа монархий, в которых постепенно развивалась народная свобода», – говорят юристы, изучающие конституционное право; «это – группа государств, с беспокойством старающихся сохранить между собою равновесие, причем равновесие это легко нарушаемо преобладанием одного из них», – говорит ученый, изучающий международное право. Но все подобные определения неполны и оставляют необъясненной добрую половину фактов. Следует прибавить: «это – группа государств, из которых пять западных находятся под влиянием постоянного тяготения к Новому Свету и в своем движении туда создают великие империи Нового Света».
Я уже прилагал эту формулу к восемнадцатому столетию и указывал на то, как удачно она объясняет ту беспрерывную борьбу какая велась тогда между Англией и Францией. Я убежден, что историки политического равновесия склонны судить об этой борьбе с точки зрения исключительно европейской. Меня это особенно поражает, когда я читаю их изображение судьбы Наполеона. Они видят в нем повелителя, одержимого честолюбием, побудившим его предпринять завоевание всей Европы, и рожденного гением, благодаря чему он почти достиг цели. Но, в сущности, главную особенность деятельности Наполеона составляет то, что, совершая это завоевание, он имел в виду не его, а нечто совсем другое. Он намеревался совершить великие завоевания и совершил их, но завоевания эти оказались не теми, о каких он мечтал. Наполеон мало интересовался Европой. «Cette vieille Europe m’ennuie»,[54] – откровенно говорил он. Все его честолюбивые мысли были направлены на Новый Свет. Он – титан, мечтавший восстановить Великую Францию, павшую в борьбе XVIII столетия, и уничтожить Великую Британию, которая возникла на ее развалинах. Он не скрывает этих честолюбивых замыслов и никогда не отказывается от них. Его завоевания в Европе были совершены как бы случайно, и он всегда смотрел на них, как на исходную точку нового нападения на Англию. Он завоевывает Германию, но почему? Потому что Австрия и Россия, субсидированные Англией, идут на него, в то самое время, когда он замышляет в Булони завоевание Англии. Какая первая мысль является у него после завоевания Германии? Мысль о том, что теперь у него в руках новое орудие против Англии, так как он может наложить континентальную систему на всю Европу. Почему занимает он Испанию и Португалию? – Потому что это морские державы, имеющие флот и колонии, которые могут быть употреблены против Англии. Наконец, изучая поход Наполеона в Россию, вы принуждены согласиться, что это предприятие или вовсе не имело никакой цели, или же оно было направлено, в сущности, против Англии. Но от большинства историков такой взгляд ускользает, потому что они с самого начала придают слишком мало значения существовавшей в то время великой исторической причине – притягательной силе Нового Света. Колонии кажутся им неважными, потому что они были слишком отдалены и мало населены; по их мнению, это были не более как инертные и почти безжизненные придатки метрополий. И действительно, тогда в политических центрах Европы на колонии обращали очень мало непосредственного внимания. В Лондоне и Париже, без сомнения, лишь немногие сколько-нибудь интересовались делами в Виргинии и Луизиане; там внимание было поглощено домашними делами, и политика, по-видимому, сосредоточивалась на парламентских разногласиях или на последней придворной интриге. Но взор современников скользит по поверхности и не видит того, что лежит глубже: среди невидимых причин, заставлявших возвышаться и падать министров, потрясавших Европу, творивших войны и перевороты, соперничество интересов в Новом Свете играло гораздо более важную роль, чем можно предполагать с первого взгляда.
Но если эти воззрения верны, то они должны быть применимы одинаково и к семнадцатому, и к восемнадцатому столетиям. В истории отношений между Новым Светом и Старым каждое из трех столетий – шестнадцатое, семнадцатое и восемнадцатое – имеет свой, особенный характер. Шестнадцатое столетие можно назвать испано-португальским периодом. В начале его Новый Свет был монопольным владением двух наций, открывших его, – родины Васко да Гамы и страны, усыновившей Колумба; в конце столетия, при Филиппе II, Испания и Португалия сливаются в одно государство. В семнадцатом столетии три другие государства – Франция, Голландия и Англия – выступают на колониальное поприще. Голландцы идут впереди; в своей войне с Испанией они захватывают большинство прежних португальских владений в Ост-Индии, сделавшихся уже испанскими; им удается даже на время завладеть Бразилией. Вскоре после этого Франция и Англия основывают свои колонии в Северной Америке. С этого времени, или почти с этого времени, мы можем проследить то преобразование в европейской политике, на которое я указал, как на необходимое следствие нового положения, какое заняли эти пять государств. В течение этого столетия происходит значительная перемена в их относительном колониальном значении. Португалия приходит в упадок; несколько позднее падает и Голландия. Испания остается в состоянии неподвижности: она не лишилась своих обширных владений, но и не расширила их, и они, подобно Китаю, остаются замкнутыми, не имеют сношений с остальным миром. Зато Англия и Франция решительно подвигаются вперед. Кольбер поставил Францию в первом ряду торговых стран; Франция исследовала Миссисипи. Но английские колонии неоспоримо превосходят ее по численности населения. И вот в восемнадцатом столетии происходит великий поединок между Францией и Англией из-за Нового Света.
Я говорил об этом поединке еще в начале курса. Я хотел показать вам на наглядном примере, что расширение Англии не было спокойным процессом и не принадлежит исключительно к новейшему времени, и мы видели, что в течение всего восемнадцатого столетия расширение это было деятельным началом брожений – причиной войн, не имевших равных себе по величине и по числу. Я не мог тогда идти дальше в глубь времен; но теперь, когда мы уже анализировали ту притягательную силу, которую проявил Новый Свет по отношению к Старому вообще и к Англии в особенности, когда мы вникли в характер и интенсивность этой силы, теперь мы в состоянии углубиться назад и проследить с самого начала расширение Англии в Великую Британию.
В век Елизаветы, как я уже говорил, Англия впервые начала принимать свой новейший характер, т. е. впервые она попала в главный поток торговли и впервые стала направлять свою энергию к морю и к Новому Свету. Это и было началом расширения, первым симптомом возникновения Великой Британии. Великим событием, возвестившим миру о новой Англии и о ее новой роли, было морское нашествие испанской Армады. Тут начинается новая история Англии. Если вы сравните это событие со всем тем, что предшествовало ему, то сразу увидите, насколько оно ново; если же вы спросите себя, в чем же состоит, собственно, его новизна, то придете к заключению, что это было первое событие вполне океаническое. Правда, Англия всегда была окружена морем, и войны ее всегда начинались на море; но под морем в прежние времена подразумевались пролив, канал или, самое большее, узкие моря. Теперь же впервые вся борьба начинается, продолжается и оканчивается в широком море; Великая Армада представляет как бы последнее действие драмы, которая вся разыгрывалась не в английских морях, а в Атлантическом и Тихом океанах и в Мексиканском заливе. Нападающая страна – обладательница Нового Света, наследница открытий Колумба и Васко да Гамы; ее главная обида – нарушение монополии Нового Света. И кем же встречено это нападение? Не средневековыми рыцарями, не стрелками, одержавшими победу при Креси, а совершенно новой расой людей, каких не знала средневековая Англия, – героями-флибустьерами, какими были Дрек (Drake) и Хокинз (Hawkins), проведшие всю свою жизнь на волнах того океана, который для отцов их был неизведанной, бесполезной пустыней. Теперь впервые можно сказать об Англии словами народной песни: «Путь ее лежит по волнам океана».
Английская королева Елизавета I
Но Великой Британии еще не существует; явился только импульс, стремление основать ее и исследовать путь, ведущий к заатлантическим землям, где со временем могут жить англичане Великой Британии. В то время, как Дрек и Хокинз подают пример грубого героизма и любви к странствованию по морям, Гемфри Джильберт (Humphry Gilbert)[55] и Вальтер Ралей (Walter Raleigh) выказывают необычайные колонизаторские способности. В следующее царствование была основана Великая Британия, хотя ни Джильберту, ни Ралею не было суждено вступить в нее. В 1606 году Яков I подписывает хартию для Виргинии, а в 1620 году – хартию для Новой Англии, и затем очень скоро новая жизнь, воодушевившая Англию, ее новые цели и новые ресурсы делаются столь явными, что обращают на себя внимание всей Европы. Новая английская политика проявляется впервые в большом масштабе в войне между королем и парламентом и затем во время протектората. Уже при Кромвеле Англия является, хотя преждевременно и на шатком для империализма базисе, той Англией, какой она окончательно сделалась в царствование Вильгельма III и какой продолжала оставаться в течение всего восемнадцатого столетия, а именно: Англией, неуклонно расширяющейся в Великую Британию.
Главной характеристикой этой фазы развития Англии, мне кажется, является то, что она представляет одновременно торговую и воюющую державу. Существует ходячее мнение о естественной связи между торговлей и миром; основываясь на нем, заключают, что войны новейшей Англии могут быть приписаны только влиянию феодальной аристократии. Говорят, что аристократия, будучи по своему происхождению военной, любит войну, тогда как купец, естественно, желает мира, чтобы беспрепятственно вести торговлю. Вот образец рассуждения a priori в политике! Каким же образом завоевали англичане Индию? Разве завоевание это не было прямым следствием их торговли с Индией? Но это только один из ряда наглядных примеров, иллюстрирующих тот закон, который управлял историей Англии семнадцатого и восемнадцатого столетий, – закон тесной взаимной зависимости между войной и торговлей. Ибо в продолжение всего этого периода торговля, естественно, ведет к войне, и война покровительствует торговле. Я уже указал на то, что войны восемнадцатого столетия были несравненно крупнее и обременительнее, чем войны Средних веков. Войны семнадцатого столетия, будучи сравнительно меньших размеров, тем не менее, также были крупны, а между тем именно в течение этих столетий Англия становилась все более и более торговой страной, и чем воинственнее она делается в это время, тем больше развивается ее торговля. Нетрудно указать на причину такого одновременного развития войны и торговли; причина эта – старая колониальная система.
Торговые интересы сами по себе могут благоприятствовать миру, но если какое-нибудь государство, сношение с которым обещает выгоды, искусственно, путем правительственного декрета, закрывается для торговли, то эта последняя требует войны. Мы знаем это по недавнему нашему опыту в Китае. Новый Свет мог бы, конечно, содействовать торговле, не являясь причиной войн, но только в том случае, если бы он состоял из либеральных государств, готовых войти в сношения с иностранцами, или если бы он был занят европейскими колониями, придерживающимися либеральной системы. Но мы знаем, чем была старая колониальная система. Мы знаем, что она раскроила Новый Свет на ряд территорий, которые эксплуатировались колонизующими нациями как собственные поместья. Надежда обладания такими великолепными поместьями и пользования всеми выгодами, какие можно извлечь из них, создавала громадный стимул торговле, и стимул этот действовал непрерывно в течение столетий. Эта важная историческая причина имела следствием постепенное уничтожение средневекового строя общества и замену его промышленным веком. Но неразлучно с торговым стимулом действовало и международное соперничество. Теперь цель каждой нации состояла в расширении своей торговли, но не путем удовлетворения нужд всего человечества, а совершенно иными путями, именно путем приобретения исключительного господства над той или другой богатой областью в Новом Свете. Несмотря на естественную противоположность между духом торговли и духом войны, торговля, веденная таким способом, почти тождественна с войной и почти не может не повлечь за собою войны. Что такое завоевание, как не присвоение территории? А присвоение территории при старой колониальной системе делалось первой национальной задачей. Пять западных наций были вовлечены в страстное соперничество из-за территории, т. е. они стали друг к другу в такие отношения, при которых погоня за богатством, естественно, вела к ссорам, – в отношения, при которых, как я уже сказал, война и торговля были неразрывно связаны между собою, так что торговля вела к войне, а война питала торговлю. Этот характер нового периода проявился очень рано. Вникните в природу той долгой, несколько раз возобновлявшейся войны между Англией и Испанией, в которой экспедиция Армады представляет наиболее выдающийся момент. Я уже сказал, что английские морские капитаны того времени очень походили на флибустьеров, и действительно, для Англии война эта была промыслом: она служила путем к обогащению и считалась самым выгодным предприятием, самым выгодным для того времени помещением капиталов. Эта испанская война, в сущности, является младенчеством английской иностранной торговли. Первое поколение англичан, пускавших в оборот свои капиталы, вкладывало их в эту войну. Подобно тому, как мы теперь помещаем наши капиталы в железные дороги и другие предприятия, так в то время проницательный делец брал долю в новом судне, которое снаряжалось в Плимуте Джоном Оксенхамом (John Oxenham)[56] или Франсисом Дреком (Francis Drake) и должно было подстерегать богато нагруженные испанские суда или делать набеги на испанские города в Мексиканском заливе, а между Англией и Испанией не было объявлено настоящей войны. Таким-то образом система монополии отождествляла в Новом Свете торговлю и войну. Процветание Голландии представляет еще более характерное проявление того же закона. Что, – может быть, скажете вы, – разорительнее продолжительной войны, особенно для маленького государства? А между тем Голландия разбогатела благодаря почти восьмидесятилетней войне с Испанией. Почему же? Дело в том, что война открыла для ее нападения все беспредельные владения соперницы в Новом Свете, которые в мирное время были бы закрыты для нее. Благодаря своим завоеваниям Голландия создала империю, и эта империя обогатила ее.
Таковы новые взгляды, которые начинают определять английскую политику во время протектората. С той точки зрения, с какой мы теперь смотрим на историю Англии, величайшим событием семнадцатого столетия до 1688 года является не междоусобная война и не казнь короля, а вмешательство Кромвеля в европейскую войну. Этот шаг можно даже считать началом создания английской мировой империи. Он непосредственно важен потому, что им предрешалось падение испанского могущества. Испания, которая менее чем сто лет назад преобладала над всем светом, делается вскоре после этого беспомощной добычей честолюбия Людовика XIV. Поворотным пунктом явилась португальская революция 1640 года. С этого момента началось падение Испании. Однако еще в течение 20 лет она борется против своей судьбы, и внутренние раздоры ее соперницы – Франции – вызвали даже реакцию в ее пользу. В этот-то критический момент вмешательство Кромвеля явилось решающим фактом, и Испания пала, чтобы никогда не возродиться. Ни один шаг, сделанный Англией в целом ряде столетий, не был столь знаменателен.
Этот момент отмечает не только падение, но и возвышение мировой державы. Англия к этому времени научилась пользоваться примером Голландии и теперь следует по тому же пути к коммерческому преобладанию. Первые Стюарты, хотя в их царствование и были впервые основаны колонии, не прониклись, по-видимому, новыми идеями. Они не следуют системе Елизаветы и обращают свои взоры скорее на Старый Свет, чем на Новый. Но реакция эта прекращается, когда власть переходит к республиканской партии; тогда начинается политика, правда, не очень разборчивая, но зато умелая, решительная и успешная.
Эта «океаническая» политика, направленная к западу, подобна политике последних лет царствования Елизаветы. Здесь впервые Новый Свет воздействует на Старый посредством личного влияния. Д-р Польфри (Dr. Polfrey) чрезвычайно интересно проследил влияние, так сказать, элемента Новой Англии в парламентских партиях этого времени. Новая Англия сама по себе была детищем пуританизма, и притом пуританизма в его вторичной фракции индепендентов, приверженцем которых был сам Кромвель. Поэтому Новая Англия принимает самое близкое участие в английской революции. Можно назвать нескольких выдающихся политиков того времени, которые сами жили в Массачусетсе, например, сэр Генри Вен (Sir Henry Vane), Гюг Питере (Hugh Peters),[57] капеллан Кромвеля, и др. В это же время великий английский флот, сделавшийся впоследствии столь знаменитым, начинает владычествовать на морях под командой Роберта Блека (Robert Blake).[58] С этого момента орудием английского могущества делается военный флот. Армия, несмотря на то что она организована лучше, чем когда-либо, и, в сущности, узурпировала правительство, посадив на трон своего полководца, претерпевает падение и подвергается нападкам народа, тогда как флот с этого времени делается навсегда его любимцем. Отныне создается общее убеждение, что Англия – не военное государство, что она или вовсе не должна иметь армии, или должна иметь возможно меньшую армию, но что флот ее должен быть сильнейшим в мире.
С нашей точки зрения, колониальная политика Кромвеля интересна не своею большей нравственностью и не большей успешностью по сравнению с политикой Реставрации, но тем, что она служит образцом, которому следует Карл II. Нравственная прямота едва ли составляет ее характерную черту; религиозность же сделалась бы самой опасной ее стороной, если бы протекторат продолжался дольше. Ибо ничего нет опаснее империализма, начертавшего на своем знамени идею. Протестантизм был бы для императора Оливера тем же, чем были идеи революции для Наполеона и его племянника.
Успешность его политики принадлежит к тому же типу, как и успех Наполеона. Англия на время делается военным государством и по необходимости занимает гораздо более высокое положение в свете, чем то, какое она оказалась бы в силах удержать, если бы распустила армию и сделалась конституционной страной. Для протектората было счастьем, что он прекратился раньше, чем истинный характер его был понят. В силу самой своей природы он должен был стремиться к войне. Было бы иллюзией предполагать, что пуританизм протектора или его партии аналогичен современному либерализму и, как таковой, должен был внушать отвращение к войне. Прочтите панегирик Кромвелю, написанный Марвеллем (Marvell). Добродетельный поэт предсказывает, что Оливер скоро будет «Цезарем для Галлии и Ганнибалом для Италии». Возмущает ли поэта такая перспектива? Ничуть. Чтобы герой не колебался на своем пути, он заклинает его «идти неутомимо вперед» и велит ему помнить, что «те же подвиги, какие дают могущество, должны его поддерживать». Когда мы изучаем иностранную политику протектора, мы находим, что он не забывает этого принципа. Он, по-видимому, желает религиозной войны, в которой Англия играла бы такую же роль в Европе, какую сам он со своими «железнобокими» играл в Англии. Некоторые из современных поклонников Кромвеля заметили это. «Говоря по правде, – пишет Маколей, – ничего на свете не мог Кромвель так сильно желать для себя самого и для своей семьи, как общей религиозной войны в Европе… К несчастью для него, он имел только один случай выказать свои превосходные военные таланты, и то в войне, которую вел против жителей самих Британских островов». Нельзя не содрогнуться при мысли о той опасности для Англии, какая была устранена падением протектората. По эту сторону Атлантического океана, на континенте, эта империалистская политика развилась далеко не совершенно, зато на другом его берегу, в Новом Свете, куда она с течением времени была перенесена, она имела более длительные последствия. На континенте политика Кромвеля – это та же политика Долгого Парламента до него и Карла II – после него. Она носит какой-то самовластный, неразборчивый характер. Так, Кромвель, руководствуясь своим личным желанием, без прямого или косвенного совещания с народом, несмотря на оппозицию совета, вовлекает страну в войну с Испанией. Война эта началась так, как начинали войны старинные морские разбойники времен Елизаветы, – внезапной высадкой в Сан-Доминго, без предварительной ссоры и без формального объявления войны. Я помню, как мой предшественник, сэр Дж. Стивен (Sir J. Stephen), говорил с этой же кафедры, что если кому-либо из его слушателей нравится дух разрушения, то он рекомендовал бы ему обратить свои симпатии на пирата Кромвеля. Быть может, это покажется нам слишком строгим приговором, особенно если мы примем во внимание бесправие всех морских войн того времени. Я хочу только показать вам ту общность, которая существовала между политикой Кромвеля и политикой Елизаветы, а равно и той политикой, какой придерживалась нация в восемнадцатом столетии, когда в 1739 году она снова начала войну, имея в виду уничтожить испанскую монополию. Во всех этих моментах равно заметна та тесная связь, какую старая колониальная система установила между войной и торговлей.
Но наиболее характерным для периода республики и для всей середины семнадцатого столетия является не война с Испанией, а война с Голландией. Хотя разрыв Кромвеля с Испанией по своей жестокой внезапности поразительно иллюстрирует дух новой торговой политики, тем не менее он может быть истолкован ошибочно: Испания была великой католической державой, и можно предположить, что ее война с Англией была вызвана не тяготением к Новому Свету, а другой, равно великой исторической причиной того времени – Реформацией. Этого нельзя сказать о войне с Голландией. Если бы в семнадцатом столетии определяющее влияние принадлежало Реформации, то Англия и Голландия находились бы в прочном союзе. Но это влияние быстро уступает другому – торговому соперничеству, вызванному открытием Нового Света, и лучшим доказательством этого служит тот факт, что в течение всей середины семнадцатого столетия Англия и Голландия ведут между собою крупные морские войны совершенно нового характера. Эти войны редко рассматриваются как нечто целое и потому объясняются обыкновенно причинами, которые, в сущности, были лишь второстепенными. Это в особенности верно относительно войны 1672 года, ответственность за которую всецело возлагают на Карла II и его министерство «cabal».[59] Как доказательство легкомысленной безнравственности правительства приводят тот факт, что оно вступило в союз с католическим правительством Людовика XIV, чтобы нанести смертельный удар братской протестантской державе; уверяют при этом, что правительство руководилось исключительно династическими соображениями, желая ниспровергнуть олигархическую, или Лувштейнскую, фракцию и отдать власть в руки молодого принца Оранского, племянника Карла II.[60]
Без сомнения, Карл II имел эту цель, и тем не менее ни война с Голландией, ни союз с Францией не представляли собою в то время ничего нового. Карл II не изменял круто иностранной политики. Он следовал примеру республики и Кромвеля: первая вела жестокую войну с Голландией, второй заключил союз с Францией. Таким образом, направление политики поддерживалось в том же духе деятелями, унаследовавшими традиции республики. Антоний Ашли Купер (Anthony Ashley Cooper),[61] человек, воодушевленный теми же идеями, как и Кромвель, сохранил его традиции; он цитировал старинное изречение: Delenda est Carthago, подразумевая под ним: «Голландия – наша соперница в торговле, на океане и в Новом Свете. Уничтожим ее, хотя она и протестантская держава, уничтожим ее с помощью католической державы». Таков был принцип деятелей республики и протектората; как пуритане, они восставали против папства, но хорошо понимали, что в их век борьба церквей отступает на задний план, а соперничество морских держав за торговлю и империю в Новом Свете занимает первое место, делается вопросом дня.
Итак, мы можем теперь заполнить пробел в нашем очерке Великой Британии. В войне Елизаветы с Испанией мы видели то движение, то брожение, из которого должна была вырасти Великая Британия. Мы видели, что в XVII веке, при двух первых Стюартах, Великая Британия действительно зачинается: являются поселения Виргинии, Новой Англии и Мериленда.[62] Значительно позднее, в восемнадцатом столетии, мы нашли ее, уже более зрелую, вовлеченной в продолжительный поединок с Великой Францией. В настоящей лекции мы проследили ее развитие в промежуточный период – период начала военного флота Англии и ее великого поединка с Голландией. Период этот обнимает средину семнадцатого столетия и заключает в себе первые великие морские войны Англии и следовавшие за ними приобретения. Ямайка завоевана у Испании при Кромвеле; Бомбей передан Карлу II Португалией; Нью-Йорк приобретен им же от Голландии.[63] Вслед за великой борьбой с Голландией следует (1664–1667 и 1672) время тесного союза с нею при Вильгельме Оранском (1688–1702). Я рассматриваю это явление как временное возобновление борьбы за реформацию. Отмена Нантского эдикта снова вернула мир к религиозным войнам шестнадцатого столетия. Новый Свет на время отступает на задний план; еще раз воскресает вопрос о католицизме и религиозной свободе; снова две протестантские державы находятся в тесном союзе против Франции: Вильгельм управляет обоими государствами; соперничество из-за торговли на некоторое время прекращается.
Лекция 7 Фазы расширения Англии
Начиная чтения, я брался изобразить перед вами историю Англии в таком свете, чтобы возбуждаемый ею интерес отнюдь не ослаблялся по мере приближения к нашему времени. Теперь вы догадываетесь, каким образом хочу я этого достигнуть.
История всякого государства интересна только постольку, поскольку она изображает развитие. Однообразная политическая жизнь не имеет истории, как бы счастлива она ни была. Мне думается, что неудачное изображение новейшего периода английской истории объясняется тем, что историки со всей полнотой следят за развитием одного явления, не замечая, что, подвигаясь вперед, они должны искать начальные стадии развития новых явлений. Более или менее сознательно они фиксировали свое внимание на развитии идеи конституционной свободы. Для понимания истории вплоть до революции 1688 года и, пожалуй, даже до вступления на престол Ганноверского дома (1714) эта точка зрения вполне достаточна. Но дальше она оказывается недостаточной, и не потому, что развитие английской конституции прекратилось или сделалось менее интересным, а потому что оно с этого времени совершается постепеннее и спокойнее; напряжение ослабляется; теперь драматического интереса надо искать в других сторонах жизни. Историки недостаточно сознают это. Совершенно верно, что Георг III, опираясь на свое королевское влияние, стремится хитростью достичь того же, чего добивались Стюарты, пользуясь своей прерогативой и военной силой. Но когда на сцену выходят Уилькс и Тук Хорн, Чатам и Фокс, чтобы разыгрывать роли Принна и Мильтона, Пима и Шафтсбюри,[64] то интерес в зрителе ослабевает. Ему кажется, что он читает слабую вторую часть захватывающей повести. Парламентская борьба, такая мощная в семнадцатом веке, кажется в восемнадцатом чем-то деланным.
Ошибка в том, что этой борьбой занимают всю авансцену истории. Изображать Англию в царствование Георга III поглощенной борьбой с притязаниями этого несколько узколобого короля совершенно неверно.
Англия того времени занята другими, более обширными предприятиями. Не ограничиваясь повторением задов, она творила нечто новое и великое. Это новое имело громадные последствия, которые изменили и продолжают изменять лик мира. Историк обязан поставить новую пьесу, выдвинуть вперед новых актеров.
Я постарался возможно выпуклее выставить развитие этого нового явления в английской истории. Я показал, что в семнадцатом столетии, когда Англия у себя дома успешно примиряла старую тевтонскую свободу с новыми политическими условиями и нашла место и профессиональному воину, и религиозному диссентеру, она работает и за пределами своей страны. Наряду с четырьмя другими западными державами Европы она основывает империю в Новом Свете. Мы видели, что, принявшись за это дело позже некоторых других государств и долго не выказывая значительных успехов, она в конце концов оставляет всех своих соперниц далеко позади и в настоящее время является единственной обладательницей великой империи в Новом Свете. В XVIII столетии, то есть немедленно по завершении борьбы за свободу, началось преобладание Англии в Новом Свете, и теперь, в XIX столетии, ей предстоит разрешить вопрос, какую форму придать приобретенной империи. Ясно, что здесь, в этом именно процессе, заключается то искомое, развивающееся явление, которое должно сделаться главным предметом изучения после того, как развитие конституционной свободы завершено, и вопрос о нем исчерпан. Ибо здесь перед нами явление, которое, начиная с семнадцатого столетия, неуклонно разрастается и принимает наконец величественные размеры; ибо здесь мы наблюдаем явление, которое связывает воедино прошедшее с будущим.
Отводя изображению этого процесса главное место, мы избегаем недоразумения большинства историков, согласно которым оказывается, что по мере возрастания величия Англии ее история становится все менее и менее интересной. При этой новой точке зрения становится необходимым значительное перераспределение материала, ибо мы принимаем новую меру важности событий и новый принцип их группировки. Обыкновенно колониальные и индийские дела несколько отодвигаются на задний план. Их рассматривают в особых главах. Кажется, сложилось убеждение, что события, совершающиеся вдали от Англии, не могут играть руководящей роли в истории Англии, как будто бы Англия – остров, носящий это имя, а не политическое целое, получившее только название от этого острова, – целое, способное расшириться и покрыть половину земного шара. Для нас Англия – везде, где живет английский народ, и мы будем искать ее истории везде, где совершаются наиболее важные для англичан события. В периоды, когда свобода Англии была в опасности, история Англии совершалась главным образом в Уэстминстерском дворце во время парламентских дебатов; в период расширения Англии в Великую Британию история ее творится везде, где происходит расширение, даже в таких далеких странах, как Канада и Индия. Мы будем избегать обычной ошибки и не станем смешивать историю Англии с историей парламента. Это перераспределение материала коснется преимущественно девятнадцатого и восемнадцатого столетий; однако и в семнадцатом веке, не изменяя порядка изложения борьбы за свободу со Стюартами, мы должны постоянно иметь в виду и другое расположение событий, долженствующее выдвинуть отдельные стадии роста Великой Британии.
За основу расположения событий обыкновенно принимают отдельные царствования и династии, причем основным элементом каждого царствования считают отношения короля к парламенту. По этой схеме главными этапами изложения являются вступление на престол Брауншвейгского дома и восшествие на престол дома Стюартов; в середине помещаются междуцарствие и революция 1688 года. Вообще мы придаем слишком большое значение подобным расчленениям даже тогда, когда они, бесспорно, его имеют. В нашем воображении существует гораздо большая разница между веком Георга I и королевы Анны, между веком Вильгельма III и Карла II, между Реставрацией и республикой, между веком Якова I и веком Елизаветы, чем то было на самом деле. Революция вовсе не была так революционна, Реставрация так реакционна, как это обыкновенно считают. Если же мы станем рассматривать Англию как живущий организм, в котором при Елизавете начался уже не прерывавшийся впоследствии процесс расширения в Великую Британию, то найдем все подобные деления совершенно бесполезными, почувствуем потребность в новых делениях, разграничивающих последовательные стадии расширения.
Я уже указывал на отдельные фазы расширения, но считаю нелишним представить теперь связный обзор английской истории в том виде, как она вырисовывается на основании выставленного принципа.
История расширения Англии должна, естественно, начинаться с двух вечно памятных путешествий: путешествия Колумба и Васко да Гамы в царствование Генриха VII. С этого момента положение Англии среди других стран совершенно меняется. Однако прошло почти целое столетие прежде, чем эта перемена сделалась явной для всего мира. По нашей схеме все это время составляет один период, характерной чертой которого служит то, что Англия постепенно находит свое призвание к морю.
Пройдем мимо внутренних волнений, политических, религиозных и социальных распрей этого века, обильного событиями; не будем рассматривать Реформации и ее последствий. Для нас важно только то, что Англия медленно и постепенно собирается с духом, чтобы заявить, наравне с Испанией и Португалией, свои притязания на часть вновь открытого Нового Света. Было совершено несколько путешествий на Ньюфаундленд и на Лабрадор и целый ряд смелых предприятий, задуманных, впрочем, как показали их результаты, неудачно. К несчастью, хотя и вполне естественно, английские мореплаватели обращали свое внимание на полярные страны и потому открывали только замерзшие океаны в то время, как соперники их открывали один благодатный остров за другим. Затем следует ряд флибустьерских набегов на испанские колонии, во время которых англичане, по крайней мере, заявили себя искусными и неустрашимыми моряками.
Испанская Армада отмечает собою конец этого подготовительного, ученического периода. Внутреннее превращение нации завершено. Она повернулась спиной к материку Европы и смотрит на океан и на Новый Свет. Она сделалась одновременно морской и промышленной страной.
Разгром Испанской Армады 8 августа 1588 г.
Согласно обычной схеме распределения английской истории, восшествие на престол дома Стюартов считается моментом упадка: владычество Тюдоров, популярное, решительное и умное, уступает место педантичной и непопулярной монархии Божьей милостью.
Все это верно, и все же, на наш взгляд, упадка нет, а есть непрерывное развитие. Несходство личностей Якова и Карла с личностью Елизаветы не имеет никакого значения. Происходит закладка Великой Британии. Джон Смит, отцы пилигримы и Кальверт[65] учреждают колонии Виргинию, Новую Англию и Мериленд, из коих последняя указывает самим своим именем, взятым от королевы Генриетты-Марии, на время своего учреждения.
С этого времени Великая Британия уже существует, с этого времени англичане живут по обе стороны Атлантического океана. Английская колонизация сразу получает своеобразную печать своего времени. Великая Испания была искусным творением, потребовавшим много обдуманных и ловких мероприятий со стороны метрополии. В ней власть, как светская, так и духовная, была строже, чем в самой Испании. Причину этого надо искать в том, что испанские колонии, принося постоянный доход, были для метрополии делом первостепенной важности. Напротив, английские колонии, не имевшие важного значения для метрополии, находились в пренебрежении, что ввиду начавшихся тогда раздоров в Англии имело весьма серьезные последствия. Колонии, если они не служат источником обогащения, могут по крайней мере оказаться полезными, как место убежища для непризнанного мнения. Такой оборот колонизации был дан Колиньи[66] еще за полстолетия до начала эмиграции пуритан.[67] Ему пришла в голову идея осуществить религиозную терпимость путем географического разделения враждующих вероисповеданий – идея, которая впоследствии, путем Нантского эдикта, получила свое осуществление в самой Франции. Заметим мимоходом, насколько иным был бы теперь мир, если бы по ту сторону Атлантического океана возникла Новая Франция гугенотов! Но мысль Колиньи была осуществлена Англией.[68] Ее колонии создавались в критический момент религиозного раскола – отсюда выросло побуждение к эмиграции, которого не существовало бы при других обстоятельствах.
Однако этим самым было впервые внесено начало оппозиции между Новым и Старым Светом: переселенцы покидали родину с тайным, но определенным решением – не переносить с собою Англии, а создать нечто новое, что не должно было сделаться второй Англией. Это настроение впоследствии принесло свои плоды.
Вторая фаза развития Великой Британии должна быть отнесена к эпохе военной революции 1648 года. После торжества внутри государства республика должна была вести на море новую войну с роялизмом. С нашей точки зрения, эта вторая борьба важнее первой: армию, созданную Кромвелем, пришлось скоро распустить, морская же сила, организованная Веном и управляемая Блеком, – это английский военный флот будущего. Здесь коренится начало морского преобладания Англии. «В этот момент, – пишет Ранке, – в Англии яснее прежнего пробудилось сознание выгод ее географического положения, сознание того, что от природы она призвана к деятельности на море». Нападение Кромвеля на Испанскую империю и занятие Ямайки, – одно из самых удачных и смелых предприятий в новой истории Англии, – является естественным следствием этого сознания, пробудившегося в момент, когда Англия почувствовала себя военным государством.
Следующей фазой развития является поединок с Голландией. Этот поединок должен быть, собственно, отнесен к первой половине царствования Карла II, ибо тогда он занимает авансцену истории, но он начался гораздо раньше, при избиении в Амбойне в 1623 году,[69] и достиг высшего развития во время республики. Можно сказать, что поединок окончился в 1674 году, когда Карл II отступается от Голландии, на которую он нападал совместно с Людовиком XIV. То был славный момент для Голландии: в минуту крайней опасности она нашла нового борца, происходящего из той самой фамилии, которая спасла ее прежде, когда новый штатгальтер, Вильгельм Второй Молчаливый, заткнул собою открывшуюся брешь, чтобы помешать новому вторжению. Тем не менее, этот момент был началом упадка Голландии; правда, и в этой второй борьбе она снова выказала прежнее геройство, но прежнее счастье ее покинуло. Теперь она не могла уже разбогатеть от войны, как это было после предыдущей борьбы. Она вела теперь войну не с Испанией, обладательницей бесчисленных колоний, которые Голландия могла безнаказанно грабить, а с бедной колониями Францией: флот ее уже не мог так безопасно плавать по морям: он встречался с могучими морскими силами Англии, а самому источнику ее богатства – кораблестроительной промышленности – был нанесен удар английским актом о навигации. Поэтому, хотя Голландия отстояла себя и вслед затем снова пережила эпоху великих дел, тем не менее упадок ее уже наступил; это сделалось вполне очевидным для всего мира в момент смерти ее великого штатгальтера, последнего представителя старой линии и английского короля Вильгельма III. Англия, более богатая по своей природе и не подвергавшаяся неприятельскому нашествию, начинает брать верх; морское могущество Голландии прекращается.
Царствование Карла II (1660–1685) является в истории Великой Британии периодом замечательного прогресса.[70] Тогда-то главным образом американские колонии приняли тот вид, который они имели в следующем столетии, когда привлекали к себе внимание всей Европы, – именно тогда они превратились в непрерывный ряд поселений, тянущийся с юга на север, вдоль берега Атлантического океана. В это царствование были основаны обе Каролины[71] и Пенсильвания; в это царствование голландцы были изгнаны из Нью-Йорка и Делавары.[72] Американские колонии, рассматриваемые в целом и измеряемые мерилом того времени, имеют очень внушительный вид. Отличительной чертой их являлось совпадение густоты населения с почти исключительно европейским его происхождением. Во всех испанских колониях европейцы смешивались и терялись в море индейского и полуиндейского населения. Голландские колонии естественно страдали от недостатка населения, так как их метрополия была слишком мала; они вообще походили скорее на коммерческие станции. Французские колонии, которые тогда начинали обращать на себя внимание, были также слабы в этом отношении. Уже на заре французского колониального величия можно было заметить недостаток истинной колонизационной силы, а может быть, уже тогда сказалась медленность в размножении, которая позднее стала характерной чертой французского народа. Цепь английских колоний вдоль Атлантического океана уже тогда была самым прочным приобретением на пути европейской колонизации, которым могло похвалиться какое-либо государство; эти колонии кажутся ничтожными, если к ним приложить современную мерку: все население их в исходе царствования Карла II составляло около 200 000 жителей; однако это население удваивалось через каждые двадцать пять лет.
Какова же следующая фаза развития Великой Британии? В союзе с Голландией, она вступает в соперничество с Великой Францией, созданной Кольбером. С нашей точки зрения, эпоха управления Кольбера означает момент вступления Франции в соревнование с западными державами из-за Нового Света. Франция в ранних своих открытиях едва ли уступала Англии. Жак Картье (Jacues Carrier)[73] составил себе имя раньше, чем Фробишер (Frobicher) и Дрек (Drake).[74] Колиньи (Coligny) создает схему колонизации раньше, чем Ралей (Raleigh). Акадия и Канада были населены, и город Квебек основан под предводительством Самуила Шамплена (S. Champlain)[75] около того времени, когда совершило свое плавание судно «Mayflower». Но, как это бывало обыкновенно, запутанность Франции в европейских делах препятствовала ее успехам в Новом Свете. Тридцатилетняя война дала ей гегемонию в Европе. В середине этого столетия она почти постоянно занята европейскими войнами. Колониальную часть великого испанского наследия она предоставляет Голландии и Англии, естественно приберегая для себя то, что лежит ближе к ее границам – Бургундию. Таким образом, в дни Кромвеля Франция оказывается несколько позади в великом состязании из-за колоний. Мазарини, по-видимому, мало понимал океаническую политику человека, но, как только он умирает, как только кончается война и наступает мирное время, является Кольбер и ведет Францию по новому пути. Он применяет во Франции все великие изобретения коммерческой политики, выработанные голландской республикой, в особенности систему Chartered Company. Он стремится, и на первое время не без успеха, придать Франции – этой стране феодализма, аристократии и рыцарства – тот промышленный, современный характер, который приобретали морские державы под влиянием притягательного действия Нового Света. Кольбер фигурирует у Адама Смита в качестве представительного государственного человека меркантильной системы, и действительно, как министр Людовика XIV, он, по-видимому, воплощает в себе то извращение коммерческого духа, которое наполнило Европу войной. «Торговля, – говорит Адам Смит, – которая должна бы естественно служить связью дружбы и союза для наций и отдельных личностей, сделалась самым обильным источником раздора и вражды».
Мы уже видели, что в семнадцатом веке действуют две великие силы, определяющие все события; одна из них – Реформация – постепенно ослабевает, другая – тяготение к Новому Свету – усиливается. При изучении истории того времени надо постоянно быть настороже, чтобы не приписать работу одной из этих сил другой. Так, при Кромвеле, как это было и раньше, при Елизавете, коммерческое влияние скрывается под религиозным. То же повторяется теперь, когда, после поединка между двумя морскими державами, следует их союз против Франции. Союз длится в течение двух великих войн и двух английских царствований,[76] и если мы проследим его рост с 1674 года до революции 1688 года, то он нам покажется союзом двух протестантских держав против нового покушения со стороны католицизма. Ибо как раз в это время происходила одна из самых неожиданных и бедственных реакций, известных в истории. Отмена Нантского эдикта возродила политику шестнадцатого столетия. Почти совпадая со вступлением на английский престол католика Якова II, она произвела мировую религиозную панику. История как будто вернулась назад на целое столетие, и снова воскрес век Лиги, Филиппа II и Вильгельма Молчаливого, а между тем уже казалось, что равновесие вероисповеданий твердо установлено тридцать лет назад Вестфальским трактатом, что Европа поглощена стремлением к колониальному расширению. И вдруг идеи Кольбера сразу забыты, собранные им богатства истрачены, и при Ла-Гоге уничтожен основанный им флот.[77] И нам кажется, что против этого католического возрождения Англия и Голландия впервые заключают между собою союз.
Однако Новый Свет был отодвинут на задний план лишь на один момент, и то скорее только казалось, что он отодвинут. Так, если мы проследим историю не снизу вверх, а сверху вниз, если с Утрехтского договора мы взглянем назад, на союз морских держав, торжествовавших тогда победу, то перед нами предстанет союз совсем иного рода. Непрерывность событий за все это время нимало не нарушена; Мальборо[78] занимает положение Вильгельма, и союз по-прежнему направлен против Людовика XIV, но религиозный пыл улегся, и война носит, как показывают сами условия Утрехтского договора, интенсивно коммерческий характер. Для Англии эта война была такой блестящей, она носит такое громкое название – война за испанское наследство и окружена таким монархическим ореолом, что кажется нам истинным примером фантастических, варварских, опустошительных войн старого времени. В действительности же это была одна из наиболее деловых войн Англии и велась в интересах английских и голландских купцов, торговля которых и благосостояние находились в опасности. Все колониальные вопросы, питавшие раздоры Европы с самого открытия Америки, сразу выдвинулись вперед, сразу назрели при перспективе союза между Францией и Испанской империей, ибо такой союз повлек бы за собою закрытие почти всего Нового Света для англичан и голландцев и открыл бы его для соотечественников Кольбера, которые тогда были заняты исследованиями и заселением реки Миссисипи. Позади всего придворного блеска grand siècle, коммерческие соображения правят миром так, как никогда раньше им не правили, и продолжают править им в течение значительной части открывающегося затем прозаического столетия.
Среди этой войны произошло достопамятное событие, всецело принадлежащее рассматриваемому развитию, – именно законодательное объединение Англии и Шотландии (1707). Прочтите его историю у Бертона, и вы увидите, что для Шотландии оно отмечает начало новой истории точно так же, как Армада отмечает начало новой истории для Англии. Это объединение знаменует собою вступление Шотландии в соперничество за Новый Свет. Ни одна нация, относительно численности своего населения, не извлекла столько выгод из Нового Света, как шотландцы, а между тем до унии они вовсе не имели доступа к Новому Свету. Из английской торговли они были исключены, а бедность их страны не позволяла им соперничать с другими нациями на собственный счет. В царствование Вильгельма III они сделали громадное национальное усилие и попытались завладеть территорией в Новом Свете. Они основали Дариенскую[79] компанию, которая должна была урвать для Шотландии кусок той громадной территории, которую Испания признавала своей собственностью. Предприятие не удалось; возбуждение и разочарование, созданное неудачей, повлекли за собою переговоры, которые привели к унии. Англия обеспечила себе безопасность от домашнего врага на случай войны; Шотландия получила доступ к Новому Свету.
Одна из важнейших эпох в истории расширения Англии отмечена Утрехтским договором (1713). Этот исторический момент, с нашей точки зрения, имеет почти такое же выдающееся значение, как момент Испанской Армады (1588), – он означает начало преобладания Англии. В эпоху Армады Англия впервые вступает в состязание; в Утрехте она берет первый приз. В эпоху Армады она имела дерзость бросить вызов державе, которая была гораздо сильнее ее; успех вызова выдвинул Англию вперед и дал ей место в ряду великих государств. Хотя с этих пор она неуклонно двигается вперед, однако в первой половине семнадцатого столетия Голландия привлекает больше внимания, внушает больше восхищения, а во второй его половине первенство принадлежит Франции. В период времени, простиравшийся приблизительно с 1660 по 1700 год, Франция была, бесспорно, первой державой в мире: после Утрехтского договора первой державой сделалась Англия, и далее в течение нескольких лет она не имела соперниц. Ее слава в других странах, уважение, которое она внушала своей литературой, философией, народным образованием и науками, должны быть отнесены к этому времени; в эту именно эпоху пользуется она той репутацией интеллектуального первенства, которою прежде славилась Франция. Правда, значительная доля этого блеска была мимолетна, однако с этого времени и навсегда Англия удерживается на высшем уровне, чем когда-либо прежде. С этого момента создается универсальное признание Англии самой могущественной державой в мире. С особенной определенностью создается убеждение, что ни одно государство уже не может равняться с нею по богатству, торговле и морской силе. Объясняется это отчасти тем, что ее соперницы ослабели, а отчасти и тем, что сама она подвинулась вперед.
Упадок Голландии к этому времени сделался заметным. Пока жил Вильгельм, она пользовалась ореолом его славы, но ко времени Мальборо и дальше ею овладевает утомление и желание покоя. Ее силы надломлены в войне с Францией и в состязании с Англией. Она более не проявляет своей прежней энергии. Таким образом, старая соперница Англии отступает. Новая соперница, Франция, сразу подавлена бедствиями войны, и она, дела которой за тридцать лет перед тем были приведены в порядок величайшим финансистом века, теперь обременена банкротством, которое сопровождает ее до революции. Ее смелая попытка захватить торговлю Нового Света не удалась. В известном смысле она приобрела Испанию, но при этом не получила того, что делало Испанию ценной, – доли в американской монополии. Правда, вскоре после того Франции удалось отчасти вознаградить свои утраты; ей представился случай выказать колониальную предприимчивость и таланты. Дюпле (Dupleux) в Индии, Ла-Галиссоньер (La Galissoniere)[80] в Канаде, Бальи-де-Суффрен (Baili Sufren)[81] на море высоко подняли имя Франции в Новом Свете и надолго поддержали ее соперничество с Англией. Однако в момент Утрехтского мира едва ли можно было это предвидеть. Величие Англии, упоенной победами, казалось тогда значительнее, чем оно было на самом деле.
Реально Англия приобрела Акадию, или Новую Шотландию, и Ньюфаундленд (уступленные Францией) и получила договор ассиенто[82] от Испании. Таким образом, был сделан первый шаг к разрушению Великой Франции: она была лишена одной из ее трех колоний в Северной Америке, где она тогда обладала Акадией, Канадой и Луизианой. Вместе с тем была сделана первая крупная брешь в невыносимой испанской монополии, закрывавшей тогда значительную часть Центральной и Южной Америки для мировой торговли. Англия получила право снабжать испанскую Америку невольниками, вскоре за тем ей удалось провозить другую контрабанду.
Здесь я должен несколько остановиться, чтобы сделать общее замечание. Вы видите, что, обозревая рост Великой Британии, я не делаю ни малейших попыток прославлять завоевания или оправдывать средства, к которым прибегали мои соотечественники, точно так же, как, указывая на то, что Англия опередила своих четырех соперниц, я очень далек от мысли приписывать ей какие-нибудь особенные доблести. Я не приглашаю вас восхищаться или одобрять Дрека, Хокинза, республику Кромвеля или правление Карла II. И на самом деле, не легко оправдать тех, кто создал Великую Британию, хотя в их подвигах есть много, чем можно восхищаться, и, во всяком случае, гораздо менее заслуживающего порицания и возбуждающего отвращение, чем в поступках испанских авантюристов. Но я не пишу биографии этих людей; я трактую об их деяниях не в качестве биографа, поэта или моралиста. Я постоянно занят одной задачей – установить причинную связь событий. Я постоянно задаю себе вопрос: как возникло то или другое предприятие, и почему оно увенчалось успехом? Я задаю эти вопросы не с той целью, чтобы подражать тем поступкам, о которых мы читаем, а с той, чтобы открыть законы, управляющие возникновением, расширением, благоденствием и падением государств. Я имею и другую цель: мне хотелось бы бросить свет на вопрос, будет ли Великая Британия в том виде, как она сейчас существует, процветать, продлится ли ее существование или она распадется. Быть может, вы спросите меня, можно ли ожидать или желать, чтобы она благоденствовала, если преступление лежит в основе ее созидания. Но в истории мы не видим, чтобы незаконные завоевания одного поколения необходимо утрачивались следующим; правительства не следует отождествлять с частными собственниками, и потому нет основания считать, что государства имеют право, и тем паче, что они обязаны возвращать то, что ими приобретено незаконно. Нормандское завоевание было незаконно, но оно повело к благоденствию, и даже к прочному благоденствию страны. Нельзя забывать, что в самой Англии англичане – наследники саксонских пиратов. Владельные грамоты народов на занимаемую ими территорию обыкновенно относятся к первобытным временам и покоятся на насилии и убийствах, а Великая Британия созидалась при ярком свете истории. Правда, ее территория была отчасти приобретена неправедными путями, но пути эти были менее неправедны, чем те, которыми создались территории многих других держав, и даже, быть может, она создалась гораздо менее незаконно, чем территории тех государств, владение которых является самым древним и общепризнанным. Если мы сравним ее по характеру происхождения с другими империями, то найдем, что она возникла точно таким же путем, что ее основатели имели те же самые, не всегда благородные мотивы, что они выказали много лютой алчности, смешанной с героизмом, что не особенно тревожились нравственными соображениями в своих отношениях к врагам и соперникам, хотя между собою часто проявляли благородное самоотвержение. Мы находим, таким образом, что Великая Британия походит на другие империи, что ее происхождение было такое же, как и других государств, что в общем ее летописи не хуже, а скорее лучше большинства. Они явно чище летописей Великой Испании, бесконечно более запятнанных жестокостями и грабежом. На некоторых страницах английских летописей мы видим истинное величие в мыслях и, по крайней мере, стремление к справедливым поступкам, которые далеко не всегда встречаются в истории колонизации. Некоторые из основателей колоний напоминают нам Авраама и Энея. С другой стороны, совершаемые преступления были преступлениями, присущими тогда всякой колонизации.
Я говорю здесь об этом потому, что хочу обратиться к одному из самых тяжких из этих преступлений. Англия принимала уже участие в торговле невольниками при Елизавете, когда Хокинз прославился как первый англичанин, запятнавший себе руки ее ужасами. У Гаклюйта вы найдете его собственный рассказ о том, как он в 1567 году напал на африканский город, хижины которого были покрыты сухими пальмовыми листьями, как он поджег его и из «8000 обитателей он успел схватить 250 человек мужчин, женщин и детей». Но мы не должны полагать, что начиная с того времени и до уничтожения торговли невольниками Англия принимала в ней деятельное или выдающееся участие. У Англии тогда и еще пятьдесят лет спустя не было колоний, где был бы спрос на невольников, а когда она приобрела такие колонии, то в них не было рудников, как в первых колониях Испании, где так нуждались в невольничьем труде. Участие Англии в торге невольниками вырастало постепенно в семнадцатом веке, параллельно с ростом ее колониальной империи. Утрехтским договором участие это как бы установлено и сделалось «центральной целью английской политики».[83] И с ужасом я должен сознаться, что с этой поры англичане стали принимать едва ли не самое деятельное участие в работорговле и запятнали себя более других народов ее чудовищными ужасами.
Это значит только, что англичане в этом отношении не были лучше других народов и, заняв, наконец, высшее место среди торговых наций мира, вырвали благодаря военным успехам ассиенто у Испании и тем самым получили наибольшую долю в этой жестокой торговле. Это необходимо иметь в виду, когда читаешь ужасные повествования, которые были впоследствии изданы партией аболиционистов. Соучастниками англичан в этом преступлении были все нации, обладавшие колониями; зачинщиками были не англичане, и если в течение некоторого времени они являлись более тяжкими преступниками, чем другие нации, то вина их смягчается тем, что они сами обнародовали свои преступления, раскаялись в них и наконец бросили гнусный торг. Однако надо помнить, что успешное развитие Англии, достигшее своего апогея в Утрехтском мире (1713), секуляризовало и материализовало английский народ сильнее, чем вся предыдущая его история. Никогда прежде не было такого торжества корыстолюбивых мотивов, никогда религия и нравственное начало не были так дискредитированы, как в продолжение следующих тридцати лет. Начало этого растления относят обычно к более раннему времени и приписывают неверной причине. Цинизм и безнравственность наступили, собственно, не после Реставрации, а после революции 1688 года, и особенно после царствования королевы Анны. Маколей в своем известном опыте «Комические драматурги Реставрации» цинизм четырех писателей – Уишерли (Wisherley), Конгрива (Congreve), Ванбрега (Vanbrugh) и Фаркуара (Farquhar) – приписывает Реставрации, но трое из них начали писать только несколько лет спустя после революции.
Итак, мы достигли той стадии, когда Англия, вынесенная ходом своего расширения вперед, выступает впервые в качестве первенствующей морской и торговой мировой державы. Ясно, что эти атрибуты она получила вследствие своей связи с Новым Светом, и тем не менее она не является в то время, по крайней мере на первый взгляд, абсолютно первенствующей колониальной державой. Протяжение ее территорий было все еще ничтожно по сравнению с территориями Испании и значительно уступало территории Португалии. Ее владения слагались в Северной Америке из бахромы колоний вдоль Атлантического океана, из нескольких Вест-Индских островов и нескольких коммерческих станций в Индии; что значило это в сравнении с могучими вице-королевствами Испании в Южной и Центральной Америке? И Франция того времени, как колониальная держава, могла казаться могущественнее Англии; ее колониальная политика казалась более целесообразной и успешной.
Следующий фазис в истории Великой Британии я уже рассматривал в первых главах. Голландия – в упадке, и Англии приходится вести состязание с Испанией и Францией, связанными между собою фамильным договором. При этом она имеет больше дела с Францией, так как и в Америке, и в Индии ее соседкой является Франция, а не Испания. И вот начинается уже описанный мною поединок между Францией и Англией. Решающим событием его была Семилетняя война и новое положение, дарованное Англии Парижским трактатом 1762 года. Это кульминационный пункт могущества Англии в восемнадцатом столетии; по крайней мере никогда с тех пор Англия не занимала такого высокого положения по отношению к другим государствам. На одну минуту казалось, что вся Северная Америка должна достаться ей и войти в состав Великой Британии. По пространству такая империя не была бы обширнее испанских владений, но как неизмеримо выше была бы она по внутреннему величию и силе! Испанская Империя в самой основе своей имела крупный недостаток, она по крови не была европейской. Не говоря уже о том, что чисто европейская часть ее населения принадлежала к романской расе, которая даже в Европе была в упадке, – на территории испанских колоний значительная часть населения заключала в себе примесь варварской крови, и еще большая его часть была чисто варварской крови. Английская же империя, за исключением невольников, имела население исключительно цивилизованной расы; а примеры из древней истории показывают, что изолированная невольническая каста, исправляющая трудные и грубые работы, вполне совместима с высокой формой цивилизации; гораздо опаснее порча национального типа примесью варварской крови.
На этой кульминационной фазе Англия становится для всей Европы предметом зависти и страха, каким была раньше Испания и после нее, в семнадцатом веке, Франция. После первых побед Англии в колониальном поединке с Францией поднялся впервые крик против нее – тиранической владычицы морей. В 1745 году, как раз после взятия Луисбурга,[84] французский посланник в С.-Петербурге представил ноту, в которой он жаловался на морской деспотизм англичан и на их замыслы уничтожить торговлю и мореплавание всех других народов; он заявил о необходимости политической комбинации для поддержания морского равновесия. Прежняя союзница Англии присоединяется к этой жалобе: около того же времени появился памфлет, озаглавленный: «La voix dun citoyen a Amsterdam», в котором крик Шафтсбюри: «Delenda est Carthago» – вернулся эхом в Англию из уст некоего Мобсрю. «Mettons nous, – восклицает он, – avec la France au niveau de la Grande Bretagne, enrichis-sons nous de ses propres fautes et du delire ambitieux de ses ministres».[85] Он предлагает коалицию с целью добиться отмены навигационного акта. Начиная с этого времени и до 1815 года зависть к Англии составляет одну из великих двигающих сил европейской политики. Она повела к вмешательству Франции в американские дела и к вооруженному нейтралитету и превратилась позже в страсть у Наполеона I, которая повела его, отчасти против воли, к завоеванию Европы.
Мы проследили, таким образом, постепенное и непрерывное расширение Англии. Медленно и верно возрастало ее величие. Но тут случилось событие совсем иного рода, произошел внезапный удар, доказавший, что в Новом Свете могут быть другие враждебные силы вне соперничества европейских государств.
Отложение американских колоний было одним из тех событий, громадное значение которых даже и тогда не могло ускользнуть от внимания. Его чреватость бесконечными последствиями сознавалась и в то время. Но последствия оказались несколько иными, чем те, каких тогда ожидали. То было первым взрывом свободной воли в Новом Свете. Со времени открытия его Колумбом и беспощадного уничтожения всех зародышей цивилизации испанскими авантюристами, Новый Свет пребывал в каком-то малолетстве. Теперь он заявляет о себе; он совершает революцию в европейском стиле, ссылаясь на все принципы европейской цивилизации.
Это уже само по себе было событие громадных размеров, быть может, даже более крупное, чем французская революция, так скоро за ним последовавшая и поглотившая собою все внимание человечества. Но в тот момент это событие рассматривалось главным образом как падение Великой Британии.
Тринадцать отделившихся колоний составляли почти всю колониальную империю Британии того времени. Их отпадение, казалось, доказывало неестественность и недолговечность Великой Британии. Но с тех пор прошло столетие, и Великая Британия все еще существует, и существует в более обширных размерах, чем прежде.
Лекция 8 Раскол Великой Британии
Предметы меняют свои очертания в зависимости от места, с которого мы на них смотрим; точно так же и история данного государства может принимать разнообразные формы. Сообщенный мною очерк Англии семнадцатого и восемнадцатого столетий не похож на обычные очерки: я стал на новую точку зрения, с которой многое, казавшееся раньше малым, кажется великим, и казавшееся великим кажется малым; с этой новой точки зрения выступает то, что прежде было в тени, и скрывается в тень то, что прежде ярко выступало.
А между тем многие полагают, что общие очертания истории совершенно определенны и неизменны; признают, что детали у того или другого историка могут быть более или менее точными, более или менее живыми, но рамки должны оставаться одинаковыми для всех историков. На самом деле именно эти-то рамки – список великих событий, заучиваемых школьниками, – подвижны, непостоянны и изменчивы, хотя и кажутся отлитыми из стали. Что делает событие великим или малым? Всегда ли восшествие на престол короля – великое событие? В момент своего совершения оно кажется великим, но когда возбуждение, вызванное им, уляжется, оно может оказаться не имеющим никакого значения в истории страны. Последовательное применение этого принципа произвело бы переворот в нашем понятии об истории. Оно показало бы нам, что действительная история государства может совершенно отличаться от официальной: многие события, считавшиеся великими, могут в действительности оказаться неважными, а истинно важные события могут остаться едва затронутыми или вовсе упущенными.
Следовательно, необходимо выбрать критерий исторической важности событий: применение такого критерия при оценке их должно составлять главную задачу историка. Какой же критерий должны мы применить? Можем ли мы сказать: «Историк должен выдвигать вперед такие события, которые интересны»? Но событие может быть интересным в биографическом, нравственном или поэтическом отношении и все-таки не быть интересным в историческом отношении. Можно сказать: «Историк должен придавать событиям то значение, которое приписывалось им в то время, когда они совершались; он должен возрождать чувства того времени». Я утверждаю, что это не дело историка, что он не обязан, как мы часто слышим, переносить читателя в прошлое время и заставлять его смотреть на событие так, как на него смотрели современники. Какая была бы в этом польза? Современники обыкновенно судят о великих событиях совершенно ложно. Напротив, одной из главных функций историка является исправление взгляда современников. Вместо того, чтобы заставлять нас разделять чувства прошлого времени, обязанность историка состоит в том, чтобы указать нам, что то или иное событие, поглощавшее внимание современников, не имело, по существу, важного значения и что другое событие, которое прошло почти незамеченным, имело громадные последствия.
Быть может, американская революция из всех событий английской истории всего более пострадала от применения ложного критерия. Как повесть или роман, она не особенно интересна. У обеих борющихся сторон нет выдающегося полководца, нет блестящих побед, и Вашингтон является наименее драматичным из всех героев. Однако то, что не интересно, как повесть, может быть чрезвычайно интересно, как история. Ставя французскую революцию, благодаря изобилию личных инцидентов, впереди американской, мы проявляем неумение распознать эту разницу. Столь же вредно отразился на изучении американской революции и другой упомянутый мною ложный взгляд на задачи истории. Историк не должен быть романистом, но для него еще хуже, если он газетный политик. Средний взгляд современников на любое великое событие бывает почти неизбежно поверхностным и ложным. Между тем наши историки как бы гордятся тем, что оценивают американскую революцию совершенно так, как они оценивали бы ее, будучи членами парламента при министерстве лорда Норта.[86] Вместо того чтобы попытаться изобразить философию события и отвести ему должное значение в истории мира, они вечно поглощены вопросом, как следовало бы им голосовать в тот или другой исторический момент: по вопросам об отмене акта о гербовых пошлинах или по поводу билля о бостонском порте.[87] Я называю это газетным отношением к истории. Историк этого типа прислушивается к парламентским прениям, пристально следит за судьбой министерства и за результатом ближайшего голосования. Особенностью этой манеры является то, что вопросы выдвигаются и рассматриваются в порядке их появления и с тем поверхностным знанием, которое достаточно лишь для самого спешного их разбора. Все это, быть может, хорошо на своем месте, но в исторических сочинениях производит очень печальное впечатление. И между тем английская история в ее новейших периодах изобилует такими вульгарными, поверхностными взглядами момента. Она глубоко заражена общими местами партийной политики и, рассматривая величайшие вопросы, постоянно берет за образец газетную передовицу. Какой же критерий исторического значения событий истинен? По-моему, таким критерием должна быть их чреватость последствиями или, другими словами, важность последствий, могущих вытекать из них. Руководствуясь этим принципом, я старался доказать, что в восемнадцатом столетии процесс расширения Англии гораздо важнее в историческом отношении, чем все домашние вопросы и движения. Взгляните на фигуру, которая управляет английской политикой в середине этого столетия, – на Питта Старшего. Его слава отождествляется с расширением Англии; он – государственный человек Великой Британии. Молодая энергия его политической карьеры тратится на флибустьерскую войну с Испанией, слава приобретена в эпоху великого колониального поединка с Францией, старость посвящена усилиям отвратить раскол Великой Британии.
Вернемся к американской революции. Чреватость последствиями этого события очевидна и всегда поражала беспристрастного наблюдателя, смотревшего на нее издали. Но газетные политики того времени не имели досуга для таких широких взглядов. Им великое событие представлялось рядом деталей, серией вопросов, относительно которых в парламенте должны последовать голосования. Вопросы эти являлись перед ними неразрывно сплетенными с другими вопросами, часто самыми ничтожными, но в тот момент казавшимися столь же значительными с точки зрения практики партийной политики. Хорошо известно, что stampt act прошел в первом чтении, не обратив на себя внимания. Парламент, посвятивший одну ночь обсуждению адреса, другую – декламации о тайных происках Бюта[88] и нападках на вдовствующую принцессу, третью – горячему спору о деле Вилькса, наконец, находит в числе текущих вопросов предложение об обложении колоний пошлиной, – он принял его без прений, как теперь принимает индийский бюджет. Это, конечно, очень прискорбно, но почти неизбежно и отнюдь не оправдывает внесения в историю подобного смешения малого и великого. Разве, слепо следуя хронологическому порядку и раболепно подчиняясь порядку дня в парламенте, историк не делает, в сущности, такой же ошибки при оценке американской революции, какая вызвала принятие stampt acta почти единогласно? Американский вопрос рассматривается в наших историях почти так же нерационально, как он был рассмотрен тогда в парламенте: без всякой подготовки, просто в хронологическом порядке, совместно с другими вопросами, не имеющими с ним ничего общего. Какая же после этого польза от истории, если, обозревая прошлое, она не ограждает нас от тех сюрпризов, которые в политике дня неизбежны уже в силу обширности и разнообразия жизни современного государства? Американская революция является для нас такой же неожиданностью, какой она явилась в действительности для наших предков. Наше внимание поглощено происками Бюта, браком короля, болезнью короля, Вильксом и генералом Варрантсом – и вдруг всплывает вопрос об обложении американских колоний пошлиной; затем мы вскоре узнаем о недовольстве колоний. И мы, как и наши предки, задаем себе вопрос: «А кстати, что это за колонии, откуда они появились, и как они управляются?» Историк, уподобляясь ежедневной газете, берется ввести нас в курс вопроса. Он приостанавливается, вводит особую главу, в которой бросает взгляд назад, и сообщает нам, что у Англии уже давно имеются колонии в Северной Америке! Он дает ровно столько сведений, сколько нам нужно, чтоб понять прения, возникшие по поводу отмены stampt acta, и далее, извинившись, что уклонился от хронологического порядка, спешит возвратиться к своему повествованию. В этом повествовании историк как будто постоянно следит за делами из галереи прессы в палате общин. Можно подумать, что революция происходит в парламенте: Америка составляет главный вопрос сначала для кабинета Рокингама (Rockingham),[89] а затем для кабинета Норта (North). Окончательная утрата Америки для нашего историка – тоже событие первой важности: оно влечет за собою падение кабинета Норта!
Повествуя о заключении договора 1783 года, историк, без сомнения, внесет торжественный параграф, в котором признает важное значение этого события. Он объяснит, что колонии всегда отпадают, как скоро почувствуют себя созревшими для независимости, и что отпадение Америки было для Англии не потерею, а приобретением. Теперь этот вопрос для него исчерпан, и впредь вы услышите об Америке так же мало, как и до начала войны. В палате общин на очереди новые вопросы, и историк занят бурными дебатами об индийском билле, борьбой Питта Младшего с коалицией, вестминстерскими выборами и прениями о регентстве. Английский историк очарован парламентом и следит во все глаза за его движениями с тем же почтительным вниманием, с каким старинные французские историки следили за душевными движениями Людовика XIV. Когда, наконец, дело доходит до войн французской революции и до великой борьбы Англии с Наполеоном, историк окончательно прощается с бесславными походами Бернгойна и Корнуэльса[90] и счастлив, что может рассказывать об истинно великих событиях и о подвигах великих мужей. А между тем я смело могу сказать, наперекор всему, что американская революция вовсе не была таким скучным, несчастным событием, которое заслуживает лишь краткого упоминания; оно не только значительно важнее других событий, но всецело стоит на высшем уровне значения, чем большинство событий в новой истории Англии; по внутреннему своему смыслу для Англии оно гораздо достопамятнее, чем война с революционной Францией, которая приближается к ней по значению только благодаря громадным косвенным последствиям, неизбежно вытекающим из всякой обширной и продолжительной борьбы. Конечно, гораздо интереснее читать о Ниле и Трафальгаре, о Пиренейском полуострове и Ватерлоо, чем о Бенкерз-Гилле, Брандивайне, Саратоге и Йорктоуне.[91] С военной точки зрения борьба с Францией гораздо грандиознее борьбы с Америкой; Наполеон, Нельсон и Веллингтон – более замечательные полководцы, чем вожди американской революции. Но исторические события классифицируются не по их занимательности, а по их чреватости последствиями.
Знаменитое «Бостонское чаепитие», когда за борт полетели присланные из Лондона ящики с чаем, несправедливо обложенным британским налогом, – эта «капля чая» в ночь с 15 на 16 декабря 1773 г.
Американская революция вызвала к жизни новое государство – государство, унаследовавшее язык и традиции Англии, но шедшее во многом своей дорогой, уклоняясь от пути не только Англии, но и всей Европы. Численность населения была невелика, территория громадна, и казалось весьма вероятным, что государство распадется и никогда не сделается могущественным. Но оно не распалось, а неуклонно шло вперед, и в настоящее время, как я уже упомянул, превосходит не только территорией, но и населением все европейские государства, кроме России. Таковы результаты американской революции, на основании которых я оцениваю ее историческое значение. Возникновение и развитие государства – вот истинный предмет для изучения истории. Я обратил ваше внимание на целый ряд событий: на испанскую Армаду, колонизацию Виргинии и Новой Англии, рост английского флота и английской торговли, нападение Кромвеля на Испанию, морские войны с Голландией, колониальное расширение Франции и падение Голландии, морское господство Англии после Утрехтского мира, поединок между Англией и Францией из-за Нового Света. Я показал, что из этих событий, взятых вместе, слагается процесс расширения Англии. Я говорил, что в семнадцатом веке этот процесс неизбежно несколько отодвигается назад домашней борьбой народа с королями Стюартами, но что в восемнадцатом веке его следует выдвинуть вперед, на первый план. Следующим членом этого ряда событий является раскол империи, американская революция; историческое значение этого события настолько же важнее самых ранних событий в истории Англии, насколько Великая Британия больше площади Англии. Его значение не зависит от того, можно ли Гау (Hove)[92] и Корнуэльса считать великими полководцами и был ли Вашингтон гением: его значение во всеобщей истории столь же велико, как и в истории Англии. Создание на новой территории государства с населением в пятьдесят миллионов, которые в непродолжительном времени превратятся в сто миллионов, уже само по себе далеко превосходит все, встречаемое в предыдущей истории. Ничего подобного не было ни в Новом, ни в Старом Свете. Его население превосходит в десять раз население Англии во время революции 1688 года и вдвое больше населения Франции во время революции 1789 года.[93] Это одно уже говорит нам, что мы вступили в эпоху больших размеров и высших цифр, чем те, с которыми история имела дело раньше. Но это еще не все. Размеры не означают необходимого величия; если не в европейской, то в азиатской истории можно встретить гораздо более крупные цифры: население Индии и Китая в пять раз превосходит население Соединенных Штатов. Особенностью нового государства является сочетание размеров с внутренними достоинствами. До возникновения Соединенных Штатов все обширные государства, быть может, за исключением малоизвестного Китая, были государствами низкой организации.
Англии принадлежала слава перенесения в современное государство страну той свободы, которая жила в городах-государствах Греции и Италии. Теперь вновь основанное в Америке государство унаследовало созданную Англией систему, снабдив ее в теории и на практике всеми теми изменениями, которые оказались необходимыми для приложения ее к еще более обширной территории. В результате американской революции создается новое обширное государство, по пространству принадлежащее к одной категории с Индией и Россией, по степени развития личной свободы им резко противоположное. Гегель изображал всемирную историю как постепенное развитие человеческой свободной воли. Согласно его представлению, существуют государства, где свободно только одно лицо, другие – где несколько лиц пользуются свободою, и третьи – где свобода – достояние многих. Распределим государства по степени развития в них духа свободы, и мы увидим, что большинство обширных государств придется поместить на нижнем конце шкалы. Что же касается Соединенных Штатов, то никто не усомнится поставить это громадное государство одним из первых: нигде в другом государстве свободная воля каждой отдельной личности не проявляется с такой силой и деятельностью, как в американской республике.
Вот результат, который не только велик, но и величествен! Для англичан он должен быть неизмеримо интереснее и важнее, чем для остального человечества, в силу исключительности того отношения, в котором они стояли к будущему государству. Во всей истории мы не находим другого примера, где бы два государства находились между собою в таких отношениях, в каких находились Англия и Соединенные Штаты. Правда, южноамериканские республики тем же путем выросли из Испании, а Бразилия – из Португалии; но, во-первых, эти новые государства нельзя назвать великими, и, во-вторых, как я уже сказал, население их обладает значительной долей индейской крови. К тому же великое государство, возникшее из Англии, с населением преимущественно английской крови, не было отделено от метрополии таким пространством, каким отделялись от Испании и Португалии их прежние колонии; обратно, ввиду крайне широкого расселения и повсеместной деятельности обоих народов, новое государство постоянно близко к Англии, постоянно соприкасается с нею, оказывает на нее сильное влияние необычностью своей судьбы и новизной своих начинаний, испытывая при этом само во многих отношениях влияние Англии, особенно через посредство ее литературы.
Вообще нет более значительного вопроса, чем вопрос о взаимном влиянии этих двух ветвей английской расы. От решения его зависит будущность планеты. А если это так, то что же можно сказать об отношении английских историков к американской революции? Можно подумать, что важность этого события для английской и всеобщей истории ими совершенно не оценена. Они спешат отделаться от него. Они входят в прения о праве облагать пошлиной и живо рисуют красноречие Чатама; описывают войну, извиняясь за поражения, преувеличивая успехи англичан; рассказывают несколько анекдотов о Франклине, отдают должное заслугам Вашингтона и затем бросают вопрос, как будто он им надоел и вовсе их не интересует. Самый незначительный эпизод из нескончаемой распри со Стюартами занял бы их гораздо дольше, приключение принца Чарльза-Эдуарда воспламенило бы их воображение, вопрос об авторе писем Юниуса[94] возбудил бы их любопытство. Неужели в этом нет чего-то ненормального? Очевидно, мы еще не знаем, что такое история; очевидно, то, что мы называли до сих пор историей, – не история и должно называться другим именем – биографией или партийной политикой. Я утверждаю, что история – не конституционное законодательство, не парламентские поединки, не биография великих мужей; и она даже не нравственная философия. Она имеет дело с государствами, она исследует их возникновение, развитие и взаимное влияние, обсуждает причины, ведущие к их благоденствию или падению.
Однако в этих лекциях о расширении Англии американская революция должна рассматриваться только с одной стороны – как конец первой попытки Англии к расширению. Подобно мыльному пузырю, Великая Британия расширялась быстро и затем лопнула. С тех пор она снова расширяется – удастся ли ей избежать второй половины силлогизма?
Постоянно повторяют, как нечто неоспоримое, что отпадение американских колоний было неизбежным следствием естественного закона, требующего, чтобы всякая колония, достигнув зрелости, стремилась сделаться самостоятельной. Исходя из этого утверждения, государственных людей времен Георга II – Джорджа Гренвиля (Grenville), Чарльза Тауншенда (Townshend) и лорда Норта – признают виновными только в ускорении неизбежной катастрофы. По этому поводу мне почти ничего не остается прибавить к сказанному ранее. Пока существует взгляд на колонию, как на поместье, из которого метрополия должна извлекать денежные выгоды, ее приверженность к метрополии будет крайне сомнительна, и она постарается освободиться при первой возможности. Сравнение колонии с возмужавшим сыном при этом условии и наполовину не выражает истинного характера отношений. При такой системе с колонией обращаются не как с сыном, а как с рабом, и колония сбросит с себя иго не с благодарностью, как взрослый сын, но с чувством негодования, которое никогда ее не покинет. В этом смысле отпадение американских колоний было неизбежно только благодаря старой колониальной системе.
Я объяснил, как трудно было в то время заменить ее лучшей системой, и однако такая лучшая система существует и в настоящее время может быть применима. Теперь не существуют те основания, благодаря которым колония после нескольких лет связи с метрополией должна желать эмансипации. Даже и прежде практика английского колониального правления была гораздо лучше теории. Мы не должны думать, что колонии возмутились против английского правления как такового. Правление, против которого они восстали, было правлением Георга III в первые двадцать пять лет его царствования; даже во внутренних делах правительство этой эпохи отличалось своей узостью и упорством. Недовольство замечалось не только в колониях, но и в самой Англии. Мансфильд (Mansfeld),[95] с одной стороны, а Гренвиль (Grenville) – с другой, как раз в эту эпоху создали то толкование английской свободы, которое лишало ее всякой реальности. Эта вновь придуманная система (а отнюдь не обычная система) английского управления повсюду равно возбуждала недовольство и вызвала одновременно агитацию Вилькса в Англии и колониальное волнение за Атлантическим океаном. Разница в том, что недовольные в Англии не имели под руками того простого средства, каким располагали недовольные в Массачусетсе и Виргинии: они не могли свергнуть правительство, которое их оскорбляло.
Итак, наши колонии возмутились не просто потому, что они были колониями, а потому, что они были колониями под управлением старой колониальной системы, которая в тот момент применялась особенно узко и педантично. Вместе с тем я сейчас покажу, что всякий вывод, сделанный на основании истории этих колоний, может быть оспариваем в силу того, что эти колонии не были нормальными колониями и отличались совсем особенным характером.
По новейшим представлениям колония являет собою общество, образовавшееся от избытка населения в другом обществе. Перенаселение и бедность в одной стране создают выселение в другую страну, обладающую большей вместимостью и более богатую. Я объяснял уже, что наши американские колонии были иного характера. С одной стороны, в Англии[96] того времени не было перенаселения; с другой – восточный берег Атлантического океана, где эти колонии были основаны, не привлекал своим особенным богатством. Это не Эльдорадо, не Потози; северная его часть даже бедна. Почему же там селились колонисты? Ими управляет один преобладающий мотив – тот самый мотив, который Моисей выставлял фараону, настаивая на исходе израильтян: «Нам нужно отправиться в пустыню на семь дней пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». Их побуждала религия. Они желали жить по вере и совершать обряды, которые не были терпимы в Англии. Правда, не везде было так, и Виргиния была населена последователями англиканской церкви; но колонисты Новой Англии были пуритане, Пенсильвании – квакеры, Мериленда – католики; о Южной Каролине мы читаем,[97] что «последователи англиканской церкви не составляли и трети жителей»; «множество учителей и истолкователей всех родов и всяких вероисповеданий обучали различным религиозным мнениям». Таким образом, «эмиграция» той эпохи была настоящим исходом, религиозной эмиграцией. В этом-то и заключается вся разница. Возможно, конечно, что и эмигрант, покидающий родину с исключительной целью составить состояние, может со временем забыть ее, но это маловероятно; разлука делает родину дороже, расстояние идеализирует ее; составив состояние, он захочет вернуться, пожелает быть погребенным в родной земле. Есть только одна сила, которая может разрушить это очарование родины, и сила эта – религия. Религия может превратить переселение в исход. Те, которые покидают Трою, унося своих богов, могут сопротивляться чувству, влекущему их на родину; они с уверенностью могут строить свой Лавиниум, Альбу и даже Рим на новой, дотоле не освященной почве. Ибо, я постоянно держусь этого мнения, религия является великим, созидающим государства началом. Американские колонисты могли создать новое государство потому, что они уже составляли церковь; церковь – душа государства; где есть церковь, там со временем вырастает и государство; но если вы видите государство, которое не есть в известном смысле церковь, то знайте, что оно не будет существовать долго.
В этом отношении американские колонии были крайне своеобразны. Возможно ли поэтому, основываясь на их истории, выводить заключение о колониях вообще? Как будете вы делать выводы о современных колониях Англии, возникших позднее? В старых колониях с самого начала жил дух, побуждавший отделиться от Англии, жило начало взаимного притяжения, сплачивающее в новый, обособленный от Англии союз. Я уже заметил, как рано проявился этот дух в колониях Новой Англии. Нет сомнения, что он не был присущ всем колониям. Его не было в Виргинии; однако когда искра недовольства, раздутая в пожар педантизмом Гренвиля и лорда Норта, вспыхнула пламенем, Виргиния примкнула к Новой Англии, и дух отцов-пилигримов превратил обиженных колонистов в новую нацию.
Видим ли мы что-либо подобное в современных колониях Англии? Они не созданы религиозным исходом; основатели их не унесли с собою богов. Напротив, они отправлялись в пустыню чистого материализма, в земли, где не было ничего освященного, ничего идеального. Где же быть их богам, как не на родине? Если у них при этом хватит смелости противопоставить себя как основателей нового государства, если у них хватит решимости порвать с английской историей, со всеми традициями и воспоминаниями о том острове, где отцы их прожили в течение тысячи лет, то мы должны будем признать, что Англия – это пустое имя, обладающее ничтожно малой притягательной силой.
Мне кажется крупной ошибкой выводить из американской революции, что все колонии падают с дерева, когда созревают: этот вывод следует распространять только на колонии, населенные религиозными изгнанниками и притом находящиеся под управлением дурной системы. Равным образом мы делаем ложный вывод из факта роста благоденствия Американских Штатов со времени их освобождения. Едва ли существовало когда-нибудь другое общество, которое пользовалось бы таким счастьем, и притом так мало развращающим счастьем, как Соединенные Штаты. Но причины этого счастья – не политического характера; они коренятся гораздо глубже, чем политические учреждения страны. Если бы философа попросили дать рецепт для создания наибольшей суммы чистого счастья в данном обществе, он сказал бы: «Возьмите людей, которых характеры образовывались в течение многих поколений под влиянием разумной свободы, серьезной религии и усиленного труда, и поместите этих людей на обширной территории, где их не коснулось бы гнетущее утеснение и где благоденствие было бы достижимо для всех. Бедствия дают мудрость и силу, но вместе с тем причиняют страдание; благополучие приносит удовольствие, но ослабляет характер. Бедствие, за которым следует благоденствие, – вот рецепт здорового счастья, ибо при этом достигается удовольствие без быстрого ослабления энергии». Рецепт этот становится еще действеннее, если достигаемое счастье не дается слишком легко и безусловно. Таковы именно условия, создавшие благоденствие американцев. Характеры, образовавшиеся в умеренном поясе под влиянием тевтонской свободы и протестантской религии, благоденствие, дарованное щедро, но в меру, и под условием не только труда, но и приложения ума и способностей.
Этот рецепт создаст счастье, но только на время, – пока население невелико по отношению к территории. Долго думали, что Америка обладает каким-то волшебным талисманом, позволяющим ей избегать всех зол Европы. Талисман был очень прост: благоприятные условия жизни и сильные характеры. В последние годы сами американцы пробудились от грезы, что страна их никогда не будет запятнана преступлениями и безумием Европы. У них нет врагов, но у них была война таких же гигантских размеров, как и их территория, – война, которая по вычислению Уэльса (Wells) стоила за четыре года миллион жизней и почти два биллиона фунтов стерлингов; у них не было королей, но было совершено цареубийство. Слава и величие Соединенных Штатов стоят теперь выше, чем когда-либо, но претензии их незаметно понизились. Теперь о Соединенных Штатах говорят, что никогда не существовало такого могущественного государства, что они сделались или сделаются господствующей державой мира; другими словами, Соединенные Штаты ставят на одну доску с другими государствами, хотя и дают им первое место. То, чем они гордились прежде, было нечто совсем иное: они считались единственными в своем роде, они признавались наглядным доказательством того, что все государства Европы, с их хваленой силой, надменными правительствами, войнами и долгами, находятся на ложном пути; что счастье и добродетель держатся более скромной стези, что лучший жребий для государства – не быть великим в истории или даже вовсе не иметь никакой истории.
Счастье Америки, таким образом, в значительной мере не есть следствие ее отпадения. Спрашивается, обязана ли она отпадению своим громадным размерам?
Обозревая стадии прогресса Америки, можно легко заметить, что судьба замечательно благоприятствовала ей во многих отношениях. Представьте себе, например, что первоначальные колонии вместо того, чтобы составлять сплоченную группу вдоль берега, были бы разбросаны по всему материку и отделены друг от друга поселениями, принадлежащими другим европейским державам. Такое расположение колоний сделало бы невозможным рост союза. Или представьте себе, что французская колония Луизиана вместо того, чтобы погибнуть, развивалась бы неуклонно в течение всех ста лет, протекших от ее основания до американской революции. Эта колония обнимала долину Миссисипи, и если бы дела ее шли успешно, она могла легко разрастись в сильное французское государство, сплоченное в одно целое протяжением этой могучей реки. А что случилось бы, если бы Луизиана перешла в руки англичан! Наполеон, продав Луизиану американским штатам (1803), дал им возможность развиться в ту исполинскую державу, какой мы видим их в настоящее время.
Как бы то ни было, но Соединенным Штатам удалось найти решение той великой проблемы расширения, перед решением которой спасовали одна за другой все пять западных европейских держав. Мы видели, что все они первоначально отправлялись из понятия о беспредельном распространении государства, что затем почти одновременно они покинули это понятие, заменив его противоположным представлением, породившим старую колониальную систему. Мы видели, что они обращались с колониями, как с государственными владениями, доход с которых следует обеспечить за населением метрополии. Мы вместе с тем видели, что такая система не могла быть прочной, что из-за нее проглядывало убеждение в невозможности удержать власть над колониями навсегда. Мы видели, что под влиянием этих и других причин в Новом Свете погибала одна империя за другой. В том числе пала и первая английская империя. Англия создала с тех пор новую и, управляя ею, тщательно старалась избежать прежней ошибки. Старая колониальная система отжила, но на смену ей не явилось еще ясной, обдуманной системы. Ложная теория оставлена, но где же истинная теория? Представляется только одна альтернатива. Если колонии не суть владения Англии (как это прежде понималось), то они должны быть частью Англии; англичане должны глубоко проникнуться этим воззрением. Они не должны более говорить, что Англия есть остров, расположенный на северо-запад от Европы, что площадь ее равняется 120 000 кв. миль, а население тридцати с лишним миллионам. Они не должны уже считать, что переселенцы, отправляясь в колонии, оставляют Англию и утрачиваются для нее. Они не должны более полагать, что история Англии есть история парламента, заседающего в Вестминстерском дворце, и что дела, которые не рассматриваются в нем, не могут составлять части английской истории. Когда англичане привыкнут смотреть на империю, как на одно целое, и станут называть всю ее Англией, тогда явятся на земном шаре вторые Соединенные Штаты. Это будет великий гомогенный народ одной крови, одного языка, одной религии и одних законов – народ, рассеянный по беспредельному пространству. Он будет связан крепкими нравственными узами, хотя почти не будет иметь конституции или однообразной стройной системы, способной выдержать какой угодно тяжкий удар. Если вы склонны сомневаться в том, что возможно создать систему, которая сплачивала бы столь отдаленные друг от друга общины, то вспомните историю Северо-Американских Соединенных Штатов, ибо у них есть такая система. Они разрешили задачу. Они доказали, что в настоящий век возможны политические союзы гораздо больших размеров, чем прежние. Нет сомнения, что проблема английской империи имеет свои трудности, и трудности громадные. Но наибольшая из этих трудностей есть та, которую англичане сами себе создают. Это ложно предвзятая мысль, которая постоянно вносится в этот вопрос, – убеждение, что проблема эта неразрешима, что ничего подобного не было создано и не будет создано; в основе этого лежит неправильное толкование американской революции. На основании этой революции мы выводим, что отдаленные колонии рано или поздно отпадают от метрополии, тогда как мы имеем право выводить только то, что колонии отделяются тогда, когда находятся под управлением старой колониальной системы.
Мы выводим, что население, растекаясь из своего отечества в страны по ту сторону океана, должно необходимо порвать те узы, которые его привязывают к родному дому, должно создать себе новые интересы и составить ядро нового государства, а мы имеем право только заключить, что изгнанники, гонимые через океан религиозной исключительностью и уносящие с собою сильные религиозные убеждения особого типа, могут составить ядро нового государства. Это замечание находит себе несколько неожиданное подтверждение в истории отпадения Южной и Центральной Америки от Испании и Португалии. Правда, в этом случае по обе стороны океана господствовал католицизм, но Гервинус замечает, что, в сущности, в этих странах процветал иезуитизм и что подавление иезуитов дало населению тот нравственный толчок, который, по его мнению, и послужил одной из главных причин разрыва.
Наконец, величие, достигнутое Соединенными Штатами после их отделения, побуждает нас признавать, что раздробление чрезмерно обширных государств целесообразно. Но ведь могущество Соединенных Штатов служит самым лучшим доказательством того, что государство может быть чрезвычайно обширным и тем не менее пользоваться благоденствием. Штаты представляют собою прекрасный пример системы, при которой неопределенное число провинций может соединиться в тесный союз, не испытывая тех неудобств, которые встречались в нашей первой империи. Следовательно, они служат явным доказательством, что эти неудобства не являются нераздельным атрибутом обширной империи, а суть принадлежность старой колониальной системы.
Расширение Англии происходило дважды. До сих пор мы рассматривали только расширение английской нации и английского государства посредством колоний; теперь нам предстоит рассмотреть то замечательное расширение, следствием которого было подчинение английскому владычеству Индии с ее громадным населением.
Лекция 9 История и политика
Над историками часто подсмеиваются за то, что они забавляются невероятными предположениями и догадками о том, что было бы, если бы то или другое событие имело иной исход. «Как это поразительно бесцельно!» – восклицают обыкновенно. Но надо иметь в виду, что подобные предположения делаются не ради реальной цели, а ради теоретического выяснения, и я лично держусь того мнения, что историкам следовало бы гораздо чаще прибегать к этому приему, чем они это делают. Ошибочно думать, что великие общественные события, в силу своих грандиозных размеров, больше подчинены роковой необходимости, чем обычные события частной жизни; подобная ложная идея порабощает суждение. Мы не можем ни составить понятия о великой национальной политике, ни оценить ее, если отказываемся даже вообразить возможность какой-либо другой политики. Это замечание особенно применимо к такому обширному и сложному явлению, как расширение Англии. Подумайте на минуту о том, что было бы, если бы никогда не существовало отношений между Англией и Новым Светом! Весь ход истории Англии со времени царствования королевы Елизаветы был бы совершенно иной. Испанская Армада не явилась бы к берегам Англии, и не было бы ни Дрека, ни Хокинза, чтобы противостоять ей; английский флот не возник бы; Блек не воевал бы с Ван-Тромпом и де-Рюйтером; не было бы ни войны Долгого парламента и Карла II с Голландией, ни войны Кромвеля с Испанией; Англия не создала бы того капитала, который дал ей возможность противостоять Людовику XIV и, наконец, унизить его; не возникли бы великие коммерческие корпорации, послужившие к уравновешению земельных интересов и вызвавшие реформу государственного строя; Англия не стояла бы во главе наций во время царствования королевы Анны, и ее восемнадцатое столетие было бы совершенно иным. Одним словом, все было бы совершенно иначе, чем теперь! И вы можете считать подобное рассуждение смешным в силу его бесплодности!
А между тем это предположение имеет и крайне важное практическое значение, и вот почему: все громадное расширение Англии, все те удивительные приращения, которые концентрировались вокруг первоначальной Англии за эти три века, еще не настолько инкорпорированы ею в представлении англичан, чтобы исключить мысль о возможности сбросить все эти приобретения и сделать родину опять простой Англией времен королевы Елизаветы. Рост английской империи является в некотором смысле естественным: Великая Британия, сравнительно со старой Англией, может казаться взрослым великаном, развившимся из крепкого мальчика, но разница в том, что взрослый человек не может думать и не думает о том, чтобы опять сделаться мальчиком, тогда как Англия может взвешивать целесообразность своего освобождения от колоний и своего удаления из Индии. Англичане фактически смотрят на Канаду не так, как на Кент, на Новую Шотландию не так, как на Шотландию, на Новый Южный Уэльс не так, как на Уэльс, на Индию, не так, как на Ирландию. Они могут без труда вообразить колонии отделенными от Англии, а если бы пожелали, то легко могли бы и осуществить такое отделение. Многие авторитеты даже советуют его осуществление. Поэтому мы с вами должны прийти к определенному мнению о расширении Англии в его принципиальной форме. Не есть ли это временное явление, подобное тому, каким оказалось расширение Испании? Не было ли оно даже ошибкой с самого начала, продуктом ложно направленной энергии? Нации могут ошибаться и ошибаются. Они часто руководятся слепой страстью или инстинктом, а между тем в самой природе вещей нет основания, в силу которого их заблуждения не могут продолжаться целые века и завести их безгранично далеко. Следовательно, возможно допустить, что Англия должна была бы с самого начала противостоять соблазнам Нового Света и остаться тем самодовлеющим островом, каким она была во времена Шекспира – «лебединым гнездом на большом пруду»; или по крайней мере, что для нее было бы счастьем, если бы она лишилась своей империи, подобно Франции, или, наконец, лишившись своей первой колониальной империи, она, быть может, не должна была основывать новой?
Но если это действительно так, или даже если только возможно, что это так, то какая громадная, сложная и вместе с тем важная задача предстоит теперь Англии! Если она действительно отступила от верного пути, или если ей настало время повернуть на совершенно иной путь, то как колоссально значение этого факта! Он несравненно важнее всех тех вопросов домашней политики, которые поглощают так много общественного внимания. Многие уклоняются от размышления на эти темы, приводя в оправдание очень шаткий довод; они говорят: «Будем заниматься нашими собственными делами, не заботясь об отдаленных странах, которые для нас непонятны и с которыми, к несчастью, мы оказались навеки связанными». Но ведь если это действительно было несчастьем, если империя слишком обширна для Англии, то вопрос делается еще более настоятельным и неотложным, ибо в таком случае, чем скорее Англия решит освободиться от обузы, которая, несомненно, навлечет на нее бедствия, тем лучше; англичане должны теперь уже всецело посвятить себя обширной и трудной задаче уничтожения своей империи, пока задача эта не будет окончена. Итак, во всяком случае, перед Англией стоит самый громадный из всех вопросов политики, ибо, если ее империя способна к дальнейшему развитию, ей предстоит решить, какое направление следует дать этому развитию; если же она является вредной обузой, то предстоит еще не менее трудная задача – изыскать путь освобождения от нее. В том и другом случае мы имеем дело с такими обширными территориями и с населениями, возрастающими так быстро, что судьба и тех, и других имеет беспредельно важное значение.
Я сказал, что это политический вопрос; но разве он не является в то же время вопросом историческим? Да! Это действительно исторический вопрос, почему я и избрал его предметом своих лекций: он лучше всякого другого иллюстрирует мой взгляд на связь между историей и политикой. Конечная цель настоящих лекций состоит в том, чтобы установить эту основную связь и показать, что политика и история суть лишь две стороны одной и той же науки. Существует вульгарное понятие о политике, ограничивающее ее борьбой интересов и партий; существует род нарядной истории, стремящейся лишь к буквальному воспроизведению прошедшего и создающей восхитительные книги – нечто среднее между поэзией и прозой. Подобное извращение и политики, и истории, по моему мнению, является следствием неестественного разъединения этих предметов, принадлежащих друг другу. Политика вульгарна, если она не облагорожена историей; история обесцвечивается до беллетристики, если теряет из виду свое отношение к практической политике. Желая доказать это, я счел целесообразным избрать для своих лекций такой предмет, который явно принадлежал бы и к истории, и к политике. Таковой именно является Великая Британия. Разве для каждого англичанина есть более важные вопросы политики, чем вопросы о судьбе Индии или об отношениях между Англией и ее колониями? Решение же этих вопросов нуждается в помощи истории. В этих вопросах нельзя, как в делах внутренней политики по вопросам об избирательном праве или о налогах, полагаться на нравственное чутье избирателей и здравый их смысл. Мы не можем предполагать, например, что народ способен судить об индийских делах без специального их изучения, ибо здесь слишком ясно, что индийские расы чрезвычайно далеки от англичан по своему физическому, умственному и нравственному состоянию. Здесь мы ясно видим, насколько политика погружена в историю. Но, пользуясь избранным сюжетом, мне еще больше хочется доказать вам, что история, в свою очередь, погружена в политику. Основание Индийской империи представляет собою событие сравнительно недавнее. Если мы не будем принимать в расчет утраченных колоний и будем иметь в виду лишь ту империю, которой Англия обладает в настоящее время, то заметим, что ее империя основана почти всецело в царствование Георга I (1714–1727) и Георга II (1727–1760). А это и есть тот самый период, которого историки избегают, считая его слишком близким к нашему времени, период, которым классическая история пренебрегает и который вследствие этого укладывается в общественном сознании, как бедный событиями, как эпоха однообразного благосостояния и умеренного прогресса. Я уже не раз высказывал сожаление по поводу того, что историки становятся вялы по мере приближения к этому периоду, что их описания лишаются яркости, в силу чего у читателя слагается убеждение, что изучение английской истории не ведет ни к чему, что это повесть без нравоучения, похожая на роман Вальтер Скотта «Heart of Midlothian», последний том которого скучен и кажется лишним. Вы теперь видите, как, с моей точки зрения, можно исправить эту неправильность. Я предсказываю в будущем могучие события – события, о которых, как о предстоящих, мы еще ничего не знаем, кроме того, что они должны совершиться и что они должны быть грандиозны. События эти будут заключаться в том или другом развитии отношений Англии к ее колониям и также ее отношений к Индии. Я говорю о развитии отношений, ибо, очевидно, настоящая фаза их не есть окончательная. Но каково будет это развитие, мы еще не можем знать. Произойдет ли великий разрыв? Сделаются ли Канада и Австралия независимыми государствами? Откажется ли Англия от Индии, и «вице-король и его совет» будет сменен туземным правительством, непредставимым в настоящее время? Или, быть может, произойдет нечто противоположное, и Великая Британия достигнет более высокой формы организации? Быть может, разделенная столькими океанами, английская раса создаст, опираясь на все новейшие научные изобретения, новую организацию, похожую на организацию Соединенных Штатов, при которой полная свобода и прочный союз совместимы с безграничным территориальным расширением? Не удастся ли также разрешить ей еще более трудную проблему: не найдет ли она путь к удовлетворительному управлению Индией, не создаст ли modus vivendi для таких крайних противоположностей, каковы правящая раса англичан в стране, недоступной для колонизации, и громадное население азиатов с их незапамятными азиатскими традициями и азиатским образом жизни? Мы не знаем, как будут решены эти задачи, но можем быть уверены, что так или иначе они будут решены; мы можем также быть уверены, судя по характеру задач, что решение их будет иметь бесконечно важное значение. Вот ближайшие события, к которым направляется Англия, и мы не должны думать, как думает, по-видимому, большинство историков, что в истории Англии прекратилось всякое развитие и что Англия достигла неизменного состояния безопасности и благоденствия. Отнюдь нет! Движение может быть менее заметным, потому что происходит в гораздо больших массах, но зато изменения и борьба, когда они наступят, – а наступят они неизбежно, – будут также больших размеров. И когда придет кризис, он бросит яркий свет назад, на прошлую историю Англии. Все изумительное расширение, происходившее со времени Георга II, расширение, о котором мы читаем с чем-то вроде растерянного изумления, будет тогда производить на нас совершенно другое впечатление. В настоящее время, когда мы смотрим на безграничное пространство Канады и Австралии, предоставленное английской расе, мы поражаемся, но не можем составить определенного мнения. Когда мы читаем о завоевании Индии, о том, как двести миллионов азиатского народа были покорены английской торговой компанией, мы снова поражаемся и восхищаемся, но составить определенного мнения не можем. Все представляется таким странным и аномальным, что почти перестает интересовать. Мы не знаем, как судить и что думать об этом. Тогда все будет иначе; время покажет, что во всем этом успехе было действительно прочно и что – непрочно. Тогда мы будем знать, что думать о великой борьбе восемнадцатого столетия из-за обладания Новым Светом, когда события покажут, что создано ею: великая прочная мировая держава или эфемерная торговая империя, подобная империи старой Испании, которая возвысилась только для того, чтобы пасть; события покажут, установится ли в Индии прочная связь между западом и востоком, следствием которой должны явиться величайшие результаты, или Клайв и Гестингс положили начало чудовищному предприятию, которое после столетия внешнего успеха окончилось неудачей.
Уроки времени учат равно всех. Но должна же история, если она имеет какую-нибудь ценность, хотя до некоторой степени предугадывать уроки времени. Мы все, без сомнения, задним умом крепки, но история для того и изучается, чтобы, по возможности, предвидеть события. Почему же нам не составить теперь мнения о дальнейшей судьбе английских колоний и индийской империи? Судьба эта, мы можем быть в этом уверены, не будет произвольна. Она явится как результат действия тех законов, открытие которых составляет предмет политической науки. Когда события совершатся, это обнаружится вполне ясно; тогда для всех будет более или менее очевидно, что то, что случилось, не могло не случиться. Если это так, то люди, изучающие политическую науку, должны предвидеть, по крайней мере, в общих очертаниях, события, пока они еще скрыты будущим.
Не бросают ли подобные размышления новый свет на недавнюю историю Англии? Я показал вам, какой вступала Англия в конце шестнадцатого столетия на новый для нее путь; я проследил стадии ее движения по этому пути в семнадцатом столетии и те поразительные результаты, которые сказались в восемнадцатом. Я указал на то, что и современное ее положение провизорно и должно в скором времени подвергнуться значительному превращению. Из всего этого следует, что новейшая английская история ставит перед ныне живущими англичанами великую проблему – одну из величайших проблем в политической науке. А отсюда следует само собою, что история переходит в политику. Я изображаю перед вами царствования Георга I и Георга II не как завершившийся период старинных манер и мод, который так занятно воскрешать в воображении, но как запас материала, которым англичане должны пользоваться при решении величайшей и неотложнейшей политической проблемы. Для того, чтобы понять, что ожидает английскую империю, мы должны изучить ее природу, пружины, поддерживающие ее, корни, которыми питается ее жизнь; а изучать ее природу – значит изучать ее историю, в особенности историю ее возникновения.
Фешенебельные писатели уже давно заявляют, что история сделалась слишком торжественной и напыщенной, что она должна бы больше заниматься мелочными, обыденными, живыми подробностями, одним словом, что ее следует писать в стиле романа. Я еще раз на минуту остановлюсь, чтобы высказать вам свое мнение о подобном взгляде, преобладающем в последнее время. Я не отрицаю той критики, на которой он основан; я вполне признаю, что история не должна быть торжественной и напыщенной; признаю и то, что она долгое время была таковой. Но торжественность – это одно, а серьезность – нечто совсем другое. А между тем представители этой школы из того, что история не должна быть торжественной, заключают, что она не должна быть и серьезной. Они отрицают, что история может установить какие-либо стойкие и важные истины, и не представляют себе, чтобы из нее могли когда-либо возникнуть великие открытия. Они знают только, что чрезвычайно интересно и забавно снова вызывать к жизни прошлое, видеть наших предков в их костюмах и повседневной жизни и ловить их в самый момент совершения ими их славных деяний. Эта теория их с чистосердечной откровенностью выражена Теккереем в его вступительной лекции о писателе Стиле (Steele); слова его, без сомнения, известны почти всем, и, я думаю, почти все находят их чрезвычайно меткими и верными.
Он говорит: «Чего ищем мы, изучая историю прошлого века? Желаем ли мы изучить политические дела и характеры передовых общественных людей? Хотим ли мы познакомиться с жизнью и бытом того времени? Если мы имеем первую, более серьезную цель, то где найдем мы истину, и кто может быть уверен, что он нашел ее?» Затем он говорит, что, по его мнению, те торжественные рассказы об общественных делах, какие мы находим в исторических книгах, все бессмысленны и не выдерживают скептического исследования. Он приводит в пример сочинение Свифта «Поведение союзников» («Conduct of the Allies») и сочинение Кокса (Сохе) «Жизнь Мальборо» («Life of Marlborough»); из этого вы можете заключить, по каким сочинениям старого покроя он составил понятие о том, что такое история. Но далее, если политическая история – бессмыслица, то чем же должны мы заменить ее?
Теккерей говорит, что мы должны «ознакомиться с жизнью и бытом эпохи». Что же это значит? Он объясняет это далее: «Когда мы читаем эти прелестные тома Татлера (Tatler) и Спектетора (Spectator),[98] прошлый век возвращается, Англия наших предков вновь оживает. Майский шест опять высится в улице Стрэнд в Лондоне, церкви наполнены ежедневными богомольцами, щеголи толпятся в кофейнях, высший класс отправляется на придворный выход, дамы толпятся в галантерейных лавках, носильщики толкаются на улицах, лакеи бегут перед каретами с факелами в руках или дерутся около театральных дверей. Я говорю, что повесть содержит в себе больше истины, чем целый том, претендующий на голую правду. Из книги повестей я получаю представление о жизни того времени: она рисует нравы, движение, одежду, удовольствия, смех и смешные стороны общества; старые времена вновь живут, я путешествую по старой Англии. Может ли самый тяжеловесный историк дать мне больше?»
Что так думает великий романист – это вполне естественно. Известный инженер Бриндли, будучи спрошен, с какой целью, по его мнению, были созданы реки, отвечал без малейшего колебания: «Чтобы питать каналы». Теккерей на вопрос, зачем жила королева Анна и зачем при герцоге Мальборо англичане воевали с французами, откровенно отвечает: «Для того чтобы я мог написать мой прелестный роман, Эзмонд». Без сомнения, он думал так; но как мог он, обладая острым чувством юмора, решиться высказать это? Как видите, он апеллирует к нашему скептицизму. Он не отрицает, что история могла бы иметь важное значение, если бы она была верна, но он говорит, что она неверна; он не верит ни единому ее слову. Прекрасно. Но что в таком случае мы должны делать? Должны ли мы следовать указанному им пути? Должны ли мы отбросить историю, как серьезную науку, и смотреть на нее, как на приятную забаву; отвернуться от европейских войн и наблюдать дам, толпящихся в галантерейных лавках; перестать изучать характер государственного строя наших предков и постараться узнать, какие блюда заказывали они к обеду? Я утверждаю, что есть другой и несравненно лучший путь, ведущий нас в совершенно ином направлении. Если история долгое время была ложна и неудовлетворительна (а она действительно была такой), то исправьте ее, дополните ее, сделайте ее истинной и достоверной. Нет никакой причины, почему бы это не могло быть сделано; больше того, для значительной части истории это уже сделано; в недоделанном виде остаются лишь те новейшие периоды, на которые ученые не обращали внимания. По-видимому, в обществе мало знают, как сильно за последние годы было преобразовано изучение истории. Те обвинения в неверности, напыщенности и пустой условности, какие принято делать истории, имели прежде основание, но в настоящее время они в значительной мере неосновательны. В большей своей части история написана заново, в большей своей части истинна и представляет собою груду материала, приготовленного для политической науки, из которой эта последняя должна создать политическую доктрину. Она утратила свой прежний напыщенный и торжественный характер, но при этом осталась серьезна; она стала гораздо серьезнее, чем была когда-либо. Итак, перед вами две альтернативы для выбора: вы можете или перестать, как советует вам Теккерей, смотреть на историю серьезно, или смотреть на нее значительно серьезнее, чем смотрели раньше. Вы можете принять его мнение, то есть согласиться, что найти истину в истории невозможно, и потому вовсе перестать ее искать или, обратно, можете прийти к убеждению, что найти истину трудно, и потому искать ее с еще большим прилежанием и большей настойчивостью.
Заметьте, раз мы допустим, что историческая истина достижима, то не может быть дальнейшего спора об ее чрезвычайной важности. Она имеет дело с самыми обширными и важными фактами: с причинами падения и роста империй, с войной и миром, со страданиями и счастьем миллионов людей. Вот почему я объединяю историю и политику. Я говорю вам, что, когда вы изучаете историю Англии, вы изучаете не только ее прошлое, но и ее будущее. Благосостояние страны и все интересы ее граждан зависят от изучения ее истории. Я стараюсь доказать вам это, изображая расширение Англии. Я показываю вам, что теперь назревает для решения вопрос громадной важности – вопрос, от которого зависит почти вся будущность Англии. По своей обширности этот вопрос превосходит все другие, какие вам придется обсуждать в политической жизни. И что же? Он является всецело историческим вопросом. Расследование его требует не некоторого, а полного знания новой истории Англии, ибо, как я уже указывал, Англия в течение последних трех столетий была всецело занята своим расширением в Великую Британию. Поэтому, если вы хотите познать общий очерк будущности Великой Британии, вы должны изучить почти всю историю Англии за три последние столетия. Начните только эти расследования, только попробуйте вдуматься в колониальный и индийский вопрос, – и вы заметите, что вопрос за вопросом увлекают вас дальше, что от дел одного министерства вам приходится переходить к делам другого, пока вы не убедитесь, что эти два вопроса создают направление всей новой истории Англии. Эта точка зрения – не только один из способов объединить английскую историю последнего времени, но это лучший способ ее объединения, ибо вся суть исторического изучения заключается в том, чтобы направить изучение на истинную проблему. Пока история останется для вас хронологическим рассказом, до тех пор вы будете коснеть в старой азбучной колее, ведущей не к достоверному знанию, а к напыщенному, условному вымыслу, который наскучил всем серьезным людям. Встряхнитесь от усыпляющего обаяния рассказа; задавайте себе вопросы, ставьте перед собою проблемы, и вы сразу станете на новую точку зрения, сделаетесь исследователями, отбросите напыщенность и отнесетесь к истории серьезно. Современная история Англии разбивается на две великие проблемы: одна касается колоний, другая – Индии.
Все те соображения, которые делают изучение истории необходимым во всех странах, где в управлении участвует народ, все они имеют для Англии большее значение, чем для всякой другой страны, ибо громадное распространение английской расы чрезвычайно затрудняет ее политику. Я считаю, что для всякой другой страны – для Франции, Германии, Соединенных Штатов и для всех остальных стран, за исключением, быть может, одной России, – задачи, подлежащие решению, являются простыми по сравнению с той, какая выпала на долю Англии. Большинство государств суть тела компактные и прочные, почти столь же компактные, несмотря на громадное превосходство в размерах, как независимые города древности. Всякое, сделанное на них нападение будет нападением на их собственную страну, а потому армии их состоят, так сказать, из граждан-солдат. Обладание отдаленными владениями нарушает эту компактность и затрудняет и понимание, и защиту национального интереса. Разбросанность колоний облегчает для неприятеля нападение на Англию. Находясь в войне с Соединенными Штатами, Англия чувствует эту войну в Канаде; воюя с Россией – в Афганистане. Но это внешнее затруднение не так серьезно, как внутренние затруднения, неизбежные для разбросанной империи. Как придать нравственное единство обширным странам, разделенным целой половиной земного шара, будь они даже населены главным образом одной нацией? Это уже достаточно серьезный вопрос. Но он не составляет еще главной заботы Англии: кроме колоний, у нее на руках Индия; здесь уже нет ни общности расы, ни общности религии; здесь почти всецело отсутствует то прочное основание, какое дают иммиграция и колонизация. Здесь перед Англией новая проблема, не менее обширная и трудная, и гораздо более безнадежная, чем проблема колониальная. Каждая из этих проблем сама по себе вполне достаточна для нации; а когда обе задачи выпадут на долю одной нации, и к тому же одновременно, то это уже слишком много.
Подумайте, какое одуряющее действие должны производить на общественное настроение эти два противоположных вопроса. Колонии и Индия представляют собою две противоположные крайности. Те принципы политики, которые применимы к первым, совершенно неприменимы ко второй. В колониях все отлито заново: там самая прогрессивная раса поставлена в условия, наиболее благоприятные для прогресса; там нет прошлого, а будущее беспредельно; правление и учреждения – все ультраанглийское; там – свобода, промышленность, изобретения, нововведения и уже теперь полное спокойствие. Если бы Великая Британия состояла только из колоний, она была бы однородна, была бы вся отлита из одного куска, и, как бы обширна и безгранична ни была ее территория, дела ее были бы доступны пониманию народа в Англии. Но есть еще другая Великая Британия, превосходящая первую населением, хотя и уступающая ей занимаемой площадью: она представляет полную противоположность первой. Индия вся в прошлом и почти не имеет будущего. Нет такого умного человека, который не боялся бы высказывать предположения о будущем Индии, а в своем прошлом она открывает перед нами перспективы баснословной древности; все древнейшие религии, все древнейшие обычаи как бы окаменели в ней; никакая форма народного управления не является для нее возможной. Все, пережитое Европой и тем паче Новым Светом, здесь в полной силе: суеверие, фатализм, многоженство, самое примитивное духовенство, самый примитивный деспотизм; и при этом с севера грозит обширная азиатская степь со своими узбеками и туркменами. Таким образом, один и тот же народ протянул одну руку будущему земного шара, явившись посредником между Европой и Новым Светом, а другую – самому отдаленнейшему прошлому, сделавшись завоевателем Индии, узурпатором, наследником Великого Могола.
Как же может один и тот же народ без особого напряжения преследовать две столь радикально противоположные системы политики: быть деспотом в Азии и демократом в Австралии; быть на востоке величайшей мусульманской державой, хранителем имущества тысячи языческих храмов и в то же время являться на западе передовым борцом за свободу мысли и за духовную религию; представлять собою, с одной стороны, великий военный империализм, чтобы оказывать сопротивление движению России в центральной Азии, и с другой – наполнять Квинсленд и Манитобу[99] свободными поселенцами? Можно смело сказать, что никогда, с самого начала мира, ни одна нация не брала на себя такой ответственности. Никогда так много сложных вопросов, касающихся разных частей земного шара и требующих всевозможных специальных познаний и специального образования, не находилось в зависимости от решения общественного мнения одного народа. Надо сознаться, что народ этот несет ответственность довольно-таки легкомысленно! Он даже не изучает колониальных индийских вопросов. Он ими интересуется лишь в тех редких случаях, когда они выступают на первый план в домашней политике. Когда дело идет о судьбе министерства, эти вопросы кажутся в высшей степени интересными; но они теряют всякий интерес, когда дело идет только о населении Индии, о судьбе громадной части планеты, о будущности английского государства. Что касается Индии, то Маколей пишет так: «Можно было бы ожидать, что каждый англичанин, интересующийся вообще историей, желал бы знать, каким образом горсть его соотечественников, отделенных от своей родины беспредельным океаном, в течение немногих лет покорила одну из величайших империй в свете. Но если мы не ошибаемся, предмет этот для большинства читателей кажется не только скучным, но положительно неприятным».
Лекция 10 Индийская империя
Тот метод изучения, какой мы применяли к колониальной империи, будет применен теперь для рассмотрения Индийской империи, то есть мы будем рассматривать ее лишь постольку, поскольку она является иллюстрацией общего закона расширения, управлявшего новейшей историей Англии. Эта империя будет рассматриваться не сама в себе, а лишь в ее отношении к Англии. Мы рассмотрим ее и с исторической точки зрения, то есть вникнем в причины, вызвавшие ее существование, и с политической, то есть определим ее значение и устойчивость.
Стоя на подобной точке зрения, мы находим неудобным придерживаться хронологического порядка.
Приобретение Индии совершалось слепо. Ни одно великое дело, когда-либо совершенное англичанами, не носило такого непредумышленного и случайного характера, как завоевание Индии.
Правда, немного расчета и плана было и в английской колонизации: первые переселенцы, отправляясь в Виргинию и Новую Англию, вовсе не имели намерения положить начало могущественной республике. Но тут различие между совершившимся событием и намерением – только количественное: англичане намеревались основать новое общество и даже знали, что по тенденциям своим оно будет республиканским, они не предвидели только его громадных размеров.
Между тем в Индии имелось в виду одно, а совершалось совершенно другое. Целью была торговля, но действительного успеха в ней не было.
Мысль о войне с туземными государствами никому и в голову не приходила в продолжение целого столетия после образования первых поселений, затем имелись в виду лишь такие войны, которые могли содействовать торговле. Опять прошло больше полустолетия, прежде чем явилась мысль о сколько-нибудь значительных территориальных приобретениях. Только накануне девятнадцатого столетия началась политика, искавшая господства над туземными государствами, а настоящего своего положения в Индии Англия достигла лишь во время генерал-губернаторства лорда Дельгаузи (Dalhousie),[100] то есть менее пятидесяти лет назад. Все время мы хотели идти по одной дороге, а шли по другой. При таких обстоятельствах хронологический способ изучения оказывается самым худшим. Если бы мы стали следить за историей Ост-Индской компании из года в год, тщательно придерживаясь точки зрения ее директоров, то сделали бы все, что в наших силах, чтобы ослепить себя, ибо не воля директоров, а другие, превосходящие их волю, силы – силы, против которых директора тщетно боролись, – вызвали к существованию Индийскую империю. На основании этого необходимо, а в силу других соображений – и удобнее начать с другого конца, и, прежде чем рассмотреть, как доросла империя до своего современного величия, надо тщательно ознакомиться с тем, что представляет она собою в данный момент.
Мы называем эту империю завоеванием (conquest), чтобы отметить тот факт, что она была приобретена не путем заселения и колонизации, а рядом войн, оканчивавшихся уступками территорий в пользу Ост-Индской компании. Но не следует предполагать, что Индия есть завоевание в каком-либо более тесном смысле этого слова.
Выше я критиковал выражение «владения Англии» (possessions), так часто применяемое к нашим колониям. Я спрашивал: если под Англией мы подразумеваем англичан, живущих в Англии, а под колониями – англичан, живущих за морем, то в каком же смысле можно сказать, что одни из этих людей принадлежат другим? Или, если, говоря об Англии, мы имеем в виду английское правительство, которому в конечном выводе подчинены и колонии, то с какой же стати будем мы говорить о подданных этого правительства как об его владении или собственности, раз они не сделались его подданными вследствие завоевания? Но такой взгляд не вполне применим к Индии, потому что Индия действительно подпала под власть правительства английских королей вследствие завоевания. Следовательно, Индию можно назвать английским владением в том смысле, который неприменим к колониям. Тем не менее, слово «завоевание», которое, как и большинство слов из лексикона войны, берет свое начало в первобытных варварских временах, может легко повести к недоразумениям. И потому мы все же спрашиваем: в каком же смысле Англия владеет Индией? То, чем мы владеем, мы обыкновенно так или иначе эксплуатируем ради своего удовольствия. Если у меня есть земля, то я или сам пользуюсь ее урожаем, или, если отдаю ее фермеру, получаю арендную плату. В первобытные времена за завоеванием страны обыкновенно следовало владение ею в буквальном смысле слова. Иногда победители делались владетелями завоеванной территории или части ее, как это было, например, после завоевания Палестины, о котором мы читаем в книге Иисуса Навина, или после тех римских завоеваний, когда известное пространство конфискованной земли делилось между некоторым числом римских граждан. Нет сомнения, что в таком смысле Индию нельзя назвать завоеванной страной. Англия не захватила земель в Индии и не раздала их англичанам, изгнав из них туземных владельцев.
Существует еще другой смысл, в котором можно понимать положение завоеванной страны: мы можем рассматривать ее как данницу, плательщицу дани. Но при этом необходимо точно определить значение этого выражения. Если мы понимаем под ним лишь то, что народ платит налоги, или, другими словами, что он покрывает расходы, идущие на его управление и на содержание армии, защищающей его границы, то в этом нет ничего специфически присущего покоренному народу. Почти всякий народ в той или другой форме оплачивает расходы своего правительства. Если слову «данница» мы придаем значение, эквивалентное выражению «покоренная (conquerent), зависимая (dependent) страна», то тем самым мы констатируем, что одна страна, сделавшись данницей другой, выплачивает ей больше, чем требуется для покрытия расходов по ее управлению. Такой пример мы видим в современном Египте. Управление Египтом находится в руках хедива, который щедро вознаграждает себя из карманов народа, но вместе с тем Египет – данник турецкого султана, то есть он платит ему сумму, которая ни в каком виде не возвращается в страну, а служит лишь показателем зависимости Египта от султана.
Подобного рода дань показывает, что страна платящая составляет владение той страны, которой она платит, ибо дань аналогична ренте, которую арендатор платит землевладельцу. Является ли Индия в этом смысле данницей Англии? Несомненно, нет. В Индии, конечно, существуют налоги, так же как они существуют и в Англии, но она не более данница, чем сама Англия. Деньги, взимаемые с Индии, идут на ее управление, и взимается ровно столько денег, сколько требуется для покрытия этого расхода.
Британская Индия, 1851 год
Правда, можно возразить, как это нередко и делается, что Индия во многих отношениях приносится в жертву Англии, и в особенности, что деньги вымогаются от нее под разными благовидными предлогами. Но этот вопрос в настоящую минуту меня не касается, потому что я рассматриваю только то, каковы отношения, установленные законом между Индией и Англией, оставляя в стороне вопрос о том, насколько это отношение может быть искажено злоупотреблением. Итак, Индия так же, как и колонии, не представляет собою владения Англии и в том смысле, что она не является по закону ее данницей.
Хотя современное отношение между Индией и Англией исторически создалось войной, тем не менее Англия не предъявляет к Индии, по крайней мере открыто, никаких прав, вытекающих из этого факта. В королевской прокламации от 1 ноября 1858 года, в которой было открыто объявлено о том, что королева берет на себя управление Индией, встречаются следующие слова: «Мы считаем себя связанными по отношению к туземцам наших индийских территорий теми же обязательствами, какими мы связаны по отношению ко всем другим нашим подданным». Следовательно, завоевание не дало Англии никаких особенных прав, или, другими словами, Индия не есть завоеванная страна.
Дело в том, что, хотя успехи цивилизации и не уничтожили вполне войн, даже, может быть, не уменьшили их числа, во всяком случае, они чрезвычайно изменили их характер. Номинально завоевание еще возможно, но значение этого слова совершенно изменилось: оно теперь не означает уже грабежа или тяжелого владычества; потому-то завоевания в настоящее время уже не так соблазнительны, как были прежде. Обладание Индией налагает на англичан громадную, почти превосходящую их силы, ответственность; ответственность эта вполне очевидна; далеко не так очевидна приносимая этим обладанием выгода.
Мы должны, следовательно, отрешиться от мысли, что Индия является владением Англии. В разговорном языке понятия о собственности и об управлении так спутаны, что получается нескончаемое недоразумение. Когда мы называем Индию «великолепным владением» Англии, или «самым блестящим бриллиантом в английской короне», мы употребляем метафоры, перешедшие к нам из первобытных веков и из того состояния общества, которое уже отошло в область далекого прошлого. Индия действительно находится в зависимости от Англии в том смысле, что Англия определяет ее внутренние распорядки и ее политику и что Индией управляют англичане, но отнюдь не в том смысле, что она непосредственно оказывает услуги Англии, обогащает и делает ее могущественнее. Итак, по отношению к Индии также как и по отношению к колониям, прежде всего, является вопрос: какая польза в них? О чем хлопочут англичане, зачем берут на себя ответственность и все заботы, сопряженные с управлением двумястами миллионами населения в Азии?
Что касается колоний, то, как я уже говорил, вопрос об их пользе, как бы естественно он ни возникал, до тех пор является лишним, пока не доказано, что колонии Англии слишком отдаленны, чтобы могла создаваться взаимная выгода от их общения с метрополией. Эти колонии одной крови с Англией; они знаменуют собою расширение английской национальности в новых землях. Будь их территории смежны с Англией, всякому казалось бы естественным, что английское население, по мере своего увеличения, занимает их; всякому казалось бы желательным, чтобы это занятие совершалось без политического разъединения. Но они не смежны, а отдалены; отсюда возникает некоторое затруднение, которое, однако, в наш век пара и электричества не представляется непреодолимым. Вы видите отсюда, что при решении вопроса относительно колоний главную роль играет общность их крови с жителями Англии. Это совершенно неприменимо к Индии. Едва ли возможны две другие расы, которые были бы более чужды друг другу, чем английская и индусская. Сравнительная филология, правда, открыла связь, существование которой раньше не подозревали: язык преобладающей расы Индии принадлежит к той же семье, как и язык англичан. Но во всем другом эти расы совершенно чужды друг другу; традиции индусов чужды англичанам, религия их дальше от христианской, чем магометанство.
Английские колонии, как я уже говорил раньше, занимали главным образом малонаселенные части земного шара, почему население их состоит всецело или почти всецело из англичан. Испанские колонии Центральной и Южной Америки находились в ином положении: испанцы жили среди превосходившего их численностью населения туземных индейцев, которых они низвели почти до степени рабства. Здесь перед нами два типа зависимых государств, из которых первый гораздо более сроден метрополии, чем второй, но оба связаны с нею настоящими кровными узами. Индия не принадлежит ни к тому, ни к другому типу; ее население не имеет решительно никакой родственной связи с населением Англии. Если бы англичане основали в ней колонии, то и тогда численность их населения оставалась бы чрезвычайно ничтожной по сравнению с громадным туземным населением. Но у Англии не существовало даже таких колоний. Англия отделена от Индии одной из самых сильных преград, какие природа может воздвигнуть между двумя странами. Сама природа сделала для англичан колонизацию Индии невозможной, снабдив ее климатом, которого не переносят английские дети.
Итак, в то время, как связь Англии с колониями кажется в высшей степени естественной, связь ее с Индией, по крайней мере, при поверхностном взгляде, кажется в высокой степени противоестественной. Между этими двумя странами абсолютно нет естественных уз: ни общности крови, ни общности религии, ибо англичане-христиане должны жить среди адептов браманизма и последователей Магомета; ни общности интереса, за исключением того, какой существует между всякими странами, то есть желания каждой воспользоваться произведениями другой. Ибо какой другой общий интерес может существовать у Англии и Индии? Интересы Англии сосредоточены в Европе и в Новом Свете; Индия же, насколько такая изолированная страна может иметь внешние интересы, обращает взоры на Афганистан, Персию и Среднюю Азию, то есть на страны, с которыми без Индии Англия вряд ли имела бы сношения.
Завоевание Индии англичанами дало еще более неожиданные результаты, чем завоевание Америки испанцами, хотя эпизоды его мне кажутся далеко не такими поразительными и романтическими. Признаем ли мы полезным это завоевание или не признаем, во всяком случае, оно представляет самый поразительный инцидент в новой истории Англии – инцидент, которому следует отвести выдающееся место в рассказе, а не упоминать о нем вскользь, как это обыкновенно делают английские историки. Но мы не можем сознать всего значения этого завоевания, если все наше внимание будет поглощено его необычайностью, и если мы не дадим себе труда представить себе всю его громадность. Много писалось с целью показать грандиозность английских начинаний в Индии, но все напрасно. Цифры, переходя известную границу, по-видимому, только парализуют воображение, и в то время, как во внутренней политике Англии широта вопроса живее возбуждает наш интерес к нему, империя с ее гораздо более обширными вопросами почти вовсе не интересует нас. Скажи я вам, что Индийская империя подобна Римской в момент ее наибольшего распространения, что ответственность за нее падает на англичан, – и у вас явится лишь нежелание вникать в этот скучный предмет. Можно ли оправдывать такое отношение?
До известной степени нас вводит в заблуждение представление, что в отдаленных частях света громадность размеров представляет обычное и безразличное явление. Если Индия велика, то Канада и Австралия еще больше, а между тем мы не находим, что дела Канады и Австралии требуют особого внимания с нашей стороны. Это верно, но мы упускаем при этом очень важное различие. В Канаде и Австралии территория громадна, но население ничтожно; кроме того, страны эти далеки не только от Англии, но и от всех других великих держав, с которыми Англия могла бы вступить в войну. Индия же принадлежит к совершенно иной категории. Во-первых, она имеет такое же густое население, как наиболее населенные части Европы, а в некоторых из ее областей население еще гуще. Во-вторых, это – страна, в которой Англии постоянно приходилось вести большие войны. Так, во второй мараттской войне в 1818 году лорд Тестинге вывел на поле сражения больше ста тысяч человек. Какой бы далекой Индия нам ни казалась, она все же не лежит вне сферы европейской политики. Это видно из того, что в продолжение всего восемнадцатого столетия она служила частью той арены, на которой боролись Франция и Англия; затем, после 1830 года, Индия, и почти она одна, была причиной разногласий между Англией и Россией, а также и причиной того живейшего интереса, какой Англия проявляла к решению восточного вопроса.
Индию, следовательно, можно в этом отношении скорее поставить наряду с европейскими государствами, чем с отдаленными, малонаселенными странами Нового Света. Посмотрим на величину этой империи и постараемся реализовать ее посредством сравнения с другими знакомыми нам величинами. Представим себе Европу без России, то есть все те страны, в которых несколько столетий назад сосредоточивалась почти вся история, – другими словами, все европейские земли Римской империи, plus вся Германия, славянские земли, находящиеся вне России, и скандинавские государства. Можно сказать приблизительно, что Индия равняется, как по занимаемой ею площади, так и по населению, всем этим странам, взятым вместе. Эта империя, которая теперь управляется из улицы Даунинг, и бюджет которой ежегодно составляет предмет досады и отчаяния палаты общин, значительно обширнее и населеннее, чем была империя Наполеона во время своего апогея. Притом, как я говорил уже, империя эта по типу близка к Европе: это – не громадная, пустынная область, подобная прежним испанским областям в Южной Америке, а густонаселенная территория с древней цивилизацией, со своими языками, религиями, философскими системами и литературами.
Я думаю, вам будет легче составить себе понятие о громадности Индии, если я раздроблю ее на части. Понятие о всей Европе в ее целом производит на нас впечатление чего-то громадного потому, что в уме нашем проходят шесть или семь великих государств, из которых она состоит. Наше представление о Западной Европе является суммой наших представлений об Англии, Франции, Германии, Австрии, Италии, Испании и Греции. Может быть, Индия покажется нам столь же грандиозной, если мы представим ее себе как нечто сложное. Во-первых, она обладает областью, которая по населению далеко превосходит любое из европейских государств, за исключением России, и даже несколько превышает Соединенные Штаты. Это – та область, которая находится под управлением бенгальского вице-губернатора и носит название Бенгал. Она имеет около 71 миллиона[101] жителей на площади значительно меньшей, чем площадь Франции. Затем следуют две области, которые можно также сравнить с европейскими государствами. Это – Северо-Западные провинции, близкие по размерам к Великобритании без Ирландии; они занимают несколько меньшее пространство, чем эти страны, но население их (почти 35 млн.) больше. Затем идет Мадрасское президентство; занимаемая им площадь больше и приблизительно равняется Великобритании с Ирландией, население же, бывшее в 1881 году меньше, теперь сделалось значительно больше, чем в Северо-Западных провинциях (38 млн.), и приблизительно такое, как в Соединенном королевстве. Население каждой из этих трех провинций значительно превышает 20 миллионов. Далее идут две провинции, в которых население приближается к 20 миллионам, а именно: Пенджаб (22 млн.), несколько более населенный, чем Испания, и Бомбейское президентство (15 млн.), в котором население несколько меньше, хотя по занимаемой площади провинция равняется Великобритании с Ирландией. К следующему разряду принадлежат: Ауд (12,5 млн.), который несколько больше, и Центральные провинции (около 10 млн.), которые приблизительно равняются Бельгии с Голландией. Все перечисленные провинции вместе с другими, не столь важными, составляют ту часть Индии, которая находится непосредственно под английским управлением. Вся область, состоящая фактически под верховной властью Англии, еще обширнее. Когда мы говорим об империи Наполеона, мы имеем в виду не только ту территорию, которая непосредственно управлялась его должностными лицами, а также и те государства, которые, будучи номинально особыми монархиями, фактически находились под его властью. Так, Рейнская конфедерация состояла из многих германских государств, согласившихся по формальному договору считать Наполеона своим протектором. Англия имеет подобную же зависимую конфедерацию в Индии, и это еще увеличивает ее территорию; население этой конфедерации равняется 63,5 миллиона жителей.[102]
Неужели Англии, помимо многочисленного населения самой Великобритании, ведущего тревожную политическую жизнь, помимо ее громадной колониальной империи, приходится еще отвечать за чуждую ей, густонаселенную Индийскую империю, почти равную всей Западной Европе? Возможно ли, чтобы при этих условиях англичане не имели и не желали иметь хотя бы самых элементарных сведений об этой империи? Да возможно ли вообще, даже и при желании добыть эти сведения, составить рациональное мнение о делах, столь отдаленных и столь сложных?
Существовали и раньше великие империи, но управление ими обыкновенно находилось в руках нескольких сведущих лиц. Рим был принужден поручить свою империю одному неответственному лицу и даже для себя самого не мог сохранить прежней гражданской свободы. Соединенные Штаты, правда, представляют громадную область, успешно управляемую демократической системой, но надо помнить, что территория их, хотя и чрезвычайно обширная, составляет одно целое, а население, каким бы многочисленным оно ни сделалось со временем, всегда будет по существу однородным. Если бы Соединенные Штаты завладели странами, отделенными от них морем и населенными другой национальностью, то их мировое положение сразу существенно изменилось бы. Попытка управлять империей не властью отдельных опытных лиц, а путем системы, основанной на общественном мнении, и притом управлять населением отдаленным, совершенно чуждым и по самому духовному складу не похожим на население метрополии, – вот что ново в отношениях между Англией и Индией. Общественное мнение необходимо руководится немногими широкими, ясными, несложными понятиями. Когда интересы страны ясны, и главные принципы ее управления безошибочны, общественное мнение может безопасно судить даже о чрезвычайно важных вопросах. Но общественное мнение легко может заблуждаться каждый раз, когда от него требуют, чтобы оно вникало в тонкости вопроса, проводило точные разграничения, применяло один ряд принципов в одном случае, другой – в другом. Такое именно затруднение и представляет Индийская империя. Она так сильно отличается и от самой Англии, и от колониальной империи, что требует совершенно иных политических принципов.
Поэтому-то общественное мнение Англии не знает, как отнестись к Индии, и смотрит с негодованием и отчаянием на индийское правительство, которое кажется ему не английским по духу, бюрократическим, которое находится в руках господствующей расы, покоится главным образом на военной силе, собирает доход не по-европейски, путем монополий на соль и опиум, то есть во всем отступает от английских традиций.
И при этом неизвестно, к чему все это делается? Индия, как я уже говорил, не приносит Англии никаких прямых доходов. Посмотрим, не возникает ли из связи этих двух стран каких-либо косвенных выгод? Мы находим эти выгоды в том, что торговля между обеими странами постепенно приняла чрезвычайно обширные размеры. Прекращение торговли с Индией, которое могло бы последовать в случае возникновения в ней снова анархии или в случае ее подпадания под власть другого правительства, которое закрыло бы гавани английским купцам, обошлось бы Англии в 60 000 000 фунтов ежегодно. Однако эти выгоды с избытком уничтожаются той тяготой, какую Индия налагает на иностранную политику Англии. При настоящем положении мира страна, удерживаемая в подчинении военной силой, может легко оказаться камнем на шее своей повелительницы: она лишает ее армии, которая может всегда сделаться необходимой для других целей или даже для защиты метрополии. Всем нам понятно то удовольствие, с каким Бисмарк наблюдал, как Франция увлекается планами покорения Африки и Азии. Теперь, если бы Англии, которую нельзя считать военной державой, пришлось сдерживать при помощи английских войск население в 200 миллионов, она не выдержала бы этого бремени. Однако дело обстоит иначе: ввиду основной особенности Индийской империи, о которой впоследствии я поговорю подробнее, Англия завоевала и до сих пор управляет Индией посредством индийских войск, оплачиваемых индийскими деньгами, так что собственно английская армия в Индии состоит всего из 65 000 человек. Но этим не ограничивается тягость, какую Индия налагает на Англию; она, кроме того, больше чем удваивает трудность иностранной политики. Следует, без сомнения, считать высшим счастьем для всякой страны, если она может спокойно заниматься своими делами, не будучи вынуждена следить за тем, что делают другие нации. Вашингтон очень разумно советовал своим соотечественникам как можно дольше хранить такое счастье. Сейчас Англия не может вполне им насладиться, но, не будь у нее Индии, она могла бы, хотя отчасти, его вкусить. Ее колонии до сих пор имеют главным образом мирных, незначительных или нецивилизованных соседей, и тесное участие Англии в западноевропейской борьбе прекратилось. Зато восток продолжает чрезвычайно интересовать англичан. Они должны неусыпно следить за всяким движением в Турции, за всяким новым симптомом в Египте, за малейшим волнением в Персии, Трансоксиане, Бирме[103] или Афганистане, и все только потому, что они владеют Индией. Благодаря ей Англия занимает первенствующее положение в системе азиатских держав и очень заинтересована делами всех стран, лежащих на пути в Индию. Индия, и только Индия, вовлекает Англию в постоянное соперничество с Россией, которое для Англии в девятнадцатом столетии является тем же, чем было для нее соперничество с Францией из-за Нового Света в восемнадцатом.
Цель этой лекции – представить вам индийский вопрос в общих чертах. В начале ее я высказал несколько соображений, могущих склонить нас к тревожному и безнадежному взгляду на решение его. Сомнительно, удастся ли Англии всегда сводить счеты Индийской империи без убытка, и нет сомнения, что эта империя налагает на Англию громадную ответственность, что она смущает ум англичанина безнадежно трудными проблемами. Вот почему невольно напрашивается мнение, что тот день, когда смелый гений Клайва сделал из торговой компании политическую силу и положил начало столетию беспрерывных завоеваний, был злосчастный день для Англии. Не должны ли мы считать, как считали многие известные государственные люди, посвятившие свою жизнь индийским делам, что английская империя в Индии недолговечна, что недалеко то время, когда англичане будут принуждены удалиться из нее?
С другой стороны, и самые мудрые из людей легко могут ошибаться, рассуждая о подобном предмете. Исход Индийской империи Англии столь же не поддается прогнозу, как не поддавалось ее начало. В истории мы не находим аналогии ни тому, ни другому. Если нам кажется, что управление Индией с отдаленного острова не может продолжаться долго, то мы должны вспомнить, что было время, когда казалось, что оно вовсе невозможно. Во всяком случае, если империи суждено пасть, то мы уже теперь должны были бы видеть признаки угрожающего ей падения. Мы действительно можем указать на страшные затруднения, с которыми ей приходится бороться, но едва ли можно констатировать сейчас какие-либо симптомы ее упадка. К тому же, если бы мы даже признали, что Англия ничем не вознаграждена за все то беспокойство, какое причинило ей обладание Индией, все равно это признание само по себе не имело бы никакого практического значения. Между таким признанием и практическим его осуществлением, то есть отказом от Индии, лежит целая бездна.
Можно держаться того мнения, что для Англии было бы лучше вовсе не основывать такой империи, а оставаться в качестве торговой нации у преддверья Индии, подобно тому, как она теперь стоит у входа в Китай. Однако идея отказа от Индии даже теми, кто думает, что рано или поздно англичане будут вынуждены к нему, не рассматривается, как практическое предложение. Бывают дела, которые было бы лучше не делать, но, будучи раз сделаны, они уже не могут быть разрушены. Возможно, что настанет время, когда предоставление Индии самой себе будет осуществимо, но до тех пор Англия должна управлять Индией так, будто бы она будет управлять ею всегда. Необходимо это не только ради Англии. Говорят, что честь требует, чтобы государство поддерживало то, что приобретено кровью отцов и является великим военным трофеем нации. С моей точки зрения, во всех таких понятиях о чести есть что-то чудовищное: они принадлежат к тем примитивным и крайне устарелым идеям, которые покоятся на смешении понятия о собственности и об управлении. В вопросах, подобных интересующему теперь нас, следует руководиться только одним принципом – принципом благоденствия Индии и Англии, причем в данном случае Индия, как более заинтересованная, как превосходящая Англию населением и, наконец, как более бедная, должна быть поставлена на первом плане. Исходя из этих начал, то есть имея в виду преимущественно интересы Индии, мы должны признать, что в настоящее время отказ для Англии от той задачи, которую она поставила себе в Индии, – невозможен. Руководясь исключительно собственными интересами, Англия могла бы отказаться от Индии. Конечно, это было бы нелегко ввиду той обширной торговли, которая развилась в этой стране, и ввиду тех громадных английских капиталов, какие, особенно в последние годы, были в нее вложены, но все же это было бы возможно. С точки же зрения интересов Индии это представляется совершенно невозможным. Можно много и вполне справедливо порицать в той системе, какой англичане придерживаются в управлении Индией. Можно сомневаться, вполне ли она соответствует народу, не слишком ли дорого она ему обходится и т. п. Мы имеем полное основание беспокоиться относительно исхода этого единственного в своем роде опыта, но, мне кажется, мы зашли бы слишком далеко в своем отрицании, если бы усомнились в том, что управление англичан лучше всякого другого, применявшегося в Индии со времени первого мусульманского завоевания. Если бы это правление оказалось в конце концов даже более несостоятельным, чем можно было ожидать, то и в таком случае Англия не оставила бы страну и наполовину в том плачевном состоянии, в каком она ее приняла. Даже посредственное управление несравненно лучше, чем полное отсутствие управления. Внезапное падение даже самого агрессивного управления является опасным. Без сомнения, есть страны, которые вынесли бы такое испытание, не впадая в анархию. Малонаселенные страны или такие, жители которых долго пользовались большой свободой действий, вероятно, очень скоро создали бы для себя новое управление в том виде, в каком оно оказалось бы нужным. Но какой насмешкой являются подобные надежды по отношению к Индии! Когда начались английские приобретения в этой стране, она была уже в состоянии дикой анархии – анархии, какой Европа, быть может, никогда не знавала. Все формы управления, какие в ней тогда имелись, были почти неизменно деспотические, и власть обыкновенно находилась в руках военных авантюристов, зависимых от войска, составленного из разбойников, исключительным занятием которых был грабеж. Маратты господствовали в большей части Индии и угрожали одновременно и Дели, и Калькутте,[104] имея главную квартиру в Пуне (Poonah),[105] а между тем их владычество было не чем иным, как организованным грабежом. На севере шах Надир[106] своими опустошительными походами соперничал с Аттилой и Тамерланом. Можно возразить, что это была лишь временная анархия, явившаяся следствием распадения империи Великого Могола; но, во-первых, и это уже доказывает, что Индия – не такая страна, которая может вынести отсутствие управления. Кроме того, мы имеем преувеличенное понятие о величии империи Великого Могола: величие ее было очень кратковременно, а в Декане она, по-видимому, вовсе не утвердилась. Отсюда ясно, что анархия, которую Клайв и Гестингс нашли в Индии, не составляла исключительного явления; по всей вероятности, она в то время была сильнее, чем когда-либо прежде, но анархия, по-видимому, всегда господствовала в Индии со времени Махмуда[107] и была лишь на некоторое время подавлена в северной ее части Акбером и шахом Джеганом.[108]
Итак, Индия менее, чем какая-либо другая страна, способна развить из себя прочное управление, и можно опасаться, что владычество англичан еще уменьшило ту небольшую способность к самоуправлению, какую она, может быть, в начале имела. Господство Англии неизбежно подавило те классы, которые имели какую-нибудь способность или привычку к управлению. Старинные царственные поколения, высшие классы и особенно мусульмане, составлявшие ядро должностных лиц при Великом Моголе, пострадали всего больше и меньше всего приобрели от европейского управления. Этот упадок служит главным предметом сожалений для тех, кто мрачно смотрит на Индийскую империю, но сам по себе этот факт упадка является лишним аргументом в пользу продолжительного существования империи. Подумайте затем о громадной величине страны. Вспомните, что англичане, внося западную науку в среду браминских традиций, подорвали в интеллигентных классах все установившиеся у них нравственные и религиозные понятия. Вникните во все это, и вы увидите, что удаление английского управления из страны, которая от него зависит и которую англичане сами сделали неспособной зависеть от чего-либо другого, было бы самым непростительным из всех представимых преступлений, которое повлекло бы, может быть, невероятно громадные бедствия.
Таков в общих чертах индийский вопрос настоящего времени. Посмотрим теперь, каким образом возник этот вопрос. Каким путем приобрела Англия такое обширное владение?
Лекция 11 Как Англия завоевала Индию
Вопрос о завоевании Индии не походит на вопросы, разобранные мною в первом курсе. Правда, английские колонисты в Новом Свете тоже заняли обширную территорию, но то была территория сравнительно ненаселенная. Трудности, которые они встречали, возникали не столько со стороны туземцев, сколько со стороны соперничества европейских наций. Каким путем и благодаря чему Англия оказалась победительницей в этом состязании из-за Нового Света, – я рассматривал. Ответ на этот вопрос, хотя и не бросался сразу в глаза, но не представил нам особых трудностей. Другое дело – вопрос о завоевании Индии: он кажется крайне трудным для понимания.
В Индии было густое население, цивилизация которого, хотя и шла по другому руслу преемственности, но отличалась той же реальностью и древностью, как и цивилизация Европы. Многочисленные примеры из европейской истории учат нас, что почти невозможно покорить умственно развитой народ, особенно если он всецело чужд покорителю и по языку, и по религии. Всей силы Испании не хватило, чтобы в течение восьмидесяти лет покорить голландские провинции с их ничтожным населением. Швейцария не могла быть завоевана в древности, а Греция в новейшие времена. Больше того, в то самое время, когда Англия делала первые шаги на пути завоевания Индии, она была не в состоянии вернуть к повиновению три миллиона населения ее собственной расы в Америке, свергнувшие власть английского правительства. Какое странное противоречие! Никогда англичане не обнаруживали такой полной несостоятельности и недеятельности, как во время американской войны, когда можно было думать, что век величия Англии прошел и началось ее падение. И что же? Как раз в это время англичане являются неотразимыми завоевателями Индии и выказывают превосходство силы, заставившее их вообразить себя нацией героев! Как объяснить такое противоречие?
Историю изучают обыкновенно так поверхностно, с такой слабой надеждой достичь сколько-нибудь серьезных результатов, что противоречие это не обращает на себя внимания, и самое большее – дает случай сказать несколько громких фраз на тему о жизненной силе, таящейся в недрах Англии.
Действительно, чем бы ни объясняли факты, но они сами говорят за себя.
При Пласси, Ассейе и в сотне других сражений английские войска одерживают победу за победой над значительно превосходящими силами.
Здесь, казалось бы, англичане могут смело предаваться национальному чувству самодовольства, сознавая, что, по крайней мере, по сравнении с индусскими расами они действительно являлись молодцами!
Но устраняется ли в действительности трудность вопроса гипотезою превосходства расы? Положим, что один англичанин, как солдат, равняется десяти или двадцати индусам; можно ли даже при этом допущении объяснить завоевание англичанами всей Индии? Когда началось это завоевание, англичан было не более двенадцати миллионов, и Англия была в то время занята другими войнами. Подвиги Клайва отчасти совпадают с Семилетней войной в Европе, а обширные приобретения лорда Уэльзли были сделаны во время войн с Наполеоном. При этом надо помнить, что Англия – не военная держава и в те времена не могла выставить многочисленную армию. Ведя европейские войны, она ограничивалась морскими операциями и для военных действий на суше выплачивала субсидию тому или другому союзному военному государству, обыкновенно или Австрии, или Пруссии.
Каким же образом удалось Англии, несмотря на ее слабость на суше, покорить большую часть Индии – громадную страну почти в миллион квадратных миль, населенную двумястами миллионов жителей? Как сильно должен был этот подвиг истощить военные ресурсы и казну Англии! А между тем истощения вовсе не ощущалось. Европейские войны ввели Англию в неоплатный долг; индийские – нисколько не увеличили национального долга и не оставили после себя тяжелых последствий.
Итак, в ходячем представлении, согласно которому из Англии в Индию отправлялась горсть солдат, которые, благодаря превосходству храбрости и умственного развития, завоевали всю страну, кроется какая-то неверность. В последнюю войну с мараттами (1818)[109] у Англии, как оказывается, было в поле с лишком сто тысяч человек. Но каким же это образом! Ведь это было время крайнего истощения, последовавшего за великой наполеоновской войной! Возможно ли, чтобы три года спустя после битвы при Ватерлоо Англия снова вела обширную войну и содержала в Индии армию, гораздо большую той, какая была у лорда Веллингтона в Испании? Наконец, в настоящий момент Англия имеет в Индии под ружьем армию в двести тысяч человек. Как! Двести тысяч английских солдат, и Англия – не военная держава!
Вы, конечно, догадались, на какой факт я хочу указать. Индийская армия, как нам всем известно, состоит главным образом не из английских солдат, а из туземных войск. Из 200 000 только 65 000, или менее одной трети, – англичане, но и это отношение установлено со времени возмущения сипаев (1857), когда английский элемент войска был увеличен, а индийский сокращен.[110] В эпоху мятежа в Индии было 45 000 европейских войск и 235 000 туземных, т. е. европейцы составляли менее одной пятой части. В 1808 году было 130 000 туземцев и только 25 000 англичан, то есть опять-таки менее одной пятой. То же отношение существовало и в 1773 году, в эпоху акта о регуляции (Regulating Act),[111] когда британская Индия была впервые оформлена. Армия Ост-Индской компании состояла тогда из 9000 европейцев и 45 000 туземцев. Ранее этого европейцев было еще меньше, и они составляли около одной седьмой части войск; в самом же начале индийская армия представляла собою скорее туземную, чем европейскую силу.
Так, полковник Чини (Chesney) следующими словами начинает свой исторический очерк: «Первое основание армии Ост-Индской компании можно отнести к 1748 году, когда, по примеру французов, в Мадрасе был образован небольшой корпус сипаев для защиты этой колонии. В то же время был составлен незначительный европейский отряд из матросов, которых можно было отозвать с прибрежных кораблей, и из людей, заманенных вербовщиками в Англии и посаженных на суда компании».
В первых сражениях, установивших власть компании, при осаде Аркота, при Пласси,[112] в ее войске сипаев было постоянно больше, чем европейцев. Заметим кстати, что мы не слышим вовсе, чтобы сипаи дрались плохо, или чтобы англичане выносили исключительно на себе тяжесть битв. Всякий, кому известно, с каким ребяческим восторгом английские историки предаются национальному тщеславию, не удивится, что, описывая эти битвы, они забывают о сипаях. Прочтите опыт Маколея о Клайве; везде вы встретите «имперский народ», «могучие сыны моря», «никто не мог сопротивляться Клайву и его англичанам». А между тем, раз мы допустим, что число сипаев постоянно перевешивало число англичан и что они не уступали последним в качествах солдата, то вся теория о превосходстве храбрости англичан должна рухнуть. Если мы допустим, что в тех сражениях, где неприятель был вдесятеро многочисленнее, один англичанин равнялся десяти туземцам, и то же самое должны мы сказать и о сипаях. Отсюда следует, что причина несомненной разницы между английскими войсками и их врагами заключалась не столько в расовых отличиях, сколько в дисциплине, в военной науке, а во многих случаях – и в лучшем предводительстве.
Заметьте, что Милль в своем кратком обзоре завоевания Индии не упоминает о естественном превосходстве англичан. «Два главных открытия, содействовавших покорению Индии, следующие: 1-е – слабость дисциплины туземных войск по сравнению с европейскими и 2-е – легкость передачи дисциплины туземцам, находящимся на европейской службе». Он присовокупляет: «Оба открытия были сделаны французами».
Даже если допустить, что англичане сражались лучше сипаев и что они принимали более деятельное участие в тех подвигах, которые совершили совместно, то все же это не дает права утверждать, что английская нация завоевала индийские нации. Эти нации были завоеваны армией, в которой англичане составляли в среднем не более одной пятой. Но обыкновенно не только преувеличивают долю участия в этом предприятии англичан, но искажают и самый подвиг. Из кого состояли остальные четыре пятых армии? Из самих туземцев! Ввиду этого нельзя даже сказать, что Индия была завоевана пришельцами, иноземцами; она завоевала сама себя. Если бы мы имели право олицетворять Индию, как мы олицетворяем Францию или Англию, то мы не могли бы сказать, что Индия была завоевана иноземным врагом; вернее было бы сказать, что она сама положила конец господствовавшей в ней анархии, подчинившись единичному правительству, хотя это правительство и находилось в руках иноземцев.
Но и это было бы ложно и неточно, как и вообще всякое выражение, исходящее из понятия об Индии, как о сознательном политическом целом. Истина в том, что Индии собственно не существовало ни в политическом, ни в другом каком-либо смысле. Индия того времени – это географический термин; потому-то она и была легко завоевана, точно так же, как Италия и Германия легко сделались добычей Наполеона: не было ни Италии, ни Германии, не было даже сильного итальянского или немецкого национального сознания. Германии не существовало, и Наполеон имел возможность противопоставлять одно германское государство другому; сражаясь с Австрией или Пруссией, он имел союзницами Баварию и Вюртемберг. Наполеон понял, что перед ним открыт легкий путь к завоеванию Центральной Европы, совершенно так же, как француз Дюпле (Dupleix) очень рано догадался, что путь к покорению Индии открыт для всякого европейского государства, обладающего в ней факториями. Он видел хроническую войну между индийскими государствами и понял, что вмешательство чужеземцев может создать между ними равновесие; он действовал согласно этому взгляду, и история европейского владычества в Индии начинается вмешательством французов в войну за наследство в Гайдерабаде, вспыхнувшую после смерти великого Низама Уль-Мулька (1748).[113]
Подавление восстания сипаев в Мултане в 1858 году
Итак, прежде всего Индия не чуждалась иноземца, в ней не было сознания национального единства; говоря иными словами, Индии не было, и, следовательно, для нее не могло быть в точном смысле иноземцев. Параллельные примеры, как я указал, можно найти и в Европе. Однако если мы хотим действительно понять поразительный факт завоевания Индии при помощи армии сипаев, то должны помнить, что в Индии царила гораздо большая политическая мертвенность, чем в Германии лет восемьдесят назад. В Германии было очень мало пангерманского патриотизма, но в ней было (хотя тоже не бог знает сколько) патриотизма прусского, патриотизма австрийского, баварского, швабского! Наполеону удалось восстановить Баварию против Австрии, и ту и другую – против Пруссии, но он даже не пытался восстановить Баварию, Пруссию или Австрию против самих себя. Говоря яснее, Наполеон посредством договоров добивается того, что электор баварский поставляет контингент войск во французскую армию, которую император французов ведет против Австрии, но Наполеон не пытается даже создать наемную армию из немцев для завоевания Германии. Но если бы он поступал так, то перед нами была бы точная параллель тому, что делалось в Индии. Если вы хотите иметь на почве Европы гипотетическую параллель завоеванию Индии армией, состоящей из четырех пятых туземцев и одной пятой англичан, то вообразите себе, что Англия вторглась во Францию и, предложив хорошую плату, успела составить там армию из французов, – армию достаточно сильную, чтобы завоевать Францию. Самая мысль кажется вам чудовищной. Как, восклицаете вы, армия французов спокойно идет в сражение против Франции! Но если вы поразмыслите, то увидите, что отвлеченно это – вещь вполне возможная и могла бы осуществиться, если бы прошлое Франции было несколько иным. Мы можем представить себе, что во Франции никогда не возникало национального сознания; представить это тем легче, что еще в двенадцатом столетии не прекращаются войны между королем, царствовавшим в Париже, и королем, царствовавшим в Руане. Представим себе далее, что в различных частях Франции еще ранее установились иностранные правительства, то есть что Франция была завоевана раньше и в момент гипотетического английского вторжения находится под гнетом иноземных правителей. И нам нетрудно будет понять, что такая страна, привыкшая к чужеземным вторжениям, благодаря которым в ней постоянно возникают беспорядки, и война по найму сделалась выгодной профессией, наполнится профессиональными солдатами, готовыми поступать на службу любого правительства и биться против любого правительства, туземного или иноземного.
Таково именно было положение Индии. Не англичане первые ввели в ней иноземное владычество: оно там существовало до них. И мы в наших рассуждениях по этому вопросу обыкновенно исходим из совершенно неверного понятия. Гомогенное европейское общество, определенная территория, занятая определенной расой, одним словом, национальное государство нам кажется чем-то естественным и необходимым, хотя на самом деле это явление гораздо более исключительное, чем мы предполагаем. Все наши понятия о патриотизме и общественной добродетели вытекают из идеи о гомогенном обществе. В Индии же понятие о национальности являлось крайне смутным. Различие между национальным и иноземным, по-видимому, было утеряно. Мусульмане, вторгнувшиеся и наводнившие всю страну, начиная с одиннадцатого столетия, не были первыми ее завоевателями: до них мы видим в Индии смешение рас, господство одной расы над другой. Арийцы – народ, говоривший на санскритском языке и давший Индии, как творец браманизма, известную долю единства, – были сами завоевателями, и завоевателями, которым не удалось затопить и окончательно поглотить более древние национальности. В Европе древнейшая неиндогерманская раса почти исчезла и, во всяком случае, не оставила никаких следов в европейских языках; в Индии, обратно, этот древнейший слой повсюду проступает. Разговорные языки Индии не являются простым искажением санскрита, это – смесь санскрита с другими, более древними языками; языки же юга Индии не имеют ничего общего с санскритом. Браманизм, кажущийся с первого взгляда для Индии универсальным, оказывается при ближайшем рассмотрении неопределенным эклектизмом, придавшим вид единства разнородным, не имеющим внутренней связи, суевериям. Отсюда следует, что по отношению к Индии нет места тем предпосылкам, на которых зиждется вся политическая этика запада. Нет гомогенного общества, из которого возникает государство в собственном смысле слова. Чтобы убедиться в этом, даже нет надобности углубляться в столь отдаленное прошлое. Достаточно заметить, что со времен Махмуда из Газни (1001) в Индию постоянно вливается поток мусульман. Большинство правительств в Индии были мусульманскими еще задолго до Моголов, то есть до шестнадцатого века. Следовательно, еще с того времени в большинстве индийских государств национальные узы были порваны. Правительство перестало опираться на право. Государство утратило возможность апеллировать к патриотизму народа.
При таком положении дел то, что мы называем завоеванием Индии англичанами, можно объяснить, не прибегая к предположению, что туземцы Индии были ниже других рас или что англичане превосходят другие расы. Мы считаем долгом каждого человека сражаться с иноземцем за свое отечество. Но что такое отечество? Если мы разберем это понятие, то найдем, что оно может сложиться только тогда, когда человек вырастает среди общества, которое можно рассматривать как обширную семью, что он, естественно, считает свою родину матерью. Если же общество вовсе не имеет характера семьи, а слагается из двух-трех ненавидящих друг друга рас, если отнюдь не вся страна, а только деревня рассматривается как родина, то не вина туземцев, что у них нет иного патриотизма, кроме патриотизма деревни. Менять одно иноземное иго на другое совсем не то, что подпасть под иноземное иго впервые.
Обратив достаточное внимание на этот важный факт, заметим, что выражение «завоевание», когда мы его применяем к факту приобретения Ост-Индской компанией верховенства над Индией, не только слишком вольно, но и ведет к ошибке: оно побуждает нас ставить это событие в разряд событий, на которые оно вовсе не похоже. Как я уже говорил, выражение это каждый раз, когда его употребляют, требует самого точного определения, ибо оно может иметь различный смысл. Во всяком случае, оно может относиться только к деянию, совершенному одним государством относительно другого государства. Два государства ведут между собою войну; армия одного вторгается в другое, ниспровергает его правительство или, по крайней мере, предписывает ему такие унизительные условия, которые практически лишают его независимости, – вот завоевание в точном смысле слова. Следовательно, когда мы говорим, что Англия завоевала Индию, то мы должны предполагать, что нечто подобное произошло между Англией и Индией. Когда Александр Великий завоевал персидскую империю, была война между македонским государством и персидским, во время которой последнее государство было завоевано. Когда Цезарь завоевал Галлию, он действовал от имени Римской республики, занимал должность, на которую был назначен сенатом, командовал армией римского государства. Ничего подобного не было в Индии. Король Англии не объявлял войны ни Великому Моголу, ни набобам или раджам Индии. Английское государство могло бы и вовсе не принять участия в завоевании Индии, если бы ему не пришлось за это время пять раз вступать в войну с Францией. Эта последняя к тому времени уже создала в Индии значительные поселения, почему англо-французские войны переносились и в Индию, где связывались отчасти с войнами, которые вела Ост-Индская компания против туземных государств. Если мы хотим ясно понять природу явления, то должны игнорировать это обстоятельство, как совершенно случайное, и тогда увидим, что ничего подобного завоеванию в точном смысле слова в Индии не происходило. Купцы, жившие в некоторых портовых городах Индии, были почти вынуждены среди анархии, вызванной падением империи Могола, приобрести военный облик и употребить в дело войска; с помощью этих войск они стали приобретать территорию за территорией и приобрели наконец почти всю Индию; эти купцы были англичане, и часть их армии, хотя и незначительная, состояла из англичан.
Итак, мы видим, что занятие Индии – не завоевание извне, а скорее внутренний переворот. В силу общего закона в каждой стране, где правительство ниспровергнуто и царит анархия, должна начаться борьба между уцелевшими организованными силами, причем наиболее могущественная из них учреждает правительство. Во Франции, например, после падения дома Бурбонов в 1792 году, новое правительство было создано главным образом влиянием парижского муниципалитета; когда несколько лет спустя правительство это возбудило неудовольствие, его заменили военным правлением Наполеона. Индия около 1750 года находилась в состоянии анархии, которая была следствием разложения империи Могола, начавшегося по смерти Аурунгзеба в 1707 году. По всей громадной территории власть империи постепенно утрачивается, и упомянутый закон входит в силу. Меньшие организованные силы начинают повсюду объявлять себя верховными. То были чаще всего, согласно обычаю Индии, наемные банды солдат, предводительствуемые или каким-нибудь провинциальным губернатором упадающей империи, или авантюристом, которому удалось стать во главе их, или, наконец, каким-нибудь уцелевшим местным государством, существовавшим еще до установления владычества Могола и никогда ему вполне не подчинявшимся. Так, гайдерабадское правительство было основано сатрапом Великого Могола – Низамом, майсарское – мусульманским авантюристом Гайдер-Али,[114] выдвинувшимся благодаря своим военным способностям, а мараттская конфедерация правителей, во главе которой стояли Пейшвы, была браминской, а не мусульманской державой и представляла собою старую Индию до времен Могола. Но все эти державы равно отстаивали себя помощью наемных войск и жили в таком состоянии хронической войны и взаимного грабежа, какой вряд ли переживала Европа когда-нибудь со времени разложения Каролингской империи.
Такое положение дел было особенно благоприятно для возникновения новых государств. При других обстоятельствах завоевание требует наличности того, что можно назвать основным капиталом. Никто не может его осуществить, если не располагает признанной властью и армией. Здесь же дело обстояло иначе. У Гайдер-Али были только голова и правая рука, и он сделался султаном майсарским. Наемные армии можно было найти везде; они были к услугам всякого, кто мог платить или импонировать им, а тот, кто командовал наемной армией, был равен самым могущественным властителям Индии, потому что при падении власти единственной силой остается военная сила.
К категории таких местных сил Индии, которые при этих исключительных обстоятельствах могли с надеждой на успех домогаться власти, принадлежали также купцы, имевшие фактории в портовых городах. Правда, они были иноземцы, но в Индии это не делало никакой разницы, так как там большинство ее правительств были иноземными; иноземцем был и сам Великий Могол. Много риторических похвал расточалось перед чудесной судьбой Ост-Индской компании. Правда, в известном смысле она была удивительна; подобной судьбы история не знала, и поэтому никто из современников не мог предсказать ее. Но она не была непостижима в том смысле, что ее трудно объяснить или что нельзя отыскать определенной ее причины. Ост-Индская компания имела хороший капитал для начала: она обладала мощью денег, у нее были две или три крепости, она господствовала на море и пользовалась тем преимуществом, что являла собою корпорацию лиц и, следовательно, не подвергалась опасности быть убитой в сражении или умереть от лихорадки. Мы не особенно удивляемся, когда какое-нибудь одно лицо делается повелителем обширной территории только потому, что это случалось часто, а между тем по существу это гораздо удивительнее. Младший сын бедного дворянина Корсики, властвующий над большей частью Европы, должен гораздо больше удивлять нас, чем завоевание Индии Ост-Индской компанией. Бонапарт не имел ничего: ни друзей, ни денег – и успел в двадцать лет не только достичь высшей власти, но и утратить ее. Точно так же возвышение Гайдер-Али или Сциндиаха[115] и других авантюристов было удивительнее и требовало более благосклонности фортуны, чем возвышение Ост-Индской компании. На основании этих сопоставлений вы замечаете, что я желаю отнести это событие к иной категории, чем та, к которой его обыкновенно относят. Оно не было завоеванием одного государства другим. Оно не было событием, в котором были замешаны непосредственно два государства; оно стояло вне ведения министерства иностранных дел. То был внутренний переворот в индийском обществе, – переворот, который можно сравнить с одной из тех внезапных узурпаций или coups d’etat, которыми завершается обыкновенно период смут. Представим на минуту, что достигшие власти купцы были не иностранцы, и это нисколько не изменит природы событий. Мы можем предположить, что известное число парсийских[116] купцов в Бомбее, желая прекратить анархию, стеснявшую их торговлю, устраивают на свои средства крепости и собирают армию и что затем им удается заручиться способными полководцами. В таком случае они могли бы одержать победы при Пласси и Буксаре, исторгнуть у Великого Могола диван[117] или финансовое управление провинции и таким образом положить начало империи, которая с течением времени распространилась бы по всей Индии. Здесь перед нами было бы то же самое событие, но в его истинном свете. Мы признали бы его внутренним переворотом, следствием естественной борьбы, в которую вступает всякое общество с целью положить конец раздирающей его анархии.
В таком событии мы не находили бы ничего чудесного, а между тем усиление Ост-Индской компании было еще гораздо менее чудесным, ибо Компания была тесно связана с Европой и могла располагать при своих военных операциях европейской военной наукой и дисциплиной. Тот самый француз Дюпле, который так ясно выразил теорию завоевания Индии, понял, что туземные армии не могли ни на минуту устоять против европейских войск, и вместе с тем ясно видел, что туземец Индии был вполне способен воспринять европейскую дисциплину и сражаться не хуже европейца. Вот в чем заключался талисман, которым обладала Компания и который дал ей возможность одержать верх над индийскими государствами; он заключался не в каком-либо физическом или нравственном превосходстве, как многие англичане любят воображать, а в дисциплине и военной системе, которую оказалось возможным передать туземцам Индии.
Сверх этого Компания обладала еще одним важным преимуществом. Хотя она, конечно, не была представительницей английского государства, но связь ее с Англией была для нее в высшей степени полезна. Правда, она должна была сама добывать деньги и людей для завоевания Индии, но в качестве Chartered Company обладала монополией английской торговли с Индией и Китаем, и потому в делах ее были заинтересованы и английское правительство, и парламент. Несколько раз случалось, что война, помощью которой Компания приобретала индийские территории, в глазах английской публики носила характер войны между Англией и Францией и встречала горячее сочувствие со стороны нации.
Это факт первостепенной важности, хотя на него часто не обращалось должного внимания. Началом английского завоевания Индии послужила не ссора между Компанией и каким-нибудь туземным государством, а попытка французов, вмешавшись в вопрос о гайдерабадском престолонаследии (войны 1746–1748, 1750–1761), овладеть Деканом и уничтожить английские поселения в Мадрасе и Бомбее. Первым военным шагом Англии была защита от нападения французов, и с того времени в течение без малого семидесяти лет, то есть до окончания войны с Наполеоном, войны англичан в Индии постоянно имели в большей или меньшей степени характер оборонительных войн против Франции. Вот почему эти войны, хотя они и не велись от лица или за счет государства, казались в известной мере национальными, очень близко касавшимися Англии. Ввиду этого войска Компании получали значительную помощь от королевских войск, а с 1785 года, когда генерал-губернатором сделался лорд Корнваллис, из Англии постоянно посылался тот или другой выдающийся государственный человек для заведования политическими и военными делами Индии. Нападки на Компанию в парламенте, вотум порицания лорду Клайву обвинения против Уоррена Гестингса,[118] последовательные министерские проекты урегулирования дел Компании, из коих один, в 1783 году, взволновал весь политический мир Англии,[119] – все эти вмешательства содействовали тому, чтобы придать индийским войнам англичан характер национальных войн и отождествить Компанию с английской нацией. Таким образом, Компания фактически пользовалась кредитом и влиянием первоклассной европейской державы, хотя эта держава мало участвовала в войнах, посредством которых Компания приобретала территории.
Слова «удивительный», «необыкновенный» часто применяются к великим историческим событиям, и нет события, к которому они применялись бы чаще, чем к завоеванию Индии. Событие может быть, в известном смысле, удивительным или странным и вместе с тем легко объяснимым. Завоевание Индии очень необыкновенно в том смысле, что ничего подобного ранее не бывало, и потому ничего подобного не могли ожидать те, которые в течение первого полутора столетия управляли делами Компании. Без сомнения, ни Джоб Чарнок (Job Charnock), ни Джозия Чайльд (Josiah Child),[120] ни губернатор Питт (Pitt) в Мадрасе (дед великого лорда Чатама), ни майор Лоренс даже и не мечтали, что их потомки когда-нибудь ниспровергнут власть Пейшвы из мараттов и даже самого Великого Могола. Но это событие отнюдь не является удивительным в том смысле, что трудно отыскать причины, которыми оно было вызвано. Припомним прежде всего, что авторитет власти в Индии вследствие падения могольской империи был ниспровергнут, что там все ждало тех рук, которые примут эту власть, что повсюду авантюристы всех родов создавали империи, – и мы не найдем ничего удивительного в том, что купеческая корпорация, обладавшая деньгами для содержания наемной силы, успешно соперничала с этими авантюристами и одержала верх над своими соперниками при помощи английской военной науки и английских военачальников; это тем более естественно, что эта Компания могла всегда опираться на авторитет и силу Англии и управлялась постоянно государственными людьми Англии.
Из всего, мною сказанного, видно, что завоевание Индии не было вовсе завоеванием в обыкновенном смысле слова, ибо оно не было деянием государства и было выполнено армией и деньгами, не принадлежащими государству. Я указал на это с тем, чтобы уничтожить ни с чем не сообразное представление, что Англия, оставаясь невоенной державой, не ощущая истощения и не делая значительных затрат, завоевала Индию, то есть страну, равную по населению Европе и отстоящую на расстоянии многих тысяч миль. Противоречие это объясняется просто. Англия не совершила завоевания Индии в строгом смысле слова. Известное число англичан, которым пришлось жить в Индии в эпоху падения империи Могола, были настолько же счастливы, как Гайдер-Али и Рунджит Синдхья, и потому достигли верховной власти.
По своему фактическому результату событие это равносильно завоеванию Индии Англией, ибо теперь, когда процесс завершен, с упразднением Ост-Индской компании королева Виктория сделалась императрицей Индии, и секретарь по индийским делам является членом английского кабинета, заседает в парламенте и ответствен за управление этой империи. Англия, как государство, этого приобретения не делала, оно само ей досталось. Здесь мы видим воплощение того общего принципа, который, как я указывал выше, управлял со времен Колумба всеми колониями европейцев вне Европы. Как бы они ни были далеки, как бы ни были велики их успехи, они никогда не были в состоянии с самого начала свергнуть с себя свою европейскую гражданственность. Кортес и Писарро раздавили найденные ими в Америке правительства. Почти без всякого усилия они повсюду установили свое верховенство. Им удалось уничтожить в Мексике власть Монтесумы, но они не могли даже мечтать противиться власти Карла V, находившегося по другую сторону Атлантического океана. Благодаря этому все, что ни завоевывали они благодаря своей неудержимой дерзости и силе, – все немедленно, словно по праву, было конфисковано Испанией. То же самое случилось и с англичанами в Индии. После 1765 года Ост-Индская компания номинально заняла высокий пост в империи Великого Могола.[121] Английский парламент издает указ, что всякое территориальное приобретение, которое может быть сделано Компанией, должно находиться под его контролем. Имя Великого Могола почти не упоминается в прениях, и, по-видимому, никто не интересуется, согласился ли он, чтобы управление его провинций – Бенгала, Бихара и Ориссы – находилось под контролем иноземного правительства. Компания являлась одновременно частью двух государств. Она была Компанией, подчиненной хартии английского короля, и в то же время диваном, подчиненным власти Великого Могола. Она низложила власть Великого Могола, как Кортес низложил Монтесуму; но она кротко передала все свои необъятные приобретения под контроль Англии и наконец, в 1857 году, по прошествии ста лет после битвы при Пласси, подверглась упразднению, уступив Индию английскому правительству.
Лекция 12 Как Англия управляет Индией
Я рассмотрел природу тех отношений, в которых Индия стоит к Англии; я показал далее, каким образом можно объяснить возникновение этих отношений, не апеллируя к чуду. Теперь мы можем еще подвинуться на шаг вперед и решить, могут ли эти отношения продолжаться без вмешательства чуда, или, быть может, мы должны рассматривать английское управление в Индии, как вид политического tour de force, как явление, самая длительность которого должна нас поражать и которое в будущем уж, конечно, не может быть долговечным. Все это я говорю потому, что главное затруднение, с которым приходится бороться английскому историку при изучении индийских дел, состоит в ослепляющем влиянии событий, столь странных, столь отдаленных и столь грандиозных, что они побуждают нас считать обычные законы причинности неприложимыми в Индии, где все чудесно. Риторический тон, столь принятый в истории, благоприятствует этой иллюзии; историки любят выдвигать все странные и чудесные черты Индийской империи, точно ставят своею целью не объяснение того, что происходит, а изображение его в таком виде, чтобы оно казалось возможно менее объяснимым.
Вследствие этого в Англии склонны считать свое господство в Индии исключением из всех исторических законов, каким-то чудом политики – чудом, которое можно объяснить только геройством английской расы и прирожденным ей гением управления. Конечно, пока мы будем держаться такого взгляда, мы не будем в состоянии выяснить себе, насколько долго может продолжаться это господство. То, что с самого начала было чудом, и до конца останется чудом. Если временно действие общих законов приостановлено, то кто скажет, как долго может длиться такое положение вещей? Я старался взглянуть спокойно на возникновение Индийской империи. Я рассмотрел завоевание Индии и нашел, что оно может быть названо удивительным только в том смысле, что не походит на все пережитое раньше. Но перевороты в азиатском обществе, естественно, не походят на европейские перевороты, и завоевание Индии отнюдь не является чудесным, то есть оно объяснимо и даже легко объяснимо. Теперь я приступаю к вопросу, является ли чудом, то есть объясним ли факт английского правления в Индии.
Он, конечно, должен казаться чудом, раз мы допустим, что Индия – завоеванная страна и что англичане – ее завоеватели. Кому не известно, как трудно подавить недовольство покоренного населения? Невозможность подавления доказывалась многократно даже в тех случаях, когда превосходство в численности и качестве войск было решительно на стороне победителей.
Испанцы, потерпевшие неудачу в Нидерландах, были в то время лучшими солдатами, а Испания – самой могущественной державой христианского мира. Инстинкт национальности или религиозный сепаратизм могут с лихвой заменить храбрость и дисциплину, ибо они – достояние всего населения, а не одной сражающейся его части. Возьмем параллельный случай – Италию. Италии на карте Европы соответствует Индия на карте Азии. Она – такой же южный полуостров материка с высоким горным кряжем на севере, южнее которого течет с запада на восток большая река. Сходство усиливается тем, что и Италия в течение многих веков была добычей иноземных пришельцев. Еще недавно она находилась под верховенством, а отчасти и под непосредственным управлением Австрии. Жители ее были менее войнолюбивы, войска хуже, чем у Австрии, Австрия была тут под боком, – и что же? Даже при таких неблагоприятных условиях борьбы Италия освободилась. В сражениях ее постоянно разбивали, но в глубине народных масс чувство национальности было так сильно, и извне она приобретала столько сочувствия, что добилась того, чего домогалась: чужеземцы должны были предоставить ее самой себе. Что касается Индии, то относительно Англии она находится в условиях, гораздо более благоприятных, чем Италия по отношению к Австрии. Численность ее населения превосходит в восемь раз население Англии; она находится на другой стороне земного шара, к тому же Англия не является военной державой, – и несмотря на это, Индия подчиняется английскому игу: мы не слышим о возмущениях. При управлении Индией Англия встречает затруднения, но главным образом финансовые и экономические. Той специфической трудности, с которой пришлось бороться Австрии в Италии, Англия не встречает: ей не приходится подавлять недовольства завоеванной национальности. Разве это не чудо? Разве это не полная отмена общих исторических законов? Разве мы не вправе предположить, что покорность индуса беспредельна и административный гений англичан несравним?
Высказанное мною раньше могло вас отчасти подготовить к ответу, который я дам на поставленный вопрос. В самом вопросе уже имеются два допущения: во-первых, что Индия представляет собою национальность и, во-вторых, что эта национальность была завоевана англичанами; и оба допущения совершенно необоснованны.
Понятие, что Индия представляет собою национальность, покоится на общераспространенной грубой ошибке, искоренение которой является важной задачей политической науки. Живя в Европе и видя постоянно карту Европы, разделенную на страны, которые приурочены к отдельным национальностям, обладающим специальными языками, мы постоянно впадаем в глубокое заблуждение. Мы полагаем, что везде, как в Европе, так и вне ее, где есть страна, носящая особое название, есть и соответствующая ей национальность; при этом мы не стараемся ясно усвоить и в точности определить, что именно называем мы национальностью. Мы знаем, что англичанам очень не хотелось бы, чтобы ими управляли французы, что французам было бы тяжело жить под управлением немцев, – и из подобных примеров выводим заключение, что народы Индии должны также чувствовать тягостное унижение, находясь под управлением англичан. Подобные понятия порождаются умственной ленью и невниманием. Этого нет надобности доказывать, и достаточно просто сказать, что не всякое население составляет национальность. Англичане и французы являются не просто населением определенных стран, но населением, связанным крайне специальными силами сцепления. Взглянем на некоторые из этих связующих сил и затем спросим себя, оказывают ли они какое-либо действие на жителей, населяющих Индию?
Первая связующая сила – это общность расы или скорее вера в общность расы; эта вера, принимая широкие размеры, отождествляется с общностью языка. Англичане – те, кто говорят по-английски; французы – те, кто говорят по-французски. Говорят ли обитатели Индии на одном языке? Нет! Про них можно это утверждать с тем же или даже с меньшим правом, чем про все население Европы, взятое вместе. Так много было говорено филологами о санскритском языке и его родстве с европейскими языками, что, для избежания недоразумения, необходимо заметить, что в качестве связующей силы может действовать только вполне явная общность языка, признаком которой является его общепонятность, а отнюдь не какое-либо скрытое родство. Так, итальянцы смотрели на австрийцев как на иностранцев, потому что те не понимали итальянского языка; ни тому, ни другому народу и в голову не приходило принимать в соображение, что как немецкий, так и итальянский языки суть языки индоевропейские. Между отдельными арийскими языками Индии существует родство, подобное тому, какое существует между отдельными европейскими языками, и различные индусские языки, как происшедшие от общего древнего языка, можно приравнять к романским языкам Европы; потому родство языков бенгали, магаратхи и гуджарати не способствует слиянию народов, говорящих на них, в один народ. Индустани возник как результат мусульманского завоевания, вследствие смешения персидского языка завоевателей с индусским языком туземцев. На юге же полуострова мы встречаем большую разобщенность языков, чем где-либо в Европе, ибо великие языки юга – тамиль, телугу и канарезе – не принадлежат даже к индоевропейским, а на них говорит население, значительно превосходящее численностью финнов и мадьяр, то есть европейское население неиндоевропейского языка.[122] Этот факт сам по себе уже показывает, что название Индии не следует ставить в одну категорию с такими названиями, которые, подобно названиям «Англия» или «Франция», отвечают национальности; его следует скорее отнести к таким названиям, как «Европа», то есть к названиям, обозначающим группу национальностей, получивших общее наименование благодаря физико-географической обособленности. Подобно «Европе», «Индия» есть географическое выражение, и притом выражение, которое понималось далеко не так однообразно, как выражение «Европа». Название «Европа» употребляется почти в одном и том же смысле со времен Геродота, тогда как наше современное употребление слова «Индия» далеко не так древне. Нам кажется естественным, что вся страна, отделенная от Азии громадой Гималайских гор и Сулейманскими хребтами, должна носить одно название. Но не всегда это казалось естественным. Греки имели очень смутное понятие об этой стране; для них слово «Индия» действительно отвечало своему этимологическому смыслу, то есть обозначало область реки Инда. Когда они говорят, что Александр вторгся в Индию, они имеют в виду Пенджаб. Позже они приобрели некоторые сведения о долине Ганга, но о Декане не знали ничего или почти ничего.
При этом и в самой Индии не было потребности, как у нас, давать всей стране одно название, ибо между ее северными и южными частями существует значительная разница. Великая арийская народность, говорившая на санскрите и создавшая брамизм, распространилась главным образом из Пенджаба и шла вдоль долины Ганга, не подвигаясь первоначально далеко на юг. Поэтому и название «Индостан», собственно, принадлежит этой северной стране. На юге, то есть на полуострове, мы находим другие расы и неарийские языки, хотя брамизм распространился и там. Даже империя Могола, в эпоху своего расцвета, не проникала далеко в эту страну.
Итак, «Индия» не есть политическое название – это географическое выражение, подобное «Европе» или «Африке». Оно обозначает не территорию определенной нации или определенного языка, а территорию многих наций и многих языков. В этом лежит основное различие между Индией и странами, подобными Италии, где принцип национальности уже утвердился. Обе страны – и Индия, и Италия – были равно разделены на множество государств, а потому не имели силы противостоять иноземцу; но Италия, хотя и раздробленная политически, оставалась единой в своей национальности. Один язык обнимал всю страну, и из этого языка возникла великая литература, сделавшаяся достоянием всего полуострова. Индия же, как я указал, была столь же мало сплочена общим языком, как Европа в ее целом.
Но национальность слагается из нескольких элементов, и чувство единства составляет только один из них. Другим элементом является сознание общности интересов и привычка составлять единое политическое целое. В Индии этот элемент был также очень слаб, хотя и не вполне отсутствовал. Может, пожалуй, казаться, что страна была слишком обширна для зарождения подобного сознания; однако преграды, отделяющие Индию от остального мира, так колоссальны по сравнению с преградами, отделявшими друг от друга части Индии, что, наперекор всем этническим и местным делениям, с самых древних времен существовало смутное представление об Индии, как о возможном целом. В туманных исторических сказаниях времен, предшествовавших Махмуду из Газни, смутно упоминается то о том, то о другом царе, что он был владыкой всей Индии; власть же некоторых из князей магометанского периода и наконец авторитет империи Могола были для Индии почти универсальны. И все же мы не должны преувеличивать значение империи Могола, не должны воображать, что для Индии она была тем же, чем была Римская империя для Европы. Заметьте кратковременность ее существования. Начало ее возникновения должно быть отнесено к 1524 году, то есть к году взятия Лагора Бабером, в царствование Генриха VIII. Когда Васко да Гама пристал к Индии, империи Могола еще не существовало, а между тем ее быстрое, явное падение началось уже с 1707 года, то есть в царствование королевы Анны. Другими словами, весь период ее существования составляет менее двух столетий. Заметим далее, что настоящей империи еще не существует в момент вступления Бабера в Индию и что ее существование, как таковой, начинается с того момента, когда владения моголов распространились. При вступлении на престол Акбера в 1559 году, то есть через год по восшествии королевы Елизаветы, империя его состояла еще только из Пенджаба и страны вокруг Дели и Агры. Акбер завоевал Бенгалию лишь в 1576 году, а Синд и Гузерат – между 1591 и 1594 годами. Тогда его империя действительно сделалась обширной; но если моментом ее основания вместо 1524 года мы примем 1594 год, то должны будем признать ее продолжительность равной одному столетию с небольшим.
Но и за этот короткий период империя далеко не обнимает всей Индии. Воображать это – значило бы смешивать Индию с Индостаном. В 1595 году владычество Акбера ограничивалось Нербуддой:[123] в Декан он еще не вступал. Он был императором Индостана, но не Индии. В последние годы царствования он вторгся в Декан. С этого времени, правда, моголы предъявили свою власть и на южную половину Индии, но Декан, во всяком случае, не был завоеван до великого похода Аурунгзеба в 1683 году. С этого времени, если хотите, можно считать, что империя Могола включает и Декан, то есть соединяет всю Индию под одним правительством; но нельзя забывать, что подчинение Декана всегда оставалось номинальным, ибо тогда уже начиналось быстрое возвышение мараттов. В таком объеме империя Могола могла просуществовать лишь один момент, ибо самое расширение ее владений было куплено ценой гибели. Спустя двадцать четыре года ее упадок сделается явным, и, как мне кажется, причиной его послужил честолюбивый поход на юг. Империи всегда не хватало достаточного ядра, и эта неблагоразумная попытка расширить границы истощила ее силы.
Таким образом, можно вообще сказать, что Индия никогда до англичан не была настолько объединена, чтобы образовать одно государство. Но и под властью англичан это объединение завершилось только в генерал-губернаторство лорда Дальгаузи, то есть тридцать лет назад, когда в английские владения были включены Пенджаб, Ауд и Нагпур.[124]
Третьим важным элементом национальности является общность религии. Этот элемент до известной степени в Индии присутствует; брамизм действительно распространен по всей стране, но, конечно, не в том смысле, что он является единственной религией. В Индии живет не менее пятидесяти миллионов мусульман, то есть гораздо большее их число, чем то, какое населяет турецкую империю. Есть там также небольшое число сикхов,[125] исповедующих религию, которая является слиянием магометанства с брамизмом; есть некоторое число и христиан, а на Цейлоне и в Непале[126] живут буддисты. Однако брамизм является религией громадного большинства, притом он обладает такой жизненностью, что неоднократно выдерживал сильные натиски. Так, в Индии возникло одно из самых могущественных, самых заразительных вероисповеданий, – буддизм. Он распространился в ней широко и далеко: имеются доказательства, что буддизм был в силе еще за два столетия до Р. Х. и продолжал еще процветать в седьмом веке после Р. Х. И что же? Брамизм победил буддизм, который в настоящее время более процветает в других частях Азии, чем в стране, породившей его. После этой победы брамизм должен был выдержать натиск другой могучей агрессивной религии – натиск магометанства, перед которым уже пала религия Зороастра, и само христианство должно было отступить на несколько шагов. Но брамизм устоял; мусульманские правительства распространились по всей Индии, но не могли совратить народа.
Итак, я признаю общность религии самым сильным и важным элементом национальности; и оказывается, что элемент этот присутствует в Индии. Когда мы говорим, что Индию следует скорее сравнивать с Европой, чем с Францией и Англией, то мы должны помнить, что Европа, как христианская страна, обладала, и теперь еще обладает, известным единством; это единство проявилось бы немедленно и во всей полноте, если бы Европе угрожали, как это и бывало неоднократно в Средние века, варвары или язычники. Поэтому должно казаться, что в брамизме Индия имеет тот зародыш, из которого рано или поздно может развиться индийская национальность. Быть может, это и так; но все-таки мы должны заметить, что в таком случае эта национальность должна была бы развиться уже давно: мусульманские нашествия, повторявшиеся в течение многих веков, оказывали давление на религию, которое должно было бы особенно благоприятствовать развитию зародыша. Отчего же брамизм удовольствовался тем, что он отстоял себя против ислама, а не поднял Индии против завоевателя и не объединил ее? А этого он не сделал. В Индию образовались браминские государства. В половине семнадцатого века явился вождь по имени Сиваджи.[127] Он овладел двумя фортами на плоскогорье позади Бомбея и основал державу маратти. Это была чисто индусская организация, и по мере роста своего могущества она подпадала все более и более под влияние браманской касты. Упадок империи Моголов благоприятствовал ее успехам, и в середине восемнадцатого столетия разветвления мараттской конфедерации покрыли почти всю Индию. Можно было думать, что в этой конфедерации заключается ядро индийской национальности, что брамизм сделает для индусов то, что религия сделала для многих других рас; но ничего подобного не произошло. Брамизм не перешел в патриотизм. Быть может, его легкая емкость, вследствие которой он был, в сущности, не религией, а скорее компромиссом между несколькими религиями, ослабила его, как объединяющий принцип. Как бы то ни было, но в мараттском движении не оказалось ничего возвышенного и патриотического – с начала и до конца оно оставалось организованным разбоем.
Итак, индийской национальности сейчас не существует, хотя есть некоторые ее зародыши, развитие которых представимо. Этот именно факт, а отнюдь не превосходство английской расы делает английскую империю в Индии возможной. Если бы в Индии могло возникнуть народное движение, подобное тому, какое мы видели в Италии, то английское господство не было бы в состоянии оказать и того сопротивления, какое оказала Австрия в Италии: оно должно было бы сразу пасть. На самом деле, каким образом Англия, не будучи военной державой, могла бы подавить восстание 250 миллионов подданных? Вы ответите, что Англия сможет их снова завоевать, как завоевала прежде. Но я объяснил уже, что она никогда не завоевывала Индии. Я показал вам, что английская победоносная армия состояла на четыре пятых из туземных войск, что самая возможность нанимать эти войска для службы объясняется тем, что в Индии не существовало чувства национальности. Если бы сознание национальной общности пробудилось даже в той слабой степени, в которой оно еще не возбуждает активного желания выгнать иноземца, но делает доступным пониманию, что помогать ему в утверждении владычества позорно, – с того самого дня английская империя в Индии перестанет существовать, ибо две трети стерегущей ее армии состоят из туземных солдат. Представьте себе, как легка была бы задача итальянских патриотов, если бы австрийцы, которых они хотели изгнать, опирались не на австрийских, а на итальянских солдат! Нам не надо предполагать возмущения со стороны туземной армии: достаточно допустить, что набор туземных солдат сделался невозможным, чтобы ясно понять невозможность для Англии удерживать при таких условиях Индию. Ибо Англия может владеть индийской империей только при условии, что набор туземного войска не стоит ей больших усилий. Англичане приобрели Индию без особого напряжения государства, и сохранение ее за Англией не должно требовать особых от нее усилий. Англия не в состоянии тратить миллионы за миллионами и жертвовать одной армией за другой ради защиты своего приобретения. С того момента, когда Индия действительно сделается тем, чем мы ее теперь неправильно воображаем, то есть завоеванной страной, англичане должны будут поневоле признать невозможность удержать ее.
Так, при ближайшем рассмотрении исчезает мистический ореол чудесного, окружающий индийскую империю. Он исчезает, когда мы начинаем сознавать, что англичане, оставаясь иноземными властелинами Индии, не являются ее завоевателями, опирающимися на превосходство силы, когда мы отвергаем европейский предрассудок, что англичане, управляя не по воле индийского народа, должны непременно править против его воли. Любовь к независимости предполагает политическое сознание. Где его нет, там на иностранное правительство смотрят пассивно, и оно может существовать долго, может даже процветать, не отличаясь особенным искусством. Это пассивное отношение к правительству становится обычным в стране, часто подвергавшейся завоеванию. Самые агрессивные правительства, но обладавшие средствами подавить восстание, если бы оно вспыхнуло, держались лишь потому, что народ не привык восставать и приучился к покорности. Прочтите историю русских царей в шестнадцатом веке. Как могло громадное население подчиняться диким прихотям Иоанна Грозного? Ответ прост: народ находился два века под игом монголов и приобрел привычку к пассивной покорности.
Не вправе ли мы ожидать, что подобное настроение должно было господствовать и среди населения Индии? Во всей истории и преданиях Индии не сохранилось почти никаких следов свободы и народных учреждений. Итальянцы имели за собою Римскую республику, и Риенци склоняет их к восстанию, читая народу Ливия. Индийский демагог не нашел бы ни одной книги, чтобы читать ее перед народом. В течение семисот лет, до пришествия англичан, индусами правили деспоты, и к тому же иноземные деспоты. Было бы истинным чудом, если бы в такой стране зародилась идея, что правительство существует для народа и зависит от народа, или если бы в нем создалась привычка критиковать правительство, замышлять его ниспровержение или организовать сопротивление ему. Народы вообще обладают малоподвижными суставами. Они нелегко обучаются новым движениям, они повторяют движения отцов, повторяют и тогда, когда воображают, что очень оригинальны. Даже французская революция, как было доказано, очень походила на некоторые из более ранних глав французской истории; нет сомнения, что последнее националистическое движение Италии походило на такие же движения, бывшие еще до времен Данте. На основании этого правила можно с уверенностью предсказать, что индийский народ безмолвно подчинится всякому сильному правительству, хотя бы оно было иноземным, подобно английскому, и крайне агрессивным, чего, кажется, об английском правительстве сказать нельзя.
Управление Индией было бы чудом при наличности двух условий: во-первых, если бы индусы привыкли управляться своими соотечественниками и если бы они были знакомы с идеей о противлении власти. Так как ни того, ни другого условия в Индии нет, то индусы совершенно так же подчиняются Англии, как вообще громадные населения подчинялись правительствам, которых они не могли легко низвергнуть, как китайцы в наши дни подчиняются маньчжурскому господству, как сами индусы подчинялись до прибытия англичан власти Могола. Самый факт господства Могола ясно показывает, что власть англичан над индусами не доказывает их сверхъестественных государственных способностей, ибо всякий, читая историю моголов, поражается тем самым, что нас удивляет в истории английского управления Индией: именно то, что моголы завоевали Индию почти без видимых на то средств. Бабер, основатель империи, явился в Индию, не имея позади себя могучего народа и не опираясь на организацию сильного государства. Он унаследовал небольшое татарское царство в Центральной Азии, но лишился его вследствие набега осбегов. Некоторое время он скитается бездомным авантюристом и затем овладевает другим незначительным царством в Афганистане. Таков был первый ничтожный зародыш империи. Этот татарский авантюрист, управлявший афганцами в Кабуле, основал империю, которая лет через семьдесят обнимала половину Индии, а еще через сотню лет распространилась, по крайней мере, номинально, по всей стране. Я не говорю, что Могольскую империю, по величию или прочности, можно сравнить с тою, которую основали англичане; но, подобно их империи и даже в большей мере, она была создана как бы чудом. У Компании были по крайней мере английские деньги, английская военная наука и бессмертие корпорации. Бабер и его преемники не обладали ни одним из этих преимуществ. Трудно открыть какие-либо причины, которые могли благоприятствовать росту их империи. Можно только сказать, что Центральная Азия кишела бродячим населением, готовым поступить в наемные солдаты, и что оно очень охотно шло за плату и возможность грабежа на службу кабульского повелителя.
Во-вторых, правление англичан было бы достойно удивления, если бы все двести миллионов индусов привыкли думать, как один народ. В противном случае в нем нет ничего удивительного. Простую массу индивидуумов, не связанных между собою общностью чувств или интересов, подчинить нетрудно, ибо их можно восстановить друг против друга. Я уже указал, насколько слабы и недостаточны были узы, связывавшие индусов. Если вы хотите узнать, как благоприятствовал правлению англичан этот недостаток внутреннего единства, вам стоит только прочитать историю великого мятежа 1857 года.[128] Быть может, когда я говорил вам о неизбежной гибельности для английской империи всякого мятежа среди туземных войск, вы вспомнили, что именно такой мятеж случился в 1857 году и что, несмотря на это, индийская империя продолжает процветать. Однако вам следовало заметить, что я говорил о мятеже, вызванном националистическим движением в среде народа, – движением, которое постепенно охватывает армию. Мятеж 1857 года был другого рода. Он начался в армии, был встречен народом пассивно; возбужден он был не национальным чувством ненависти к английскому правительству, как иноземному, а недовольством в армии, обусловленным специальными причинами. Теперь спросим себя: каким образом мятеж был подавлен? Я с ужасом думаю, что в Англии всегда господствовало мнение, будто бы он был подавлен изумительным геройством англичан и их бесконечным превосходством над индусами. Позвольте прочитать вам то, что говорит по этому поводу полковник Чини в его сочинении «Indian Polity». Он указывает на возникновение в бенгальской армии очень сильного esprit de corps (надо помнить, что бомбейская и мадрасская армия были мало замешаны в мятеже); esprit de corps – явление чисто военное и прямо противоположное чувству национальности, так как оно сплачивало индусский и мусульманский элементы. В подтверждение этого можно привести место из того же Чини, где он говорит: «При дурной дисциплине являлось сильное чувство раздражения против властей, сознание своей силы и возможности их низвержения, и при этом не было никакого разделения между индусами и мусульманами». Далее, описывая то противодвижение, которым было встречено возмущение, он говорит: «К счастью, гарнизоны в бенгальском президентстве не состояли исключительно из регулярной армии. Четыре батальона гуркхов, жителей непальских Гималаев, которых содержали отдельно от остальной армии, не заразились ее классовым чувством и, за одним исключением, остались лояльными; выдающаяся храбрость и преданность британскому делу, выказанные в особенности одним из этих полков, возбудили удивление их английских сотоварищей. Два линейных полка, особо набранных в Пенджабе и его окрестностях, также остались верными. Но наибольшую помощь оказала так называемая пенджабская иррегулярная армия, которая была, в сущности, организована не менее методично и правильно, чем регулярная, и была также хорошо обучена, отличаясь гораздо даже лучшей дисциплиной. Эта армия состояла из шести полков пехоты и пяти кавалерии, и к ним нужно присоединить еще четыре полка местной инфантерии сикхов, обыкновенно стоявших в Пенджабе. Эти войска находились в непосредственном заведовании правительства этой провинции и не были подчинены той системе централизованной администрации, которая сильно помогла подтачиванию дисциплины в регулярной армии. Помощью этих-то войск и горсти европейцев, находившихся в верхней Индии, был сначала встречен мятеж. Между тем симпатии жителей Пенджаба были привлечены на сторону правительства. Как недавно покоренный народ, которого обычное военное занятие прекратилось вследствие распущения их армии, они не питали особой приязни к индусским гарнизонам, занимавшим их страну, и охотно откликнулись на призыв под оружие ради ниспровержения своих исконных врагов. Потребное число людей быстро явилось, и собранные таким образом новобранцы были выброшены на театр военных действий так скоро, как позволяла их экипировка и обучение. При реорганизации бенгальской армии эти пенджабские новобранцы вошли в состав ее в значительном числе».
Из этого вы видите, что мятеж был подавлен в значительной мере путем противопоставлений одних индийских рас другим. До тех пор, пока можно будет пользоваться этим средством, пока население не составит себе привычки критиковать свое правительство и восставать против него, английское управление Индией будет возможно, и в нем не будет ничего чудесного. Но, как я уже сказал, если это положение вещей изменится, если каким-либо процессом население сплотится в одну национальность, если отношение англичан к ней станет сколько-нибудь походить на отношение между Австрией и Италией, то англичанам не только придется начать опасаться за их господство, – они прямо должны будут сразу отказаться от всякой надежды сохранить его. Я не представляю себе, чтобы та опасность, которая грозит Англии в Индии, проявилась в форме народного восстания. В некоторой части алармистской литературы, например, в книге Эллиота (Elliot), озаглавленной: «Об индийских делах Джона» (Conserning John’s Indian afairs), описываются раздирательные картины бедствий, претерпеваемых бедными земледельцами Индии, и делается заключение, что эти бедствия должны повести к взрыву отчаяния, последствием которого будет изгнание англичан. Здесь не место разбирать, верны ли эти описания; но, допуская, ради аргументации, их основательность, я все-таки не вижу в истории примеров, чтобы революция рождалась из таких причин. Я вижу огромные населения в течение целых столетий согбенными до земли под самыми унизительными бедствиями; они не прибегают к восстаниям, нет! – если они жить не могут, они умирают; если они едва-едва могут жить, они живут, довольствуясь этим; их чувства притуплены, желания уничтожены нуждою. Если народ решается на восстание, значит, он несколько воспрянул, начинает надеяться, начинает сознавать свою силу. Но такое восстание будет подавлено туземными солдатами, если они к тому времени еще не сознают себя братьями индусам и чуждыми своим командирам-англичанам. С другой стороны, если когда-нибудь подобное сознание вырастет, если Индия начнет дышать, как одно национальное целое, – а английское правление, быть может, более всех прежних правлений способствует этому, – тогда дело обойдется без всякого взрыва отчаяния, ибо национальное чувство быстро охватит туземную армию, от которой Англия всецело зависит. Англия была в состоянии подавить грозный мятеж 1857 года только потому, что он распространился лишь на часть туземной армии, что народ в действительности не сочувствовал ему и что англичане, следовательно, имели возможность отыскать туземные индийские расы, соглашавшиеся сражаться на их стороне. Но в тот момент, когда явится возможность мятежа, который будет не простым мятежом, а восстанием – выражением всеобщего чувства сознанной национальности, англичане должны будут проститься со всякой надеждой и оставить всякое стремление сохранить свою империю. Ибо они, собственно, не завоеватели Индии и потому не могут править ею в качестве завоевателей. А если они решатся на такую попытку, то она неминуемо повлечет за собою полное финансовое крушение Англии.
Лекция 13 Взаимное влияние Англии и Индии
В двух последних лекциях я старался показать, что завоевание Индии и управление ею англичанами не представляют собою ничего удивительного в известном смысле этого слова. Англичане могут справедливо гордиться многими деяниями своих соотечественников в Индии и многими людьми, выказавшими редкую энергию и талант в управлении; но было бы заблуждением предполагать, что самое существование империи является незыблемым доказательством громадного превосходства английской расы над расами Индии. Не прибегая к признанию этого превосходства, мы можем указать на причины, достаточно объясняющие рост и непрерывное существование империи. Следовательно, в этом явлении нет ничего удивительного, если под словом «удивительное» подразумеваем мы чудесное или трудно объяснимое обычной причинностью.
Тем не менее, в другом смысле империя эта представляет собою нечто удивительное, и даже гораздо более удивительное, чем обыкновенно предполагают. Однако достойными удивления нам кажутся не причины, породившие ее существование, а те последствия, которыми это существование сопровождалось. Другими словами, она имеет важное значение специально в историческом смысле, ибо мы уже говорили, что историческая важность событий измеряется их чреватостью последствиями. Применяя эту мерку, мы уже выдвинули вперед несколько событий в истории Англии (особенно американскую революцию), которые, не представляя собою ни драматизма, ни романтического интереса, изучаются обыкновенно слишком поверхностно. Позвольте теперь заметить, что, если индийская империя при ближайшем рассмотрении и покажется менее чудесной, зато она столько же выиграет в историческом отношении, сколько потеряет в романтическом.
Обширная восточная империя сама по себе не является чем-то интересным и исключительно важным. В Азии существовало много таких империй, которые в историческом отношении имели меньше значения, чем какой-нибудь греческий или тосканский город-республика. То, что они были обширны и существовали долго, еще не делает их интересными. Обыкновенно при ближайшем знакомстве мы находим, что они стояли на низкой ступени организации и оказывали такое давление на личность, что в них не было ни счастья, ни прогресса и не совершалось ничего достопамятного. Быть может, первым впечатлением от английской империи в Индии, когда мы обратим на нее внимание, будет то, что и она, в сущности, ничем не интереснее остальных разросшихся азиатских деспотий. Правда, можно быть уверенным, что благодаря контролю английского общественного мнения эта империя стоит на более высоком уровне развития, нравственности и человеколюбия, чем стояла империя Могола, которой она наследовала. В лучшем случае мы можем считать ее хорошим образцом дурной политической системы. И англичане вовсе не расположены гордиться ролью наследников Великого Могола. Несмотря на все достоинства английской администрации, мы сомневаемся, чтобы подданные империи были счастливы; мы даже сомневаемся в том, что правление англичан подготавливает индусов к более счастливому положению, и опасаемся, что оно погружает их еще в большую глубину несчастия; мы даже считаем возможным, что настоящее азиатское правительство или, еще лучше, народное правительство, возникшее из среды индусского населения, в конце концов могло бы оказаться более благотворным: оно было бы более сродно, хотя и менее цивилизованно, чем такое чуждое и несимпатичное управление, как управление англичан.
Однако мы должны помнить, что не все империи лишены исторического интереса. Не такова, например, Римская империя. В настоящее время я могу смело утверждать это, ибо наши взгляды на историю за последнее время стали не так исключительны. А между тем еще недавно даже Римская империя считалась неинтересной потому, что это была деспотическая, в некоторые периоды несчастливая и полуварварская империя. Прошлое поколение держалось того мнения, что в политике хороша лишь свобода, и сообразно с этим все те периоды истории, в которых свободы нет, должны быть выпущены и как бы вычеркнуты. Наряду с таким мнением господствовала привычка читать историю так, как мы читаем поэзию, то есть исключительно ради возвышенного удовольствия: как только читатель доходил до периода, в котором не было ничего блестящего или трогающего душу, он закрывал книгу. В те времена, наверно, была осуждена и Римская империя. Римская республика уважалась за свою свободу, а ранняя Римская империя изучалась ради отыскания в ней следов свободы. Но, дойдя до конца второго столетия, книгу закрывали, как будто все, что следовало затем в течение десяти веков, являло собою упадок и разрушение. Интерес к читаемому пробуждался снова лишь тогда, когда вновь начинали зарождаться следы свободы в Англии и в итальянских республиках. Кажется, я могу смело сказать, что подобный взгляд на историю в настоящее время устарел. Мы теперь читаем историю не ради одного удовольствия, мы надеемся открыть в ней законы политического развития и видоизменения, и потому почти не думаем о том, является ли тот или другой период блестящим или плачевным; достаточно, если он поучителен и учит нас тому, чему учат другие периоды. Мы также знаем теперь, что в политике есть благо и кроме свободы, например национальность, цивилизация. Случается, и даже нередко, что правительства, не дающие свободы, тем не менее, ценны и чрезвычайно благоприятны для достижения упомянутых целей. Вот почему Римская империя, не только в начале, но и во время позднейшего своего развития, вплоть до тринадцатого столетия, считается в настоящее время, несмотря на ее варварство, суеверие и весь ее упадок, одним из наиболее интересных исторических явлений. Мы видим, что эта империя имеет свой внутренний прогресс, свои творческие идеи и достопамятные результаты. Мы различаем в ней зародыш того, что представляет собою нечто великое и замечательное, – зародыш современного братства или свободной федерации цивилизованных народов. И потому, несмотря на то что эта империя была громадна и несмотря на то что управлялась она деспотически, мы изучаем ее с беспредельным интересом и вниманием.
Это различие между Римской империей и другими империями, опирающимися на завоевание, вытекает из превосходства цивилизации победителей над цивилизацией побежденных. Между тем побеждающая раса не всегда стоит на высокой ступени цивилизации; типичным победителем является Кир или Чингисхан, то есть предводитель воинственного племени, закаленного нуждой и падкого до грабежа. Перед лицом такого завоевателя прогресс цивилизации останавливается в истории; мы нередко видим, что цивилизованные народы бывают покорены; иногда им удается охранять свою территорию, и очень редко мы видим их в роли завоевателей. По крайней мере, так было до новейших времен, когда прогресс изобретений усилил цивилизацию, снабдив ее новыми орудиями. Самая завоевательная раса истории – туркмены – была наименее прогрессивной расой. Из этой расы, из роя племен, снабжавших наемными войсками всех честолюбивых царей Центральной Азии, и набирали главным образом Бабер и Акбер те силы, с которыми они завоевали Индию. Таково общее правило; но когда происходит исключительный случай, когда высокая цивилизация распространяется путем завоевания среди менее цивилизованного населения, тогда образующаяся империя представляет особенный интерес. Такой характер, например, имело завоевание востока Александром Великим: македоняне, находясь в тесном родстве с греками, принесли с собою эллинизм; благодаря этому, несмотря на то что царство Диадохов само по себе было не более как военной деспотией низкого типа, порожденное им слияние греческой мысли с мыслью востока дало самые поразительные и достопамятные результаты. Еще более замечательным, благодаря своей большей продолжительности и большей близости к нам, было влияние, оказанное на европейские народы Римской империей. В сущности, это великое явление занимает самое центральное место в истории человечества и может считаться основанием современной цивилизации.
Очень важно определить, в какую категорию следует отнести завоевание англичанами Индии: к завоеваниям, подобным завоеванию востока греками, Галлии и Испании римлянами, или же к завоеваниям, подобным завоеванию Великого Турка и Великого Могола. Если оно принадлежит к последней категории, то мы не должны увлекаться ни его пышностью, ни обширностью и должны признать за ним то второстепенное значение, какое мы приписываем истории варварства, а не истории цивилизации. Если же оно принадлежит к первой категории, мы готовы поставить его наряду с первенствующими мировыми событиями – теми событиями, которые стоят так высоко в шкале исторического значения по сравнению с обыкновенными восточными завоеваниями.
Тот общий факт, что правящая раса в британской Индии имеет более высокую и могучую цивилизацию, чем туземные расы, не подлежит сомнению. Мы можем смело сказать это, не приписывая слишком многого англичанам. Как раса, они могут уступать греческой расе в уме и гениальности, но унаследованная ими цивилизация не есть исключительно их цивилизация: это – цивилизация Европы, продукт соединенного труда европейских рас, цивилизация, оживленная духом Древнего мира. Что же мы видим с другой стороны? Как мы оценим туземную цивилизацию Индии?
Я уже не раз упоминал, что Индия не представляет одной страны и потому не имеет одной цивилизации. В ней даже меньше единства, чем кажется, потому что брамизм, по свойственной ему особенности поглощать и ассимилировать, соединил под одним именем, в сущности, совершенно различные формы цивилизации. Если мы заглянем несколько глубже, то найдем два различных слоя населения: слой населения белокожей расы и слой темнокожей расы. Эти два слоя различимы почти повсюду; темнокожая раса преобладает на юге; в Бенгалии она еще очень заметна, но уже уступает в численности, а выше по Гангу она, кажется, исчезает вовсе. Обе расы действительно сливались по всей Индии, и это видно из того факта, что в Индии не существует теперь разговорного языка, который был бы просто искажением или наречием санскрита, подобно тому, как французский и итальянский языки суть наречия латинского. Каждый индусский язык, даже если он состоит исключительно из санскритских слов, имеет неарийские изменения и формы.[129] Оценивая цивилизацию Индии, мы должны прежде всего принимать в соображение это основное различие расы. Темнокожая раса во многих местностях оказывается лишенной цивилизации и должна классифицироваться как варварская. Годжсон (В. Н. Hodgson) говорит: «Во всех лесистых и гористых местах по всему обширному континенту Индии живут сотни тысяч людей в состоянии, не отличающемся существенно от состояния древних германцев, как оно описано Тацитом».
Следует также отличать чисто индусские расы от значительной мусульманской иммиграции. В Индии насчитывается не менее пятидесяти миллионов мусульман, из которых большая часть состоит из афганцев или патанцев, арабов, персов и туркмен или татар, пришедших в Индию в разные времена вместе с мусульманскими войсками, или желая присоединиться к ним. Тут, как и везде в мусульманском мире, мы находим нечто вроде полуцивилизации: известные добродетели примитивного характера, одним словом, комплекс идей и взглядов, непригодных для новейших форм общества.
Наконец, мы переходим к типичному индийскому населению – к арийской расе, которая спустилась с Пенджаба с санскритской речью на губах и распространилась главным образом вдоль реки Ганга, успешно разнося по всей Индии свою особенную теократическую систему. Быть может, ни одна раса не выказала большей способности к цивилизации; самое варварство ее, поскольку оно отразилось в литературе Вед, человечно и возвышенно. Поселившись в Индии, эта раса стала правильно подвигаться по пути цивилизации. Ее обычаи сделались законами и были закреплены кодексами; она мечтает о разделении труда; она создает поэзию, философию и зачатки науки; из ее недр возникает могущественная религиозная Реформация, породившая буддизм, который до сих пор остается одной из главных религиозных систем мира. Всем этим она напоминает те высокоодаренные расы, которые создали нашу цивилизацию.
Но в Индии арийская раса не достигла таких успехов, как в Европе. Здесь она оказалась вполне неспособной писать историю, так что мы не имеем об Индии никаких летописей, за исключением тех, какие относятся к столкновению с греческими и мусульманскими завоевателями. Нам остается только делать предположения относительно причин, задержавших прогресс. Великая религиозная реформация после нескольких столетий успеха почему-то ослабела, буддизм был изгнан. Тирания касты жрецов была твердо установлена; не создалось крупной и сильной политической системы; городская цивилизация развилась слабо. А там начинается казнь – нашествия иноплеменников.
Долгое подчинение иностранному игу является самою могущественной причиной национального падения, и те немногие факты, какие мы знаем о древних индусах, подтверждают наши предположения относительно нравственных последствий их несчастий.[130] Греческий писатель Арриан дает описание индийского характера; мы читаем его с удивлением. Он говорит: «Они замечательно храбры и в войне превосходят все азиатские народы; они отличаются простотой и бескорыстием; так справедливы, что никогда не прибегают к тяжбе, и так честны, что не нуждаются ни в замках к своим дверям, ни в письменных обязательствах при договорах; ни один индиец никогда не был замечен во лжи». Это описание несколько похоже на преувеличение, но, как замечает Эльфинстон (Elphinstone), оно показывает, что индусский характер чрезвычайно изменился с тех пор, как оно было написано. Преувеличение состоит в изображении существующих черт в больших, чем следует, размерах, но это описание представляет именно те черты, которые абсолютно отсутствуют в характере современного индуса. Новейшие путешественники, наоборот, преувеличивают именно противоположные качества: они упрекают индусов в недостатке правдивости, в недостатке храбрости и в чрезвычайном сутяжничестве. И эта перемена в характере именно такова, какая должна естественно произойти вследствие долгого периода подчинения иноземцу.
Итак, мы находим в Индии три стадии цивилизации: во-первых, варварство горных племен, во-вторых, мусульманскую цивилизацию и, в-третьих, приостановленную и наполовину подавленную цивилизацию даровитой расы, которая с самого начала была замечательно изолирована от господствующей и прогрессивной мировой цивилизации. Все, чего достигла эта раса, было достигнуто ею в давние времена; ее великие эпические поэмы, которые сравниваются некоторыми с величайшими поэмами Запада, принадлежат к древнему периоду, хотя, может быть, гораздо менее древнему, чем до сих пор предполагалось; точно так же и ее системы философии, и ее научная грамматика. В новейшие времена Индия не приобрела ничего. Ее можно сравнить с Европой, какой была бы та, если бы после вторжения варваров и падения древней цивилизации в Европе не было эпохи Возрождения, и она оказалась бы не в силах защитить себя от нашествия татар в десятом и тринадцатом столетиях. Представим себе, что Европа прозябала бы до сих пор в том состоянии, в каком ее застало десятое столетие, подвергаясь притом периодически нашествиям азиатских народов, не имея ни рельефно выдающихся национальностей, ни сильных государств; когда языки ее были не более как местные наречия, не употреблявшиеся в литературе; когда вся мудрость ее была заключена в мертвый язык и неохотно передавалась народу надменным духовенством; когда вся эта мудрость была устаревшей на много веков и состояла из священных текстов Аристотеля, Вульгаты и отцов церкви, к которым ничего нельзя было прибавить, кроме комментариев. Таково, по-видимому, настоящее состояние арийцев в Индии – состояние, которое отнюдь не напоминает варварства, но поразительно похоже на средневековый фазис западной цивилизации.
Владычество Рима над западными расами было владычеством цивилизации над варварством. Для галлов и иберов Рим был ярким маяком; они признавали его яркость и были благодарны за получаемый от него свет. Владычество Англии в Индии скорее похоже на владычество нового мира над средневековым. Свет, который мы приносим, не менее действителен, но он, по всей вероятности, менее притягателен и принимается с меньшей благодарностью. Это – не яркий свет во мраке, а скорее холодный свет дня, проникающий в среду ярких теплых цветов пышного рассвета.
Многие путешественники говорили, что ученый индус, даже и тогда, когда он признает нашу силу и пользуется нашими железными дорогами, далек от чувства уважения к европейцу и искренно презирает его. Это вполне естественно. Мы не умнее индуса; ум наш не богаче и не обширнее его ума; мы не можем удивить его, как мы удивляем варвара, излагая перед ним понятия, о которых ему и не снилось. Индус может найти в своей поэзии мысли, равные нашим самым возвышенным мыслям; даже наука наша, может быть, обладает очень немногими, вполне для него новыми, понятиями. Мы хвалимся не тем, что мы богаче мыслями, или что мысли наши более блестящи, но тем, что они лучше проверены и более здравы. Величие новой цивилизации сравнительно со средневековой или древней проявляется в большем запасе доказанной истины, что придает ей бесконечно большую практическую силу. Но философ, поэт или мистик вовсе не расположен относиться с уважением к доказанной истине; он скорее склонен называть ее узкой и смеяться над ее практическими триумфами, а сам предпочитает предаваться мечтам и роскоши беспредельного созерцания.
Однако в Европе мы почти единогласно признаем, что истина, образующая ядро западной цивилизации, несравненно ценнее не только браминского мистицизма, с которым ей приходится бороться, но даже и того римского просвещения, которое древняя империя передала европейским нациям. Поэтому-то мы утверждаем, что то зрелище внесения расой победителей высшей цивилизации, какое представляет в наше время Индия, не менее интересно и значительно, чем то, какое в свое время представляла Римская империя. К тому же опыт в Индии производится в столь же больших размерах. Об индийской империи обыкновенно судят по ее непосредственному влиянию на благосостояние ее обитателей. Она удалила немало старинного зла, говорит один; она ввела много новых зол, говорит другой. Во всех этих спорах упускается из виду самое характерное дело империи – внесение в среду брамизма европейских взглядов на вселенную. Нигде на всей поверхности земного шара не производится в настоящее время другого, столь интересного, эксперимента. Когда мы подумаем, как редко давалась возможность какой-либо нации совершить такое достопамятное дело, то поймем, почему англичане должны чувствовать живой интерес к ходу этого эксперимента и сбросить то уныние, которое заставляет спрашивать себя, какую пользу принесет им самим весь труд, который они предприняли под горячими лучами индийского солнца.
Теперь заметим одно важное преимущество, которым англичане пользуются, работая над этой задачей. Оно ярко выступает при сравнении индийской империи с римской. Рим находился в середине своей империи, подвергался подавляющему ее воздействию и был подвержен всем грозившим ей опасностям. Англия же, напротив, связана слабо с той громадной империей, которой она правит, и чувствует лишь незначительное ее воздействие.
Всякий, изучавший историю, знает, что свобода в Риме была задушена его собственной империей. Те старые гражданские учреждения, которые возвеличили Рим и которым он обязан всею той цивилизацией, которую ему суждено было передать западным государствам, погибли именно ради этой передачи. Он должен был принять организацию сравнительно низкого типа. Его собственная цивилизация в эпоху своего рассеяния была уже в упадке: даже язык Рима в большей части империи был побежден греческим языком, сам император Марк Аврелий писал свои «Размышления» по-гречески. Римская религия, вместо того чтобы приобретать новых последователей, была заброшена и в конце концов уступила место религии, возникшей в отдаленной провинции империи. Настало время, когда, казалось, все римское по мысли и чувству умерло в империи Рима, когда ее императоры были подобны восточным властителям и носили диадемы. Но мы знаем, что, в сущности, дело обстояло иначе, что римское влияние и римская традиция еще много столетий продолжали владеть европейскими умами. Но власть эта действовала втайне, через посредство закона и католицизма, а позднее через посредство возрождения литературы и искусства. Подумайте, как отличалось бы течение новой европейской истории, если бы Рим – мать ее цивилизации – не находился среди воспитываемых им народов, не страдал от их распрей и потрясений, не воспринимал от них столько же варварства, сколько сам давал им цивилизации, а стоял бы поодаль, наслаждаясь независимым благоденствием, продолжая с неутомимой энергией юности развивать дальше свою собственную цивилизацию в продолжение всего того времени, пока руководил подчиненными ему нациями.
Римская империя представляет крайний случай, – победившая держава была поразительно мала сравнительно с империей, которую она присоединила к себе. Свет исходил не из страны, а из города, который был скорее ярко светящей точкой, чем блестящим диском. Римская республика имела учреждения по существу своему городские, которые начали распадаться, лишь только их стали распространять по всей Италии. Но даже и тогда, когда побеждающая держава имеет гораздо более широкий базис, она обыкновенно видоизменяется под влиянием того напряжения, какое требуется для завоевания. Войны, ведущие к завоеванию, и затем учреждения, необходимые для удержания завоеванного, требуют новой системы управления, новой системы финансов. Из всех особенностей английской империи в Индии наиболее поразительна простота механизма, привязывающего ее к Англии, и незначительность ее влияния на Англию. Каким образом создалась эта особенность, мною уже было показано. Я показал, что приобретение Индии совершилось таким путем, который Англии ничего не стоил. Если бы Англия, как государство, предприняла ниспровержение империи Великого Могола, она должна была бы ликвидировать свою собственную конституцию точно так, как это сделал Рим ради завоевания Европы, ибо она, очевидно, принуждена была бы превратить себя в типичную военную державу. Но в действительности Англия только унаследовала престол империи, основанный в Индии некоторыми англичанами, ставшими во главе дела во времена анархии; потому-то домашние дела Англии чрезвычайно мало пострадали от этого приобретения. Оно, без сомнения, как я уже упоминал, значительно видоизменило иностранную политику, но не произвело никакой перемены во внутреннем характере английского государства. В этом отношении Индия оказала на Англию так же мало влияния, как те континентальные государства, которые были связаны с Англией так называемой личной унией, а именно Ганновер при Георгах или Голландия при Вильгельме III. Из этого следует, что действие высшей цивилизации на низшую в данном случае может быть гораздо более сильным и непрерывным, чем то, какое мы видим в древних примерах: Римской империи на западе или греческой империи на востоке. В обоих последних случаях низшая цивилизация убивала высшую тотчас же, как только высшая поднимала ее до своего уровня. Эллинизм распространился на востоке, но величие Греции пришло к концу. Нации толпами стекались в римское гражданство, но что сталось с самими римлянами? Англия, наоборот, не ослабевает от затрачиваемых ею сил; она стремится выдвинуть Индию из средневекового фазиса в современный, встречает при этом затруднения, даже подвергается опасностям, но не рискует опуститься под влиянием Индии на низший уровень развития или остановиться в своем естественном развитии.
Так сложились дела к нашему времени, но англичане были долго не уверены в том, что они сложатся так. В истории британской Индии есть две в высшей степени интересные главы; я готов, пожалуй, сказать, что во всей истории мира нет глав более поучительных. В этих главах мы узнаем, во-первых, каким образом было предотвращено вредное влияние Индии на Англию и, во-вторых, каким образом европейская цивилизация, после долгого промедления и колебания, стала оказывать решительное влияние на Индию. Первая глава хронологически относится к первой половине царствования Георга III, к тому бурному переходному периоду в истории Англии, когда она проиграла Америку и выиграла Индию. Эта глава обнимает великие подвиги Клайва и Уоррена Гестингса и окончание борьбы, отмеченное началом правления лорда Корнваллиса в 1785 году. Вторая глава обнимает приблизительно первые 40 лет девятнадцатого столетия и заканчивается генерал-губернаторством лорда Уильяма Бентинка (Lord William Bentinck).[131] Лорд Корнваллис и лорд Бентинк были двумя великими законодателями, наследниками Гестингса, точно так же, как лорд Уэльзли (Wellesley), лорд Гестингс и лорд Дальгаузи (Dalhousy) были великими победителями, наследниками Клайва; а когда мы рассматриваем, как это делаем теперь, прогресс цивилизации в империи, то великие законодатели, естественно, требуют с нашей стороны большого внимания.
Рассмотрим прежде, какое воздействие со стороны Индии угрожало Англии и каким образом эта опасность была предотвращена. Литература семидесятых и восьмидесятых годов восемнадцатого столетия полна тревоги, которая сильнее всего выразилась в речах Бёрка (Burke) против Уоррена Гестингса. Англия внезапно окунулась в бездну индусской политики. Англичане делались министрами финансов или полководцами наемных войск мусульманских навабов и возвращались обратно в Англию с добычей, приобретенной неведомо как. Отсюда возникали две опасности: во-первых, могла последовать порча английских нравов, ибо, даже при наиболее благосклонном взгляде на индусские нравы, нельзя не согласиться, что политика восемнадцатого столетия в Индии отличалась крайней испорченностью; во-вторых, разбогатевшие авантюристы, возвратившись в Англию и вступив в английскую политическую жизнь с понятиями, сложившимися в Азии, могли поколебать равновесие конституции. Этого можно было особенно опасаться при старой избирательной системе, допускавшей продажу мест в парламенте. Кроме того, в то время, когда правительство получало главную свою силу от продажи государственных мест, можно было опасаться, что одна из борющихся партий овладеет громадным патронажем Индии, который, кому бы он ни достался, королю или партии вигов, наверно, дал бы ее обладателю верховную власть в государстве.
Чтобы показать вам, как велики были опасения передовых людей, я прочту отрывок из предложения Уильяма Питта в пользу парламентской реформы в 1782 году. Он сказал: «Законы наши ревниво предусмотрели, чтобы ни один иностранец не мог иметь голоса при выборе парламентского кандидата; а между тем мы теперь видим, что иностранные князья не только подают голоса, – они покупают места в этой палате и посылают своих агентов восседать здесь в виде представителей нации. Всякому ясно, на что я намекаю. Среди нас сидят представители раджи танжорского и наваба аркотского, представители мелких восточных деспотов, и это все знают, об этом равнодушно говорят друг другу в обществе; и в чужих краях наш позор не скрывается: он совершается среди бела дня, он сделался слишком обычным явлением, чтобы возбуждать удивление. Мы не придаем значения тому, что некоторые избиратели Великобритании прибавили измену к своей деморализации и вероломно продали свое право голоса иностранным державам; что некоторые члены нашего сената находятся в подчинении у отдаленного тирана; что наши сенаторы не являются больше представителями британской добродетели, а представителями пороков и развращенности востока».
Крупными событиями этой борьбы были: падение коалиционного министерства на почве индийского билля Фокса и принятие индийского билля Питта, отдача под суд Уоррена Гестингса, принятие генерал-губернаторства лордом Корнваллисом и административная реформа, проведенная им в Индии.[132] Я лишь слегка касаюсь этих великих событий, чтобы отметить их значение и указать на вызванные ими последствия. Если бы я мог войти в подробности, я показал бы, что было много неверного в шумных возражениях против индийского билля Фокса и что было много несправедливой жестокости в нападениях на Гестингса. Я мог бы также отнестись критически к двойной системе, введенной индийским биллем Питта. Но при более широком взгляде на вещи я должен сказать, что грозившие Англии опасности были успешно отклонены, что лорд Корнваллис заслужил благодарность, а Эдмунд Бёрк – бессмертную славу. Пятно деморализации как бы по мановению волшебства исчезло из администрации Компании под управлением лорда Корнваллиса; генерал-губернаторам был дан урок, который никогда ими не забудется, и политическая опасность от связи с Индией миновала.
Англия порвала сети, грозившие опутать ее. Но сохранила ли она, освободившись от влияния Индии, право влиять на нее? Англичане не могли не замечать громадного различия между их цивилизацией и цивилизацией Индии; они сами не могут не предпочитать свою собственную, но, спрашивается, имеют ли они право навязывать свои взгляды туземцам? У них свое христианство, свои собственные взгляды на философию, историю и науку; но не обязаны ли они, по молчаливому соглашению с туземцами, держать все это при себе? Таков был первоначальный взгляд: тогда не допускалось и мысли, что Англии суждено играть роль Рима для ее империи. Отнюдь нет! Она должна отложить в сторону свою цивилизацию и управлять Индией согласно индийским понятиям. Этот взгляд был тем привлекательнее, что перед первыми поколениями англо-индийцев открывался новый и таинственный мир санскритской учености. Они находились под обаянием древнейшей философии и фантастической истории; они были, так сказать, браминизованы и не хотели допустить в свой волшебный восточный круг ни христианства, ни какого-либо другого западного учения.
За неимением времени, я могу в этой лекции лишь указать, как англичане постепенно отказались от такого взгляда и смело выступили учителями и цивилизаторами. Перемена началась в 1813 году, когда, при возобновлении хартии Компании, была ассигнована сумма для возрождения учености в Индии и для введения там полезных искусств и наук. Относительно осуществления этого постановления «Комитет по образованию» спорил целых двадцать лет. Должны ли англичане руководствоваться собственными взглядами или должны понимать ученость и науку в восточном смысле? Должны ли они учить население санскриту и арабскому языку или английскому?
Прения закончились при лорде Уильяме Бентинке в 1835 году, и, по замечательной случайности, в них тогда принимал участие знаменитый человек, который придал им блеск и сам прославился ими. Доклад Маколея решил вопрос в пользу английского языка. Вы можете изучить этот вопрос по его докладу или по книге сэра Тревелиана (sir С. Trevelyan) об образовании в Индии. Но заметьте, какая была сделана странная ошибка: вопрос обсуждался так, словно выбор должен был стоять обязательно между преподаванием санскритского и арабского языков, с одной стороны, и английского – с другой. Все эти языки равно чужды массам населения: арабский и английский – чужеземные языки, а санскритский для индусов – то же, что латинский для европейцев. Это – первоначальный язык, из которого образовались главные разговорные языки, но это – мертвый язык; он сделался мертвым языком гораздо раньше, чем латинский, так как он перестал быть разговорным языком еще в третьем столетии до нашей эры. Громадное большинство известных санскритских поэм, философских и теологических сочинений было написано искусственно, благодаря учености, подобно тому, как были написаны латинские поэмы Виды и Санназаро.[133] Устранить санскритский язык Маколею было легко: стоило только указать на то, что английская поэзия по меньшей мере столь же хороша, а философия, история и наука – гораздо лучше. Но зачем было ограничиваться выбором между мертвыми языками? Неужели Маколей действительно воображал, что возможно научить английскому языку двести пятьдесят миллионов азиатского населения? Вероятно, он этого не думал, а имел в виду только создание небольшого ученого класса. Я думаю также, что его собственное классическое образование вселило в нем убеждение о необходимости для образования мертвого языка. Но если Индия действительно должна быть просвещена, то, очевидно, сделать это надо не посредством санскритского или английского языка, а посредством местных наречий индустани, бенгали и т. п. Маколей, смутно сознавая, что эти наречия слишком грубы, чтобы сделаться носителями науки и философии, почти отказывается принимать их в соображение, а между тем все его доводы в пользу английского языка сравнительно с этими наречиями были бы бессильны.
Хотя эта крупная ошибка была сделана, позднее она была замечена и – после донесения сэра Чарльза Вуда[134] в 1854 году, – до некоторой степени исправлена. Решение, к которому привел доклад Маколея, является выдающимся моментом в истории индийской империи. Оно отмечает эпоху, когда англичане спокойно признали, что на их ответственности в Азии лежит функция, подобная той, какую выполнил Рим в Европе, – величайшая функция, какую правительство может быть призвано выполнить.
Лекция 14 Фазы завоевания Индии
Изложенное до сих пор должно было показать вам, что современное состояние Индии создано не столь удивительными причинами, как большинство себе представляет, но что само по себе и по величию, и по могущим произойти последствиям оно гораздо поразительнее, чем полагают. Объясняя вам, каким образом индийская империя могла возникнуть без участия чуда, я напирал на другую особенность этой империи, – особенность, имеющую весьма важное значение, именно на слабость механизма, соединяющего ее с Англией. Замечу теперь, что в этом отношении индийская империя походит на английские колонии.
Конечно, между ними существует громадное различие: главные английские колонии в большинстве дел сами определяют свою политику при помощи правительств, возникающих путем конституционного процесса из колониального собрания; Индия не пользуется правом независимой инициативы, и распоряжения самого вице-короля могут быть отменены секретарем по индийским делам в Англии. Тем не менее, мы находим и значительное сходство. Индия постоянно удерживается на известном расстоянии, ее правительству никогда не дозволялось настолько приближаться к правительству Англии, чтобы тесно с ним слиться, видоизменить его характер или мешать его независимому развитию. И в конституционном, и в финансовом отношениях Индия представляет собою независимую империю. Без сомнения, если бы империя Великого Могола сохранилась в своей первобытной силе до настоящего времени, внешняя история Англии была бы совсем иной. Многие из ее войн с Францией приняли бы другой оборот, в особенности та война, главным инцидентом которой был поход Бонапарта в Египет. Мы можем также представить себе, что Крымской войны не было бы, и что Англию так сильно не интересовала бы последняя русско-турецкая война. Но конституция английского государства осталась бы той же самой, и внутренняя история шла бы точно тем же путем, как и теперь. Кажется, Индия только однажды, а именно в 1783 году, выступила на первый план в парламентских прениях и поглотила внимание политического мира. Даже во время мятежа 1857 года, так глубоко затронувшего чувства англичан, дела Индии не повлияли на ход домашней политики Англии.
Ввиду этого, если бы Англия лишилась своей индийской империи, непосредственные и чисто политические последствия перемены не были бы значительны. Исчез бы пост государственного секретаря по индийским делам; облегчилось бы дело парламента; иностранная политика Англии освободилась бы от тяжкой обузы. В остальном последовало бы мало перемен. В этом отношении я и считаю индийскую империю похожей на колонии, и здесь мы видим общую характерную черту того процесса расширения Англии, который служит предметом настоящих лекций. Как мне приходилось раньше замечать, расширение Англии с первого взгляда не кажется естественным органическим ростом. Когда мальчик становится мужчиной, мальчик исчезает. В этом физиологическом примере рост не происходит путем наложения материала, видимо, отличного от первоначального тела мальчика, – материала, который может быть легко отделен. Между тем таким именно путем, как кажется, происходит увеличение Англии. Первоначальная Англия все еще ясно видна в сердце Великой Британии, она все еще образует отдельный, завершенный сам в себе, организм, и в ней даже не образовалась привычка смотреть на свои колонии и на индийскую империю как на части своего организма.
Тюрго сравнил колонии с плодами, которые висят на дереве только до созревания, – и действительно, агрегат английских обществ правильнее рассматривать как семью, чем как индивидуум. Мы можем сказать, что Англия времен Елизаветы сделалась к нашему времени большой семьей, разбросанной по отдаленным морям, что эта семья состоит главным образом из цветущих колоний, но включает также корпорацию, которой удалось, по мере роста своих торговых операций, сделаться повелительницей обширной страны. Ничего нельзя возразить против этой метафоры, если только мы будем смотреть на нее как на метафору и не превратим ее ловким маневром в аргумент. Но мы знаем, что семья, по крайней мере, при настоящем состоянии общества, всегда стремится на деле к распадению. Она представляет собою тесный союз, пока дети молоды, но становится сначала тесной, а потом слабой федерацией, когда дети подрастут, и наконец, при настоящем положении общества, в котором взрослые сыновья разъезжаются или эмигрируют, чтобы снискать себе пропитание, а дочери выходят замуж, семья перестает быть не только федерацией, но даже прочным союзом. Мы можем называть нашу империю семьей, но не должны, не вникнув глубже в вопрос, предрекать ей судьбу, которая не абсолютно обязательна даже для настоящей семьи и выпадает на долю лишь в том особенном строе общества, среди которого нам приходится жить. Причины, разрушающие семью, не действуют в равной степени на государства, и – что крайне важно иметь в виду – они в настоящее время действуют гораздо слабее, чем действовали прежде. Во времена Тюрго и американской революции было много данных для сближения между отдаленными подвластными странами и сыновьями, покинувшими свой дом и тем самым вышедшими из семьи. В. наше время такое сравнение является далеко не столь убедительным: изобретения сплотили весь земной шар, и в лице России и Соединенных Штатов появилась новая форма государства, в гораздо большем масштабе, чем бывшие прежде.
Эти соображения заставят нас поколебаться, прежде чем выводить очевидное заключение из факта слабой до сих пор связи между Англией, ее колониями и индийской империей. Выше я уже заметил, говоря о колониях, что хотя связь их с метрополией и была с самого начала настолько слабой, что отложение американских колоний явилось естественным следствием действовавших тогда причин, но с тех пор она не становилась неуклонно слабее и слабее, а обратно: крепла и делалась теснее.
Колонии, по существу, значительно приблизились к Англии: все, что было несправедливого в старой колониальной системе, отменено, колонии сделались естественным выходом для излишков населения, тогда как прежде, когда избытка населения не было, они заселялись недовольными изгнанниками, питавшими злобу к покидаемой родине.
Подобный же закон управляет связью Англии с Индией. Механизм, поддерживающий эту связь, слаб; Англия не допустила, чтобы ее отношения к Индии сделались для нее обузой. Несмотря на всю громадность владения, Англия остается тем, чем она была до его приобретения; поэтому, как я уже говорил, связь, которая длится уже второй век, может быть в любой день порвана, не произведя никакого насилия, не нарушив порядка нашей домашней системы. Но если на основании этого мы станем утверждать, что такая непрочная связь должна рано или поздно порваться, то, прежде чем сделать это, мы должны рассмотреть другой вопрос: в каком смысле происходят теперь изменения. Становится ли эта связь все слабее и слабее, или, наоборот, она делается с течением времени прочнее? И здесь, точно так же, как в случае с колониями, мы найдем, что общая тенденция века, приближающая отдаленное и благоприятствующая образованию крупных политических союзов, содействует скорее укреплению, чем ослаблению связи, существующей между Англией и Индией. Маккеллох (Macculloch), в примечании об Индии в своем издании Адама Смита, говорит, что торговля Англии с Индией около 1811 года, то есть в дни монополии, была совершенно ничтожна и равнялась торговле между Англией и островом Джерси или островом Меном. Теперь, если мы признаем торговлю одной из главнейших уз, связывающих между собою общества, то будем иметь в ее размерах некоторый критерий для суждения о тенденции в отношениях между Англией и Индией: на основании данных о торговле мы сможем решить, к чему стремятся эти страны – к соединению или к разъединению. Для этого надо сравнить настоящее и прошлое торговли между ними. Прежде полагали, что индусы держатся неизменных привычек и потому никогда не сделаются потребителями европейских изделий. А между тем в настоящее время мы сравниваем английскую торговлю с Индией не с ее обменом с островами Джерси или Меном, а с той торговлей, которую Англия ведет с Соединенными Штатами и Францией, то есть с двумя величайшими коммерческими обществами. При этом оказывается, что хотя обе эти страны ввозят в Англию гораздо больше, чем Индия (на 32 миллиона фунтов ввоза из Индии, на ввоз из Франции приходилось 39 млн. фунтов, а из Америки – не менее чем на 103 млн. (1881), но все же Индия стоит на третьем месте, то есть непосредственно за этими главными импортерами в Англию. С другой стороны, она вывозит из Англии более, чем Франция и все другие страны, кроме Соединенных Штатов: так, в том же году ее экспорт из Англии равнялся миллионам, тогда как Австралия вывезла на миллион, а Германия на семнадцать миллионов.
Таковы удивительные успехи англо-индийской торговли, сделанные в XIX столетии, и они способствуют, как вы сами заметите, постепенному сближению двух населений, а не постепенному их отдалению друг от друга. Таким образом, хотя прямые политические следствия разрыва были бы незначительны, экономические его следствия были бы громадны. Ибо мы должны помнить, что эти коммерческие сношения обязаны своим возникновением политической связи двух стран и могли бы прекратиться, если бы Индия сделалась независимою, и неизбежно прекратились бы, если бы она подпала под власть другой европейской державы, например России. В начале девятнадцатого столетия Англия могла бы довольно спокойно отказаться от Индии, и ее войны с Францией из-за коммерческих факторий в Мадрасе, Бомбее и Калькутте не имели, пожалуй, достаточного основания: торговля, которая велась в этих станциях, была ничтожна. Теперь дело обстоит иначе: коммерческая ставка Англии в Индии очень значительна, то есть она теснее связана с Индией, чем раньше. Взгляните также на нравственное сближение, происшедшее за это время между Англией и Индией. Первоначально англичане вовсе не интересовались делами индусов, среди которых они учредили коммерческие станции. Империя Могола и ее распадение Англии не задевали. Для нее было безразлично, имеют ли индусы хорошее правление или стали добычею вооруженных грабителей. Даже тогда, когда англичане начали завоевывать Индию, они мало думали об индусах и совершали завоевание отчасти с целью оказать отпор французам, отчасти желая защитить свои фактории от внезапных нападений. Такое равнодушие со стороны англичан к благосостоянию туземцев продолжалось долго и после того, как Компания сделалась верховной владычицей Индии. Адам Смит, писавший в восьмидесятых годах запрошлого века, то есть в исходе правления Уоррена Гестингса, говорит, что никогда не было правительства, столь равнодушного к благу своих подданных. Это было естественным следствием того ложного положения, в котором очутилась Компания, обратившись из торгового предприятия в правительство. Эта аномалия и ее следствия должны были длиться, пока существовала Компания. Но с 1858 года Компания устранена. Даже подобие эгоистических целей исчезло; теперешнее правительство является настолько искренним и отеческим, насколько может быть правительство; оно отреклось, как я уже объяснил, от лицемерной идеи не сообщать высшего света знания индусам якобы на том основании, что они в нем не нуждаются.
В то же время введение телеграфа и сокращение пути в Индию, сначала по суше, а затем Суэцким каналом, сделало ее еще доступнее для Англии. Нередко утверждали, что это повлечет за собою дурные последствия, что постоянное вмешательство Даунинг-стрит, и особенно английского общественного мнения, окажется вредным. Допустим это ради полноты аргументации. Мы не разбираем теперь вопроса, желательно ли или нежелательно, чтобы Индия теснее соединилась с Англией. В настоящую минуту нас занимает тот факт, что, к добру ли или к злу, но связь между Англией и Индией не ослабевает, а крепнет.
Герб Британской Ост-Индской компании
Обратим еще раз внимание на то, с какой быстротой расширяются сношения англичан с Индией. Кённингам (Cunningham) в своем недавно изданном сочинении «Британская Индия и ее правители» (British India and its Rulers) сравнивает увеличение внешней торговли Индии между 1820 и 1880 годами с увеличением внешней торговли самой Великобритании за тот же период. Расширение внешней торговли Англии часто возбуждало удивление: с 80 миллионов она возросла до 650 миллионов фунтов стерлингов; Кённингам показывает, что увеличение индийской торговли за то же время было еще значительнее, а так как само собою разумеется, что Индия ведет внешнюю торговлю преимущественно с Англией, то из этого следует, что стремление к коммерческому единению между двумя странами изумительно сильно, так что лет через пятьдесят, если не случится какой-либо катастрофы, единение это будет несравненно теснее, чем оно является в настоящее время.
Если мы скомбинируем вместе все приведенные мною доселе факты, чтобы составить себе представление об индийской империи, то получим очень странную картину. Перед нами империя, подобная Римской империи; Англия занимает в ней положение не только правящей, но обучающей, цивилизующей расы; как в браке Фауста с Еленой греческой, в этой империи одна эпоха сочетается с другою – новый европейский дух сочетается со средневековым духом Азии; империя стоит в отдалении, не платя Англии никакой дани, но и не стоит ей ничего (если не считать лишнего бремени, которое империя налагает на иностранную политику Англии); она не изменяет и не влияет заметным образом на деловую внутреннюю политику Англии, и тем не менее империя стоит прочно, и власть над нею не слабнет, а заметно крепнет. Единение Англии с Индией, кажущееся таким неестественным, делается с необыкновенной быстротой все теснее и теснее под влиянием современных мировых условий, благоприятствующих обширным политическим союзам. Все это составляет самую странную, самую любопытную и, быть может, самую поучительную главу в истории Англии. Она возбудила много пустой похвальбы со стороны одних, тогда как те, кто глубже вникает в вопрос, склонны были смотреть на все предприятие с отчаянием, как на романтическую авантюру, не могущую привести к солидным результатам. Но с течением времени становится виднее рука Провидения, которое превыше всех государственных людей мира, и постепенно выясняется, что здание, так слепо сооруженное, может сделаться частью вечного дворца цивилизации, что завоевание Индии, самый странный из подвигов Англии, может, в конце концов, оказаться самым величайшим ее подвигом.
Здесь нам надо опять обратиться от настоящего к прошедшему и посмотреть, как могло случиться, что Англия пошла на подобное предприятие. Я посвятил одну лекцию исторической справке о том, как могла Англия подчинить своей власти индийский народ; теперь нас занимает другой вопрос. Тогда мы спрашивали себя – как? Теперь спрашиваем – зачем? Мы видим, что для создания империи не требовалось ни сверхъестественной силы, ни гения, но, спрашивается, какие мотивы побуждали англичан создавать ее? Сколько жизней, благородных, геройских и трудолюбивых, посвящено было созиданию этого здания империи! Что же ими руководило? Если они действовали по приказанию, то какой был мотив у дававших им эти приказания? Если это было делом Компании, то почему Компания могла желать завоевать Индию, и чего она домогалась? Если же это было делом английского правительства, то какую цель имело оно в виду, и как могло оно оправдать такое предприятие перед парламентом? Англичане иногда выказывали слишком много воинственности, но, во всяком случае, главные войны, которые они вели, имели по крайней мере внешний вид оборонительных войн. Они никогда не увлекались завоеваниями ради завоеваний. Что же имели они в виду в данном случае?
Приобретение это не доставило английскому правительству решительно никаких выгод, ибо если завоевание Индии не запутало его бюджета, то оно и не облегчило его никакой данью. Если мы захотим открыть виновника по старому способу, поставив вопрос: cui bono? – то есть кто получил выгоды? – то ответ ясен: выгодами воспользовалась английская торговля. Англия ведет с Индией крупную торговлю. Торговля эта достигает громадных размеров, и она обеспечена за Англией только до тех пор, пока Англия держит в своих руках правление Индии. В этом, без сомнения, самая существенная сторона приобретения, которое ставит Англию в выгодное положение, ибо она по опыту знает, как упорны иностранные правительства в своем протекционизме. Однако можно ли считать, что торговля была единственной целью, которую англичане имели в виду?
Гипотеза эта кажется правдоподобной, и она становится еще правдоподобнее, когда мы вспомним, что основанием империи служила торговля. С самого начала англичане берутся за оружие единственно с целью защитить свои фактории. Первые войны Англии в Индии относятся к тому же времени и явно принадлежат к тому же разряду, как ее колониальные войны с Францией. Они были вызваны, как я уже подробно говорил, той же великой причиной – соперничеством западных держав из-за богатства стран, открытых в пятнадцатом веке. В Индии, как и в Америке, у Англии были торговые поселения. В обеих странах англичане наталкиваются на тех же соперников-французов. В обеих странах английские и французские купцы вступают врукопашную из-за соперничества коммерческих станций. В Америке Новая Англия и Виргиния стояли лицом к лицу с французской Акадией и Канадой; в Индии Мадрас, Калькутта и Бомбей стояли лицом к лицу с Пондишери, Шарнагору и Маги.[135]
Кризис в Америке и в Индии настал одновременно между 1740 и 1760 годами; в двух войнах, разделенных самым ненадежным и непрочным миром, оба государства боролись за первенство, и в обоих полушариях Англия осталась победительницей. Победив Францию в Индии, Англия без замедления перешла к владычеству над индусами. Этот факт, в связи с другим не менее поразительным фактом современной обширной торговли между Англией и Индией, естественно, наводит на теорию, что индийская империя выросла с начала и до конца из духа торговли. Мы можем себе представить, что, основав береговые поселения и защитив их как от туземных государств, так и от зависти французов, англичане воодушевились честолюбивыми замыслами распространить свою торговлю далее внутрь страны; что они встретили на пути своем новые государства, каковы, например, Майсор или Маратти, которые не захотели торговать с ними, и тогда, побуждаемые алчностью, англичане прибегли к силе, направили на них свою армию, разрушили их таможни, наводнили их территории своими товарами и таким образом постепенно расширили индийскую торговлю, которая стала значительной, и наконец, когда они не только устрашили, но и ниспровергли все сильные туземные правительства, когда не стало ни Великого Могола, ни султана майсорского, ни Пейшвы мараттского, ни наваба визиря аудского, или магараджи Сеикх, тогда, по устранении всех препятствий, английская торговля приняла громадные размеры.
Однако при более близком рассмотрении вопроса оказывается, что факты не соответствуют такой теории. Правда, индийская империя получила свое начало из торговли, и торговля эта в последнее время развилась до громадных размеров; но история не двигается неизбежно по прямой линии, так что, определив две точки, мы не определяем еще всего ее пути. Дело в том, что, если бы английская торговля отличалась таким неудержимым духом и с такой решимостью удаляла со своего пути все препятствия, она не вызвала бы войн в Индии, ибо главное препятствие лежало не там. Главное препятствие, которое встречала английская торговля, заключалось не в недоброжелательности туземных властителей, а в противодействии со стороны самой Ост-Индской компании. Поэтому-то мы и не встречаем соответствия во времени между усилением торговли Англии и успехами ее завоеваний.
Напротив, невзирая на все завоевания Англии, торговля ее была незначительна приблизительно до 1813 года, быстро же увеличиваться она начала вскоре после 1830 года. Эти даты указывают на истинную причину успехов торговли и свидетельствуют, что эти успехи вовсе не зависели от хода завоеваний: эти даты отмечают последовательные парламентские акты, в силу которых Компания лишилась своей монополии. Таким образом, оказывается, что Индия была завоевана Ост-Индской компанией, но обширная торговля с Индией возникла не благодаря существованию Ост-Индской компании, а скорее вследствие ее уничтожения. Английские завоевания в Индии были произведены исключительно Компанией, но индийская торговля Англии стала процветать лишь тогда, когда эта Компания прекратила свое существование.
Чтобы сделать вопрос яснее, лучше всего дать здесь очерк истории Ост-Индской компании, отметив только самые главные стадии ее развития. Ост-Индская компания получила свое начало в 1600 году, то есть в исходе царствования королевы Елизаветы. Для понимания расширения Англии весьма важно отметить, что событие это случилось как раз в это время, не раньше и не позже. Мы видели, что Англия получила свой новый – то есть морской и океанический – характер около времени испанской Армады, когда появилась первая плеяда ее морских героев и когда были сделаны первые попытки колонизовать Америку. Если этот общий взгляд верен, то к тому же периоду должны относиться и ее первые поселения в Индии – и на самом деле Ост-Индская компания была учреждена двенадцать лет спустя после поражения испанской Армады.
Она была основана с торговыми целями и занималась торговлей в течение ста сорока восьми лет. За это время в ее истории было несколько важных событий, но они не были настолько важны, чтобы остановить здесь наше внимание. В 1748 году происходят в Декане те беспорядки, которые заставили Компанию принять на себя, в широких размерах, функцию правления и ведения войны. С этого момента начинается второй и достопамятный период, продолжавшийся почти так же долго, как и первый: он обнимает сто десять лет и заканчивается упразднением Компании парламентским актом в 1858 году. Этот второй период нас особенно интересует. Чтобы легче усвоить себе ход его развития, постараемся подразделить его.
Случайно мы находим в ходе событий этого периода ту правильность, которая так редко встречается в истории и так облегчает запоминание. Компания находилась в зависимости от возобновления ее хартии парламентом, а так как ее дела с 1748 года приняли такой странный оборот, то парламент, естественно, возобновлял эту хартию только на определенный срок, по истечении которого он снова рассматривал положение Компании и делал изменения в ее организации. Таким образом, Компания подвергалась ряду преобразований, которые были строго периодичны и происходили через совершенно одинаковые промежутки времени, а именно через каждые двадцать лет, начиная с Regulating Act лорда Норта в 1773 году. Поэтому если мы сохраним в памяти эту дату то получим четыре другие, которые должны иметь первостепенное значение в истории компании, а именно годы: 1793,1813, 1833 и 1853.
На самом деле оказывается, что эти пять дат крайне важны и составляют очень удобный трафарет для истории Компании. Первая дата самая важная. Если 1748 год[136] отмечает начало движения, которое повело к созданию британской Индии, то 1773 год отмечает самое создание британской Индии. С этого года началась линия генерал-губернаторов, которые сначала долго еще назывались губернаторами Бенгалии; тогда же был учрежден верховный суд в Калькутте из коронных судей. В то же время была устранена громадная опасность, грозившая новому положению наших дел в Индии, и корень порчи был вызван уничтожением влияния, которое оказывали на дела Компании акционеры или так называемые собственники.
Следующее возобновление хартии произошло в 1793 году; оно не представляет такой важности, хотя происходившие по его поводу прения в парламенте очень интересны, ибо они рисуют картину того фазиса англо-индийской жизни, когда Англия была браминизована и когда была сделана попытка сохранить Индию как недосягаемый рай, куда не мог проникнуть ни один европеец и в особенности ни один миссионер. Но дата 1793 года сама по себе важна не только возобновлением хартии, но и как дата «окончательного устройства (permanent settlement) Бенгалии», одного из самых достопамятных актов законодательства в истории всего мира.
При следующем возобновлении хартии в 1813 году престарелый Уоррен Гестингс, которому тогда шел восьмидесятый год, должен был оставить свое уединение и предстать перед палатой общин для дачи своих показаний. Эта дата отмечает тот момент, когда монополия начинает разрушаться,[137] когда браминский период кончается, и Англия собирается вливать в Индию цивилизацию христианства и науку Запада.
В 1838 году монополия исчезает совершенно,[138] и можно сказать, что Компания прекращает свое существование. Впредь она является лишь удобной организацией – удобной по той традиции, которой она служит представительницей, и по тому опыту, который она хранит; через посредство этой организации Индия управляется из Англии. С этого же времени начинаются систематические законодательные труды индийского правительства.
Наконец, в 1853 году была введена система назначения по конкурсу, и таким образом был решен вопрос, который волновал Англию в 1783 году и которого с того времени ни один государственный муж не отваживался затрагивать, – вопрос, кто должен быть покровителем Индии и как при этом избежать потрясения конституции Англии.
Но здесь мы снова должны вспомнить, что история не может так долго идти правильно и удобно для нашей памяти. Восстание 1857 года положило конец этой периодичности, и 1873 год – столетний юбилей регулирующего акта – уже не представляет важной даты в истории Индии.
Из этого очерка видно, что монополия впервые была значительно урезана в 1813 году и уничтожена окончательно в 1833 году. Маккеллох, говоря о поражающей ничтожности нашей прежней торговли с Индией, руководствуется статистикой до 1811 года, а данные, констатировавшие громадное расширение новейшей торговли, относятся к годам после 1813-го и в особенности после 1833 года. Другими словами, пока Индия находилась в руках тех, главной целью которых была торговля, – торговля была ничтожна; она сделалась значительной, а потом и громадной тогда, когда Индией стали управлять ради нее самой и когда всякие торговые соображения были оставлены. Это показалось бы парадоксом, если бы, упуская из виду торговые соображения, Англия не уничтожила вместе с тем монополию.
Нет ничего удивительного в том, что монопольная компания, даже имея торговлю своею главной целью, вела ее плохо; нет ничего удивительного и в том, что немедленно по удалении стеснений возникает обширная торговля. С другой стороны, мы вовсе не находим, чтобы возрастание торговли сколько-нибудь соответствовало росту английских территориальных владений в Индии.
В Индии было четыре замечательных правителя, достойных немецкого титула Mehrer des Reichs – «расширитель империи». То были лорд Клайв, основатель ее, лорд Уэльзли, лорд Гестингс и лорд Дальгаузи. Говоря в общих чертах, первый утвердил Англию по восточному прибрежью от Калькутты до Мадраса, второй и третий ниспровергли мараттское государство и распространили английское владычество в центре страны и по западному берегу полуострова, а четвертый, упрочив эти завоевания, овладел северо-западной частью и расширил нашу границу до Инда. Между этими завоеваниями были значительные промежутки времени, и потому они распадаются на четыре группы. Так, один период завоеваний занимает время между 1748 и 1765 годами, и его можно назвать периодом Клайва; второй, начинаясь с 1798 года, длится, хотя и со значительным перерывом, приблизительно до 1820 года; его можно назвать периодом Уэльзли и лорда Гестингса. Третий период продолжался с 1839 по 1850 год; первая его часть для Англии неудачна, и лишь вторая повела к завоеваниям, которыми удалось воспользоваться лорду Дальгаузи.
Между этими территориальными расширениями и успехами английской торговли не было решительно никакого соответствия. Мы видели, какой ничтожной была торговля Индии еще в 1811 году, то есть вскоре после обширных приобретений лорда Уэльзли. С другой стороны, она сделала большой скачок около 1830 года, а между тем это был один из мирных промежутков английского завоевания. Около времени мятежа присоединение территорий почти прекратилось, и, несмотря на это, четверть века, лишенная всяких завоеваний, была периодом самого быстрого роста торговли.
Таким образом, оказывается, что часто делаемое и внушенное поверхностным обзором истории утверждение, что индийская империя есть продукт неустанной погони за торговлей, столь же неосновательно, как и другое распространенное утверждение, что эта империя есть результат духа военной агрессивности.
Первый шаг к владычеству Англии был явно сделан в целях охранить свои фактории. Мадрасское президентство возникло из усилий защитить от французов форты Сент-Джордж[139] и Сент-Дэвид,[140] что было совершенно необходимо. Бенгальское президентство выросло точно так же из явной необходимости оборонять форт Уильям и наказать мусульманского наваба Бенгалии, Сураджа-уд-Даула, за его жестокость, когда он задушил англичан в так называемой черной яме.[141]
До сих пор причина событий ясна. Но далее, в следующий период британской Индии, который может быть назван революционным и хищническим, англичанами, несомненно, руководила исключительно жажда грабежа. Жестокости Уоррена Гестингса в Бенаресе, Ауде и Рогилькунде были, по существу, денежными спекуляциями. Если бы позднейшая история британской Индии была таковой же, то можно было бы справедливо сравнить ее с испанской империей в Испаниоле и Перу; тогда мы могли бы смело сказать, что она явилась результатом отчаянной погони за наживой.
Но с прибытием лорда Корнваллиса в 1785 году произошла перемена. Отчасти примером своего благородства, отчасти разумной реформой, которая, между прочим, повысила жалованье служащих Компании и тем уничтожила предлог к злоупотреблениям, он успел очистить службу от хищений.
С того времени служба сделалась безупречной. Если главной причиной завоеваний мы выставляем наживу, то должны будем ожидать, что одним из следствий реформ лорда Корнваллиса будет прекращение агрессивных действий Компании, ибо после нее не только агенты Компании должны были заботиться о сохранении своего доброго имени, но и Компания, как таковая, утратила возможность пускаться в чисто завоевательные предприятия; согласно двойному правлению, введенному Питтом в 1784 году, английское министерство должно было бы делаться участником всех ее предприятий. Можно, пожалуй, считать английское министерство способным на преступные честолюбивые деяния. Но едва ли можно допустить, что оно способно из-за корысти потворствовать алчным преступлениям торговой компании.
Дело в том, что со времени индийского билля Питта Компания лишилась верховного управления делами Индии, и, следовательно, всякое начинание, предпринятое ради торговых целей, оказывалось под управлением людей, не участвовавших в торговле. С этого времени два английских государственных мужа – президент контрольного бюро (President of the Board of Control) и генерал-губернатор делили между собою труд решения главных вопросов по делам Индии, и до тех пор, пока существовала Компания, первенствующее место принадлежало скорее генерал-губернатору, чем президенту контрольного бюро. И между тем оказывается, что именно в этот период при системе, в которой торговый дух отнюдь не преобладал, делаются главные завоевания.
С назначением генерал-губернатором лорда Уэльзли в 1798 году настала новая эра для индийской политики. Он первый провозгласил теорию вмешательства и присоединения. Впоследствии этой теории следовал и лорд Гестингс, хотя можно, кстати, сообщить, что до своего назначения генерал-губернатором он был противником ее. Затем позднее ее придерживался с каким-то фанатизмом последний из генерал-губернаторов, управлявших при Компании, лорд Дальгаузи.
Эта теория привела в результате к завоеванию Индии. Я не оставил себе достаточно места в этой лекции, чтобы разобрать ее. Я могу только сказать, что она не имеет в виду расширения торговли, и поэтому Компания не благоприятствовала, а обыкновенно противилась ей. Компания сопротивлялась лорду Уэльзли и выразила порицание лорду Гестингсу; если же она и была снисходительна к лорду Дальгаузи, то нужно заметить, что в его время директора уже, в сущности, не были представителями торговой компании. Теория эта часто применялась очень неразборчиво. Особенно выделяется лорд Дальгаузи, как правитель типа Фридриха Великого, который совершает деяния, столь же мало достойные оправдания, как захват Силезии или раздел Польши. Но эти деяния, если и были преступлениями, то принадлежали к той же категории преступлений, как и преступления Фридриха, то есть были преступления честолюбия, и честолюбия далеко не чисто личного. Ни лорда Дальгаузи, ни кого-либо другого из генерал-губернаторов со времен Уоррена Гестингса нельзя ни на минуту заподозрить в низменном хищничестве. Таким образом, мы видим, что, хотя индийская империя и получила свое начало в торговле и хотя торжество торговли является одним из ее главных результатов, тем не менее она не была, в сущности, создана людьми торговли и с торговыми целями.
Лекция 15 Внутренние и внешние опасности
Для оценки стойкости любой империи существуют известные простые критерии, которые изучающему политику следует знать как свои пять пальцев. Некоторые из них касаются внутренней организации империи, другие – внешних условий ее существования: так, общества страхования жизни пользуются при оценке, с одной стороны, мнением врача, который щупает страхующемуся пульс и слушает сердце, а с другой – они наводят справки, где и как он живет, не подвергается ли он по своим занятиям и образу жизни каким-либо специальным опасностям извне. Внутренний критерий я отчасти уже применял. Этим критерием для жизненности государства является прочность или шаткость того основания, на котором покоится его правительство. В каждом государстве, кроме двух элементов, очевидных для всякого, – т. е. кроме правительства и управляемых, – существует еще третий элемент, обыкновенно упускаемый из виду, хотя различить его часто бывает и нетрудно: я имею в виду силу, стоящую вне правительства, которая поддерживает его. Эта сила может быть или ничтожной, или значительной; В зависимости от этого или, точнее, в зависимости от ее отношения к силам, стремящимся ниспровергнуть правительства, стоят шансы этого последнего на продолжительное существование. Я уже рассматривал отчасти силу тех поддержек, на которые опирается индийское правительство, но при этом я имел в виду объяснить, почему оно держится в настоящее время, и не рассматривал его шансы на продолжительное существование. Пересмотрим же теперь с этой новой целью сделанные выводы.
Мы видели, что в Индии правительство не покоится, как в Англии, на согласии народа или на согласии совокупности народных избранников, создавших правительство путем конституционного процесса. Правительство там во всех отношениях – по расе, религии и обычаям – чуждо народу. В Индии только об одном учреждении можно положительно утверждать, что без его поддержки правительство не могло бы удержаться, это – армия. Часть этой армии составляют англичане, и относительно их можно, конечно, быть уверенным, что при всех обстоятельствах они будут стоять за правительство; но английская часть армии составляет менее одной ее трети. Другие две трети связаны с Англией только получаемой ими платой и тем чувством чести, которое побуждает всякого хорошего солдата быть верным своему знамени. Армия – это видимая реальная поддержка. Есть ли у британского правительства, помимо нее, какая-нибудь нравственная поддержка, хотя и не ощутимая реально, но такая, на которую можно рассчитывать? Этот вопрос допускает большое разнообразие ответов. Мы, естественно, склонны предполагать, что те блага, которые даровали стране англичане, прекратив хроническую анархию, раздиравшую ее сто лет назад, и введя многие очевидные улучшения, должны бы убедить все классы страны, что им следует поддерживать английское правительство.
Но такое предположение слишком рискованно. Мы не вправе предполагать, что в таком населении, как население Индии, существует понятие об общественном благе, об общем благосостоянии, которому должны подчиняться все личные интересы. На самом деле это значило бы предполагать существующим то, чего, как мы видели, в Индии нет, – нравственное единство или национальность. При отсутствии национального сознания вместо общей оценки благ, доставленных стране англичанами, каждый отдельный класс спрашивает себя, как отозвалось именно на нем английское владычество: мусульмане должны задаваться вопросом, как оно повлияло на их религию, брамины – на их древнее социальное верховенство, туземные князья – на их царское достоинство. Великим благодеянием, оказанным англичанами стране, то есть подавлением общего грабежа и уничтожением всемогущества наемной солдатчины, воспользовался главным образом тот класс, который, будучи самым многочисленным, имеет мало влияния и обладает короткой памятью, это – столь типичный для Индии класс мелких земледельцев, которые всецело поглощены трудной задачей существования и высшее стремление которых ограничивается желанием не дать преждевременно разлучиться душе с телом. Те, кто переносили на себе грабежи, пытки и убийства хронических войн, без сомнения, должны благословлять Англию; те же, кто грабили и убивали (а они составляют самый влиятельный класс), едва ли ее благословляют. Фактически известно, что все те, кто при правлении моголов пользовался влиянием в Индии, те, кто обладал монополией официальных должностей, те, кто принадлежал к расе, привыкшей управлять и представлять собою господствующую религию, то есть все, чье мнение в политическом отношении должно бы быть для Англии важно, пострадали от английского господства. Все человеколюбивые попытки англичан поднять туземные расы имели своим следствием подавление этих элементов и довели многие из них до самых тяжких бедствий. Вопрос этот подробно рассмотрен в сочинении д-ра Гентера о мусульманах в Индии.
При таких обстоятельствах было бы очень опрометчиво надеяться, что признательность, внушенная там и сям правлением англичан, может уравновесить то недовольство, которое они возбуждали среди тех, от кого отняли власть и влияние.
Нам остается признать, что могущество Англии покоится на армии, и на армии, две трети которой для англичан только наемники. Эта поддержка может показаться слабой, особенно для такого обширного владения. Но мы должны обратить внимание на силу сопротивления, которую англичанам приходится преодолевать. Здесь мы находим население, которое по привычке и по долгой традиции совершенно пассивно, – население, которое так долго было организовано иноземными военными правительствами, что самое понятие о сопротивлении им было утрачено. Мы находим население, лишенное всякого единства, с национальностями, лежащими слоями одна под другой, и с языками, вовсе непохожими, образовавшимися путем слияния (так называемые сложные наречия), другими словами – население, не способное ни на какое общее дело. Я уже говорил, что, если бы это население имело хоть искру той корпоративной жизни, которая отличает нацию, его нельзя было бы сдержать той лапой, какой его сдерживает Англия. Однако нет никаких признаков, что в ближайшем будущем эта корпоративная жизнь в нем возродится, и потому британское правительство для мирного времени оказывается достаточно прочным. Оно во многих отношениях сильнее, чем было во время мятежа.
Отношение английских войск к туземным войскам увеличено, и приняты многие предосторожности, внушенные самим мятежом. Мятеж может повториться, но, пока мятеж останется простым мятежом, нет основания опасаться, что он будет пагубным для английского владычества. Туземным войскам недостает туземных предводителей, и до тех пор, пока они не встречают действительной поддержки со стороны народа, пока их собственные цели остаются теми, какими они были при первом мятеже, то есть вполне непатриотическими и эгоистическими, пока имеется возможность распускать их и заменять новой туземной армией, – до тех пор положение Англии в Индии изнутри будет достаточно обеспеченным. Но этот вывод, утешительный для Англии, освещает одновременно и некоторые опасности. Во-первых, то, что было сказано о привычке туземного населения к пассивному отношению, может быть применено только к индусам. Мусульмане в значительном большинстве имеют иные обычаи, иные традиции. Они не имеют позади себя веков подчинения: напротив, недалека еще та эпоха, когда они были правящей расой. Во-вторых, мы должны помнить, что если вообще Индии недостает единства, то один вид его в ней не вполне отсутствует, – это единство религии. В Индии есть могущественное и деятельное единство ислама, в ней есть, хотя и менее деятельное, но тем не менее реальное единство брамизма. В сочинении д-ра Гентера об индийских мусульманах есть глава «Хронический заговор внутри нашей территории», в которой автор утверждает, что под влиянием вагабитских[142] проповедников постоянно возбуждается религиозное волнение против английского правительства; согласно д-ру Гентеру (хотя другие это отрицают), особенно замечается это в той части населения, которая сохранила самые блестящие воспоминания и, следовательно, питает самую острую ненависть к заместившей ее расе. Брамизм – религия упорная, хотя и далеко не такая вдохновляющая. Нельзя забывать смазанных патронов 1857 года.[143] Хотя мятеж был по преимуществу военным мятежом, но он возник из религиозного начала и показывает, чего англичане могут ждать, если громадное индусское население придет к убеждению, что его религия угнетается. А между тем индусская религия не стоит, как магометанская, вне пределов той области, которую наша наука считает своею. Англичане объявили, что всегда будут охранять священные начала религиозной терпимости, и на этом основании им повинуются; но что, если индус начнет понимать, что самое обучение европейской науке есть уже поход против его религии?
Таким образом, крупные религиозные движения менее невероятны, чем националистические. Но обе религиозные силы, если даже они и живее, непосредственно нейтрализуют друг друга. Ислам и индуизм противостоят друг другу; один, сильный своей верой, другой – численностью, они создают род равновесия. Не вправе ли мы предположить, что когда-нибудь христианство сделается примиряющим элементом между европейцами и этими соперничающими религиями? Нужно помнить, что ислам – это грубое выражение семитической религии, а брамизм – творение арийской мысли, тогда как христианство выделяется на фоне мировых религий как продукт слияния семитических и арийских идей. Можно сказать, что Индия и Европа обладают одними и теми же элементами религии; но в Индии эти элементы не согласованы, в Европе же они соединились в христианство. Иудаизм и классическое язычество в Европе в начале нашей эры летосчисления были тем, чем теперь являются в Индии магометанство и брамизм; но здесь эти элементы остаются раздельными и только изредка делали усилия соединиться, как в религии сикхов и в религии Акбера.[144] В Европе же слияние произошло через посредство христианской церкви – слияние, которое в новой истории становилось все более и более совершенным.
Таким является положение индийской империи, когда мы рассматриваем ее саму в себе и принимаем во внимание только те внутренние силы, которые влияют в самой Индии; для оценки же ее прочности необходимо рассмотреть и влияние сил, действующих на нее извне.
Истории редко приходится иметь дело со странами, которые были бы так изолированы, как Индия. Со времен Неарха, адмирала Александра Великого, и до времен Васко да Гамы ни один европеец не переплывал Индийского океана, и только арабы, кажется, делали высадки в Синде еще при калифе Омаре.[145] Помимо этих случаев, мы находим следы внешних сношений Индии на юге только с одной страной, именно с Явой, но в этом случае влияние исходило из Индии, ибо в языке кави[146] острова Явы мы находим сильные следы языка и литературы индусов. Чем море было для полуострова, тем для долины Ганга был громадный барьер Гималаев, который делал Индию скорее островом, чем полуостровом. И с этой стороны влияние Индии перешло за ее границы в Центральную Азию; буддизм начал свое обширное завоевание на север и на восток от Гималаев. Но, насколько нам известно, здесь все политические сношения, войны и вторжения происходили исключительно в одном пункте.
Таким образом, мы можем легко себе представить, что в течение целых тысячелетий изолированность Индии была полной; и действительно, туземцы говорили Александру Великому, когда он появился среди них, что к ним никогда никто не вторгался.
Однако изолированности этой наступил конец. Индия все-таки не остров, у нее есть одно уязвимое место – место, где можно проникнуть через горный кряж. Из Персии и из Центральной Азии в нее можно вторгнуться через Афганистан. И потому вся история иноземных сношений Индии до времен Васко да Гамы (1498) сосредоточивается в Афганистане. Мы можем насчитать целых восемь великих нашествий по этому пути.
Первое нашествие было самым достопамятным, но истории его не сохранилось. Арийская раса должна была вступить этой областью, или, быть может, она получила в ней свое начало. Современные афганцы – по языку арийцы, а соответствие некоторых сюжетов персидской Зенд-Авесты и Вед Индии ведет к предположению, что первоначальная арийская родина расы, говорящей на санскритском языке, находилась где-нибудь на границе Индии и Персии.
Следующим было знаменитое в истории вторжение Александра Великого, впервые открывшее дверь Индии западному миру. Однако оно не сопровождалось прочными последствиями; греко-бактрийское царство, поддерживавшее некоторое время сношения с Индией, исчезло во втором веке до Р. Х.
Третье вторжение почти так же ускользает от истории, как и первое. Это так называемое вторжение скифов или, точнее, ряд вторжений скифов в первые века после Р. Х. Хотя для изучающих санскритскую литературу оно представляет громадное значение, но нам нет надобности останавливаться на нем.
Затем следует нашествие Махмуда из Газии в 1001 году по Р. Х. Это – одно из самых важных вторжений, так как оно сразу положило конец изолированности и независимости Индии; его можно назвать открытием Индии для остального мира. Махмуд был для Индии вместе и Колумбом, и Кортесом. Начиная с его времени иноплеменное владычество не прекращается, и путь в Индию через Хайберский проход делается торной дорогой для ряда авантюристов.
Во многих отношениях Махмуда можно считать предтечей Великих Моголов. Он сидит на маленьком престоле в Афганистане и неудержимо стремится к завоеванию Индии, побуждаемый своей мусульманской верой и соблазняемый близостью алтарей идолопоклонников. Во всех этих отношениях он походит на Бабера.
Пятым было нашествие Тамерлана в 1398 году. Оно было очень опустошительным, но и само по себе не лишено значения, которое, однако, нам легче будет понять, когда мы будем в состоянии сравнить его с седьмым и восьмым вторжениями.
Затем следует нашествие Бабера в 1524 году и основание могольской империи. Он и его преемники дополнили начатое Махмудом. Империя Моголов походила на предшествовавшие ей мусульманские империи, но была крепче и прочнее их.
Седьмое и восьмое вторжения походят на опустошительный набег Тамерлана. Первое из них было предпринято Надир-шахом, тираном, овладевшим персидским престолом по прекращении династии Софи; оно произошло в 1739 году, когда империя Могола уже пришла в полный упадок. Второе было произведено в 1760 году Ахмедом-шахом-Абдали, главой империи Дурани, главной квартирой которой был Афганистан.
Таковы были важнейшие нашествия, которым подвергалась Индия. Обзор их показывает, что, имея со стороны суши только один уязвимый пункт, Индия в этом пункте уязвима очень легко. Долгое время, по-видимому, этот путь в нее оставался неоткрытым, но зато со времени Махмуда из Газни Индия сразу делается крайне доступной для вторжений, и с этого времени вся ее история определяется вторжениями. Она обнаружила очень мало способности к сопротивлению. Историю Индии до завоевания англичанами можно суммировать так: прежде всего она состоит из двух великих мусульманских завоеваний и сильной индусской реакции против мусульманского правления – реакции, принявшей форму мараттской конфедерации; оба завоевания были сделаны из Афганистана; далее идет последовательное разрушение обеих магометанских держав и полное унижение мараттской державы; вызывается все это тремя другими вторжениями тоже из Афганистана.
Чтобы это было понятнее, я попрошу вас прежде рассмотреть падение империи Могола, то есть второй по времени великой мусульманской державы. Конечной причиной падения была, вероятно, неразумная попытка Аурунгзеба расширить свои владения присоединением Декана, потому-то империя начала явно клониться к упадку сейчас по смерти Аурунгзеба; однако решительный, смертельный удар, обративший больного в умирающего, был нанесен империи опустошительным нашествием Надир-шаха, пришедшего через Афганистан в 1739 году. Он ограбил Дели и так хорошо обчистил всю казну, что империя Могола уже более не могла оправиться. Точно таким же образом и мараттская держава в тот самый момент, когда она, по-видимому, собиралась объединить всю Индию, была сокрушена спустившимся с Афганистана Ахмедом-шах-Абдали в 1761 году, в роковой битве при Панипуте,[147] в которой, говорят, пало 200 000 человек; в это время англичане уже начинали овладевать Бенгалией. Мне думается, что ту же роль, как эти два нашествия, оказавшиеся роковыми для моголов и мараттов, в исходе четырнадцатого века сыграло вторжение Тамерлана, сокрушив более раннюю мусульманскую державу, достигшую как раз перед тем, при Могаммеде Тоглаке, своего наибольшего расширения.
Махмуд из Газни открыл Индию для вторжения с севера, Васко да Гама открыл ее для морского вторжения из Европы. Последний подвиг, хотя этого не было видно в то время, был более замечателен, чем первый; Махмуд установил связь только между Индией и мусульманским миром западной и центральной Азии, тогда как Васко да Гама, впервые после Александра Великого, соединил Индию с Европой, и на этот раз с Европой уже христианской и цивилизованной. В то время это не могло быть понято, ибо Махмуд явился в образе завоевателя, а Васко да Гама – скромного мореплавателя. Его открытие в течение долгого времени оставалось без политических результатов. Тогда начался век, который я называю испанско-португальским веком колониальной истории: в течение почти всего шестнадцатого столетия весь вновь открытый океанический мир находился в руках двух наций, и азиатская половина его – почти исключительно в руках португальцев. Только в последние годы этого столетия и голландцам удалось заявить о себе. Что касается англичан, то начало семнадцатого столетия застало их боязливыми, мелкими торговцами, подрывавшими монополию Голландии в Индии.
Выше я объяснил, как в конце семнадцатого века Англия и Франция начали занимать в колониальном мире то положение, которое в шестнадцатом веке принадлежало Испании и Португалии, и как все восемнадцатое столетие было наполнено борьбой этих двух наций из-за первенства. В 1748 году борьба эта вспыхивает в Индии, и Дюпле уже ясно видит, что это – не чисто торговая, а политическая борьба и что наградой победителю будет служить ни больше ни меньше, как обладание индийской империей. Это был важный поворотный пункт в истории индийских иноземных сношений. До сих пор Индия была соединена с внешним миром только через посредство Афганистана, теперь она соединена с ним, кроме того, морем.
Эта новая связь, раз установленная, затмевает на время старую, особенно в глазах самих завоевателей – англичан. Как я уже сказал, враг, которого англичане долгое время всего более страшились в Индии, был их исконный враг – Франция. Правда, вторжения из Афганистана не прекращались. Вторжение Надир-шаха произошло всего только за девять лет до 1748 года, с которого мы считаем начало Британской империи. Вторжение Ахмеда-шаха-Абдали случилось тринадцать лет спустя. Но эти события не привлекли особенного внимания англичан; это понятно, что хотя они уже начали свои завоевания, но тогда им еще и не снилось, как далеко пойдут эти завоевания. Прочно утвердившись в качестве территориальных правителей в окрестностях форта Сент-Джорджа и форта Уильяма, они не думали считать себя ответственными за всю Индию и не входили в сношения Индии, взятой, как целое, со внешним миром. Дела Афганистана или Пенджаба казались им столь же далекими, как дела турецкой империи.
Но на исходе восемнадцатого столетия во взглядах англичан происходит перемена. До сих пор они с наибольшим беспокойством взирали на Мадрас и Декан. Главным их опасением была возможность заключения союза между французами и одним из туземных князей на юге – союза, в силу которого французы окажут ему помощь оружием, офицерами или флотом, в то время как он произведет нападение на Мадрас. Это действительно и случилось во время войны с Францией, вызванной американской революцией, и, быть может, англичане никогда не были так теснимы в Индии, как тогда. Гайдер-Али (султан майсарский) вторгся в Карнатик[148] и дошел до самых ворот Мадраса, а с моря ему оказывал поддержку один из величайших французских моряков – Бальи-де-Суффрен. И, однако, пятнадцать лет спустя весь характер внешней политики англичан в Индии был совершенно изменен египетской экспедицией Бонапарта.
С этого момента французская политика получила новое направление. Правда, она не разорвала старых связей в Декане и рассчитывала, что Типу окажется таким же полезным союзником директории, каким был его отец Гайдер для Людовика XVI. Но одновременное занятие Египта Бонапартом и его поход в Сирию – меры, откровенно направленные против Англии, – свидетельствовали, что он имел намерение нанести удар английскому владычеству в Индии с севера. Тогда англичане впервые вспомнили Надир-шаха и Ахмеда-шаха-Абдали; тогда они впервые взглянули с беспокойством на Хайберский проход, на Зомонт-шаха, занимавшего на исходе восемнадцатого века престол Ахмеда в Кабуле, и на персидский двор.
Это – вторая фаза в истории иностранной политики индийской империи. Она начинается известной миссией Малькольма к персидскому двору в 1800 году. До этого времени Англии никогда не приходилось заботиться о равновесии в Азии или спрашивать, quid Tiridaten terreat, какие мысли волнуют душу персидского царя. Но, заметьте, в это время англичане страшатся тайного влияния не России, а Франции. Я уже имел случай упомянуть, что, быть может, герцог Веллингтон считал, что при Ассее он дерется с французами, как и при Ватерлоо. Точно так же и Малькольм в своих переговорах с персидским двором имеет в виду Наполеона и Францию, а отнюдь не Россию.
Хотя на этой второй фазе англичане обратили уже внимание на Афганистан, однако они продолжают опасаться французского влияния на юге. Черты из жизни самого сэра Джона Малькольма иллюстрируют это. Так, он был избран для персидской миссии благодаря тому, что как раз перед тем отличился в войне с Типу, султаном майсарским; война же была почти настолько же войной с Францией, как и более ранняя война, в которой отличился Клайв. Сам Типу был на дружеской ноге с директорией, Бонапарт был его союзником, как Суффрен был союзником его отца. Французы называли его citoyen Tippou. Но что же делается в это время в Низаме?[149] С правительством Низама в Гайдерабаде пятьдесят лет перед тем французы завязали свои первые сношения. Они лучше англичан знали, как надо завоевывать Индию, и знали, что секрет завоевания заключается в обучении сипаев и в подчинении их европейским военачальникам. К 1798 году в Гайдерабаде оказывается армия в 14 000 человек, дисциплинированная и стоящая под командой французских офицеров. Она находится под начальством некоего Реймонда, и в «Биографии Малькольма», написанной Кеем (Кауе), мы читаем, что Низам «для содержания этих войск уступил часть своей территории. Устроены были литейни под надзором знающих европейцев. Отливались пушки, изготовлялись ружья. Отряды Реймонда, превосходно экипированные и обученные, отправлялись в бой с развевающимися цветами революционной Франции и с шапкой свободы, выгравированной на их пуговицах». Конечно, пока номинальный союзник Англии, Низам, поддерживал эту армию, а Типу находился в открытой связи с Францией, положение Англии на Декане было по существу столь же непрочно, как в начале ее распрей с Францией из-за Индии. Теперь, в 1798 году, войско Реймонда могло одержать верх над англичанами, как раньше Клайв рассеял французов при Аркете. В этот трудный момент был послан в Гайдерабад молодой Малькольм; ему удалось распустить французскую армию, или, как он выражается, «изгнать это гнездо демократов».
Таким образом, до сих пор мы видели в иностранной политике британской Индии две фазы развития. В первой она имела одного внешнего врага – Францию и ждала его нападения с одного фланга – из Декана. Во второй – у нее все тот же враг, который действует тем же путем, но могущество его расширилось. Он завязал или, быть может, только казалось англичанам, что завязал, сношения с другими азиатскими государствами вне Индии. Сначала это были Афганистан и Персия, а после Тильзитского договора в 1807 году к ним присоединилась новая держава, хотя и европейская, но уже начавшая свое вступление в Азию, держава, которая теперь впервые упоминается в истории британской Индии, – Россия.
Вторая фаза кончается с падением Наполеона. С ним окончательно, хотя, быть может, и не навсегда, падает влияние Франции на Индию. Отстранение Франции было обеспечено захватом острова Св. Маврикия в 1810 году и удержанием его при заключении общего мира.
Последовала остановка в иностранной политике. Империя не имела важных иностранных сношений в продолжение двадцати лет. Затем начинается новая фаза. Другая европейская держава заступает место Франции, как соперницы англичан в Азии. Держава эта – Россия.
Вся история Великой Британии с самого ее возникновения в исходе царствования Елизаветы может быть разделена на три главных периода. Первый период обнимает семнадцатое столетие, когда она постепенно поднимается с низших ступеней до первенства между колониальными империями. Затем следует тот поединок с Францией в Америке и в Азии, о котором я так много говорил. Он занимает восемнадцатое столетие. Когда он кончился, Великая Британия вступает в третий период, который, согласно общему историческому развитию, начал формироваться задолго до окончания второго. В этом третьем периоде у английской мировой державы два соседа-гиганта: на западе – Соединенные Штаты, на востоке – Россия.
Это те два государства, которые я приводил как пример современной тенденции к созданию громадных политических агрегатов, невозможных вне современных изобретений, уменьшающих трудности, создаваемые временем и пространством. Оба государства – сплошные сухопутные державы. Между ними не менее обширная, но не сплошная, а разрезанная во всех направлениях океанами, лежит, подобная мировой Венеции, с морями вместо улиц, Великая Британия.
Этот третий фазис, в известном смысле, можно считать наступившим с эпохи американской революции, однако его начало правильнее отнести к 30-м годам XIX века, ибо блестящее будущее Соединенных Штатов ничем не сказывалось в течение многих лет после установления их независимости. Обширная иммиграция, послужившая причиной их быстрых успехов, началась лишь после мира 1815 года; в 20-х годах их мировое значение сильно возросло благодаря южноамериканской революции и учреждению республиканского правительства в испанской Америке, ибо это событие доставило Соединенным Штатам первенствующее положение на американском материке. Около этого же времени последовало расширение России на востоке. Момент, когда англичане начали ясно сознавать соперничество России на востоке, резко обозначен в истории британской Индии. Это было в 1830 году, когда Россия подступила к Яксарту и вскоре затем низвела Персию в положение, которое можно считать фактической зависимостью. Поэтому, когда в 1834 и в 1837 годах Могаммед, шах персидский, вел армию в Афганистан, англичане были убеждены, что видят руку России, точно так же, как тридцать лет перед тем они видели руку Наполеона при каждом движении в той же местности. С этого момента начинается новый и бурный период в индийской истории, продолжавшийся до мятежа, то есть с лишком двадцать лет. Этот период ознаменовался целым рядом войн, во время которых англичане завоевали северо-западную часть Индии, присоединили Пенджаб, Синд и Ауд[150] и, наконец, возбудили беспокойство в умах индусов, повлекшее за собою мятеж. Эти волнения, кажется, можно главным образом приписать тревоге, внушаемой англичанам Россией, ибо эта тревога была причиной несчастного афганского похода;[151] желание восстановить утраченный престиж побуждало англичан к завоеванию Синда; есть также вероятность, что, не будь этих волнений на северо-западе, не было бы и сикхских войн.[152]
Теперь мы знаем, что лорд Окланд (Auckland) в 1838 году, желая предотвратить опасность, которую предвидел, пошел по ложной дороге. Быть может, он преувеличивал опасность; быть может, англичане преувеличивают ее даже и теперь, когда прошло уже более сорока лет и успехи России в Центральной Азии превзошли все ожидания. Однако исторический очерк иностранных сношений Индии, как он здесь изображен, показывает, что у англичан есть на первый взгляд основание для тревоги; если это основание серьезно, то оно может повести к громадным последствиям. Этим основанием является тот голый факт, что все три предшественника англичан в Индии – маратты (1761), моголы (1738) и старинная мусульманская империя (1398) – получили смертельный удар от державы, вторгшейся внезапно в Индию через Афганистан, и что в других двух случаях пришельцы из Афганистана – Махмуд из Газни и Бабер – основывали сами империю в Индии.
Я назвал это соображение основанием prima facile, ибо все, что может дать метод умозаключения per innumerationem simplicem, – это констатировать необходимость детального расследования; к несчастью, призывая историю на помощь политике – что, впрочем, вообще делается редко, – обыкновенно прибегают именно к подобным поверхностным приемам. Мы не вправе, решая вопрос об Англии и России, ссылаться на моголов и Надир-шаха. Я не думаю, чтобы было особенно трудно доказать, что империя Могола никогда даже не приближалась по прочности к английской империи; когда же Надир-шах подступил к Дели, она уже тридцать лет явно клонилась к упадку. С другой стороны, относительно России, также легко доказать, что она нечто совершенно иное, чем те более или менее татарские государства, которые вторгались в Индию. Она, несомненно, представляет собою более могущественную державу, чем большинство их, но при этом она абсолютно отлична от них, и потому мы не можем утверждать, что она равна им по способности совершать вторжения и завоевания на чудовищно колоссальных расстояниях. Словом, история доказывает только одно: путь в Индию лежит через Афганистан. Может ли держава, подобная России, произвести успешное нападение этим путем на державу, подобную британской Индии, – на этот вопрос исторические прецеденты не проливают света. На него можно ответить только после анализа и оценки военных ресурсов, как нравственных, так и материальных, обеих держав.
Спрашивается, можно ли сомневаться в том, что Россия способна на отдаленные завоевания и домогается их? Разве она не завоевала всю северную Азию, и разве она не проникла в центре до Самарканда и Коканда? Какая держава может сравниться с нею в успешных завоеваниях? Правда, Солон говорил, что никого нельзя назвать счастливым до его смерти. Может ли это продолжаться до бесконечности, когда Россия вполне европеизируется? Не последует ли за ее полным политическим пробуждением перемены в ее иностранной политике?
Британские войска в Афганистане
С другой стороны, вряд ли кто-либо может сомневаться, что Англия способна бороться с Россией. Но я говорил уже, что Англия есть нечто очень отличное от британской Индии. Быть может, Россия достаточно богата, чтобы завоевывать обширные страны, отдаленные от нее на тысячи миль, но у Англии для этого нет средств. Британская Индия главным образом должна сама себя защищать, то есть она может иметь английские войска, но должна платить за них.
Итак, мы должны ответить на вопрос: какой же собственной силой обладает британская империя? Устойчивость ее находится в зависимости от того, достаточно ли она сильна, чтобы устоять против внутренних опасностей, о которых я говорил, осложненных внешней опасностью со стороны Афганистана. Англичане оказались в состоянии подавить мятеж и, может быть, смогут нанести поражение вторгнувшейся русской армии. Но что случится, если мятеж и русское нашествие произойдут одновременно? Что, если туземная армия в припадке недовольства или питая смутную надежду на выгодную перемену, предпочтет русскую службу английской? Вот та опасность, которую англичане предвидят уже с 1830 года. Индийское правительство может постоять за себя и внутри, и извне, но оно не располагает лишней силой и потому должно заботливо охранять себя от всякой коалиции между своими внутренними и внешними врагами.
Можно представить себе и другие осложнения, которые явились бы для Англии крайне опасными. Так, некоторые утверждают, что рано или поздно, но Англии придется лишиться Индии, так как европейская война заставит ее отозвать английскую часть войска из Индии. Правда и то, что без этой части англичанам не удержать Индии, и то, что внезапное нападение, например вторжение в пределы Великобритании, может вынудить ее вывести войска из Индии. Однако такой опасности в настоящее время не предвидится, ибо какой же враг вторгнется в Англию, если не Франция? Уже прошло шестьдесят восемь лет со времени последних войн англичан с французами; старинная вражда Англии и Франции отошла к древней истории, да и агрессивные силы Франции пришли в упадок. Но вопрос этот слишком обширен для того места, которым мы здесь располагаем, и потому я должен просить вас удовольствоваться этим неполным очерком.
Лекция 16 Обзор пройденного
Итак, мы подробно остановились на необычайном расширении Англии: благодаря ему, как государство, она оставила далеко позади себя Европу, сделавшись мировым государством, – как нация, то есть как совокупность лиц, говорящих на определенном языке, она создала два мировых государства, которые теперь соперничают между собою по силе, влиянию и быстроте роста. Мы исследовали причины, проследили процесс и разобрали некоторые из результатов этого расширения. В этой последней лекции нам остается собрать полученные впечатления в одно общее заключение.
В Англии господствуют две школы воззрений на британскую империю; одну из них можно назвать восторженной, а другую – пессимистической. Адепты первой школы теряются в изумлении и экстазе перед громадностью размеров империи, перед энергией и героизмом, якобы потраченными на ее созидание; вопрос сохранения империи они считают вопросом чести. Другая школа впадает в противоположную крайность: она полагает, что империя, как основанная на захватах и хищничестве, должна считаться бесполезным и обременительным наростом, лишающим Англию выгод островного положения и вовлекающим ее в войны и ссоры во всех частях земного шара; пессимистическая школа защищает политику, которая дает Англии возможность как можно скорее отделаться от империи.
Посмотрим теперь, как должны мы, основываясь на добытых результатах, оценить эти противоположные мнения.
Мы постепенно составили гораздо более трезвый взгляд на английскую империю, чем тот, которым удовлетворяется первая школа. Прежде всего, мы не особенно восхищаемся громадностью империи, ибо не видим основания, по которому самый факт больших размеров делает государство лучшим; обратно, мы знаем из истории про большинство обширных государств, что они были государствами низкого типа. Далее, мы не представляем себе, почему англичане обязаны сохранить свою империю из чувства уважения к героизму тех, кто ее приобрел, или почему отречение от нее было бы с их стороны признаком малодушия. Все политические союзы существуют для блага их членов и потому должны достигать как раз той величины, при которой они остаются благодетельными, и отнюдь не большей. Если связь Англии с колониями или с Индией отягощала бы обе стороны, если бы она приносила более вреда, чем пользы, то нам казалось бы сумасшествием со стороны Англии поддерживать ее в ущерб себе и своим владениям. Кроме того, мы видим, что в высокопарных выражениях этой школы кроется немало запутанных понятий; она, по-видимому, смотрит на земли, подвластные Англии, как на ее собственность, считая королеву каким-то Сезострисом или Соломоном Древнего мира, которому «Таре и острова делали приношения, Аравия и Сава предлагали дары», между тем как на самом деле эта связь совсем иного рода, и Англия, по крайней мере непосредственно, от нее не богатеет. Далее, мы позволяем себе сомневаться и в том, что империя неизбежно предполагает в английской нации какой-то непобедимый героизм или сверхъестественный гений к управлению. Конечно, могут быть приведены факты, указывающие на естественную склонность англичан к колонизации и способность к предводительству. Мы могли бы назвать целый ряд англичан, имевших почти магическое влияние над умами туземных индийских рас, и могли бы указать на Канаду, где английские поселенцы вступили в непосредственное соперничество с французами и обнаружили явное превосходство в энергии и предприимчивости. Однако, хотя многое в истории Великобритании достойно удивления, во всяком случае, преобладание в Новом Свете досталось Англии не исключительно вследствие присущего ей превосходства. В геройский век морских открытий Англия не особенно блистала. Англичане не обнаружили гения португальцев, не произвели ни Колумба, ни Магеллана. Рассматривая причины, давшие Англии возможность к концу второго столетия борьбы превзойти другие государства в колонизации, я нашел, что она обладала более широким базисом и более безопасным положением на родине, чем Португалия и Голландия, и была менее замешана в крупных европейских предприятиях, чем Франция и Испания. Точно так же, разбирая вопрос, как могли англичане завоевать такую громадную страну, как Индия, и завоевать почти без труда, я нашел, что им удалось совершить это главным образом с помощью индийских войск, которым они передали военное искусство не столько английское, сколько европейское, что даже путь к завоеванию был указан французами, что страна находилась в положении, облегчавшем завоевание.
Таким образом, я признаю очень многое из того, что пессимисты выставляют против восторженной школы. Я старался судить об империи по ее собственным внутренним достоинствам, видеть ее такой, какова она в действительности, не скрывая ни неудобств, могущих сопровождать такое широкое распространение, ни тех опасностей, которым оно может подвергать Англию; при этом я не утешал себя мыслью, что есть нечто необычайно славное в империи, «над которой солнце никогда не заходит», или, употребляя не менее блестящее выражение, – в империи, «где барабанный бой утренней зари, следуя за солнцем и за часовой стрелкой, опоясывает земной шар непрерывной цепью воинственных арий». В большинстве великих империй, упоминаемых в истории, мы находим мало славного, так как создавались они обыкновенно насилием и оставались на низком уровне политической жизни; но мы видели, что Великая Британия вовсе не является империей в обычном смысле слова. Рассматривая отдельно колониальную часть Великой Британии, мы находим естественный рост, простое нормальное распространение английской расы в новых, большей частью слабонаселенных, землях, которыми поселенцы овладевают, не совершая завоевания. Если такое расширение и не представляет собою ничего величественного и славного, то, с другой стороны, оно вовсе не является насильственным или неестественным. Оно создает собственно не империю, а только обширное государство. К расширению как таковому всякий должен относиться доброжелательно, ибо для каждой нации обладание выходом для избытка населения составляет одно из величайших благ. Народонаселение, к несчастию, не может приспособляться к пространству; напротив, чем оно больше, тем больше и его ежегодный прирост. Англия уже теперь полна, но она переполняется с возрастающей скоростью; ее население увеличивается на миллион через каждые три года. Вероятно, эмиграция нормально должна происходить еще с большей скоростью, чем она происходит теперь, и не подлежит сомнению, что остановка ее была бы величайшим бедствием. Но, спрашивается, должно ли расширение нации сопровождаться расширением государства? «Нет! – отвечает школа пессимистов – Или только до тех пор, пока колонии не созреют и не сделаются способными к независимости». Когда на метафору смотрят как на аргумент, каким неотразимым аргументом она кажется!
Я уже упомянул, что в новейшем мире расстояние в значительной мере утратило свою силу, что существуют признаки грядущей эпохи государств, гораздо более обширных, чем прежние. В древние времена переселенцы из Греции в Сицилию делались сразу независимыми, и у них было почти столько же государств, сколько городов. Еще в XVIII веке Бёрк считал невозможным создание одной федерации по обоим берегам Атлантического океана. В те времена метафора о взрослом сыне действительно могла окрепнуть и превратиться в неоспоримое доказательство. Но с того времени Атлантический океан сузился до того, что кажется теперь не шире моря между Грецией и Сицилией. Отчего же нам не отказаться от этой метафоры? Я старался доказать, что мы невольно увлекаемся историческим параллелизмом, который при тщательном исследовании оказывается неприменимым. Разве не затем политики изучают историю, чтобы остерегаться тех ложных исторических аналогий, в которые впадают люди, незнакомые с историей? Все пессимистические утверждения основываются на факте американской революции, а между тем она возникла из обстоятельств и при мировых условиях, уже давным-давно отживших. Англия в то время была земледельческой страной, и страной далеко не густо населенной; Америка была переполнена религиозными изгнанниками, воодушевленными идеями, которые в Англии к тому времени вышли уже из употребления; между обеими странами почти не было притока и оттока населения, а океан отделял их бездной, почти настолько же непреодолимой пропастью, как та нравственная рознь, которая отделяет англичанина от француза. При всем том и тогда разъединение произошло не без насилия. Правда, оба государства с того времени благоденствуют, но у них были уже две войны, может произойти третья. Полагать, что их разлучение явилось причиной или способствовало их благоденствию, – полная иллюзия.
Во всяком случае, с тех пор мировые условия изменились. Главные причины разъединения, – океаны и религиозные распри, – уже не оказывают более своего действия. Обратно, началась работа крупных новых связующих сил – торговли и эмиграции. При этом и естественные узы, связывающие всех англичан воедино – национальность, язык и религия, – по мере противодействующих давлений вновь начинают оказывать свое влияние. Метрополия навсегда отказалась от роли мачехи, предъявляющей несправедливые требования и налагающей разные стеснения; она ищет колоний для выхода населения и для торговли, – колонии сами сознают, что независимость для них рискованна, не говоря уже о том, что она влечет за собою интеллектуальное обеднение; наконец, коммерческие сношения постоянно расширяются; им не противодействует никакая отчуждающая сила, ибо несогласие, порожденное старой системой, все более и более предается забвению. Ввиду всего этого можно думать, что так называемая английская колониальная империя будет все более и более заслуживать имени Великой Британии, и узы, соединяющие ее, будут постоянно крепнуть. Тогда англичане забудут разделяющие их моря, и старое понятие об англичанах, как о жителях европейских островов, будет навсегда искоренено. Если англичане в мыслях и чувствах приблизятся к своим колониям и отвыкнут считать эмигрантов утраченными для родины, то, во-первых, могла бы вырасти самая широкая эмиграция, являющаяся средством, ограждающим Англию от пауперизма, и, во-вторых, создалась бы постепенно такая организация, при которой на случай могли бы быть двинуты все силы империи.
Вырабатывая это представление о Великой Британии, я имел перед собою пример Соединенных Штатов. Любопытно, что пессимисты вообще восхищаются Соединенными Штатами, а между тем именно в этом государстве мы находим разительный пример уверенного и успешного расширения. В момент отложения от Англии они составляли лишь бахрому колоний вдоль Атлантического океана и только незадолго перед тем начали проникать в долину Огайо; посмотрите, как неуклонно, как безгранично, с какой твердой самоуверенностью подвигаются они с тех пор! Они покрыли своими «штатами» и «территориями» сначала обширную долину Миссисипи, затем Скалистые горы и наконец побережье Тихого океана. Всю эту территорию они поглотили без труда и без всякого потрясения своей политической системы. Американцы никогда не говорили, как в Англии говорят, что колонии, если пожелают, могут отделиться. Напротив, Соединенные Штаты твердо отрицали это право и для сохранения единства своего громадного государства жертвовали кровью и богатствами в колоссальных размерах. Они решительно отказывались допустить разрыв союза и не хотели признавать доктрины, доказывающей, что государство ухудшается от расширения своих пределов.
Едва ли мы достаточно оцениваем те громадные результаты, которые проистекают для политики от современного механизма сообщений. В течение большей части человеческой истории процесс созидания государств находился в строгом подчинении условиям пространства. Долгое время высокая организация оказывалась возможной только в небольших государствах. В древности лучшие государства были городами, и даже Рим, когда сделался империей, вынужден был принять низшую организацию. В средневековой Европе появились более крупные государства, но они долго оставались низшими организмами и смотрели с благоговением на Афины и Рим, как на родину политического величия. Однако, вследствие изобретения представительной системы, государства эти поднялись до более высокого уровня, а в настоящее время мы видим государства, обладающие глубоким политическим сознанием, на территориях в двести тысяч квадратных миль и с населением в тридцать миллионов. К представительной системе присоединяется федеральная, и одновременно с тем вводятся пар и электричество. Эти усовершенствования сделали возможной высокую организацию государства при еще большем масштабе. Так, европейская Россия обладает населением в восемьдесят миллионов на территории с лишком в два миллиона квадратных миль, а в Соединенных Штатах такое же население содержится на территории в четыре миллиона квадратных миль. Правда, о России нельзя сказать, что она представляет собою высокий тип организации; ей предстоит еще пройти через политические испытания и преобразования; но американский союз уже выказал себя вполне способным сочетать свободные учреждения с беспредельным расширением.
Многие англичане оскорбляются, когда их империю описывают языком восточной напыщенности, но они должны понимать, что виновата в этом не сама империя, а то, что ее относят ошибочно к иному типу, чем тот, к которому она принадлежит. Вместо того, чтобы сравнивать ее с тем, на что она абсолютно не похожа, – с агрегатом частей, насильственно собранных дикими ордами в виде турецкой или персидской империи, – сравним ее с Соединенными Штатами, и тогда сразу увидим, что, принадлежа к устаревшему типу империй, она являет собою союз того самого типа, какой естественно вызывается к жизни условиями времени. Заметим наконец, что вопрос о преимуществах крупных или мелких государств не может решаться и даже обсуждаться в абсолютной форме. Мы часто слышим отвлеченное восхваление мелких государств, но заметьте, что мелкое государство среди мелких – это одно, а мелкое государство среди крупных – нечто совсем другое. Мы чувствуем восхищение, читая о светлых днях Афин или Флоренции, но эти светлые дни длились только до тех пор, пока Афины и Флоренция имели дело с государствами того же масштаба, как они. Оба государства-города тотчас же пали, лишь только по соседству с ними выросли государства-страны с концентрированными силами. Слава Афин померкла, когда возникла Македония, и Карл V скоро положил конец величию Флоренции.
А если верно, что в настоящее время начинает слагаться новый тип более обширного государства, разве это не серьезное предостережение для тех государств, которые продолжают оставаться на прежнем уровне размеров? Россия уже теперь оказывает значительное давление на Центральную Европу; что же будет, когда, при своей громадной территории и громадном населении, она сравняется в умственном развитии и политической организацией с Германией, когда ее железные дороги будут закончены, народ сделается образованным, и ее правительство будет опираться на прочное основание? Не забудем также, что через полстолетия население России будет равняться не восьмидесяти, а приблизительно ста шестидесяти миллионам. К этому времени, до которого доживут многие из наших современников, Россия и Соединенные Штаты превзойдут своим могуществом те страны-государства, которые теперь считаются большими, подобно тому, как страны-государства шестнадцатого века превосходили город Флоренцию. Разве это не серьезное соображение, и особенно для такого государства, как Англия, стоящего на перепутье между двумя дорогами: одна из них может поставить Англию в уровень с великими державами грядущей эпохи, другая – низведет ее на степень исключительно европейской державы, обращающей, как теперь Испания, взоры назад на прошлое, когда и она претендовала на роль мировой державы.
Но все, что я говорил до сих пор, неприложимо к Индии. Англия и ее колонии, взятые вместе, только потому образуют не империю в собственном смысле, а весьма обширное государство, что они населены всецело англичанами и повсюду обладают учреждениями одного типа. В Индии население совершенно чуждо англичанам, и учреждения абсолютно не похожи на английские. Индия – действительно империя, и притом империя восточная.
А между тем нас особенно раздражает язык восторженной школы, когда она говорит об Индии, и нас поражает то непонимание, которое заключается в ее высокопарных выражениях, заимствованных из Древнего мира. Вглядываясь ближе в явления, мы чувствуем, что не можем согласиться с отношением к Индии этой школы, хотя и находим одновременно, что, не имея приписываемого ей романтического величия, она имеет для Англии значительную ценность и пользу совсем иного рода.
Постепенно, и главным образом в недавнее время, между Индией и Англией возникла обширная торговля, но, как я указал, даже ее едва ли имели в виду те, кто принимал главное участие в создании индийской империи. Трудно указать, какие другие крупные выгоды пожинает Англия в Индии. И мы в недоумении спрашиваем себя, что же побудило Англию завладеть Индией? История отвечает, что великая колониальная борьба с Францией вовлекла Англию в войны, которые сделали ее обладательницей территории по соседству с Калькуттой и Мадрасом, что после этого англичане принялись за организацию управления, что они успешно побороли хищения, возникшие в первом периоде завоеваний, и создали добросовестную администрацию, стоящую под контролем английского парламента; далее явился целый ряд генерал-губернаторов, которые, руководствуясь возвышенными государственными соображениями, благоприятствовали присоединению новых земель. Эту политику нельзя назвать алчной, хотя она была подчас честолюбива и неразборчива. Если верно, как это изображает Торрес,[153] что Питт и лорд Уэльзли в негласном соглашении решали создать восточную империю взамен американских колоний, то такая политика, согласно взглядам, проводимым в этих лекциях, должна быть сочтена неосновательной и химерической. Однако гласно политика эта оправдывалась главным образом филантропическими аргументами, и эти аргументы были настолько убедительны, что противиться им было трудно. Нельзя было отрицать, что в Индии царствует плачевная анархия. Там и сям, правда, возникали тиранические правительства, имевшие некоторую стойкость, но и они почти всегда оказывались военными правительствами самого низкого типа; в большей же части Индии господствовала система, которой более приличествует название высокопробного разбоя, чем низкопробного правления. Случалось, что и в Европе, например, среди горных кланов Шотландии, или среди западных флибустьеров, или, наконец, у древних пиратов Средиземного моря, сломить которых было поручено Помпею, создавались разбойничьи шайки, почти достигавшие объема и организации государств; но они никогда не принимали таких размеров, как разбойничьи шайки Индии. Маратты взимали дань, чаут, род разбойничьей дани по всей Индии, а позже пиндаррисы превзошли мараттов жестокостью. Эта анархия являлась прямым следствием упадка авторитета Великого Могола. Конечно, англичане могли умыть руки, довольствоваться обороной своих собственных территорий и не обращать внимания на хаос, царивший за их пределами; но там, на месте, генерал-губернаторам такой образ действия мог легко казаться не только несправедливым, но просто жестоким. Захваты должны были являться перед ними в ореоле долга, ибо казалось, что одно расширение английской власти моментально кладет конец грабежам и убийствам и устанавливает царство закона.[154] Исходя из этого настроения, лорд Уэльзли утверждал, что в Индии всегда существовала верховная власть, что эта власть ей необходима и что теперь, когда владычество Могола падает, на компании лежит обязанность спасти Индию, приняв на себя его функции.
Итак, англичане создали империю, руководясь отчасти, быть может, пустой честолюбивой страстью к человеколюбивым завоеваниям, отчасти желанием прекратить колоссальные бедствия. Но каковы бы ни были их мотивы, они взяли на себя громадную ответственность, не возмещенную никакими выгодами. Они обладают теперь обширной индийской торговлей, но и ту приобрели ценой постоянного страха перед Россией, перед всяким движением в мусульманском мире, перед всякими переменами в Египте.
Ввиду всего этого обзор истории британской Индии оставляет совсем иное впечатление, чем история колониальной империи. Последняя выросла естественно, как результат кооперации самых простых причин; первая кажется выросшей из романтической авантюры. Она интересна, поразительна и любопытна, но понять ее или составить о ней мнение нелегко.
Англичане могут питать надежду, что обладание Индией поведет к их благу, но до сих пор они не извлекали из него никаких прямых выгод.
Я вам указывал уже, что Индия, хотя ее и можно назвать восточной империей, не представляет для Англии той опасности, какая соединяется с этим понятием. Империя не связана с Англией так, как была связана Римская империя с Римом; она не потянет Англию вниз, не заразит ее восточными понятиями и восточной системой правления. Вместе с тем эта империя не требует от Англии расходов и не отягощает ее финансов. Она сама себя поддерживает, а Англия держит ее в таком отдалении, что судьба метрополии не очень тесно связана с судьбой империи.
Затем я обратил ваше внимание на то, какие могут быть последствия от существования британской империи для самой Индии. Англичане могли получить от нее мало выгод, но какие выгоды получила сама Индия? На этот вопрос я старался отвечать с возможно меньшим самомнением. Я с уверенностью утверждал только одно, что никогда не производилось на земном шаре более великого эксперимента, что действия его должны будут равняться или даже превзойдут то влияние, которое оказала Римская империя на народы Европы. Это означает, конечно, что Индии будут оказаны громадные благодеяния, но из этого не следует, что ей не будет нанесено и много зла. Если же вы меня спросите, на которой стороне перевес, то есть, принесет ли Англия Индии величайшее благо, если ей удастся ввести ее всецело в поток европейской цивилизации, то я могу только ответить: «Я надеюсь, что – да» и «Я верю, что – да». Изучая академически эти широкие вопросы, мы должны избегать оптимистических общих мест, свойственных газетам. Возможно, что наша западная цивилизация не совсем так бесподобна, какой мы любим воображать ее. Те, кто следит за Индией с полным беспристрастием, замечают, что там происходит широкое преобразование, но Индия на них производит во многом болезненное впечатление; они видят, как рушится вместе дурное и хорошее, и временами у них является сомнение, создастся ли там много доброго. Но, во всяком случае, они замечают одно громадное улучшение, в котором, нужно надеяться, и заключаются потенциально и все другие улучшения: анархия и грабеж прекратились, и нечто подобное immensa majestas Romanae pacis введено среди двухсот пятидесяти миллионов человеческих существ. Еще в одном соглашаются почти все наблюдатели: предпринятый Англией опыт должен продолжаться, и Англия, если бы даже и захотела, не может оставить его недоконченным. И здесь действуют великие соединяющие силы века; год от года связь между Англией и Индией, ко благу или к злу, становится теснее и теснее. Это еще не значит, что разъединяющие силы не могут никогда возникнуть, что само правление англичан не вызовет сил, которые в конце концов могут привести к разрыву, и что индийская империя абсолютно свободна от опасности внезапной катастрофы. Но в настоящее время и необходимость, и долг побуждают Англию к более тесным связям с Индией. Уже теперь сами англичане немало пострадали бы от разрыва связей, а чем долее связь будет длиться, тем для Англии она будет делаться важнее. То же, и в неизмеримо большей степени, справедливо для Индии.
Англия теперь преобразует Индию; это преобразование может со временем внушить опасения самой Англии, однако англичане, если даже они правы, сожалея, что преобразование ими начато, не должны оставлять его неоконченным.
Вообще я надеюсь, что наш продолжительный анализ вопроса о расширении Англии заставит вас почувствовать фантастическое во всех ходячих понятиях о том, что Англии следует покинуть колонии, покинуть Индию. Разве мы так властны над ходом событий, как воображаем? Разве мы можем остановить рост, продолжающийся уже несколько веков, из-за какой-то прихоти, или потому, что при поверхностном взгляде он оказался не отвечающим нашим мечтам? Течение времени и сила жизни больше стесняют нашу свободу, чем мы это сознаем. Правда, в Англии никогда не приучали себя к мысли о Великой Британии. Английские политики, английские историки все еще сознают своим отечеством Англию, а не Великую Британию; они все еще думают, что Англия имеет колонии; они позволяют себе твердить, что ей легко отбросить эти колонии и с полным удобством вновь превратить уединенный остров времен королевы Елизаветы в «лебединое гнездо на большом пруду». Но подобная мысль является химерою, одним из тех мифических чудовищ, которые создаются не воображением, а отсутствием воображения.
Таков вывод, к которому я прихожу. Но не его хотелось бы мне особенно запечатлеть в умах ваших. Мне не столько хочется сообщить вам здесь верный взгляд на практическую политику, сколько на цель и метод исторических занятий. Главная моя задача в этих лекциях состояла в том, чтобы показать вам, в каком свете следует рассматривать новейшую историю Англии. Мне кажется, что большинство наших историков, дойдя до новейших времен, теряют нить, затрудняются в выборе предмета и кончают тем, что пишут повесть без нравоучения. Я старался, прежде всего, указать, что история имеет дело не только с интересными деяниями, совершенными англичанами или совершившимися в Англии, а с самой Англией, рассматриваемой как нация и как государство. Для уяснения этого я не вдавался ни в какие повествования, не приводил занимательных рассказов, не рисовал героических портретов, а имел в виду постоянно Англию, как великое целое. В ее истории мало драмы, ибо Англия едва ли может умереть, и по крайней мере в рассмотренном периоде она мало страдала, ей даже не грозили великие страдания. Каким же важнейшим переменам подверглась Англия за этот период? Без сомнения, она испытала значительные политические перемены, но они не были так достопамятны, как перемены семнадцатого века. Тогда она сделала одно из величайших политических открытий: научила мир, как применять свободу к условиям государства-нации. Обратно, новейшее политическое движение – движение реформы, либерализма началось не в Англии, а на континенте, откуда мы его заимствовали. Специальным английским движением этого периода, как я старался доказать, было ее небывалое расширение. Усвойте себе этот факт, и вы получите ключ к восемнадцатому и девятнадцатому столетиям. Войны с Францией от Людовика XIV до Наполеона располагаются естественным рядом. Американская революция и завоевание Индии перестают быть отклонениями и занимают свои надлежащие места в основной линии английской истории.
Рост богатства, торговли и промышленности, падение старой колониальной системы и постепенное развитие новой – все это легко обнимается одной формулой. Наконец, формула эта связывает прошлое Англии с ее будущим: принимая ее, англичане должны оканчивать историю своей отчизны не утомленными и смущенными, как от чтения слишком растянутой повести, но просветленными и более прежнего заинтересованными; они должны чувствовать себя подготовленными к тому, что ждет их впереди.
Я часто слышу от тех, кого, как и меня, занимает вопрос, как надо обучать истории: «Прежде всего, вы должны делать ее интересной!» В известном смысле я с ними согласен, но я придаю другое значение слову «интересный» – его первоначальное и точное значение. Под словом «интересное» они разумеют романтическое, поэтическое, изумительное; я не пытаюсь делать историю интересной в этом смысле, ибо нахожу, что этого сделать нельзя, не подделывая истории, не примешивая к ней лжи. Слово «интересное» собственно не означает «романтическое». Интересно то, что затрагивает наши интересы, что близко нас касается и очень для нас важно. Я старался показать вам, что история новейшей Англии с восемнадцатого столетия должна для англичан быть интересна в этом смысле, что она чревата великими результатами, которые окажут влияние на их жизнь, на жизнь их детей и на будущее величие их отечества. «Делайте историю интересной!» Я не в состоянии считать ее интереснее, чем она есть на самом деле, не фальсифицируя ее. Поэтому-то, встречая людей, которые не находят историю интересной, я ни на минуту не собираюсь изменять историю – я стараюсь изменить их самих.
Примечания
1
Нельзя и подумать, что великий поток британской свободы, с торжеством катящий из древнего мрака свои непреодолимые воды в открытое море мировой хвалы, разрывая с гневом свои оковы, чтобы этот поток затерялся в песках и болотах и погиб навсегда как для зла, так и для добра (англ.).
(обратно)2
Harly – государственный человек времен королевы Анны (начала XVIII века), глава ториев, враг Мальборо.
(обратно)3
Выражение «Greater Britain» в буквальном переводе означает «Более великая Британия», выражение создалось возведением в сравнительную степень названия «Great Britain» – Великобритания – и означает Англию со всеми ее колониями и Индией. Ввиду непереводимости буквально этого выражения предупреждаю читателя, что везде дальше выражение «Great Britain» переводится Великобритания, а выражение «Greater Britain» – Великая Британия. Соответственно выражения «Great France», «Great Spain» и т. п. переводятся: «Великая Франция», «Великая Испания» и означают эти страны в совокупности с их владениями вне Европы.
(обратно)4
Gilbert – мореплаватель, исследовавший восточный берег Северной Америки и устье реки Св. Лаврентия (во 2-й половине XVI века). Известный любимец Елизаветы, государственный деятель и литератор Ралей предложил основать впервые постоянную колонию на восточном берегу Северной Америки; основанная им колония Виргиния, не просуществовав 10 лет, погибла в 1590 году.
(обратно)5
В этом году Яковом I была дана первая хартия, именно хартия на право заселения Виргинии, так называемой Лондонской компании.
(обратно)6
Под именем «Dominion of Canada» понимаются все владения Англии на север от Северо-Американских Соединенных Штатов, слагающиеся из ряда областей: Квебек, Новая Шотландия, Новый Брауншвейг и др.
(обратно)7
Мною оставлены без изменения цифры, приводимые автором, почему считаю нужным сообщить, что в настоящее время, т. е. через 20 приблизительно лет, они представляются в следующем виде.
Область Канады насчитывает 5 500 000 ж.
Вест-индская группа – 1 900 000 ж.
Южноафриканская группа – 4 000 000 ж.
Австралийская группа – 7 475 000 ж.
Всего – 19 150 000 ж.
Кроме того, к владениям Англии надо прибавить 37 000 000 ж. в Африке вне южной группы африканских колоний. Точная цифра белых в этих областях ничтожна.
(обратно)8
Орас Вальполь был первым министром 20 лет и руководил политикой при Георге I и частью при Георге II. Томас Пельгам, больше известный под именем герцога Ньюкестля, был первым министром в шестидесятых годах XVIII века, в царствование Георга III. При министерстве Вальполя он занимал высокий государственный пост.
(обратно)9
Два выдающихся сражения во время войны за австрийское наследство. При Деттингене англичане, под предводительством короля Георга II, разбили союзные войска, при Фонтенуа (в Бельгии) они потерпели очень серьезное поражение от французов.
(обратно)10
Интересное дело Вилькса вызвало коллизию между палатой, министерством и общественным мнением. Автор резких статей против министерства, Вилькс был обвинен и уехал в Париж; палата объявила его вне закона и исключила из своего состава. По возвращении в 1767 году Вилькс был несколько раз подряд избираем, несмотря на неутверждения палаты; затем приговорен к тюремному заключению, куда народ внес его на своих руках. По отбытии наказания Вилькс сделался членом палаты и видным политическим деятелем.
(обратно)11
Вильгельм III Оранский правил Англией в 1694–1702 годы. Mutiny Bill – акт о возмущении – был издан по поводу мятежа в Шотландском полку и дал определенные военные законы английской армии.
(обратно)12
Любимец королевы Анны, герцог Мальборо одержал целый ряд побед над французами: в 1704 году – при Бленхейме, в 1709 году – при Ромильи и в 1709 году – при Мальплаке.
(обратно)13
Здесь имеются в виду решительные сражения и взятие гор. Квебека молодым генералом Вульфом, который сам был убит. Результатом его побед и, главным образом, занятия Квебека был переход к Англии французской колонии Канады.
(обратно)14
Заметьте, что пишет о них спокойный Вальполь: «В это время почти не существовало интриг ни в кабинете, ни в парламенте. Все люди были или казались в восхищении от успехов, достигнутых их страной, и были довольны министерством, которое превзошло их самые горячие желания и заставило устыдиться зависть. Правда, был один эпизод, в котором проявились менее героические чувства… Он придает некоторое разнообразие рассказу, и проявившаяся в нем смесь человеческих страстей убедит потомство, что те бессмертные подвиги, которые описываются на следующих страницах, не суть проявления сказочного века». – Примеч. авт.
(обратно)15
Вильям Питт Старший, впоследствии лорд Чатам, – самая выдающаяся фигура второй половины XVIII века в Англии. Первый министр и парламентский деятель. Он считается творцом колониального могущества Англии, ибо руководил политикой той эпохи, когда Англия сделала главные приобретения в Индии и Сев. Америке, отстранив Францию. Питт был врагом разрыва с Северо-Американскими Соединенными Штатами.
(обратно)16
Rodney одержал ряд морских побед над испанским и французским флотами между 1780–1782 годами. – Примеч. авт.
(обратно)17
Акадия и Канада были две французские колонии в Сев. Америке по течению реки Св. Лаврентия. Акадия соответствовала современному Новому Брауншвейгу и Новой Шотландии, а Канада – современной провинции Квебек.
(обратно)18
Битвы XIV и начала XV столетий в войне между Францией и Англией, ведшейся преимущественно на почве Франции (Столетняя война – 1337–1453 годы).
(обратно)19
Здесь сообщается эпизод из столкновений за преобладание в долине Огейо. Поражение Вашингтона относится к 1754 году; смерть Бреддока имела место в следующем году, когда он во главе английского отряда шел осаждать тот же форт Дюкень.
(обратно)20
С именами Клайва и Дюпле связаны моменты самого острого периода борьбы Франции и Англии за Индию. Дюпле, с 1743 года губернатор Пондишери (французской колонии), прекрасный дипломат и большой знаток Индии, одерживает верх над Англией и создает для Франции громадный авторитет на всем юге Индии, пока с 1750 года не начинается война с Англией, особенно прославившая Клайва (его знаменитая защита Аркота в 1751 году). В результате могущество Франции сломлено, а англичане благодаря замечательной победе Клайва при Плесси (1757) над индусами окончательно утверждаются в Бетоле. После этого Клайв принимает деятельное участие в деле расширения британской Индии и создания ее организации.
(обратно)21
Лорда Чатама.
(обратно)22
Хартии были даны впервые в царствование Якова I (1603–1625). Он дал в 1606 году хартию Лондонской компании, которая основала город Джоржстаун в Виргинии, выслав туда поселенцев. Позже, при Карле I, хартия на Виргинию была уничтожена, и эта Виргиния превратилась в колонию коронную, и тогда же ее северная часть была выделена под именем Мериленда. Вторая хартия была дана «Плимутской компании», которая основала колонию Плимут (1030 года) в области севернее Виргинии, получившей впоследствии название Новой Англии. В Новой Англии в продолжение XVII и XVIII веков возник целый ряд колоний и среди них Пенсильвания, основанная Вильямом Пенном (1683), сектантом. В 1669 году англичанами же южнее Виргинии была основана колония Каролина.
(обратно)23
Необыкновенно энергичный и неустрашимый Ла-Саль проделал целый ряд путешествий в Северной Америке, исследуя Великие озера. Самое его замечательное путешествие 1682 года, когда, проплыв с севера всю реку Миссисипи, он водрузил в ее устье французское знамя. Умер он в 1687 году, в поисках морского пути к устью Миссисипи из Франции. Луизиана занимала пространство от Миссисипи до Скалистых гор, гранича на западе с никому не принадлежавшими пространствами, а на востоке – с Виргинией и Каролиной. Луизиана (как французская колония) просуществовала до 1806 года, когда была продана Наполеоном Соединенным Штатам.
(обратно)24
Три наиболее деятельные генерал-губернатора Индии из английских аристократов. Лорд Морнингтон, маркиз Уэльзли (1798–1805) – основатель английской политики приобретений индийских владений; он окончательно сокрушил влияние французов в Индии (борьба с Тину), вел особенно важную вторую Мараттскую войну и очень расширил владения Англии и на юг, и на северо-запад. Лорд Минто (1807–1813) и лорд Гестингс (1814–1823: его не надо смешивать с Уорком Гестингсом) были преемниками Уэльзли в его политике приобретений.
(обратно)25
Французский генерал, главный помощник и выполнитель предначертаний Дюпле, восполнявший своими военными способностями их недостаток у Дюпле.
(обратно)26
Еще лучше в «Europsische Geschichte im 18-ten Jahrhunderte С. Noorden'a. – Примеч. авт.
(обратно)27
Ассиенто – договор, по которому Испания за определенное вознаграждение предоставляла право какой-либо державе монопольной торговли; в данном случае говорится об ассиенто 1711 года, которым Англия, в лице Южноокеанийской компании, приобретала исключительное право ввоза невольников на 30 лет.
(обратно)28
Будучи еще на острове Корсика, Наполеон уже мечтал поступить в англо-индийскую службу и возвратиться богатым набобом. См.: Jung, Lucien Bonaparte et ses Mcmoires, I, стр. 74. – Примеч. авт.
(обратно)29
Могущественный раджа Майсара (на Декане) Типу был союзником Франции и в 1799 году отказался платить Англии военную субсидию. Типу был осажден в своей столице и во время ее осады убит.
(обратно)30
Вторая война против мараттов (так называлось полуразбойничье, полуфедеративное индийское государство в центре Декана) (1802–1804) была при генерал-губернаторе Л. Уэльзли, и главные победы были одержаны генералом Артуром Уэльзли, впоследствии лордом Веллингтоном.
(обратно)31
Malleson, Later Struggles of France in the East. – Примеч. авт.
(обратно)32
Так, Paulus пишет: «Magnis periculis adducti vorebant Itali quaecunque proximo vere nata essent apud se animalia immolaturos. Sed quum crudele videretur pueros ac puellas innocentos interfic re, perductos in adultam aetatem velabant atque ita extra fines suos exigebant. – Примеч. авт.
(обратно)33
Учреждение Dominion of Canada имело место в 1867 году; в этом году английский парламент утвердил союз, создавшийся между четырьмя главными английскими провинциями Северной Америки: Онтарио, Квебеком, Новым Брауншвейгом и Новой Шотландией.
(обратно)34
Восстание, о котором говорится, имело место между 1836–1837 годами и кончилось поражением инсургентов, с которыми сражались заодно и демократы Верхней Канады, населенной преимущественно англичанами.
(обратно)35
Попытка была сделана в 1562–1563 годах гугенотом из Диеппа, Жаном Рибо, который основал форт Каролину. Судьба колонии была очень печальна: она сделалась театром вражды испанцев-католиков и французов-гугенотов.
(обратно)36
Старинное название современной провинции английской Гвианы (западный берег) и ее главного города Джорджтауна. Колония и город были основаны голландцами еще в 1740 году и уступлены Англии в 1814 году.
(обратно)37
Сын Джона Кабо, открывшего независимо от Колумба материк Америки, прекрасный космограф, делавший сам путешествия в Америку (третье путешествие Кабо в 1501–1504 годах) и открывший Ньюфаундленд, Гудзонов пролив и др.
(обратно)38
Schanz, Englische Handelspolitik. Прочтите всю главу: Die Stellung der beiden ersten Tudors zu den Entdeckungen. – Примеч. авт.
(обратно)39
Calendared State Papers; Colonial, December, 1665. Он присовокупляет: «Они говорят, что могут легко затянуть переписку на семь лет, и между тем может произойти какая-нибудь перемена. Некоторые даже имели смелость сказать: кто знает, какой будет иметь исход голландская война? Они снабдили Кромвеля многими инструментами из своей корпорации и коллегии и просили его, через некоего мистера Винзло, объявить их свободным государством, и теперь так себя именуют и таковым себя считают». – Примеч. авт.
(обратно)40
Так назывался парламент, созванный при Карле I, состоявший из врагов Стюартов и осудивший впоследствии короля на смерть.
(обратно)41
Секта, названная по имени Брауна и именовавшаяся впоследствии конгрегационистами, так как ее адепты устраивали свободные общины – «конгрегации».
(обратно)42
«Прирост, который после этого (т. е. после 1640 года) получала Новая Англия из-за границы, более чем перевешивался постоянной эмиграцией, которая в течение двух столетий рассеяла ее сынов по всем местам Северной Америки и даже по всему земному шару. Пришельцы предыдущего периода не превосходили 25 000, и они были тем первоначальным ростком, от которого произошло, быть может, не менее четверти современного населения Соединенных Штатов». Hildreth, Hist, of U. S. I, p. 207. – Примеч. авт.
(обратно)43
В половине XVI века появляется целый ряд энергичных английских моряков, которые одновременно делают замечательные открытия и организуют нескончаемые разбойничьи нападения на испанские колонии и испанские суда. Drake – особенно типичный и самый талантливый представитель этого рода мореплавателей. Дреком совершены очень важные открытия: он первый объехал Америку с запада. Он проехал Магелланов пролив, поднялся вдоль западного берега Америки до 40° северной широты и земли около залива С.-Франциско объявил собственностью Англии под именем «Нового Альбиона» (1577). Затем в 1580 году он объехал в первый раз после Магеллана вокруг света. Всю свою жизнь Дрек вел нескончаемую борьбу с испанцами, организуя флот часто на свой собственный счет, одерживая морские сражения, грабя колонии и флотилии. Дрек был одним из участников победы над Армадой.
(обратно)44
Портовый город в Нидерландах, около которого англичане разбили французский флот еще в 1340 году, т. е. во время Столетней войны.
(обратно)45
Один из видных деятелей революции, Блек был назначен Кромвелем командиром английского флота и одержал целый ряд блестящих побед над карлистами, голландцами и испанцами. Принц Руперт, племянник короля, командовал флотом, за которым Блек гнался через Гибралтар до Мальты, где сжег все его корабли.
(обратно)46
Hawkins – моряк, впервые принявший участие в контрабандной торговле черными. Подобно Дреку, вместе с которым совершал походы, Хокинз был очень деятельным и неустрашимым мореплавателем и принимал участие в войнах с Испанией. Sir Richard Grenville прославился и своими попытками основать колонию во Флориде (при поддержке Ралея), и своей необыкновенно геройской смертью в морском сражении с испанцами, которое он вел один, покинутый остальным английским флотом, не желая отступить перед несравненно превосходящими силами врага (1591).
(обратно)47
Джон Кабо был итальянец, гражданин Венеции, но если его сын Себастиан родился после того, как отец поселился в Бристоле, и если он, а не отец, командовал судном, то подвиг можно приписать англичанам. Однако же доказательства клонятся в противоположную сторону. Смотри рассуждение Гельвальда – «Себастиан Кабо». – Примеч. авт. (Крайне замечательно путешествие Джона Кабо, и произошло оно около 1494 года. Отправился он из Бристоля и после долгого плавания увидал землю, которая, должно быть, была Ньюфаундлендом. Современники очень интересовались его открытием, но затем о нем надолго забыли. О Себастиане Кабо см. выше.)
(обратно)48
Фробишер прославился своими путешествиями к северным берегам Америки – он искал северный проход в Великий океан и в Китай. Как английский адмирал, принял участие в борьбе с непобедимой Армадой. Ченселлор особенно известен своим случайным открытием Белого моря, куда его судно было занесено бурей, эпизод, хорошо известный из истории России.
(обратно)49
Если возразят в защиту Колумба, что лучше ошибиться и открыть Америку, чем не ошибиться и открыть Индию, все же Португалия может ответить, что она открыла обе страны, так как португальцы во время второго путешествия из Лиссабона в Индию открыли Бразилию всего восемь лет спустя после первого путешествия Колумба, и, без сомнения, они открыли бы ее, если бы Колумб не родился. – Примеч. авт. (Вторым после Васко да Гамы посетил Индию морем португалец Каброль в 1500 году. Благодаря бурям и неправильно взятому направлению, он был около экватора отнесен на запад от берегов Африки и пристал к Бразилии, которую назвал «Вера-Круц», открыв, таким образом, Америку независимо от Колумба.)
(обратно)50
Fortescue, цитируемый Кеннингамом (Cunningham) в его Growth of English Industry and Commerce, p. 217. Англичанин пятнадцатого столетия был не только лентяем и созерцателем, он особенно отличался своей обходительностью и полнейшим отсутствием семейных добродетелей. См. Gairdner’s Gaston Letters, vol. VII, Intr. p. LXIII. – Примеч. авт.
(обратно)51
См.: Peschel, Abandlungen zur Erd– und Volkerkunde, p. 398. – Примеч. авт.
(обратно)52
Липсиус – ученый грамматик, комментатор классиков. Скалигер (1484–1558) – итальянец, ученый врач, но больше прославившийся как лингвист, жил в Голландии. Декарт (1596–1650) покинул Францию и 20 лет провел в Голландии, где написал «Начала философии». Гуго Гроций (1583–1645) – голландский ученый, юрист и публицист. Пит Гейн (1570–1629) – моряк, голландец, одержавший ряд побед над испанским флотом и управлявший одно время в качестве вице-адмирала Индейской Компанией. Ван-Тромп (1577–1651) – современник Пита Гейна, отличившийся в морских войнах против Испании и Англии (в 1651 году его победа над Блеком).
(обратно)53
Принц Генрих Мореплаватель – сын короля Жуана, покровитель и снарядитель ряда путешествий, результатом которых явилось знакомство с северо-западными берегами Африки и островами Атлантического океана. Варфоломей Диаз – первый, объехавший в 1486 году мыс Доброй Надежды. Васко да Гама – открывший в 1498 году путь морем в Индию. Магеллан совершил первое кругосветное путешествие в 1519 году. Камоэнс (1526–1569) – моряк-поэт; он был в испанской Америке и за негодующие сатиры против ее порядков был сослан в Индию (Макао), где и написал свою знаменитую патриотическую поэму «Луизиаду», в которой воспевает открытие Индии Васко да Гамой.
(обратно)54
«Эта старая Европа мне наскучила».
(обратно)55
Gilbert – родственник Ралея; хорошо образованный и очень предприимчивый, он организовал в 1503 году экспедицию в Северную Америку и исследовал ее берега, но погиб на возвратном пути.
(обратно)56
Типичный моряк времен Елизаветы: он наполовину пират, прославился своими приключениями и открытиями в Южной Америке (умер в 1575 году).
(обратно)57
Генри Вен был одним из самых видных деятелей революции; будучи человеком с широкими понятиями о свободе совести, он оказался умереннее Кромвеля и не сочувствовал ни казни короля, ни роспуску парламента. Он был организатором английского флота. После смерти Кромвеля он стоял во главе протектората, после же реставрации Стюартов он был казнен, как цареубийца. Гюг Питере – богослов и парламентский деятель времени Кромвеля, казненный после реставрации.
(обратно)58
Блек прославился своими неоднократными победами над голландцами во время войны, которую вела Английская республика в первой половине XVII века.
(обратно)59
Очень нелюбимое министерство при Карле I] носило это имя потому, что начальные буквы фамилии министров составляли слово cabal: Cliford, Arlington, Buckingham, Ashley и Londerhal.
(обратно)60
Находясь в номинальном союзе с Голландской республикой, Карл II стал поддерживать Людовика XIV, объявившего войну Голландии в 1672 году.
(обратно)61
Член министерства «cabal», знаменитый деятель парламента, ставший в оппозицию к Стюартам, проводивший «Habeus corpus».
(обратно)62
Колонии по восточному берегу Сев. Америки. Самая южная из них около 36° северной широты – Виргиния. Затем идет Мериленд и самая северная – Новая Англия.
(обратно)63
Нью-Йорк, называвшийся голландцами Новым Амстердамом, находясь около самих английских владений Новой Англии, принадлежал Голландии, которая еще в XVI веке основала там колонию Новые Нидерланды, с главным городом Новым Амстердамом.
(обратно)64
В. Принн – политический писатель, потерпевший крайне жестокое наказание за сатиру на членов королевской семьи; автор философских сочинений Пим – самая видная фигура в борьбе парламента с королями перед английской революцией 1649 года; он был членом парламента и его вождем и умер до казни короля. Мильтон, знаменитый поэт и писатель, был одновременно и политическим борцом за идеи индепендентства, и защитником идеи революции. Шафтсбюри: Ашли Купер был сделан графом Шафтсбюри. Этим лицам Сили противопоставляет Уилькса – публициста, нападавшего на политику Георга III в «North Briton», отвечавшего на преследования судебными процессами, в результате которых был оправдываем, изгоняемый из парламента, он был снова выбираем. Хорн Тук – богослов и смелый публицист, не раз платившийся за свои памфлеты, умер в 1812 году. Чатам и Фокс – государственные люди.
(обратно)65
John Smith – знаменитый путешественник (1579–1631); он присутствовал при закладке Джемстоуна, главного города Виргинии. Новая Англия представляла собою конгломерат колоний, заселенных различными диссидентами. Колония Мериленд была подарена Джорджу Кальверту (Calvert, лорд Baltimore) королем Карлом I за его переход в католичество.
(обратно)66
См. прекрасное описание его проектов в сочинении Resant’a. Coligny, один из видных гугенотов, генерал Колиньи, убитый в 1574 году в Варфоломеевскую ночь. Поселения гугенотов в Каролине 1562 году. – Примеч. авт.
(обратно)67
В хартии, пожалованной Rhode Island в 1663 году, ясно выражено, что религиозная свобода даруется, «ибо мы надеемся, что ввиду отдаленности тех мест не последует разрыва единства и однообразия, установленных в этой нации». Карл II в своей религиозной политике, кажется, всегда имел в виду своего дедушку с материнской стороны. – Примеч. авт.
(обратно)68
«Отцы-пилигримы» – 120 пуритан выехали с континента Европы в 1620 году и основали Плимут в Новой Англии.
(обратно)69
Амбойна – это один из островов в Ост-Индском архипелаге, который был тогда главным пунктом голландских колоний в Индии. Амбойнской бойней называлась казнь нескольких английских купцов, возбудившая англо-голландскую войну.
(обратно)70
«Дух предприимчивости, – пишет Сейнзбери (Sainsbury), – стремление к колонизации, по-видимому, были почти так же сильны в этом периоде, как в дни Елизаветы и Якова». – Примеч. авт.
(обратно)71
Основанная в 1669 году Каролина (на месте старинных гугенотских колоний Франции) была разделена впоследствии на Южную и Северную Каролину.
(обратно)72
Война с Голландией (1664–1667) повлекла за собою присоединение Новых Нидерландов (между Мерилендом и Новой Англией) с главным городом Н. Амстердамом, переименованным в Нью-Йорк, и Делавары, соседней колонии голландцев, которая была создана Швецией (1638) и только за 10 лет перед ее присоединением к Англии была отнята голландцами у шведов (1655).
(обратно)73
Французский моряк XVI века. В 1534 году он первый объехал Ньюфаундленд и открыл устье Св. Лаврентия. Позже он поднимался по этой реке и назвал все прилежащие земли Новой Францией (Nova Francia).
(обратно)74
Drake и Frobisher сделали одновременно (1575–1580) свои замечательные путешествия; Drake сделал первое после Магеллана кругосветное путешествие: выехав из Магелланова пролива, он поднялся вдоль западного берега Америки вплоть до Калифорнии, где и основал Новый Альбион; оттуда, направляясь на запад, он вернулся в Англию, обогнув Африку. Frobisher в то же время искал проход к Великому океану на севере, где открыл Гудзонов пролив.
(обратно)75
S. Champlain – гуманный и ученый путешественник начала XVII века, открывший Великие озера. Он составил оригинальный план колонизации и завязал сношения с местными индейскими племенами; основал французскую колонию Канаду с главным городом Квебеком.
(обратно)76
Первая союзная война Англии и Франции велась в царствование Вильгельма III (1689–1702), вторая – в царствование королевы Анны (1702–1714), она кончилась Утрехтским договором.
(обратно)77
Сражение при Ла-Гоге произошло в царствование Вильгельма III Оранского (1692). Оно дало окончательный перевес Англии на море.
(обратно)78
Полководец и ловкий государственный делец, маркиз Мальборо (1650–1722) особенно выдвинулся при королеве Анне, в царствование которой руководил политикой и вел победоносную войну с Францией за испанское наследство.
(обратно)79
Дариенским перешейком называлась южная часть Центральной Америки. Это было место, где особенно тщательно и долго искали испанские и португальские моряки прохода в Китай.
(обратно)80
Маркиз de La Galissoniere (1693–1756) – моряк, губернатор Канады, сильно ее укрепивший и удачно воевавший с англичанами. О Дюпле см. выше.
(обратно)81
Французский моряк, разбивавший неоднократно английский флот вблизи берегов Южной Индии (1726–1788).
(обратно)82
Ассиенто – договор, предоставивший Англии ряд торговых преимуществ в испанских колониях.
(обратно)83
Эта фраза заимствована у Leeky. См. History of England in the Eighteenth Century, II, p. 13. – Примеч. авт.
(обратно)84
Город во французской Канаде, который был взят в это время англичанами.
(обратно)85
«Встанем вместе с Францией в уровень с Великобританией, обогатим себя за счет ее ошибок и честолюбивого бреда ее министров».
(обратно)86
Министерство Норта началось в 1770 году.
(обратно)87
Первый акт «Stampt act» (1765 год при Гренвиле) налагал пошлину на гербовую бумагу в пользу метрополии; рассматриваемый как посягательство на права колоний, он вызвал в Америке целую бурю и был через год отменен. Бостонский акт закрывал этот порт для торговли в наказание за потопление американцами обложенного пошлиной груза чая; этот акт был открытым вызовом колониям.
(обратно)88
Первый министр при короле Георге III, крайне непопулярный.
(обратно)89
Рокингам сделался министром в 1765 году после Гренвиля и отменил в том же году акт о гербовых пошлинах. В 1770 году билль был отменен министерством Норта, после чего осталась пошлина только на чай и произошла Бостонская история (см. предыдущее примечание).
(обратно)90
Бернгойн – английский генерал, сдавшийся при Саратоге с 7000 человек, во время войны за независимость в 1778 году; Корнуэльс – генерал, потерпевший решительное поражение в англо-американской войне при Йорктоуне, когда Вашингтону сдалась английская армия в 7000 человек.
(обратно)91
При Bunckers Hill'е и Брандивайне происходили одни из первых сражений во время войны за независимость. Саратога – первая значительная победа американцев еще в 1778 году. Йорктоун – победа Вашингтона над Корнуэльсом; после нее вскоре был заключен мир в Версале.
(обратно)92
Hove удачно вел войну против возмутившихся колоний и разбил американцев при Нью-Йорке в 1776 году, но был потом смещен.
(обратно)93
По переписи 1900 года – 76,5 миллиона жителей.
(обратно)94
Письма, подписанные «Junius», появились в 1769 году в «Public Advertiser» и содержали очень резкие нападки на короля и правительство.
(обратно)95
Во время министерства Гренвиля был проведен билль о гербовых пошлинах – билль, послуживший началом распри. Мансфильд – консервативный член парламента того времени.
(обратно)96
Сравни главу у Адама Смита «О мотиве для основания колоний».
(обратно)97
Hildreth', II, р. 232.
(обратно)98
Журналы начала XVIII века, издаваемые писателем Аддисоном.
(обратно)99
Первое – название английской колонии в Австралии, второе – провинции Канады.
(обратно)100
Лорд Дельгаузи – генерал-губернатор Индии (1848–1856), выдающийся и по способностям, и по благородству. Он сделал очень много и для устройства Индии, улучшив ее пути сообщения, и для расширения английского владычества. При нем к Англии перешли Пенджаб, Ауд и Бурма.
(обратно)101
Все цифры исправлены по переписи 1901 года.
(обратно)102
Согласно данным последней переписи 1901 года, Британская Индия, состоящая из британских провинций и туземных, зависимых от Англии, государств, равнялась 4040 тысячам кв. километров с населением в 281,6 миллиона. Площадь зависимых британских провинций при этом равнялась 951,7 тыс. кв. км, а население их составляло 63 миллиона жителей. Для удобства понимания дальнейшего я позволю себе указать на расположение упоминаемых в тексте областей. Бенгал, Северо-Западные провинции и Ауд образуют сплошную полосу британских провинций, тянущуюся от северного угла Бенгальского залива до водораздела между Индом и Гангом, где этот последний выходит из Гималаев. Бенгал занимает юго-восточную часть этой полосы, Северо-Западные провинции – северо-западную, Ауд лежит посередине ее, ближе к Гималаям, и граничит с Непалом. В самом северо-западном углу Индии, на границе с Афганистаном и Кашмиром (зависимое туземное государство), лежит британская провинция Пенджаб, расположенная на верхнем и среднем течении Инда и его четырех притоках. Пенджаб соприкасается на юге с Синдом, который граничит на западе с Белуджистаном и занимает дельту Инда. Таким образом, британские провинции сплошной лентой опоясывают с севера материковую часть Индии: туземные зависимые государства, из которых значительные размеры имеет только Раджпутана, оказываются в центре материковой части Индии. То же отношение сохраняется и на полуостровной части Индии (на Декане). Западные береговые области Декана составляют Бомбейскую провинцию, а восточные – Мадрасскую. В центре Декана располагаются два зависимые туземные государства – Гайдерабад и Майсар, игравшие важную роль в истории индийского завоевания, разделенные узким перешейком английских земель. На границе между полуостровной и материковой частями лежат компактные британские земли (Центральные провинции Берар).
(обратно)103
Зависимое от Англии государство на северо-западе Индокитая.
(обратно)104
Главные города двух самых важных областей – страны Великого Могола и Бенгала.
(обратно)105
Город, расположенный в Западных Гатесах, недалеко от Бомбея, место возникновения мараттской державы, – столица Пейшвы.
(обратно)106
Набег персидского шаха Надира на столицу Великого Могола – Дели относится к 1739 году, это было разбойничье нашествие, и персы после 56-дневного грабежа удалились с громадной добычей.
(обратно)107
Махмуд из Газни (1001–1030) был первый арабский завоеватель, успешно делавший набеги на Индию со стороны Афганистана. В Пенджабе утвердился еще его отец. Он совершил 17 опустошительных набегов.
(обратно)108
Великие моголы Акбер (1556–1605) и шах Джеган (1627–1656) были лучшими мусульманскими правителями Индии. Шах Джеган особенно знаменит роскошью своего двора, своими постройками в Агре и походами в Декан.
(обратно)109
Война 1817–1818 годов. Два последние государства мараттов восстали и были окончательно сокрушены и присоединены к английским провинциям.
(обратно)110
В 1901 году на 131 тыс. туземных солдат приходилось 66 тыс. англичан.
(обратно)111
Акт, изданный в 1773 году, впервые определил точно и права Ост-Индской компании, и штаты ее служащих.
(обратно)112
Взятие Аркота и победа при Пласси – самые замечательные моменты в истории борьбы Франции и Англии в Южной Индии. Эпизод при Аркоте относится к 1751 году. Город лежит в Восточных Гатесах, на запад от Мадраса; Клайв защищал этот город против французских войск. Сражение при Пласси (1757) особенно прославило Клайва; союзник французов, навад бенгальский, вышел против него с 50000 войском и был разбит тысячью англичанами и 2000 сипаев под командой Клайва. Непосредственно после этого сражения Англия приобрела большие права в Бенгалии, а через 8 лет Бенгалия была уступлена официально Англии ее сюзереном Великим Моголом Дели (1765).
(обратно)113
Гайдерабад – государство в центре Декана, отложившееся от Великого Могола в 1720 году под предводительством Низама Уль-Мулька, по смерти которого, в 1748 году, в спор Гайдерабада и Аркота (теперь в области Мадраса) из-за наследства Мулька вмешался Дюпле. Эпизодом борьбы, в котором приняли участие и англичане, было взятие Аркота. После этого Гайдерабад долго служил оплотом французского влияния на юге Индии, так как до конца XVII века его войска обучались французскими офицерами. В 1797 году Уэльзли добился распущения этих войск, и с тех пор по настоящее время Гайдерабад является самым крупным из номинально самостоятельных государств Декана (больше 11 миллионов жителей).
(обратно)114
Майсар – это второе после Гайдерабада по размерам мусульманское государство центрального Декана. Оно было основано в конце XVI века, но возвысилось особенно при Гайдер-Али во второй половине XVIII века, т. е. после падения Великих Моголов и мараттов. Али вел очень успешно войны с англичанами (1780–1784). Сын его, султан Типу, заключил мир с англичанами, но потом сделался союзником Франции и был окончательно разбит в 1799 году. Майсар частью был разделен, частью сохранился в виде номинально независимого владения, каковым существует и сейчас (5 1/2 м. ж.).
(обратно)115
Основатель династии Синдхья, которая сначала владела одним из государств мараттов, а затем, во второй половине XVIII века, заняла первое место, был раньше торговцем туфель и сделался главным вершителем судеб империи Могола, которого он заключил в 1781 году в почетный плен.
(обратно)116
Парсы – секта огнепоклонников, насчитывает только 90 тыс. Это наиболее богатая, образованная часть индусского населения. Парсы – в большинстве случаев богатые оптовые торговцы, главным образом по торговле опиумом. Живут они вблизи Бомбея и в самом Бомбее.
(обратно)117
Дивоном, или диваном, называлось финансовое управление в Индии, тогда как Низам – управление административное. Диван был в 1765 году дарован Моголами Ост-Индской компании; Низам же был оставлен набобу бенгальскому.
(обратно)118
Вотум порицания Клайву был вынесен палатой ввиду обвинения в злоупотреблениях уже за год до смерти Клайва. Гестингс был генерал-губернатор (1772–1785), преемник Клайва, много сделавший для индийского управления, но справедливо обвинявшийся за ряд жестокостей в Индии, хотя и был оправдан палатой лордов в 1795 г.
(обратно)119
В 1773 году – регулирующий акт, затем ряд законов изменяющих частности правления, в 1783 году – билль Питта (Младшего), учреждавший контрольное бюро в Англии по индийским делам.
(обратно)120
Job Charnock – основатель Калькутты. Josiah Child – первый «генерал-губернатор и адмирал Индии», назначенный Ост-Индской компанией после приобретения ею территориальных владений (1689).
(обратно)121
В 1765 году Клайв добился передачи в ведение Ост-Индской компании финансового управления трех областей в юго-восточном углу материковой Индии – Бенгала, Бихара, Ориссы, находившихся под сюзеренитетом Великого Могола и под управлением его набобов.
(обратно)122
По переписи 1891 года из индусских языков самыми распространенными оказались:
(обратно)123
Провинция в северной Индии.
(обратно)124
Замечательный генерал-губернатор половины XIX века (1848–1856), присоединил окончательно Пенджаб после долгой войны в 1849 году, Нагпур (провинция на западе от Бенгалии, теперь Центральная провинция) в 1853 году и Ауд (на северо-западе от Бенгалии) в 1856 году. Все три провинции раньше находились под протекторатом Англии.
(обратно)125
Сикхи (2 миллиона) – племя, исповедующее особую религию, основанную на примирении Вед с Кораном (основатель ее Нанек 1466–1589), живет в Пенджабе. Они очень настойчивы, храбры и поставляют лучших солдат в войска британской армии; ненавидят мусульман.
(обратно)126
Провинция на предгорьях Гималаев, только недавно окончательно присоединенная к британской Индии.
(обратно)127
Это был вождь племени маратти, жившего в западных Гатесах. Он организовал отряды, делал набеги на владения Могола и португальцев и в 1674 году короновался с большим торжеством. После него маратти начали возвышаться только лет через пятьдесят, при первом Пейшве.
(обратно)128
Знаменитое восстание туземных войск (сипаев), после которого была уничтожена Ост-Индская компания.
(обратно)129
По профессору Кауэлю (Cowell).
(обратно)130
Предмет этот подробно рассматривается профессором Максом Мюллером в его сочинении: «Чему может научить нас Индия?» («What can India teach us?»).
(обратно)131
Лорд У. Бентинк – генерал-губернатор (1828–1835), прославился своими гражданскими реформами и уничтожением разбойничьих сект.
(обратно)132
Лорд Корнваллис был дважды генерал-губернатором Индии: в 1786–1793 годах, когда он, усмирив восстание Типу-Саиба, реорганизовал управление Индией, и в 1805 году он умер, едва успев приехать туда.
(обратно)133
Марко-Джироламо Вида (Vida), новолатинский поэт (1480–1566), итальянский епископ, по поручению папы Льва X написал поэму «Christios», излагающую жизнь Христа, а также несколько дидактических поэм («De arte poetica», «De bombyce», «De ludo scae-chorum»). Джакопо Санназаро (Sannazaro), итальянский и латинский поэт (1458–1530), один из лучших латинских писателей новейшего времени по красоте стиля и по содержанию, автор латинской поэмы «Arcadia» и итальянских «Сонетов и песен».
(обратно)134
Sir Charles Wood, виконт Галифакс, дважды заведовал индийскими делами: в 1853–1855 годах, в кабинете графа Эбердина, и в 1859–1865 годах, в кабинете лорда Пальмерстона.
(обратно)135
Первые французские колонии по берегам Индии.
(обратно)136
Начало борьбы с Францией в Декане.
(обратно)137
В 1813 году отменено монопольное право торговли Компании.
(обратно)138
Уничтожение монополии распространяется и на китайскую торговлю Индии. Кроме того, введены были с 1833 года существенные улучшения.
(обратно)139
Из него впоследствии вырос город Мадрас. Основан в 1639 году.
(обратно)140
Форт несколько к югу от Пондишери.
(обратно)141
Форт Уильям был основан англичанами, выгнанными из их факторий, расположенных несколько выше по Гангу, в 1686 году. Позднее здесь возникла Калькутта. Эпизод с черной ямой (тюрьма в форте Уильяме) заключался в следующем. Сураджа-уд-Даул напал на Калькутту, занял ее и задушил в одну ночь в тесном помещении тюрьмы 123 из 146 пленных. Это было в 1756 году. Клайв быстро явился в устье Ганга и вернул Калькутту и права Ост-Индской компании на торговлю. В следующем году Клайв одержал блестящую победу при Пласси, разбив соединенные войска Сураджи и французов.
(обратно)142
Вагабиты – мусульманская секта, основанная около половины XVIII века в Аравии купцом Вагабом и в двадцатых годах XIX века проникшая в Индию. Вагабиты отрицают все устные и письменные предания ислама и руководствуются одним Кораном. Вагабиты с самого начала обнаружили значительные политические тенденции и едва не овладели Аравией, подняв восстание против султана. Понеся в 1817 году решительное поражение, они притихли, но затем снова начали беспорядки, которые, однако, были усмирены во второй половине 70-х годов. В Индии распространение учения вагабитов повело к значительным беспорядкам.
(обратно)143
Один из поводов к восстанию дали слухи о том, что патроны новой системы, которые солдатам приходилось скусывать, смазаны салом свиным и коровьим. Это возбуждало недовольство мусульман, видящих в необходимости касаться свиного сала нарушение велений Корана, и индусов, считающих корову священным животным.
(обратно)144
Акбер – самый могущественный из Великих Моголов (1556–1605), приблизивший к себе индусское общество. Это был замечательный человек по своим дарованиям. Он отличался полной веротерпимостью, допускал толкования ислама и был сам пророком и главой созданной им веры – «божественной веры», которая была компромиссом из нескольких религий.
(обратно)145
Набеги арабов на Синд (по берегам Аравийского залива) относятся к 662 и 664 годам.
(обратно)146
Язык кави – старинный язык, уже теперь мертвый; он не имеет никакого сходства с местными языками. На меньших соседних островах Амбоине и Бали этот язык до сих пор употребляется при религиозных обрядах.
(обратно)147
Битва происходила между мараттскими войсками и афганскими пришельцами. К тому времени маратты уже фактически владели Дели.
(обратно)148
Область, лежащая на запад и на север внутрь от Мадраса.
(обратно)149
Низамом назывался Гайдерабад, находившийся в номинальном союзе с Англией.
(обратно)150
Ряд указанных приобретений сделан во время генерал-губернаторства Эленборо и Дальгаузи между 1842 и 1856 годами.
(обратно)151
Афганская война относится к генерал-губернаторству Окленда (1836–1842). В 1837 году англичане вмешались в распри Афганистана, и до 1841 года там находились английские войска, но восстание 1841 года, во время которого был убит английский дипломатический агент в Кабуле, заставило англичан отступить зимой, и вся 16-тысячная армия их погибла в горах. При Эленборо англичане отомстили афганцам в 1842 году.
(обратно)152
Результатом их было присоединение Пенджаба (1857).
(обратно)153
«The Marquis Wellesley» by W. M. Torres, M. P., vol. I, p. 128.
(обратно)154
«Может показаться похвальбой, но это истина, что мы даровали благодеяния миллионам… Пахарь снова повсюду поднимает почву, которую в течение многих лет взрывали лишь копыта хищнической конницы». Лорд Гестингс, февраль 1819 года.
(обратно)
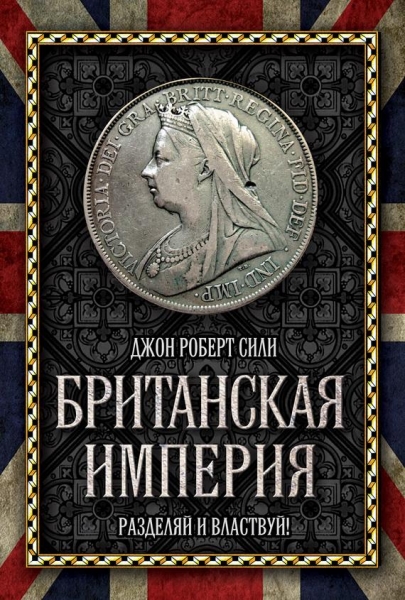

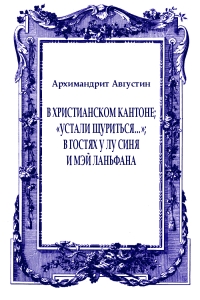



Комментарии к книге «Британская империя», Джон Роберт Сили
Всего 0 комментариев