ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ
В серии «Народы Земли — история, религия, культура» более чем через 100 лет с момента издания русскоязычной версии, выходит книга Джона Ричарда Грина «Краткая история английского народа» («А short History of England People», впервые издана в 1874 г.). Из множества различных исследований по истории английского народа произведение Дж.Р. Грина выбрано по двум причинам: огромной популярности (до 1900 года переиздавалось более 40 раз), а также наличия более 1500 великолепных и разнообразных иллюстраций из последующего издания 1893—1894 годов.
Обратимся к биографии автора. Дж.Р. Грин родился 12 декабря 1837 года. В 1860 году он стал священником, но через 8 лет покинул эту стезю и целиком посвятил себя исторической науке. В 1874 году «Краткая история английского народа» имела небывалый успех и принесла автору огромную популярность, была переведена на французский и немецкий языки, в русском переводе М. Шаманина вышла в 1897—1900 годах. В книге дана история народа в целом, нарисована в высшей степени яркая и вместе с тем верная картина английской общественной жизни с древнейших времен до второй половины XIX века.
Политическая и социальная, экономическая и культурная история — все нашло место в этом замечательном труде, и поныне остающимся лучшим введением в историю Англии. Успех «Краткой истории английского народа» побудил Дж.Р. Грина приняться за более подробное изложение английской истории. В 1877—1880 годах вышла его четырехтомная «History of the Englash People» (в переводе на русский язык выпущена издательством Солдатенкова в Москве в 1891—1893 гг.). Позже Дж.Р. Грин работал над «Историей Англии для ученых», но выпустить успел только два первых тома: «Making of England» (1882) и «Conquest of England» (1883).
Дж.P. Грин умер 7 марта 1883 года. Его жена Алиса, урожденная мисс Стопфорд, родившаяся в 1849 году, — тоже выдающийся историк, автор этюда о Генрихе II в серии «English Statement» (Лондон, 1888) и книги по истории английских городов «Town life is the XV cent» (Лондон, 1894).
Сделаем краткий экскурс в историю Англии. Одна из ведущих стран Европы, Англия в экономике, науке и культуре прошла своеобразный и длинный путь исторического развития. Археологические изыскания на территории современной Англии — Британских островах — свидетельствуют, что человек появился там более 10 тыс. лет назад. Тогда эти острова еще были частью Европейского континента, скованы ледником; на них господствовал холодный климат, растительность была скудной. От континента они отделились в 6-м тысячелетии до н.э.
Примерно за два тысячелетия до н.э. Британские острова — «Великая Британия», Ирландия (Гиберния — у римлян) — подверглись нашествию пришельцев с несравненно более высоким уровнем цивилизации, которые умели плавить металл и ткать, применяли бронзовое оружие. Сооруженный ими в 1750 году до н.э. легендарный Стоунхендж (в 70 милях от Лондона) сохранился до нынешнего времени и по одной из гипотез служил простейшей обсерваторией. Современная наука не может объяснить, какими техническими средствами подобные сооружения могли быть возведены в те времена. Тогда на о. Крит добывалась медь, а на островах Силли (Британия) — олово (их сплав образовывал бронзу). Торговали бронзой смелые мореходы-финикийцы. С появлением после 1000 г. до н.э. железа торговля оловом пришла в упадок и Корноулл с его оловянными копями утратил значимость как торговый центр.
Около 1200 лет до н.э. в Центральной Европе проживали кельты (галлы). Постепенно они расселились на Запад, а с 1000 года до н.э. начали заселять и Британские острова. Кельты принесли с собой не только железо и технологию его получения, но и много бытовых новшеств. К 300 году до н.э. кельтские племена стали хозяевами почти на всей территории Великобритании, их «города» по размерам были значительно больше, чем поселения местных жителей. Кельтов, живших на острове, стали называть бриттами.
Кельты захватили не только большую часть Британии и Галлии, но и часть Испании, а также земли, которые ныне принадлежат Польше и Румынии. Вторгшись в Италию, они в 390 году до н.э. даже захватили Рим. Спустя 120 лет римляне вытеснили галлов (кельтов) к Альпам и захватили северные области Италии.
С 71 года до н.э. галлы в течение 12 лет подвергались нашествиям германских племен под предводительством Ариовиста. В 58 году до н.э. римский император Гай Юлий Цезарь оттеснил германцев за Рейн и одержал победу над галлами. Вместе с этим римляне попытались захватить Британские острова: в 58 году до н.э. и в 55 году н.э. под руководством Цезаря продемонстрировали их жителям сильный флот (около 580 кораблей) и неустрашимую выучку воинов. Итогом их устремлений был переход Британских островов с течением времени в ранг одной из многих римских провинций; непокоренными оставались при этом только Ирландия и Шотландия (Каледония).
Несмотря на то, что три пятых территории Британских островов были покорены, римлянам для сохранения своих позиций приходилось держать здесь войска. Чтобы укрепить северную границу римских владений, было построено укрепление (Адрианов вал) длиной около 75 миль, перегородившее остров с востока на запад. С этих времен начинается, собственно, история Англии и ее народа.
Около 450 года н.э. из-за нашествия варваров на Римскую империю легионы римских солдат покинули Британские острова, предоставив населению самим защищать свою землю от нападений саксов, англов, бемов, ютов, затем датчан и т.д.
После распада Римской империи юты — северные германские племена во времена Великого переселения народов — прочно обосновались на о. Уйат и берегах Хэмпшира, на о. Танет; саксы и фризы завоевали бассейн Темзы и современный Эссекс и Сассекс. Англы завоевали центр и северную часть Англии. Позже датчане, нормандцы и французы численностью 50 тыс. человек смешались с местным населением Великобритании. После этого Англия не подвергалась нашествиям извне, но всегда была прибежищем для беглецов из материка. Основу населения Британских островов составили кельты, бретонцы и германцы, саксы и скандинавы.
Распространение христианства в Англии началось с 597 года после Рождества Христова и завершилось во 2-й половине VII века. Первым епископом Англии был Августин, приор монастыря св. Андрея на Целестинском холме в Риме, посланный папой римским Григорием I вместе с 40 монахами для обращения язычников. Августин основал монастырь в Кентербери и в 602 году был назначен папой Григорием епископом и главой английской церкви. Августин стал первым «архиепископом Кентерберийским», и до сих пор епископ Кентерберийский считается высшим церковным иерархом в Англии.
После норманнского завоевания Англии в X веке завершился процесс феодализации, сопровождавшийся политическим объединением страны и централизацией государственной власти. С конца XII века и особенно, в XIII веке, королевская власть нередко действовала в ущерб значительной части населения. Это обусловило ряд выступлений знати против короля, и в результате в 1215 году Иоанном Безземельным была подписана Великая Хартия Вольностей, содержавшая значительные уступки баронам. Во 2-й половине XIII века возник английский парламент. В XIV веке парламент стал двухпалатным.
С древнейших времен Лондон — столица Англии — был морским торговым городом, и его жители, как и жители побережья Англии, унаследовали от своих суровых предков датчан и норманнов любовь к морю и борьбе с волнами и бурями.
И хотя английские мореплаватели уступили честь открытия новых торговых путей в Индию, Антильских островов и Тихого океана своим южным собратьям из Испании и Португалии — Колумбу, Васко да Гаме, Альфонсу де Альбукерке и другим, они научились пересекать океаны, опередив многие другие страны и сделав множество больших открытий. При этом, когда один английский корабль пускался в неведомые моря, сотни других по уже открытым путям направлялись в отдаленные страны, завязывая с ними торговые отношения, уничтожая фактории своих соперников, оставляя в них свои военные отряды и колонистов, расширяя степень влияния Англии в мире в целом.
Появление огромных промышленных городов в Англии, расширение мануфактур сопровождалось производством большого количества более дешевых, чем у остальных государств, товаров, а чрезвычайно удобное коммерчески положение Англии по отношению к остальной Европе, Северной Америке и даже ко всему обитаемому миру крепило ее морскую торговлю, обеспечивало успешное расселение англичан во вновь открываемых землях и колониях. Недаром английский язык стал господствующим: при численности населения Англии немногим более 15 млн. человек; в остальных частях света английский язык использовали примерно 300 млн. человек (данные 1884 г.).
Король Англии Генрих VIII из-за того, что папа Римский Климент VIII отказал ему в расторжении брака с Екатериной Арагонской в 1527 году, решил прибегнуть к помощи кембриджского доктора богословия Томаса Кранмера, и тот написал труд, доказывающий недействительность брака Генриха VIII с Екатериной Арагонской. В 1533 году Кранмер стал архиепископом Кентерберийским, а Генрих VIII в 1534 году объявил себя главой церкви Англии (после смерти папы Климента VIII).
Начался перевод Библии на английский язык. После 5-летнего правления Марии I Тюдор, твердой католички, к власти пришла королева Елизавета I, и все английские священники должны были присягать ей на верность. В царствование Елизаветы I начались усиление морского флота, финансируемого королевой, противостояние с Испанией, перешедшее в войну, захват чернокожих рабов для плантаций Вест-Индии, борьба с иезуитами, пытавшимися свергнуть королеву с помощью заговоров (все они провалились). Произошло много других событий — казнь Марии Стюарт 8 февраля 1587 года, разгром «Непобедимой Армады» испанского короля Филиппа II — все это утвердило Англию как владычицу морей во всем мире. Во время правления королевы Елизаветы Англия стала сильнейшим государством с непобедимым флотом, в ее владениях никогда не заходило солнце — настолько они были велики. Единственная страна, ставшая выше Англии в XVIII веке — Соединенные Штаты Америки, да и то она образовалась в результате войны за независимость от Англии ее же 13 североамериканских колоний, основанных выходцами из Соединенного Королевства. Всему миру известны такие знаменитые английские фамилии и династии, как Плантагенеты, Ланкастеры, Стюарты, Нормандцы, Анжуйцы, Йорки. Символ англичанина Джон Буль ни в чем не уступал немцу, французу, славянину, азиату, африканцу, испанцу, голландцу, итальянцу, австралийцу, датчанину, шведу, арабу, китайцу, японцу, — только американский дядя Сэм оказался сильнее его.
Знаменитые английские ученые и изобретатели, философы и политики, генералы и дипломаты, моряки и адмиралы, врачи и естествоиспытатели, архитекторы и скульпторы, живописцы и писатели, поэты и композиторы, спортсмены и охотники, путешественники и исследователи, археологи и геологи, картографы и печатники, певцы и актеры, журналисты и репортеры, библиотекари и хранители музеев, швеи и прядильщицы, шахтеры и мореплаватели, солдаты и офицеры, люди других профессий на протяжении более 15 столетий ценой самоотверженных усилий крепили славу своего Отечества. Для перечисления только фамилий этих людей понадобились бы многие сотни страниц. Ученый Исаак Ньютон и драматург Уильям Шекспир, капитан Ричард Ченслер и доктор Марк Ридлей, писатель Филипп Сидни и социолог Герберт Спенсер, «князь поэтов» Эдмунд Спенсер и писатель Артур Конан-Дойль, многие другие выдающиеся граждане Англии стали известны всему миру.
С незапамятных времен Англии приходилось участвовать в разных территориальных и политико-экономических конфликтах, что решалось и дипломатией, и силой оружия. Знаменитые английские лучники в свое время на расстоянии более 300 ярдов пробивали практически любую кольчугу или щит.
В самой Англии тоже не всегда было спокойно. Внутренние споры графств, а также правящих династий вели к вооруженным конфликтам, к этому добавлялись разногласия между католиками и протестантами, но английская нация выстояла и сохранилась.
Правда, ничего в мире не остается неизменным. Время разрушило колониальную систему всех империй, в том числе Британской. И все же во всем мире во все времена уважали и признавали силу — оружия, ума, политики, образа жизни. Распространение в разных уголках мира английского языка, а на нем сейчас говорят около 1 млрд. человек, свидетельствует о незыблемости традиций и подчеркивает роль английской нации как одной из лидирующих в Европе и мире. Мировой известностью пользуются ее полититческие деятели XX века, например, Уинстон Черчиль, Маргарет Тэтчер. Более 70 англичан удостоены Нобелевских премий за достижения в области науки, экономики, литературы, общественной деятельности.
Благодаря своей национальной особенности английское общество сохраняет верность традиционной монархической системе правления и в настоящее время.
* * *
Перед издательской группой стояла сложная задача по адаптации текста конца XIX — начала XX века для удобного и легкого его прочтения современным читателем. Иллюстрации для издания взяты из англоязычной публикации книги 1893—1898 годов. Каждый из его 2-х томов сопровожден аннотированными именными и географическими указателями, хронологическими таблицами правивших английских династий. В приложении дается Великая Хартия Вольностей.
Уверены, что читатель с удовольствием ознакомится с замечательным трудом Джона Ричарда Грина и расширит свои представления об истории одной из древнейших стран Европы — Англии.
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Цель следующей работы определена в ее названии: это история не английских королей или английских побед, а это история английского народа. Рискуя пожертвовать кое-чем интересным и привлекательным, уже ставшим привычным для английских читателей из-за постоянного упоминания историками, я предпочел слегка и кратко пройтись по деталям международных войн и дипломатии. А также я решил упомянуть о приключениях из личной жизни королей и аристократии, о пышном убранстве судов, об интригах фаворитов. Не забыл провести читателей по веренице событий, способствовавших конституционному, интеллектуальному и социальному развитию, в которых мы видим историю самой нации. С этой целью я выделил больше места Чосеру, чем Кресси, Кэкстону, чем мелким спорам между жителями Йорка и Ланкашира, закону Елизаветы о бедняках, чем о ее победе в Кадисе, возрождению методистов, чем исчезновению Молодого Претендента.
Самое худшее, что может произойти с данной работой, — это превращение в "рекламную" историю, и я изо всех сил старался сделать так, чтоб этого избежать. Большинство историков подошли к освещению истории как к регистрации количества людей с помощью их же собратьев. Однако война играет малую роль в истории народов Европы, а в Англии ее роль и того меньше. Единственная война, существенно повлиявшая на английское общество и английское правительство — Столетняя война с Францией, и итогом этой войны было просто зло. Если я и рассказал мало о славе Кресси, то потому, что пошел по неверному, печальному пути поэзии Лонгленда и проповедей Бола. Но, с другой стороны, я никогда не уклонялся от повествований о триумфах победы. Я нашел им место среди достижений англичан в "Царстве фей" и в "Новом органоне". Я поставил Шекспира в ряд с героями эпохи Елизаветы I и разместил научные исследования Королевского общества плечом к плечу с победами Новой Модели. Если мои страницы в меньшей степени, чем обычно, заняты некоторыми общепринятыми фигурами военной и политической истории, то я нашел место для фигур, которым в обычных книгах уделялось меньше внимания, а именно: для фигуры миссионера, поэта, печатника, купца, философа.
В Англии, более чем где-либо, конституционный прогресс явился результатом социального развития. В кратком резюме нашей истории, коим является настоящая книга, невозможно пройтись, как мне хотелось бы, по всем фазам развития, но я попытался выяснить, как политическая история сказалась на социальных переворотах во время великих кризисов, таких, как восстание крестьян или реставрации. В то же время в книге обращено много внимания на религиозный, интеллектуальный и индустриальный прогресс самой нации, обращено внимания больше, чем в любой другой истории такого же объема.
Масштаб данной работы мешал мне дать детали для каждого утверждения. Но к каждой главе я прибавил краткие критические замечания ведущих тогдашних авторитетов о представленных периодах времени и о дополнительных источниках информации. Я подумал, что, поскольку я пишу для англичан среднего класса и для возможных переводчиков на иностранные языки, будет лучше загнать себя в рамки истинно английской книги. Я только слегка отступился, упомянув французские книги, таких авторов, как Гизо или Минье, хорошо известные и легкодоступные обычным студентам. Я поистине сожалею, что первый том бесценной "Истории конституции" профессора Стаббса попал ко мне в руки слишком поздно, чтоб я мог его использовать в своем труде. Этот том пролил так много света на ранние периоды истории.
Меня только очень беспокоят недостатки и оплошности в работе, где многое было написано в часы слабости и болезни. Несовершенство моего здоровья существеннее несовершенства книги, и я благодарен за доброту тем, кто время от времени помогал мне предложениями и корректировками; в особенности моему дорогому другу, мистеру Е.А. Фриману, который всегда приходил на помощь со своими советами и критикой. Спасибо за дружескую поддержку профессору Стаббу и профессору Брайсу, а в плане грамотности — Стофорду Бруку, чьи глубокие знания и утонченный вкус сослужили мне величайшую службу.
Джон Ричард Грин
РАЗДЕЛ I АНГЛИЙСКИЕ КОРОЛЕВСТВА (607—1013 гг.)
Мой дом — моя крепость.
(Английская поговорка).
Запад есть Запад,
Восток есть Восток, и им не сойтись никогда…
Редьярд Киплинг
Глава I БРИТАНИЯ И АНГЛИЯ
Родина английского племени находится очень далеко от нынешней Англии. В V веке после Рождества Христова страна с названием Англия (of Angela or the Engleland) лежала в нынешнем Шлезвигском округе, т.е. в середине полуострова, отделяющего Балтийское море от Северного. Прекрасные пастбища, усадьбы из строевого леса, красивые маленькие города, отражающиеся в пурпурных водах заливов, — все это было тогда не более, чем песчаной равниной, опоясанной по краям мрачными, не пропускавшими солнечного света лесами и пересекавшимися там и сям лугами, которые незаметно сливались с болотами и морем. Жители этого округа были, по-видимому, только отпрыском племени, называемого англами, или английским народом, главная часть которого занимала, вероятно, местность между средним течением Эльбы и Везера.
К северу от шлезвигской ветви англов находилось другое родственное им племя — юты, наименование которого сохранилось до сих пор в названии области Ютландия. К югу от него жили различные германские племена, занимавшие территории между Эльбой и Эмсом, а также растянувшиеся далеко за Эмс до Рейна и составлявшие один народ саксов. Англы, юты и саксы принадлежали к одной и той же нижнегерманской ветви тевтонской расы, и в момент вступления их на историческое поприще мы видим их связанными друг с другом узами общего происхождения, одинакового языка, одинаковой социальной и политической организации. Каждому из этих племен выпало на долю участвовать в завоевании нашей страны, и когда это завоевание стало свершившимся фактом, то от слияния всех трех племен и возник английский народ.
О нравах и образе жизни народов этой Древней Англии мы знаем весьма немного, но, судя по имеющимся данным, относящимся к эпохе их появления в Британии, надо думать, что их политическая и социальная организация была такой же, как и у всех народов германской расы, к которой они принадлежали. Основой их общества был «свободный человек». Он один был «человеком свободной воли», длинные волосы которого развевались вдоль шеи, никогда не склонявшейся перед господином; он один был и «вооруженным человеком», носившим копье и меч и имевшим право возмездия, или личной войны, право, бывшее при таком состоянии общества хоть некоторой уздой, сдерживавшей полный произвол.
У англов, как и у всех других народов, правосудие развилось из личных действий каждого члена племени. Было время, когда каждый «свободный человек» являлся и единоличным мстителем, но даже в самых древних формах английского общества это право самозащиты изменялось под влиянием все более развивавшегося понятия общественного правосудия. «Цена крови», или денежное вознаграждение за личную обиду, — первая попытка племени урегулировать личную месть. При этой системе жизнь и каждая часть тела свободного человека были оценены. «Око за око» или соответствующее справедливое вознаграждение — так гласил грубый кодекс обычного права. Дальнейший шаг в том же направлении мы усматриваем и в другом очень древнем обычае. Цену жизни или члена тела уплачивали не преступник пострадавшему, а семейство или дом преступника — семейству или дому пострадавшего. Таким образом, закон и порядок основывались здесь на понятии о родстве по крови всех семейств племени; установился взгляд, согласно которому совершенное преступление было совершено всеми родственными преступнику по крови людьми против всех родственников пострадавшего, и из этого-то взгляда и развились первые формы английской юстиции. Каждый из родственников был как бы опекуном над другим родственником, обязан был защищать его от обид, препятствовать ему самому совершать преступления, отвечать и платить за него, если преступление было совершено. Этот принцип признавался настолько, что если кого-нибудь обвиняли в совершении преступления даже перед целым племенем, то единственными его судьями оставались все-таки его родичи, ибо обвинительный или оправдательный приговоры выносились лишь после их торжественной клятвы в подтверждение его вины или невиновности.
Родственные связи придали форму не только английскому суду, но также и всей военной и социальной организации древнеанглийского общества. Родичи дрались на поле сражения рядом, и чувства чести и дисциплины, связывавшие все войско в одно целое, исходили из чувства долга каждого члена небольшой группы воинов по отношению к их семьям. Как они бились бок о бок на войне, так они и жили бок о бок в мирное время. Гарлинг жил рядом с Гарлингом, Биллинг — рядом с Биллингом, и каждое селение (wick), город (tan, town), жилище (ham, home) или усадьба (stead) назывались по именам живших в них родственников. Таким образом, «ham» Биллингов назывался Биллингамом, а «tan» (или «town») Гарлингов — Гарлингтоном. В таких поселениях узы крови преобразовывались в более широкие поземельные связи. У германской расы с очень давнего времени гражданское полноправие, по видимому, соединялось с владением землей. Свободным человеком был, собственно говоря, только свободный владелец — фригольдер, и полноправие такого фригольдера в общине, к которой он принадлежал, было нераздельно с его владением землей в общине. Безземельный человек фактически переставал быть свободным, хотя и не становился рабом.
В самые ранние исторические периоды мы видим германскую расу как расу земледельцев и землевладельцев. Тацит, первый римлянин, познакомившийся с теми, кому суждено было завоевать Рим, описывал их как людей, пасших стада скота в лесных долинах вокруг деревень и обрабатывавших поля. Главными чертами, поразившими Тацита и резко отличавшими германцев от цивилизованного мира, к которому принадлежал автор описания, были их ненависть к городам и ревнивая любовь к независимости. «Они живут каждый сам по себе, — говорил писатель, — в лесах, долинах или возле свежих источников, избираемых каждым по своему усмотрению». И, как каждый обитатель селения ревниво оберегал свою независимость от односельчан, так и каждое селение сохраняло самостоятельность по отношению к другим селениям. Каждая маленькая земледельческая община имела собственную границу — «марку» (mark) — в виде леса, пустоши или болота, которой отделялась от другой общины.
Землей, составлявшей такие границы, никто из членов общины не имел права пользоваться с личными целями, но она иногда служила местом казни преступников и потому считалась особым обиталищем злых духов и душ умерших, бродивших там в виде блуждающих огоньков (will-o’-the wisp). Если чужестранец проходил через такой лес или такую пустошь, то обычай требовал, чтобы он трубил в трубу, иначе он считался врагом и всякий имел законное право его убить. Город как поселение тогда назывался от слова «tun», был окружен прочным валом и рвом, служившими готовой крепостью во время войны с внешним врагом; во время же внутренних усобиц между деревнями или усадьбами эти же укрепления играли роль траншей.
Начиная с самых ранних периодов истории мы находим здесь уже ясно выраженное различие в положении двух классов населения: большинство усадеб принадлежало свободным людям — «кэрлам», но были усадьбы и побогаче, принадлежавшие «эрлам», т.е. людям, отличавшимся благородством происхождения, пользовавшимся особым наследственным уважением, людям, из среды которых выбирались преимущественно предводители — в военное и правители в мирное время; выборы эти были, однако, совершенно добровольными, и человек «благородной крови» не пользовался никакими установленными законом привилегиями среди своих сограждан.
Владения свободных людей были расположены вокруг так называемого moot-hill — места, отведенного для народного вече, или около священного дерева, вокруг которого собиралась вся община для обсуждения хозяйственных дел и установления новых законов. Здесь делились между членами общины луга и пахотная земля, переходили из рук в руки поля и усадьбы, улаживались распри между земледельцами, согласно обычаям, разъясняемым здесь же старейшинами, осуждались и наказывались преступники и их родственники; здесь выбирались те, кто должен был сопровождать предводителя, или элдормена, в собрание сотни или на войну. С тем самым чувством, с каким смотрим мы на исток могучей реки, мы представляем себе эти крошечные собрания, на которые стекался деревенский сход для управления деревенской жизнью и рассмотрения деревенских дел, совсем так же, как их потомки, люди позднейшей Англии, собираются в парламент в Вестминстере, дабы издавать там законы и вершить правосудие в великом королевстве, выросшем из горстки земледельческих общин в Шлезвиге.
Религия англов была той же, что и у всех других германских племен. Уже торжествовавшее в ту эпоху в Римской империи христианство еще не проникло в леса Севера. Нынешние названия дней недели напоминают до сих пор названия божеств, которым поклонялись наши предки. Среда (Wednesday) — день Одина (Woden), бога войны, хранителя дорог и границ, изобретателя письменности, общего божества всего победоносного народа, каждое племя которого считало его родоначальником своих королей. Четверг (Thursday) — день Тундера, или, как северяне называли его, Тора, бога воздуха, грома, бури и дождя. Пятница (Friday) — день Фреи, богини мира, радости и плодородия; эмблемы этой богини, носившиеся на руках танцующими девушками, сообщали изобилие каждому полю и каждой конюшне, которые они посещали.
Суббота (Saturday) напоминает нам о таинственном боге Сетере, а вторник (Thuesday) — о мрачном боге Тиу, встреча с которым влекла за собой смерть. В названии христианского праздника Воскресенья (Easter) сохранилось имя Эостры, богини утренней зари и весны, а в названии Рока, или судьбы (Weird), — долго сохранявшегося северного суеверия, — «Wyrd», имя богини смерти, или «девы щитов», могущественной женщины, которая, как гласит старинная песня, «оттачивает для битвы оружие и направляет свистящие дротики». Еще более близкими народной фантазии были божества лесов и рек или герои легенд и саг: Nicor — «дух воды», переживший себя в «Nixies» (водяных) и в «Старом Нике» (Old Nicu — Сатана); Уэланд, ковавший тяжелые щиты и острые мечи; память о нем сохранилась в беркширском «кузнеце Уэланде», а название города Эйлсбери воплощает в себе последние следы предания о брате Уэланда — «стрелке солнца» Эджиле. Из всей этой массы древних суеверий и поэтических воззрений на природу остались лишь следы в некоторых названиях, серых надмогильных памятниках да в отрывках старых песен, и это обстоятельство указывает на то, насколько непрочно укоренены были эти верования в народную жизнь.
Прежде чем начать нашу историю, мы должны перенестись из Шлезвига и с берегов Северного моря в страну, столь дорогую теперь каждому англичанину, но в которую не ступала до тех пор нога англа. Остров Британия был в течение почти 400 лет провинцией Римской империи. Высадка Юлия Цезаря (55-й год до Рождества Христова) открыла этот остров римскому миру, но прошло около столетия, прежде чем император Клавдий попытался окончательно подчинить его своей власти. Победы Юлия Агриколы (78—84 гг. по Р.Х.) отодвинули границу римского владычества в Британии до устьев Форта и Клайда, куда вслед за римским мечом двигалась и римская цивилизация.
Население концентрировалось в таких городах, как Йорк и Линкольн, управляемых собственными муниципальными чиновниками, защищенных массивными стенами и соединенных между собой сетью дорог, тянувшихся из одного конца острова в другой. В городах, подобных Лондону, возникла торговля, а земледелие достигло такой степени процветания, что Британия была в состоянии удовлетворять потребности в хлебе даже Галлии. Минеральные богатства острова разрабатывались в оловянных рудниках Корнуолла, в свинцовых — Сомерсета и Нортумберленда и в железных — Динского леса.
Богатства острова быстро возрастали в продолжение нескольких столетий ненарушаемого мира, но те же причины, которые подтачивали силы Римской империи, должны были повлиять и на ее британскую провинцию. Здесь, как и в Италии и Галлии, население, вероятно, опускалось материально и духовно по мере того, как имения землевладельцев увеличивались, а земледельцы превращались в крепостных, хижины которых располагались вокруг роскошных резиденций их властителей. Разрабатываемые принудительным трудом рудники сделались источниками бесконечного гнета. Города и селения были одинаково задавлены тяжелыми налогами, а промышленность опутана сетью законов, которые быстро придали организации ремесел наследственно — цеховой характер. Кроме того, чисто деспотическая система римского управления, убивая всякую местную независимость, убивала вместе с тем и всякую энергию. Люди не знают, что значит борьба за отечество, если забывают о том, что значит самоуправление.
Такие причины разложения были общими для всех провинций империи, но были и другие, действовавшие только в Британии и зависевшие от ее исключительного положения. Остров ослабел от внутренних несогласий, явившихся результатом особенного характера его цивилизации. Дело в том, что побежденные бритты были романизированы только в городах, сельское же население осталось в стороне от римского влияния, говорило на родном языке и даже сохранило туземные обычаи. Употребление латинского языка можно было рассматривать как мерило римской цивилизации; но тогда как в Испании и Галлии латинский язык совершенно вытеснил языки побежденных народов, в Британии употребление его ограничивалось горожанами да богатыми землевладельцами, жившими вне городов.
Опасность, проистекавшая из такого положения вещей, особенно дала себя знать лишь тогда, когда у бриттов появился новый враг с севера. Слабость провинции и надежда на хорошую добычу побудили к нападению на бриттов непокоренных римлянами пиктов, которые и проникали в самый центр острова; такое предприятие пиктам было бы, конечно, не по силам, если бы они не встретили помощи в части самого бриттского населения, т.е. если бы борьба не велась между римлянами и романизированными бриттами — с одной, и пиктами и нероманизованными бриттами — с другой стороны. Борьба эта продолжалась до тех пор, пока более близкая римлянам опасность не заставила империю отозвать свои легионы и предоставить Британию самой себе. В продолжение первых четырех столетий н.э. этот цивилизованный мир успешно справлялся с окружавшими его со всех сторон варварами: парфянами — со стороны Евфрата, нумидийцами — со стороны африканских пустынь, германцами — со стороны Дуная и Рейна. Распад Римской империи сделал ее, наконец, почти неспособной к сопротивлению, и толпы диких варваров устремились за добычей. В западных провинциях Рима торжество нападавших было полным: франки победили и заселили Галлию, вестготы — Испанию, вандалы основали государство в Африке, бургунды расположились по Роне, наконец, остготы завладели самой Италией; в этот-то роковой для империи час саксы и англы устремились на наш остров.
В 410 году Рим отозвал из Британии свои легионы для защиты Италии от готов. Предоставленная самой себе Британия храбро сражалась с осаждавшими ее пиктами, и ей удалось оттеснить их в горы; новые набеги пиктов застали бриттов ослабленными внутренними раздорами и неспособными к общему сопротивлению; жителям бывшей римской провинции стало не под силу бороться с пиктами, окрепшими благодаря союзу с ирландскими разбойниками (так называемыми скоттами) и с еще более опасными пиратами, англами, давно уже грабившими берега Ла-Манша.
Пример ли германских собратьев, двинувшихся из своих лесов на разлагавшуюся империю, давление ли со стороны других племен или бесплодность заселенной ими страны — так или иначе, только в это время земледельцы, охотники и рыбаки различных английских племен двинулись к морю, и смелый дух их расы сразу выявился в стремительности их набегов, свирепости нападений, в беззаботном веселье, с которым они брались и за меч, и за весло. «Эти враги, — говорил один римский поэт того времени, — свирепее всех других наших врагов, и их хитрость равна их жестокости; море — их военная школа, буря — их друг, они — морские волки, живущие грабежом мира».
Борьба против соединенных пиктов, скоттов и саксов своими собственными силами была невозможна для Британии, и осажденные прибегли к роковой тактике римлян, погубившей и саму империю, т.е. к системе возбуждения одних варварских племен против других. Правители Британии решили ослабить союз, переманив на свою сторону разбойников, опустошавших ее восточные берега, и противопоставить, таким образом, своих новых союзников нападавшим пиктам. Для этой цели при посредстве обычных обещаний наделения землей и другой оплаты в 449 году в Британию была привлечена армия ютов с двумя начальниками — Генгестом и Горзой — во главе.
Глава II АНГЛИЙСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ (449—577 гг.)
Прибытием Генгеста и его воинов к Эббсфлиту на берегах острова Танета начинается собственно английская история, и нет места, более священного для англичанина, нежели то, на которое впервые ступила английская нога. В самом Эббсфлите нет ничего, что могло бы сколько нибудь очаровать взор путешественника: это небольшая возвышенность, по которой разбросаны там и сям серые коттеджи, отделенные теперь от моря лугами и плотиной. Тем не менее ландшафт не лишен своеобразной дикой красоты. Направо белый полукруг рамсгетских утесов возвышается над имеющим форму полумесяца Пегуэльским заливом, а налево, через серые болота, где по дыму можно определить местоположение Ричборо и Сандвича, береговая линия незаметно сворачивает к новой линии утесов за Дилем.
Весь характер местности вполне подтверждает народное предание, указывающее на Эббсфлит как на место высадки наших предков; физические перемены, произошедшие с тех пор, мало изменили общий характер этой местности. Легко догадаться, что пустынная равнина, называемая ныне «Minster-Marsh», была некогда широкой полосой моря, отделявшей о. Танет от Британии, и через нее разбойничьи ладьи первых англов при попутном ветре достигали песчаной отмели Эббсфлита. Укрепление Ричборо, разрушенные валы которого до сих пор возвышаются над серыми равнинами, служило обычной пристанью для путников из Галлии. Допуская, что в момент договора с бриттами разбойничьи ладьи курсировали возле берегов Британии, легко понять, почему именно пираты высадились в Эббсфлите, почти под самыми стенами Ричборо; последующие события указывают, что выбор места для высадки был сделан вполне сознательно. Едва ли могло существовать взаимное доверие между бриттами и их наемными солдатами, и только в этом месте Генгест и его товарищи могли чувствовать себя в безопасности от других пиратов, с одной стороны, и от измены своих новых союзников — с другой; выбор места для высадки мог удовлетворить также и бриттов, опасавшихся (и, как показали события, далеко не безосновательно), что для отпора пиктам они ввели в Британию еще более страшного врага.
И вот, из предосторожности против своих опасных союзников, бритты и оставили их в углу острова за морским каналом, защищенным самой сильной из береговых крепостей. Необходимость в такой предосторожности была доказана распрями, начавшимися между союзниками, как только окончилось дело, для которого наемники были приглашены.
Едва были рассеяны в одном большом сражении пикты, как уже бритты увидели опасность со стороны ютов. Численность последних, вероятно, быстро возрастала по мере того как между соплеменниками распространялось известие о водворении их в Британии, а вместе с возрастанием их численности, естественно, возрастали затруднения в снабжении новых пришельцев провизией и деньгами. Из-за подобных вопросов быстро возникли раздоры, и Генгест начал грозить своим союзникам войной.
Не совсем, однако, легко было и для Генгеста привести свою угрозу в исполнение, так как он был отрезан от суши морским проливом, становившимся проходимым лишь при отливе, и то по длинному и опасному броду, притом пролив был защищен крепостями Ричборо и Рекульвер. Канал Медуэй, окаймленный вельскими лесами с юга, защищал тыл, тогда как крепости, расположенные на тех местах, где ныне находятся города Кентербери и Рочестер, защищали дорогу к Лондону. Тут же, вокруг, были расположены войска с графом Саксонского Берега, обязанные защищать берег от варваров. Невзирая на все эти затруднения, юты внезапно появились в Британии, и прежде чем бритты успели сосредоточить силы для сопротивления, их враги не только перешли пролив, но и захватили дорогу, ведущую к Лондону. По всей вероятности, сильно укрепленные стены Рочестера заставили ютов повернуть к югу и двинуться вдоль кряжа невысоких гор, образующих восточную границу медуэйской долины.
Страна, через которую они проходили, уже имела свою историю, но память о ней успела исчезнуть даже в те времена: склоны гор были кладбищем исчезнувшего племени, и между глыбами камней возвышались там и сям «cromlechs» — надгробные памятники и громадные курганы. Один из таких памятников существует и поныне под названием Kit’s Coty House, а тогда он соединялся целой аллеей из камней с кладбищем возле Аддингтона. С высокого пригорка у этого памятника английские воины увидели поле своего первого сражения, с этого пригорка прошли они по существующей доныне извивающейся между мирными усадьбами проселочной дороге к броду, давшему название маленькой деревушке Эльсфорд.
Летописи победоносного народа умалчивают о том, что случилось до взятия брода, равно как и о самом сражении у этой деревушки. Они только упоминают, что Горза пал в битве в минуту победы, и сохранившаяся до наших дней куча кремня с его именем — «Horstead» — считалась в позднейшие времена памятником над его могилой, древнейшим памятником английской доблести, которая воздвигла себе в Вестминстере последний и благороднейший храм.
Эльсфордская победа не только отдала в руки победителей Восточный Кент, но и стала первым шагом к полному завоеванию Британии. Последовавшая вслед за битвой резня выявила неумолимость начавшейся борьбы. Более зажиточные кентские землевладельцы бежали в паническом страхе за море, жители бедных классов скрывались в горах и в лесах, пока, изгнанные оттуда голодом, не были вынуждены сдаться неприятелю для казни или рабства. Напрасно укрывались некоторые из них в стенах церквей: победители умерщвляли священников у самых алтарей (их ненависть обращалась более всего против духовенства), поджигали церкви, и укрывшимся оставался выбор между пламенем и безжалостной сталью врага.
Такого рода картины резко отличают покорение Британии от покорения других римских провинций. Покорение Галлии франками и Италии — лангобардами состояло в насильственном поселении победителей среди побежденных, которым после длинного ряда лет было суждено поглотить своих завоевателей: французский язык — язык не франка, но того галла, которого он покорил, а светлые волосы лангобарда почти исчезли из Ломбардии. Не то в Британии, где победители в течение полутораста лет продолжали вытеснять покоренный народ; и в борьбе Рима с вторгшимися в него германскими племенами нет примера такого упорного сопротивления врагу, как в Британии.
Целых два столетия прошло, прежде чем бритты были окончательно покорены, и именно по причине этого упорства и этой неумолимости борьбы из всех завоеваний германцев завоевание Британии было самым полным и совершенным. Всюду, куда проникал меч англов, Британия превращалась в землю англов (Engleland), Англию, страну англичан, а не бриттов. Возможно, что небольшая часть бриттов осталась на родине, хотя не иначе как в качестве рабов англов, и несколько их обиходных слов (если они не были внесены позднее) примешались к английской речи, но такие сомнительные исключения не меняют общего характера всей картины завоевания. Когда внутренние раздоры прервали безостановочный до того времени прогрессивный ход английского завоевания, — а это случилось через полтораста лет после Эльсфордской битвы, — бритты успели уже исчезнуть с половины принадлежавшей им территории, и язык, религия и законы английских завоевателей бесспорно господствовали от Эссекса — до Дербширского пика и устья Северна и от Британского пролива — до устья Форта.
Эльсфорд был, как уже сказано, первым шагом к покорению Британии. Об упорстве борьбы можно судить по тому, что для покорения только южной Британии потребовалось шестьдесят лет, а для покорения Кента — двадцать. Лишь после второго поражения при проходе Крэй бритты покинули Кент и в страхе бежали к Лондону, но и после того они снова возвратились, и лишь в 465 году, после ряда мелких стычек, произошло решительное сражение при Уиппедсфлите. Здесь поражение было столь серьезным, что всякие надежды спасти большую часть Кента были оставлены, и только на южном берегу бритты еще удержали свои позиции. Восемь лет спустя борьба была окончена, и с падением Лаймна, разрушенные стены которого смотрят с холма на обширную площадь Ромнейского болота, дело первых английских завоевателей было завершено.
Жажда грабежей привлекла вскоре новые воинственные отряды с германского берега. Новые шайки из саксонских племен, живших между Эльбой и Рейном, появились в 477 году и пробивались по полосе земли, лежащей к западу от Кента между Уилдом и морем. Нигде ландшафт страны не изменился так сильно, как здесь. Огромный пустырь из кустарников и мелколесья, известный тогда под названием Андредовой пустоши, тянулся более чем на сто миль от границ Кента до Гемпширских степей, доходя к северу почти до Темзы и оставляя лишь на юге узенькую береговую полоску. Этот берег был защищен сильной крепостью Андерида, занимавшей территорию, которая теперь называется Певенси, место будущей высадки нормандского завоевателя. Падение этой крепости в 491 году привело к возникновению королевства южных саксов. «Аэлль и Кисса осадили Андериду, — гласит безжалостная летопись завоевателей, — и истребили всех жителей, так что там не осталось ни одного бритта».
В это же время другое саксонское племя вытесняло бриттов на другом краю Кента, к северу от устья Темзы, и основывало поселение восточных саксов, как впоследствии называли воинов этого племени, в долинах Колна и Стаура. К северу от Стаура дело покорения бриттов продолжалось третьим из племен, с которым мы познакомились в их германском отечестве, народом, которому суждено было поглотить и ютов, и саксов и передать свое имя всей покоренной земле: то были англы, или англичане. Их первые высадки происходили в той области, которая отделяется от остальной Британии Wash’oм, Fens’oм и большими пространствами леса, и которая впоследствии называлась Восточной Англией; здесь победители укрепились в поселениях под названиями North Folk и South Folk, и теперь сохранившимися в названиях находящихся в этой местности графств. Этим и закончилась первая стадия покорения Британии, и к концу V века весь берег, от Wash’а до саутгемптонских вод, был в руках вторгшихся туда германских племен. Пока, однако, неприятель прошел недалеко в глубь страны, так как огромные леса и болота удерживали англов, саксов и ютов в узких границах по берегу моря. В начале VI века два племени, одержавшие главные победы над бриттами, начали новые нападения — в устьях Форта и Гумбера появились англы, а в саутгемптонских водах — саксы.
Покорение Южной Британии было совершено новым отрядом саксов, известных в древние времена под именем гевиссов и впоследствии названными вестсаксами. Они высадились к западу от полоски берега, завоеванной отрядами Аэлля, и двигались под предводительством Кердика и Кинрика от саутгемптонских вод до большой равнины, в которой находилась такая крупная приманка, как Винчестер. Пять тысяч бриттов пали в сражении, открывшем страну вторгшемуся врагу, а в 519 году другая победа, при Чарфорде, увенчала голову Кердика западносаксонской короной. Сохранилось очень мало подробностей об этих сражениях, нам неизвестны также и обстоятельства, внезапно затормозившие дальнейшее движение саксов, однако достоверно известно, что в 520 году бритты одержали победу над западными саксами при Маунт-Бедоне и тем самым на целых 30 лет задержали движение неприятеля.
Вероятно, пояс лесов, находившихся между Дорсетом и долиной Темзы, сильно затруднял наступление; так или иначе, известно, что Кинрик, унаследовавший после смерти Кердика саксонскую королевскую корону, возобновил вторжение лишь в 552 году. Взятие горной крепости Старого Сарума открыло нападающим Уилтширские равнины, откуда они двинулись к северу и, одержав новую победу при Барбери Хилле, окончательно завоевали равнины Мальборо. Из этой пустынной местности западные саксы повернули на восток, в богатые долины современного Беркшира и, выиграв сражение при Уимблдоне, присоединили весь нынешний Сэррей к своим владениям; поход их короля Кутвульфа сделал их властелинами области, состоящей из теперешних Оксфордского и Бекингэмского графств, а еще несколько лет спустя саксы ринулись на богатую добычу по реке Северн. Глостер, Сайсистер и Бат, города, объединившиеся под предводительством британских королей для сопротивления этому нашествию, стали в 577 году, после победы при Дургаме, добычей саксов, и линия великой западной реки лежала перед завоевателями открытой.
При новом короле Кевлине западные саксы проникли к границе Честера, и город Урикониум погиб в пламени. Британский поэт жалобно пел предсмертную песню Урикониума, «белокаменного города, сверкавшего между зелеными лесами», города, хоромы правителя которого «остались без очага, без света, без песен», города, «мертвая тишина которого теперь нарушается лишь клекотом орла, напившегося крови из сердца прекрасного Киндейлена». Набег, однако, был отбит, и этот удар оказался роковым для власти Уэссекса: хотя в конце концов западные саксы и стали властителями над всеми народами Британии, но тогда их час еще не пробил, и в течение целого столетия верховенство оставалось в руках другого племени, к истории которого мы теперь и обратимся.
Реки служили естественными путями, по которым северные пираты пробирались к центру Европы. В Британии Лондонская крепость преградила им доступ к устью Темзы и заставила их для достижения ее верховьев двигаться по южному берегу острова и степям Уилтшира. Но реки, впадающие в Гумбер, вели, как большие дороги, в самое сердце Британии, и этими путями большая часть неприятелей и стала проникать внутрь острова. Новые враги, подобно завоевателям Восточной Англии, происходили от английского племени, жившего в Шлезвиге. Так как эта гроза настигла равнины Линкольншира, расположенные к югу от Гумбера, то и завоеватели, поселившиеся в опустошенной стране, стали называться «Lindiswara» (Линдисвар), или «жителями Линдума».
Часть воинов, вошедших в Гумбер, повернула к югу через Элметский лес, покрывавший всю местность вокруг Лидса, и направилась по течению Трента. По занятому ими месту между Трентом и Гумбером они стали известны под именем Southumbrians («южноумбрийцы»). Другая часть, следуя по Соару, достигла Лейстера и стала известна под именем «средних англов» (Middle English). Истоки Трента заселили отряды, двинувшиеся дальше к западу и расположившиеся вокруг Личфильда и Рейтона. Впоследствии эта страна, пограничная между англами и бриттами — «марка» — стала называться Мерсией, а ее жители — мерсийцами, т.е. людьми границы.
Нам очень мало известно о покорении Средней Британии и немногим более — о покорении Северной. При владычестве Рима центром политического значения в Британии была обширная область, расположенная между Гумбером и Фортом. Йорк считался столицей острова и служил местопребыванием римского префекта, а военные силы были расположены вдоль римской стены.
Тогда признаки богатства и благосостояния жителей повсюду бросались в глаза. Города вырастали под защитой римских легионов. Долина Узы и отдаленные плоскогорья Твида были усеяны богатыми усадьбами британских землевладельцев; повсюду пастухи безбоязненно пасли свои стада. Теперь эта область подверглась одновременному вторжению и с севера, и с юга. Часть неприятельских сил направилась через Гумбер в Йоркские равнины и основала там королевство, известное под названием Дейра, растянувшееся по болотистой местности Гольдернесса и меловым плоскогорьям к востоку от Йорка. Этим, однако, дело не кончилось, и жители нового королевства после борьбы, о которой мы ничего не знаем, вскоре превратили в пепел Йорк и предали огню и мечу всю местность в долине Узы. Тем временем пираты появились также в Форте и пробрались вдоль Твида. Прибывший с пятьюдесятью лодками Ида основал королевство Берниция, построил столицу на скале Бамборо и двинулся дальше, везде встречая упорное сопротивление, послужившее сюжетом для английских саг. Последовавшая затем борьба между королевствами Дейра и Берниция за верховенство на севере окончилась их объединением под властью короля Берниции Этельрика, и из этого союза образовалось новое королевство — Нортумбрия. Так Британия была окончательно превращена в Англию.
Понятна жадность, с которой мы хватаемся за всякую возможность узнать что либо о судьбе наших предков, но тщетно прислушивались бы мы с этой целью к монотонным жалобам Гильды Премудрого, единственного писателя, оставленного британцами. Гильда был современником и очевидцем вторжения пиратских орд, ему мы обязаны сведениями о завоевании Кента, но он решительно умолчал обо всем, что касается образа жизни английских завоевателей. Вообще обо всем, что делалось по ту сторону границы Новой Англии, выросшей вдоль южных берегов Британии, Гильда упоминал лишь мельком; по всей вероятности, он сам имел лишь слабое понятие о разрушенных укреплениях, об алтарях, оскверненных языческими нечестивцами.
Его молчание и неведение очень характерны для того времени: ни одна британская голова ни разу не склонилась добровольно перед завоевателями, и не нашлось ни одного британского пера, которое описало бы покорение своего народа. Целое столетие после вторжения англов бритты все еще называли их не иначе как «варварами», «волками», «собаками», «щенками из конуры варваров», «племенем, ненавистным богу и людям». Их победы казались британцам победами злых духов, карой божественного правосудия за какой-то грех всего народа. Их опустошения, как бы ни были они ужасны, рассматривались как явление преходящее, и британцы твердо верили в исполнение предсказания, гласившего, что в следующем веке власть пришельцев будет низвергнута. Не было речи не только о подчинении, но даже и о сношениях с пришельцами, и вот почему Гильда ни единым словом не упомянул ни об их судьбе, ни об их предводителях.
Несмотря на это молчание, мы все же кое-что знаем об устройстве английского общества в завоеванной стране. Нельзя не обратить внимания на то, что завоеватели Британии представляли собой единственную чисто германскую народность, осевшую на развалинах Рима. В других странах, — в Испании, Галлии, Италии, хотя победители были также германцами, но религия, общественная жизнь, административное устройство — все осталось по-прежнему римским; в Британии же Рим сделался каким-то смутным преданием о прошлом. Вся организация правительства и общества исчезла вместе с народом, которому она принадлежала. Мозаики и монеты, которые мы находим в недрах наших полей, принадлежали не нашим английским предкам, а римскому миру, стертому с острова их мечами. Законы этого исчезнувшего мира, его литература, обычаи, верования ушли вместе с ним. Новая Англия была языческой страной, и культ Одина и Тора восторжествовал в ней над религией Христа.
Из всех германских разрушителей Рима одни англы отвергли религию низвергнутой империи. В других римских провинциях христианское духовенство служило посредником между варварами и побежденными, но в завоеванной англами части Британии христианство совершенно исчезло. Реки, усадьбы, граница, даже дни недели носили имена новых богов, сменивших Христа. Но если Англия и казалась вследствие всего этого пустыней, из которой исчезла всякая цивилизация, эта страна все же таила в себе зародыши жизни несравненно более высокой, нежели та, которая была уничтожена. Основанием нового английского общества служил «свободный человек», тот, которого мы уже видели обрабатывающим землю, отправляющим правосудие и приносящим жертвы богам совершенно самостоятельно в его далеком отечестве у Северного моря.
Как бы жестоко ни обошлись англы с материальной цивилизацией Британии, но они не могли быть лишь разрушителями. Едва прекратилась война, как воин превратился уже в пахаря, и дом свободного крестьянина появился около груды развалин сожженной им виллы. Маленькие группы родственников стали соединяться в «tan» и «ham» на берегах Темзы и Трента совершенно так же, как это было на Эльбе и Везере. Их связывали между собой не только узы крови, но и отношение к земле, владение ею на общинных началах. Образ жизни каждой небольшой сельской общины в Британии ничем не отличался от образа жизни ее родичей в Шлезвиге. Каждая община имела свои холм или священное дерево как место для народного веча, свою межу (марку) как границу, чинила суд по свидетельствам родственников обвиняемого и издавала законы собранием всех свободных людей, а также избирала себе начальников и назначала лиц, которые должны были сопровождать начальника или эльдормена в сотенное собрание или на войну.
Впрочем, в некотором отношении примитивные формы английского быта изменились с переходом англов в землю бриттов. Завоевание породило королей. Вероятнее всего, что на родине англы совсем не знали королей, так как там каждое племя управлялось в мирное время своим старейшиной (эльдорменом). Но при такой войне, какую вели англы с бриттами, необходимость заставила их иметь общего предводителя, и такой предводитель занял вскоре положение более значительное, нежели положение временного начальника. Сыновья Генгеста сделались королями Кента, сыновья Эллы — королями Сассекса, вестсаксы избрали своим королем Кердика.
Выбор короля крепче связывал между собой деревни и племена. Новые правители окружили себя дружинами «товарищей», или «тегнов», служба которых вознаграждалась особым пожалованием им участков общественной земли. Социальное положение каждого из таких «товарищей» не было наследственным, но в конце концов именно из них образовалось дворянство, сменившее собой эрлов прежнего английского быта. Войны, породившие короля и дворянство, и были причиной возникновения рабства. У англов, как и у всех германских народов, всегда существовал класс несвободных людей, но численность этого класса, мало изменившаяся с покорением Британии, увеличилась вследствие междоусобных войн, начавшихся между самими завоевателями. Никакое общественное положение не избавляло военнопленного от рабства, на которое иногда смотрели даже с радостью — как на средство избавиться от смерти.
Пример этого мы видим в рассказе о благородном воине, раненном в битве, между двумя английскими племенами и приведенном в качестве раба в дом ближайшего начальника. Он назвал себя крестьянином, но его господин проник в его тайну. «Ты заслуживаешь смерти, — сказал он ему, — потому что все мои родные и братья пали в битве»; но ради какой-то своей клятвы он помиловал пленного и продал его одному фризу в Лондон, по всей вероятности, работорговцу из тех, которые возили тогда английских пленников на невольничий рынок в Риме.
Не только война, но и преступления или неуплата долгов влекли за собой рабство. В дни бедствий голод заставлял людей надевать на себя ярмо ради хлеба. Должник, бывший не в состоянии уплатить свои долги, бросал на землю меч и копье свободного человека, брал топор чернорабочего и отдавал себя с головой хозяину. Преступник, родственники которого не уплачивали за него присужденную пеню, делался рабом обвинителя или короля. Иногда отец семейства из нужды продавал в рабство жену и детей. Раб составлял часть живого инвентаря имения, и хозяин завещал его после своей смерти, как лошадь или вола. Дети его также были рабами, и даже дети свободного человека от матери-рабыни наследовали положение матери. «Теленок от моей коровы принадлежит мне», — гласит английская пословица.
Хижины несвободных располагались вокруг домов богатых землевладельцев точно так же, как около вилл римских вельмож. Пахари, пастухи коз, свиней, волов и коров, доильщицы, молотильщики, сеяльщики, сторожа сена и леса были также часто несвободными. Это рабство отличалось от рабства более позднего времени тем, что рабов редко били и заковывали в цепи, хотя господин и имел над рабом право жизни и смерти и раб считался простой движимой собственностью. Для него не было места в суде, его родственник не имел права мстить за нанесенную ему обиду. Если посторонний убивал раба, то господин требовал вознаграждения; если раб совершал преступление, то подвергался наказанию кнутом; если он убегал, то его ловили, как беглое животное, и засекали до смерти; если убегала рабыня, то ее ловили и сжигали.
Глава III КОРОЛЕВСТВО НОРТУМБРИЯ (588—685 гг.)
Покорение большей части Британии стало свершившимся фактом. К востоку от линии, идущей приблизительно вдоль болот Нортумберленда и Йоркшира, через Дербишир и Арденский лес к устью Северна, и оттуда, минуя Мендин, к морю, остров перешел в руки англов, и с этого времени характер завоевания Британии совершенно изменился. Истребление и изгнание жителей, сопровождавшие прежние войны, окончились, и победители стали селиться между побежденными. Но еще более важные перемены произошли во взаимных отношениях самих победителей. По окончании войны с бриттами их энергия направилась на долгую междоусобную борьбу за гегемонию того или другого племени, борьбу, из которой в конце концов выросло наше национальное единство.
Западные саксы, осевшие в долине Северна, после кровопролитной битвы при Фаддили начали междоусобные распри даже раньше, чем окончилась война с бриттами. Борьба между Берницией и Дейрой — двумя соперничавшими королевствами на севере — очень ослабила англов в той местности, и это продолжалось до тех пор, пока в 588 году значение Дейры как самостоятельного королевства до того упало, что король Берниции Этельрик присоединил его к своим владениям, ставшим впоследствии королевством Нортумбрия. Среди этих смут на севере и юге внезапно возросло значение Кента, король которого Этельберт еще до 597 года упрочил свою гегемонию над саксами Мидл-Эссекса и Эссекса и англами Восточной Англии и Мерсии, простиравшейся к северу до Гумбера и Трента.
Гегемония Этельберта ознаменовалась возобновлением сношений Британии с континентом Европы, прекратившихся со времени вторжения англов. Его брак с Бертой, дочерью франкского короля Хариберта Парижского, создал новые связи между Кентом и Галлией, повлекшие за собой последствия, о которых и не мечтал сам Этельберт. Подобно всем своим франкским родственникам, Берта была уже христианкой и потому явилась в столицу Кента — Кентербери — в сопровождении христианского епископа, которому и была отдана для богослужения старая полуразрушенная церковь св. Мартина. За это событие с жаром ухватился и восседавший тогда на римском престоле епископ, известный под именем Григория Великого. Существует рассказ, что незадолго до того времени римский диакон Григорий, проходя по площади Рима, увидел нескольких рабов с белым цветом кожи, красивыми лицами и золотистыми волосами и спросил, кто они такие. «Они англы», — отвечал работорговец. Сожаление диакона вылилось в поэтической форме: «Не англы они, а ангелы; у них такие ангелоподобные лица; а как же называется их страна?» «Дейра», — отвечал купец. «Dei ira! — непереводимо играя словами, проговорил диакон, — да, они отрешены от гнева божия (Dei ira), и Христос зовет их своей милостью. А как имя их короля?» «Элла», — отвечали ему.
«В земле Эллы будут петь Аллилуйя»! — сказал диакон и пошел, размышляя о том, как эти люди с ангелоподобными лицами будут петь в своей стране «Аллилуйя». Этот диакон и сделался со временем знаменитым папой Григорием. После осторожных переговоров с правителями Галлии он послал римского аббата Августина, в сопровождении множества монахов, проповедовать Евангелие английскому народу; миссионеры высадились на том самом месте, где за сто лет перед тем высадился Генгест, т.е. на острове Танете, и король принял их, сидя под открытым небом, в известковой долине, возвышающейся над Минстером, откуда и теперь еще видна кентерберийская башня. Выслушав через переводчика длинную проповедь Августина, Этельберт отвечал с чисто английским здравым смыслом: «Твои слова хороши, но они новы и не совсем понятны», — и потому заявил, что он остается верен богам своих отцов, обещая, однако, защиту и покровительство иностранцам. Монахи вошли в Кентербери, неся впереди серебряное распятие и распевая хором духовные кантаты: «Отврати, господи, от града сего гнев твой и ярость твою, отврати их от дома твоего святого, ибо мы согрешили», и затем раздалось древнееврейское восклицание «Аллилуйя!», которое Григорий с пророческой проницательностью сравнивал с именем йоркширского короля Эллы.
Очень странно, что одно и то же место послужило пунктом высадки Генгеста и Августина, но вторая высадка в Эббсфлите была до некоторой степени отменой или переделкой первой. Прибытие «чужеземцев из Рима», — так называли миссионеров, когда они в первый раз встретились с английским королем, — шествие монахов под звуки торжественной литии, — все это было как бы возвращением римских легионов, удалившихся из Британии при звуке труб Алариха. В проповеди Августина Этельберт слышал язык и мысли не только Григория, но и тех людей, которые были изгнаны и истреблены предками Этельберта — ютами. Кентербери, древнейшая столица Новой Англии, сделался и центром римского влияния. Латинский язык опять стал одним из языков Британии, языком ее богослужения, сношений, литературы, а вместе со всем этим возобновились и прерванные высадкой Генгеста связи Англии с остальной Европой. Новая Англия заняла свое место среди европейских народов, и цивилизиция вместе с искусством и литературой, исчезнувшими было под мечом завоевателей, возвратилась в Британию вместе с христианской верой. Система римского права не могла, правда, никогда пустить глубоких корней в Англии, но влияние римских миссионеров сказалось уже в том обстоятельстве, что вскоре после их прибытия из английского обычного права стали составляться кодексы письменных законоположений.
Все эти серьезные результаты были достигнуты не сразу: целый год прошел, прежде чем Этельберт сделался христианином, и хотя после его обращения жители Кента целыми тысячами заявляли о своем желании креститься, но прошли еще годы, пока Этельберт осмелился предложить сделать то же самое признававшим его верховенство королям Эссекса и Восточной Англии. Эти усилия Этельберта были и его последним делом, так как предшествовали революции, которая навеки сломила силу Кента. Племена Средней Британии восстали против его власти, которая перешла к правителю Восточной Англии Редволду. Эта революция свидетельствовала о произошедшей в Британии перемене. Вместо множества отдельных племен завоеватели организовались теперь в три больших группы. Королевство англов на севере простиралось от Гумбера до Форта, южное королевство вестсаксов тянулось от Уэтлингстрит до Ла-Манша, а между ними находилось королевство Средняя Британия, границы которого были неопределенны, но которое, тем не менее, составляло отдельное целое в период времени от царствования Этельберта до окончательного падения мерсийских королей. В течение двух следующих столетий история Англии заключалась в борьбе королевств Нортумбрийского, Мерсийского и Вестсаксонского за гегемонию надо всей остальной массой англичан и в стремлении создать из нее единый английский народ.
В этой борьбе Нортумбрия сразу приобрела такую силу, которая не допускала никакого соперничества. В правление Этельфрида, наследовавшего в 593 году Этельрику, дело покорения других племен быстро продвинулось вперед, и после большого сражения при Дегзастане в 603 году силы северных бриттов были настолько сломлены, что Нортумбрия распространила свое владычество от Гумбера до Форта. Вдоль западного берега Британии находились еще непокоренные королевства Стратклайд и Кумбрия, тянувшиеся от реки Клайд до реки Ди, и маленькие британские государства, занимавшие местность, которая ныне называется Уэльс. Границей между ними был Честер, который и стал для Этельфрида первым пунктом нападения. В монастыре Бангор, в нескольких милях от этого города, собралось две тысячи монахов, которые после трехдневного поста и молитвы последовали за британской армией на поле битвы. Этельфрид, глядя на дикие жесты и простертые к небу руки этой странной компании, принял их за волшебников. «Носят они оружие или нет, но они наши враги, раз они взывают к своему богу против нас», — сказал он своим войскам, и в последовавшей битве монахи пали первыми.
Теперь британские королевства были, безусловно, отделены друг от друга, так как победой при Дергаме вестсаксы совершенно отрезали Девон и Корнваллис от остальных местностей, населенных бриттами, а победа Этельфрида при Честере разделила и эти местности на две части, т.е. отделила бриттов Уэльса от бриттов Кумбрии и Стратклайда. С этого времени войны бриттов с англами сменились войнами Нортумбрии против Кумбрии и Стратклайда, Мерсии — против современного Уэльса, Уэссекса — против британской земли, простиравшейся от Мендина до Ландсенда. Честерская победа имела большое значение для всей Англии. Она возбудила в Этельфриде честолюбивые мечты по отношению к южной границе его королевства, где в то время король Восточной Англии Редволд утвердил свое владычество над народами Средней Британии.
Внезапная смерть Этельфрида отсрочила на время неизбежную борьбу между Нортумбрией и Восточной Англией. Объявив войну Редволду, приютившему у себя бежавшего из Нортумбрии Эдвина, Этельфрид погиб в битве при реке Айдль. Вступивший после него на трон Нортумбрии Эдвин правил королевством так же энергично, как и Этельфрид. Покорив пиктов и бриттов, он привел к покорности англов Средней Британии и заключил тесный союз с Кентом, благодаря чему среди английских завоевателей Британии остались независимыми одни лишь вестсаксы, да и то ненадолго, ибо анархия и внутренние распри скоро позволили Нортумбрии завоевать и это последнее независимое королевство. Существует записанный еще Бедой рассказ, дающий некоторое понятие о ярости борьбы, завершившей завоевание Нортумбрией юга Британии: однажды Эдвин принимал на Пасху некоего Эймера, прибывшего послом от уэссекского короля. Во время аудиенции Эймер внезапно вскочил, выхватил из-под платья кинжал и бросился на нортумбрийского повелителя. Лилла, один из королевских воинов, успел закрыть короля своим телом, но удар был настолько силен, что достиг Эдвина, пройдя даже через тело Лиллы.
Король, однако, оправился от своей раны и пошел в поход на Уэссекс. Он перебил всех сопротивлявшихся его власти и победоносно вернулся в свою страну. Могущество Нортумбрии достигло апогея, и Эдвин принялся за дело гражданской организации своего государства, — обстоятельство, показывавшее, что время простых завоеваний уже миновало. Насколько успешно повел это дело Эдвин, показывает сложившаяся в то время поговорка: «При короле Эдвине женщина с ребенком могла пройти безопасно от края до края его королевства». Сообщение было действительно вполне безопасно, находившиеся по дороге источники были обозначены вехами, и у каждого из них находилась для удобства жаждущих путников медная кружка.
Смутное предание о римском прошлом бросало последние лучи славы на эту новую империю англов, и часть этого прошлого, без сомнения, возвратилась вместе с наступившим миром. Королевский штандарт из пурпура и золота развевался перед Эдвином, когда он объезжал свои владения, а копье с султаном из перьев — римская «tufa» — всегда предшествовало его прогулкам по улицам. Повелитель Нортумбрии приобрел в Британии такую власть, какой не пользовался еще ни один английский король. К северу его государство простиралось до Форта и замыкалось городом, названным в честь короля городом Эдвина — Эдинбургом. На западе он был властелином Честера, а сооруженный им флот подчинил ему острова Энглези и Мен. Все области к югу от Гумбера, кроме Кента, также признавали его суверенитет, да и сам Кент был тесно связан с Нортумбрией женитьбой Эдвина на сестре кентского короля.
Вместе с этой королевой прибыл из Кента в Нортумбрию Паулин, один из спутников Августина; согбенная фигура, орлиный нос и черные волосы, обрамлявшие худое и истомленное лицо прибывшего, долго помнили северяне. Вскоре королеве и Паулину удалось обратить Эдвина в христианство, и «мудрецы» (wise men) Нортумбрии стали часто собираться, чтобы поговорить о новой вере. Для более тонких умов прелесть христианства заключалась в некотором свете, который оно проливало на тайну жизни, на мрак прошедшего и будущего. «Жизнь человеческая, о король, — воскликнул один из эльдорменов, — подобна воробью, влетевшему в теплую залу, где ты сидишь у пылающего огня, в то время как на дворе идет дождь и бушует буря; воробей влетает в одну дверь, остается на миг в свете и тепле и затем, вылетая в другую, исчезает во мраке, из которого перед тем прилетел. Не точно ли так же созерцаем мы всего лишь один миг и жизнь человека, но что предшествовало, что последует за ней, то нам неведомо? Если новое учение откроет нам хоть что-нибудь об этом, то мы примем его». На большинство толпы, однако, всегда влияют более грубые аргументы. «Никто из твоего народа, Эдвин, не почитал богов усерднее меня, — проговорил, обращаясь к королю, жрец Койфи, — но существует много людей, гораздо богаче и счастливее меня. Если бы эти боги имели какую-нибудь силу, то они помогали бы своим служителям», — с этими словами Койфи вскочил на коня, ударил копьем в священный храм при Годмангеме и вместе с остальными «мудрецами» принял веру своего короля.
Но вера Одина и Тора не могла исчезнуть без борьбы. Со смертью Этельберта начались выступления против христианства даже в самом Кенте. Король Восточной Англии Редволд счел уместным служить одновременно и Христу, и старым богам, и в его государстве христианские и языческие алтари стояли рядом в одном и том же храме. Молодые короли восточных саксов ворвались однажды в церковь, где епископ лондонский Меллит причащал народ, с криками: «Дай нам белого хлеба, который давал нашему отцу Сабе!», — и когда епископ отказал, изгнали его из государства. Реакция на некоторое время приостановилась после принятия христианства Эдвином, но вдруг в защиту старых богов выступила Мерсия. При Эдвине это королевство было подчинено Нортумбрии, но ее король Пенда увидел в возрождении старой религии средство снова завоевать независимость. Этот король добился весьма значительного могущества Мерсии, подчинив своей власти Среднюю Англию до Лейстера, Южную Умбрию и Линдисвар и даже отняв у Уэссекса его владения по Северну; и хотя после смерти Пенды эти области опять отделились на какое-то время от Мерсийского государства, тем не менее под именем Мерсии теперь уже понималась совокупность всех этих земель. Но даже с такими силами Пенде было опасно соперничать с Нортумбрией, и потому он решился, воспользовавшись прекращением борьбы между англами и бриттами, вступить в союз с валлийским королем Кадваллоном для совместных действий против Эдвина.
Оба войска сошлись при Гетфильде, и в произошедшей там битве войска Эдвина были разбиты, а сам он убит. Смерть Эдвина вызвала в Нортумбрии борьбу партий, которой и воспользовался Пенда в своих честолюбивых целях. Чтобы довершить завоевание Средней Британии, он прежде всего обратил свое оружие против Восточной Англии, которая тем временем от странной смеси религий, господствовавшей в ней при Редволде, обратилась к чистому язычеству; этот порядок вещей, однако, продержался недолго, и новая религия снова восторжествовала при короле Сигеберте. Испугавшись могущества Пенды, Сигеберт променял престол на монастырь, но при известии о нашествии неприятеля народ принудил своего короля покинуть келью, так как существовало убеждение, что присутствие Сигеберта принесет армии милость неба.
Король-монах стал во главе своей армии, но отказался иметь в руках что-либо, кроме посоха, и пал на поле сражения. Его смерть повлекла за собой бегство войска и подчинение государства Пенде. Между тем Кадваллон опустошал в это время Дейру и даже захватил Йорк, но это торжество бриттов было так же скоротечно, как и неожиданно. Освальд, второй сын Этельфрида, стал во главе своего народа, собрал небольшую армию нортумбрийцев и расположился с ней около римской стены. Вместо знамени король собственноручно держал большой крест, приказав солдатам рыть яму для его водружения. Потом, упав на колени, он воззвал к своему войску, прося его молиться «Богу живому», и Кадваллон, последний герой бриттов, пал в битве на «небесном поле», как впоследствии назвали поле сражения у римской стены. В течение последовавших семи лет могущество Освальда равнялось могуществу Этельфрида и Эдвина.
В этой борьбе Освальда с язычниками за торжество креста был решительно ни при чем миссионер Паулин, убежавший из Нортумбрии тотчас же после смерти Эдвина, да и сама римско-христианская церковь в Кенте впала ввиду языческой реакции в полное бездействие. Но тем энергичнее началась в это время деятельность миссионеров из Ирландии. Чтобы понять все значение этой перемены, необходимо напомнить, что до прибытия англов в Британию христианская церковь уже охватила все европейские страны, исключая Германию, и простиралась на север до самой Ирландии. Завоевание Британии язычниками-англами внедрило языческие алтари в самое сердце христианского мира и разделило его на две неравные части: с одной стороны — подчиненные римской курии церкви Италии, Испании и Галлии, с другой — самостоятельная церковь Ирландии.
Положение этих двух частей западного христианства было совершенно различным: сила христианства в Италии, Испании и Галлии расходовалась больше всего на борьбу за существование, тогда как оставшаяся в стороне от всяких нашествий Ирландия развила в себе после обращения в христианство такую энергию, какой никогда уже больше не проявляла. Христианство было там принято с энтузиазмом, и вслед за ним появились в Ирландии и своя литература, и свое искусство. Изгнание из Европы науки и изучение Библии нашли убежище в знаменитых школах Дэрро и Арма, ставших университетами западного мира. Новая христианская жизнь забила таким ключом, которому скоро стали тесными пределы Ирландии. Не прошло и полвека со смерти Патрика, первого миссионера Ирландии, как уже ирландские христиане ревностно бросились на борьбу с язычеством, еще сильно коренившимся в христианском мире. Они стали работать среди пиктов Шотландии и фризов северных морей. Ирландский миссионер Колумбан основал монастыри в Бургундии и в Апеннинах, а кантон Сент Галль носит и поныне имя другого ирландского миссионера, перед которым с воем исчезали за Константским озером духи лесов и вод. Некоторое время казалось, что течение всемирной истории изменяется, что побежденная римлянами и германцами кельтская раса одерживает нравственную победу над своими завоевателями и что не латинское, а кельтское христианство возьмет в свои руки судьбы западной церкви.
На каменистом и неплодородном острове напротив западного берега Шотландии ирландский выходец Колумбан основал знаменитый монастырь Ионы. Там нашел убежище в дни своей юности Освальд, а вступив на престол Нортумбрии, он вызвал оттуда к себе христианских миссионеров. Первый проповедник, явившийся по его зову, не имел успеха. Он возвратился в монастырь, где и заявил братии, что среди такого упрямого и варварского народа, как нортумбрийцы, никакая пропаганда немыслима. «Что же служит этому причиной, их ли упорство или твоя строгость, — заметил рассказчику один из братьев, Айдан. — Разве ты забыл слово божие, что надо давать сперва молоко, а уже потом мясо?» Взоры всех присутствующих обратились на говорящего, увидев в нем человека, наиболее способного занять в Нортумбрии место миссионера, и по их общему настоянию Айдан отправился туда и учредил епископскую кафедру на острове Линдисфарне. Из основанного там же монастыря, благодаря которому и сам остров стал называться Святым островом, проповедники рассеялись по языческим странам. Боизиль водил небольшую группу миссионеров даже в долину Твида, а сам Айдан ходил пешком по Берниции, проповедуя Евангелие поселянам.
Христианская проповедь послужила прелюдией к новому политическому верховенству Нортумбрии, и святость Освальда не мешала ему думать о восстановлении своего королевства в прежних границах. Установив свой суверенитет над бриттами Стратклайда и подчинив Линдисфарн, он решил вернуть себе господство над Уэссексом. Принятие и там новой веры служило признаком признания его верховенства. Один из проповедников, Бирин, прибыл в Уэссекс из Галлии, вестсаксонский король принял крещение в присутствии Освальда и согласился на учреждение епископской кафедры в королевском городе Дорчестере на Темзе. Таким образом, Освальд стал управлять государством, по обширности не уступавшим владениям его предшественника, но в последующие времена воспоминание о его политическом могуществе как-то потонуло в воспоминаниях о его благочестии. Новый взгляд на королевскую власть стал сливаться с прежними понятиями о воинской славе Этельфрида и мудром правлении Эдвина, но нравственное влияние короля, так сильно развившееся впоследствии при Альфреде, ведет свое начало от Освальда. Сам король нередко служил переводчиком при попытках миссионеров обращать в христианство его танов. «Вследствие привычки молиться и приносить благодарение небу руки короля всегда были сложены, как для молитвы». Обедая однажды с епископом Айданом, Освальд выслал одного из своих танов раздать народу милостыню, но возвратившийся тан доложил королю, что на улице стоит целая голодная толпа. Услышав это, король тотчас же приказал отнести бедным еще непочатые кушанья и отдать им, разбив на куски, всю его серебряную посуду. «Да не состарится никогда рука сия!» — воскликнул Айдан, схватив руку короля и благословив ее.
Несмотря на то, что принятием христианства в Уэссексе язычество в центральных округах Англии притеснялось со всех сторон, оно, тем не менее, отчаянно боролось за существование. Душой этой борьбы явился Пенда, все долгое царствование которого было сплошной войной против новой религии, хотя, в сущности, он боролся не столько против креста, сколько против верховенства Нортумбрии. Полем брани между обоими государствами стала Восточная Англия, для освобождения которой от власти Пенды Освальд выступил в 642 году в поход, но в сражении, названном сражением при Мазерфельде, его войска были разбиты, а сам он погиб. Его тело было изрезано на куски, которые свирепый победитель приказал насадить на колья. Легенда гласит, что когда все члены тела Освальда совершенно почернели и разложились, осталась нетронутой лишь «белая рука», которую некогда благословил Айдан. В течение нескольких лет после мазерфельдской победы Пенда стоял во главе Британии. Уэссекс признал его главенство так же, как признал раньше главенство Освальда, и его король, отрекшись от христианства, женился на сестре Пенды. Даже Дейра, по-видимому, склонилась перед новым завоевателем, и лишь Берниция еще не уступала. Проникая из года в год все дальше на север, Пенда достиг даже построенного на скале неприступного города Бамборо. Отчаявшись взять город приступом, он начал разбирать стоявшие вокруг города дома и складывать их под стенами города с целью поджечь Бамборо. Когда подул благоприятный для такого плана ветер, Пенда исполнил свое намерение. «О господи! Взгляни, что делает злой Пенда!» — воскликнул Айдан в своей маленькой келье на островке Фарне, увидев расстилающийся над городом дым. Нортумбрийская легенда гласит, что вслед за этим восклицанием ветер переменился и погнал пламя на стан Пенды.
Несмотря на различные преследования, христианство все более укоренялось, Берниция так и осталась верной кресту, вестсаксы снова обратились к новой вере. Наконец и сын самого Пенды, которого он поставил правителем над Средней Англией, крестился и допустил к себе проповедников из Линдисфарна. Христианские миссионеры бесстрашно появлялись даже между мерсийцами, и Пенда не стал им препятствовать. Сам он так и остался до конца жизни язычником, но относился с глубоким презрением к тем, кто, «принимая новую веру, не исполнял ее предписаний». Однако большие пространства, которые обходили монахи в Нортумбрии, указали Пенде на ее возрастающее могущество, и старик еще раз собрался с духом, чтобы нанести удар врагу. После смерти Освальда на престол был призван Освью, армия которого встретилась с войском язычников в 655 году при реке Винведе. Тщетно нортумбрийцы пытались избежать сражения, предлагая Пенде дорогие подарки. «Если язычники не принимают наших даров, — воскликнул Освью, — то отдадим их тому, кто их примет!» и поклялся посвятить богу свою дочь и одарить двенадцать монастырей в своем государстве, если бог дарует ему победу. Произошла битва, и победа осталась на стороне Христа. Река, через которую пришлось бежать мерсийцам, разлилась от дождей и поглотила остатки языческой армии, сам Пенда был убит, и дело старых богов погибло навеки.
За страшной борьбой последовал некоторый период мира. Винведская победа привела Мерсию к полной покорности Освью, но в 659 году всеобщее восстание снова свергло иго Нортумбрии. Новое освобождение Мерсии не повлекло, однако, за собой восстановления язычества. Оно умерло вместе с Пендой. «Освободившись от нортумбрийцев, — повествует нам Беда, — мерсийцы со своим королем стали служить истинному царю, Христу». Все три провинции Мерсии, т.е. древняя Мерсия, Средняя Англия и Линдисвар, создали одну епархию под управлением Кеадды, епархию св. Чеда (St. Chad), который считается основателем личфилдской кафедры. Кеадда был монах из Линдисфарна, по характеру столь простой и непритязательный, что все свои долгие миссионерские путешествия совершал не иначе как пешком до тех пор, пока архиепископ Теодор собственноручно не посадил его на коня. Христианская поэзия облекла легендой его последние часы: она рассказывала, как в маленькой келье, где лежал умирающий, послышались с неба голоса, певшие чудные песни. Потом эти песни снова улетали на небо, откуда пришли. Это приходила с небес в сопровождении хора ангелов душа брата Кеадды, миссионера Кеадды, усладить последние минуты умирающего епископа.
Слава Кутберта почти затмила в Нортумбрии деятельность других миссионеров. Ничто не даст нам такого ясного понятия о религиозной жизни той эпохи, как рассказ об этом апостоле Нижней Шотландии (Lowlands). Рассказ вводит нас в северную часть Нортумбрии, в долины Чевиота и Твида. Кутберт родился на юге Ламмермура и с восьмилетнего возраста жил в доме бедной вдовы в деревеньке Ренголме. Крепкое телосложение и поэтическое настроение с детства отличали мальчика, даже в мелочах обыденной жизни обнаруживалось его призвание к великим делам. Путешественник в белой мантии, съехавший с горы и остановившийся, чтобы осмотреть случайно ушибленное колено мальчика, показался Кутберту ангелом. Пастушеская жизнь привела его в горы, славящиеся и теперь своими прекрасными пастбищами для овец, хотя чахлая зелень едва покрывает там песчаные скалы; здесь метеоры небесные казались ему ангелами, уносящими ввысь душу епископа Айдана, здесь созрела и его решимость сделаться монахом. Наконец Кутберт направил свои стопы к группе бревенчатых домов, в которых монахи из Линдисфарна устроили миссионерский пункт, — в Мельрозу.
Ныне это страна поэзии и романа. Чевиот и Ламмермур, Эттрик и Тевиотдель, Ярроу и Аннануотер полны звуков старых баллад и песен менестрелей. Эти долины прекрасно обработаны, а дренаж и сила пара превратили поросшие осокой болота в луга и фермы. Но для того, чтобы представить себе Нижнюю Шотландию в том виде, в каком она была в дни Кутберта, нужно отрешиться от зрелища этих лугов и ферм и вообразить себе группы жалких лачуг, разбросанных в обширной пустоши, по болотистым дорогам которой путники ехали не иначе как вооруженными, боязливо озираясь вокруг. Нортумбрийское крестьянство в основном было в то время христианским лишь по имени, приняв новую веру с тевтонским равнодушием, уступая желаниям своих танов, как сами таны уступили желанию короля; поэтому в их среде рядом с христианским богослужением процветали и старые суеверия. Каждая болезнь, каждое несчастье заставляли их обращаться к помощи талисманов и амулетов, а если что-либо подобное случалось с жившими среди них христианскими проповедниками, то это служило доказательством гнева прежних богов.
Однажды, когда плоты с материалами для постройки аббатства и находившимися на них рабочими-монахами были унесены из устья Тайна в море, то стоявшие тут же на берегу крестьяне, вместо помощи погибающим, кричали: «Не молитесь за них, не жалейте тех, кто отнял у нас нашу прежнюю веру и не научил тому, что следует делать, чтобы держаться их новомодных обычаев!» Пешком и верхом странствовал Кутберт среди этих людей, предпочитая отдаленные деревушки, от которых других проповедников отпугивали бедность и грубость их жителей. Проходя из деревни в деревню, он не нуждался, подобно другим своим ирландским товарищам, в переводчиках, и трудолюбивые нортумбрийцы охотно слушали такого же, как они, крестьянина, выучившегося их грубому наречию на берегах Твида. Его терпение, юмористический склад ума, ясность взгляда так же говорили в его пользу, как и его крепкое телосложение, вполне приспособленное к избранному им тяжелому образу жизни. «Ни один из верных служителей Бога не умирал еще с голоду, — восклицал он, когда ночь заставала его голодным в пустыне, — взгляните на орла, парящего над вашими головами! И он прокормит вас, если на то будет Божья воля». И действительно, один раз он утолил голод рыбой, оброненной к его ногам вспугнутой птицей. Снежная буря пригнала однажды его лодку к берегу Файфа. «Снег засыпал дорогу по берегу, а буря преградила путь по морю», сетовали тогда его товарищи. «Но путь к небу все таки открыт», — возразил им на это Кутберт.
В то время, когда миссионеры работали таким образом среди нортумбрийского крестьянства, в Нортумбрии возникало множество новых монастырей, братия которых не была связана суровыми правилами бенедиктинского устава, а собиралась обычно вокруг какого-нибудь богатого и знатного человека, искавшего в глуши пустыни спасения своей душе. Самой известной из таких обителей стал Стрине июльский монастырь, воздвигнутый Гильдой, женщиной царской крови, на вершине утесов Уитби, высившихся над Северным морем. Этот монастырь стал школой священников и епископов, а у самой Гильды часто просили советов короли и знатные дворяне. Святой Джон Беверлейский был одним из ее учеников. Но особенную славу приобрел монастырь после того, как из уст одного из его послушников впервые прозвучала чисто английская песня.
Послушник Кедмон был уже пожилым человеком, но, несмотря на это, не имел никакого понятия о стихосложении и не обладал искусством составлять аллитеративные напыщенные фразы (alliterative jingle), которыми забавлялись его товарищи. Поэтому, бывая иногда на вечеринках, где все должны были петь по очереди, Кедмон вставал и уходил, как только очередь доходила до него. Однажды, поступив таким образом, Кедмон ушел в хлев, в котором ночью стерег скот, как вдруг явился к нему некто и сказал ему: «Спой, Кедмон, песню мне». «Я не могу петь, и именно по этой причине я оставил пирушку и пришел сюда», — отвечал Кедмон. «Как хочешь, но ты должен мне спеть», — снова сказал тот, кто с ним разговаривал. «Что же должен я петь?» — молвил Кедмон. «О сотворении мира», — отвечал тот.
Утром Кедмон пришел к Гильде и рассказал ей о своем видении. Аббатиса и братия тут же решили, что «особая милость Божия почиет над Кедмоном», перевели для него одно место из Священного писания и просили, если он может, переложить это в стихи. На следующий день Кедмон передал Гильде превосходные стихи, и тогда аббатиса, уверившись окончательно в его Божественном даре, попросила его покинуть мирские занятия и посвятить свою жизнь Богу. Кедмон согласился и по частям переложил на стихи всю Священную историю. «Он воспел сотворение мира и человека, историю Израиля, исход его из Египта и вступление в Землю обетованную, воплощение, страдания и воскресение Христа, ужасы Страшного суда, муки ада и радость рая».
Людям той эпохи этот внезапно обнаружившийся дар поэтического творчества, конечно, казался чем-то сверхъестественным. «Старались слагать религиозные поэмы и другие, но никто не мог соперничать с Кедмоном, потому что он воспринял это искусство не от людей, а от Бога». По внешней форме английская песня мало продвинулась вперед со времен Кедмона. Сборник поэм, связанных с его именем, дошел до нас в позднейшей, западносаксонской версии, и хотя критики до сих пор спорят об имени их творца и эпохе их появления, но они принадлежат, без сомнения, разным авторам. Стих этих поэм, — кому бы они ни принадлежали, Кедмону или другим певцам, — стих сильный и прямой, производящий скорее впечатление силы, чем красоты, но он затемнен излишеством метафор и запутанными оборотами, вместе с тем это, краткое и чувственное выражение страстных эмоций, напоминающее песни воинов. Образ за образом, мысль за мыслью являются в этих ранних поэмах ярко, четко и выразительно. Стихи падают, как удары меча в пылу битвы.
Любовь к описанию красот природы и некоторая отличающая английские песни меланхоличность присущи и тем ранним певцам. Но вера в Христа создала, как мы видели, новый простор для поэтического творчества. Легенды о небесном свете или рассказ Беды «О воробье» указывают на ту сторону английского характера, которая была наиболее доступна христианскому воздействию, — на инстинктивное осознание беспредельности мира, тайны жизни и неудовлетворенность узкими границами познания, определяемыми наблюдением и опытом. Новый мир поэзии соединился со старым в так называемых эпических поэмах Кедмона. В этих поэмах смелость тевтонского воображения заходит в своей образности за пределы самой еврейской истории и вводит нас «в мрачный ад без света, хотя и полный огня, освежаемый лишь на заре ледяным дыханием восточного ветра, с лежащими на полу этого ада связанными падшими ангелами».
Энергия германской расы и осознание ею индивидуальной силы превратили в английских песнях еврейского Искусителя в мятежного Сатану, восставшего против своих вассальных отношений к Богу. «Я могу быть таким же богом, как и Он! — восклицает Сатана среди своих мучений, — и мне кажется недостойным кланяться Ему ради какого-нибудь блага». В следующем возгласе падшего духа можно уже заметить патетическую нотку, которая занесена с севера и в нашу поэзию: «Для меня главное горе заключается в том, что Адам, созданный из праха, занимает мое место, живя в радости, тогда как я томлюсь в этой муке. О, как бы я желал только на один час иметь в своих руках власть, я бы с моей ратью… но я окован железными путами, и это подымает мою желчь!»
С другой стороны, энтузиазм, возбуждаемый христианским Богом, вера в которого была куплена годами отчаянной борьбы, выражается в длинном ряде звучных похвал и молений. Характеру поэтов были настолько же близки огонь и страсть еврейских песнопений, насколько события их времени имели сходство с постоянной борьбой и странствованиями, изображенными в Библии. «Волки затянули свою мрачную вечернюю песнь, и хищные птицы с намокшими от росы перьями каркали, жаждая сражения, над ратью фараона», — говорил германский поэт, и разве не навеяны эти строки знакомым ему зрелищем воющих волков и парящих орлов, сопровождавших армию Пенды? И повсюду заметны величие, глубина и теплота, сообщенные германской расой религии Востока.
Но еще прежде, чем раздалась песнь Кедмона, христианская церковь Нортумбрии разделилась на две части вследствие борьбы, которая имела место и в том самом Уитби, в котором жил поэт. Трудами Айдана и победами Освальда и Освью английская церковь, казалось, присоединилась к ирландской: монахи Линдисфарна и других вновь основанных монастырей стали руководствоваться традициями не Рима, а Ирландии, ссылаться на наставления не Григория, а Колумбы. Каковы бы ни были тогда притязания кентерберийской кафедры на духовное верховенство над всей Англией, но на севере всецело господствовал авторитет аббата Ионы. С прибытием туда из Кента супруги Освью появилась и партия сторонников Рима, объединившаяся вокруг королевы, усилия которой в этом направлении были поддержаны двумя до фанатизма преданными Риму танами. Вся жизнь Уилфрида Йоркского прошла в ряде поездок из Англии в Рим и обратно с целью поддержания папского верховенства, и его усилия сопровождались рядом замечательных удач, сменявшихся столь же замечательными поражениями.
Бенедикт Бископ стремился к той же цели, хотя более спокойно и рассудительно, привозя из-за моря священные книги и реликвии и заботясь о привлечении опытных зодчих и художников к построению храма и монастыря в Уирмуте, братия которого обязана была оказывать безусловное повиновение Папскому престолу. В 652 году оба тана в первый раз посетили имперский город, но вскоре возвратились оттуда и занялись энергичной проповедью против ирландских обрядов, приведшей к открытой борьбе между сторонниками и противниками Рима. Чтобы положить конец этой борьбе, Освью решил провести в 664 году большой собор в Уитби, который должен был решить вопрос о зависимости английской церкви. Спорные пункты не представляли первостепенной важности. Кольман, преемник Айдана на Святом острове, настаивал на сохранении ирландских тонзуры и пасхалии, Уилфрид стоял за римские. Один из спорщиков ссылался на авторитет Колумбы, другой — на авторитет святого Петра. «Ты признаешь, — вмешался наконец, обращаясь к Кольману, король, — что Христос дал ключи от Царства Небесного Петру? Дал ли он такую же власть Колумбе?» Епископ вынужден был отвечать отрицательно. «Так я лучше буду слушаться привратника Неба, чтобы он не отвернулся от меня, когда я приду к нему, и чтобы не остались поэтому предо мной двери Неба запертыми».
В этом смысле и было принято постановление собора, после которого Кольман в сопровождении всех ирландских и тридцати английских братьев оставил кафедру Айдана и направился в Иону. Какими бы ни были маловажными пункты разногласий между обеими церквями, но вопрос о том, к какой из них будет принадлежать Нортумбрия, был весьма важен для последующих судеб Англии. Победи на соборе церковь Айдана — и дальнейшая церковная история Англии, вероятно, мало отличалась бы от церковной истории Ирландии.
Лишенная организаторских способностей, которые составляли силу римской церкви, кельтская церковь приняла у себя дома в Ирландии систему клана как основу церковного управления. Племенные раздоры и церковные разногласия дошли до безнадежной путаницы, и духовенство, лишенное всякого влияния на массы, только увеличивало беспорядки в стране. Сотни бродячих епископов, духовный авторитет наследственных глав кланов, религиозность, разобщенная с нравственностью, отсутствие широких и гуманизирующих влияний более обширного внешнего мира, — вот картина ирландской церкви позднейших времен, и от подобного хаоса была спасена Англия победой римской церкви на соборе в Уитби.
Внешние формы английской церкви явились результатом забот назначенного Римом тотчас же после победы в Уитби на кафедру в Кентербери греческого монаха Феодора из Тарса. Для своей деятельности Феодор имел почву, уже подготовленную предыдущей историей английского народа. Континент Европы был завоеван или уже христианскими племенами (готы), или хотя и языческими, но быстро принявшими веру покоренных ими народов (франки). Этому-то единству религии победителей и побежденных обязано своим сохранением все то, что осталось от римского мира. Церковь осталась повсюду неприкосновенной. Христианский епископ сделался защитником покоренных народов Италии и Галлии против готских и лангобардских завоевателей, посредником между германцами и их новыми подданными, заступником от варварского насилия и гнета. В глазах варваров он был, с другой стороны, олицетворением того, что заслуживало уважения в прошлом, живым воплощением законов, литературы и искусства.
Но в Британии вместе с народом погибло и христианское духовенство. Когда Феодор явился для организации английской церкви, память о бывшем когда-то здесь христианстве уже совершенно утратилась. Первые миссионеры Англии, чужестранцы в земле язычников, держались, естественно, двора королей, принимавших первыми христианство и тем самым подававших пример своим подданным. Вследствие этого английские епископы были сначала не более чем капелланами королей, и границы их епархий совпадали с границами приютивших их государств. Кентское королевство стало одновременно и кентерберийской епархией, Нортумбрийское — йоркской. Поэтому память о когда-то существовавших государствах жива и теперь в названиях епархий. Рочестерская кафедра представляла до последнего времени забытое королевство Западного Кента, а границы древнего королевства Мерсия можно восстановить, следя по карте за границами бывшего епископства личфилдского.
Первым делом Феодора по прибытии в Англию было приведение в порядок своих епархий, учреждение новых и объединение их всех вокруг одного центра — Кентербери. Все связи английской церкви с ирландской он резко оборвал, и после удаления Кольмана и его монахов слава Линдисфарна быстро померкла. Часто собиравшиеся на соборы новые прелаты признали авторитет своего примаса. За организацией епископств последовало в течение следующего столетия развитие системы приходов. Беспорядочная система прежних миссионерских пунктов и монастырей, откуда предпринимали свои путешествия по стране проповедники, подобно Айдану из Линдисфарна или Кутберту из Мельроза, естественно, исчезла, когда вся страна стала христианской и миссионеры превратились в оседлых священников. Подобно тому, как капеллан короля стал епископом, а королевство составило его епархию, так капеллан английского дворянина сделался священником, а имение дворянина — приходом; источником доходов для духовенства стала десятина, т.е. приношение в пользу церкви одной десятой всех продуктов земли. В среде самой церкви дисциплина поддерживалась целым выработанным сводом о преступлениях и наказаниях, и коренной принцип тевтонского законодательства о возмездии проник и в представления об отношениях между Богом и человеческой душой.
Своей организаторской работой, увеличением числа епархий, упорядочением их внутреннего быта, сосредоточением их вокруг одного центра, национальными соборами и духовными канонами Феодор бессознательно творил и политическую сферу. Старые разделения королевств и племен, явившиеся по большей части результатом случайных завоеваний, быстро исчезали. В ту эпоху небольшие королевства были уже, в сущности, поглощены тремя большими государствами, да и из этих трех Мерсия и Уэссекс временно признавали господство Нортумбрии, и таким образом сказалось стремление к национальному объединению, которое составило характерную черту последующей истории Англии.
Этому стремлению, основывавшемуся до того исключительно на праве меча, политика Феодора дала иное, духовное освящение. Единый престол единого Кентерберийского примаса приучил к мысли о едином троне светского главы в Йорке или, впоследствии, в Личфилде и Уинчестере. Подчиненность священников епископам и епископов примасу послужила образцом и для гражданской организации государства. Но наибольшее значение имели созывавшиеся Феодором соборы как первые национальные собрания для решения законодательных вопросов. Только через много лет «мудрецы» (уитаны) Уэссекса, Мерсии и Нортумбрии приучились сходиться на общие для всей Англии уитенагемоты. Пример церковных синодов указал путь национальным парламентам, а канонические правила этих синодов прокладывали дорогу национальной системе законодательства. Таким образом, стремление церкви к централизации шло рука об руку с общественным движением по пути национального объединения, но торжеству такого порядка вещей мешала борьба отдельных королевств за преобладание.
Как мы уже говорили, Мерсия стряхнула с себя владычество Освью и избрала королем Вульфера, который оказался энергичным и деятельным правителем; мирное царствование Освью позволило ему восстановить над многими племенами влияние, утраченное после смерти Пенды. Владения Вульфера протянулись за Северн и охватывали нижнюю долину Уай. Его достижения превзошли даже успехи Пенды. После большой победы над вестсаксами он проник в самое сердце Уэссекса и тем открыл себе путь к Темзе. На востоке его верховенство признали Эссекс и Лондон, а на юге Вульфер распространил свое господство на Сэррей. Вскоре и Сассекс, быть может, из боязни перед вестсаксами, принял покровительство Вульфера, и его король получил за это в подарок два крайних поселения ютов — остров Уайт и земли Меонуора вдоль саутгемптонских вод, — поселения, вероятно, покоренные мерсийцами.
Таким образом, политическое преобладание Мерсии, простиравшееся от Гембера до Ла-Манша, было важнейшим фактором в эпоху появления в Англии Феодора. И действительно, со смертью Освью в 670 году всякие попытки Нортумбрии раздавить своих соперников в Центральной и Южной Британии совершенно прекратились.
Рука об руку с военными успехами шел в Мерсии и промышленный прогресс. Леса на ее западной границе и болота восточного побережья были расчищены и осушены усилиями монастырских колоний, — факт, свидетельствующий о влиянии христианства на народ в этой стране. Но язычество все-таки процветало в западных лесах, и, вероятно, демоны, заглушавшие в легенде об уорстерском епископе Эгвине голос епископа стуком молотов, были поклонявшимися Одину альчестерскими рудокопами. Но, невзирая на их молоты, проповедь Эгвина оставила после себя и там прочный след. Однажды епископ услышал, что выбравшийся на светлую прогалину из лесной чащи свинопас видел женские фигуры (принадлежавшие, вероятно, «Трем Прекрасным Девам» древнегерманской мифологии), сидевшие вокруг куста и певшие неземные песни. Пылкое воображение епископа немедленно превратило этих дев в христианскую Богоматерь, и на дотоле безмолвной просеке воздвиглось аббатство в честь Богородицы, а под сенью его возник и город Ившем, прославившийся впоследствии поражением при нем графа Симона Лестерского.
Еще более дикой, чем западные леса, была болотистая страна на восточной окраине королевства, простиравшаяся от «Holland», низин Линкольншира, до русла Узы и представлявшая собой пустынную местность, залитую водой и усеянную островками, окутанными туманами и населенными лишь стаями крикливых птиц. Здесь, благодаря щедрости короля Вульфера, возникло аббатство Мидсгемстед, позднейшее Питерсборо. Здесь отшельник Ботульф основал маленькую обитель, из которой впоследствии вырос «город Ботульфа», или Бостон, а жена короля Эгфрита, преемника Освью на нортумбрийском престоле, леди Этельтриг воздвигла аббатство Или. Здесь же юноша из мерсийского королевского дома Гутлак искал убежища от суеты мирской в пустынях Кроуленда и приобрел такую славу, что через два года после его кончины над его могилой уже было воздвигнуто величественное Кроулендское аббатство. При сооружении этого аббатства землю привозили в лодках, а постройки ставили на глубоко вбитых в болото дубовых сваях; на месте бывшей кельи отшельника появилась каменная церковь, и труд жившей в обители монастырской братии превратил окружавшие топи в прекрасные луга.
В то время как Мерсия утверждала свое владычество в Средней Британии, Нортумбрия все еще пользовалась значительным могуществом. Наследовавший в 670 году Освью Эгфрит не пытался восстановить свою власть над королевствами Южной Британии и был занят больше войнами с бриттами, чем со своими соотечественниками — англами. Прекратившаяся со времени битвы при Честере война между бриттами и англами разгорелась снова лет за двадцать перед тем, вследствие движения вестсаксов на юго-запад. Не будучи в состоянии спасти от захвата Пенды местности по долине Северна и на Котсуольдских горах, король Уэссекса Сенуил воспользовался моментом борьбы Пенды с Нортумбрией, чтобы вознаградить себя за счет своих соседей — уэльсцев. Победа при Брэдфорде-на-Эйвоне дала ему возможность захватить местность возле Мендипа, а победа на окраинах большого леса, покрывавшего Сомерсет, отдала в руки вестсаксов и источники Перрета.
Вероятно, пример Уэссекса ободрил Эгфрита в намерении также начать нападения на бриттов, которых он изгнал из Южной Кумбрии, обратив в английские округ Карлайля, Ланкашир и местности Озерной страны (Lake country). За успехами на юге последовали победы над скоттами за Клейдесдалем и пиктами, жившими за Фортом, территория которых стала считаться с того времени нортумбрийской, а находившийся при Форте Аберкорнский монастырь епископ Тремуайн сделал центром новой епархии. В 675 году на южные границы Нортумбрии напал Вульфер, но и здесь сильный и энергичный Эгфрит оказался для Мерсии иным врагом, чем вестсаксы или юты, и потерпевший поражение Вульфер был рад купить мир уступкой Нортумбрии Линдисуоры или Линкольншира.
Большая часть местностей Озерного округа была причислена к Линдисфарнской епархии, кафедру которой занял человек, уже известный нам как апостол Нижней Шотландии. После многих лет работы в Мельрозе Кутберт переехал на Святой Остров и так же энергично занялся проповедью в тамошних болотах, как делал это раньше на берегах Твида. Проповедник оставался там и во время великого раскола, последовавшего за собором в Уитби, и сделался приором уменьшившейся монашеской братии, ведшей бесконечные споры, которые он тщетно пытался прекратить терпением и добродушием. Истомившись, наконец, этими бесплодными словесными турнирами, он ушел на маленький скалистый островок Бамборо, недалеко от крепости Иды, покрытый лишь водорослями и населенный только чайками и тюленями. Среди этого островка Кутберт выстроил из дерна и камней избушку, покрыв ее бревнами и соломой, но слава о его святой жизни достигла Эгфрита, который и пригласил его занять вакантную епископскую кафедру в Линдисфарне. Он прибыл в Карлайль, отданный епархии королем, когда вся Нортумбрия ждала результатов нового похода Эгфрита на пиктов.
Между тем могущество Нортумбрии было уже сильно подорвано. На юге Мерсия пыталась отомстить за поражение Вульфера. Его преемник Этельред снова захватил Линдисвар, и начатая им война окончилась только при посредстве архиепископа Феодора миром, отдавшим в руки Этельреда Среднюю Англию. Смуты на северной границе принудили Эгфрита идти к Форту. Предчувствие несчастья тяготело над Нортумбрией; оно поддерживалось и воспоминанием о проклятиях, которым предавали ирландские епископы короля за разорение его флотом ирландских берегов, что казалось святотатством для всех, кто любил отечество Айдана и Колумбы. Однажды, когда Кутберт стоял, склонившись над уцелевшим среди развалин Карлайля римским фонтаном, смущенным зрителям показалось, что его губы шепчут слова какого-то злого предсказания. «Может быть, — слышался им его шепот, — в этот самый час все опасности битвы кончились и дело сделано». Спрошенный на другой день о значении этих слов Кутберт отвечал только: «Ждите и молитесь!» Еще через несколько дней единственный уцелевший после страшного побоища солдат принес весть, что пикты при вступлении английской армии в Файф дрались отчаянно и что Эгфрит, вместе с цветом своего дворянства, лежит мертвым на далеком поле Нектансмира.
Это известие было смертельным ударом и для Кутберта: он вскоре оставил епископскую кафедру и удалился на свой остров, а еще через два месяца уже лежал на смертном одре, произнося тихим голосом слова мира и любви. Монахи поспешили сообщить о его смерти посредством сигналов: один из них побежал, держа в каждой руке по зажженному факелу, к месту, откуда свет мог быть замечен монахом, стоявшим на линдисфарнской сторожевой башне. Когда огонек там заметили и монах поспешно пошел с этим известием в церковь, случилось так, что братия Святого Острова пела слова псалма: «Ты, показавший своему народу свет Неба…». Это было похоронной песнью не только Кутберту, но и его Церкви и народу. Чужестранцы, не знавшие ни Ионы, ни Колумбы, завладели наследием Айдана и Кутберта. Римское исповедание снова водворилось там, и народ забыл, что почти исчезнувшая теперь церковь некогда боролась с Римом за духовное главенство над западным христианством и что в течение долгой борьбы с язычеством новая религия имела своим центром не Кентербери, а Линдисфарн.
Но работа нортумбрийцев не пропала бесследно. Их миссионерами и их мечом Англия была отторгнута от языческого мира и обращена в христианство; им обязана Англия и началом своей поэтической литературы. Но еще большая заслуга Нортумбрии состоит в том, что именно она впервые объединила различные племена англов и в течение полувека приучала их к совместному образу жизни, т.е. готовила почву, на которой выросла и развилась современная Англия.
Глава IV ТРИ КОРОЛЕВСТВА (685—828 гг.)
Верховенство Нортумбрии над английским народом пало навеки со смертью Освью, а поражение при Нектансмире и кончина Эгфрита совершенно сломили ее владычество над северными племенами острова. На севере бегство епископа Тремуайна из Аберкорна возвестило о восстании пиктов против ее власти, в то время как на юге Этельред, наследовавший в 675 году Вульферу, сделал Мерсию ее опасной соперницей. Владения Мерсии, и без того простиравшиеся от Гембера до Ла-Манша, увеличились в первые же годы царствования Этельреда за счет покорения Кента.
Всем мечтам о национальном единстве пришел, казалось, конец, так как возрождение могущества западных саксов довершило разделение страны на три почти равносильных государства. Со времени поражения при Феддили, т.е. за сто лет до этого, западные саксы были совершенно ослаблены анархией и гражданскими междоусобицами и находились во власти как английских государств, так и бриттов. Мы, однако, уже видели, что в 652 году они настолько окрепли, что были в состоянии оттеснить бриттов до Перрета. Еще несколько лет мира и их король Сентуайн вступил в новую борьбу с бриттами и распространил свои владения до Квентока, а в 685 году король Сидуолла, наконец, также окреп, что начал борьбу с англами и овладел Суссексом. Величайший из саксонских вождей той эпохи король Ина все свое почти сорокалетнее царствование воевал за верховенство. На востоке он подчинил своей власти Кент, Эссекс и Лондон; на западе он продвинулся вокруг Перретских болот к более плодородным местам юга и на берегах Тоны возвел крепость для охраны границ своих новых завоеваний; из этого небольшого укрепления впоследствии вырос нынешний город Таунтон.
Таким образом, западные саксы сделались повелителями всей области, которая теперь называется Сомерсет и в которой, подобно острову, среди обширных, тянувшихся до самого Ла-Манша болот и топей возвышался Тор. У подошвы этой горы, на месте бывшего когда-то древнего храма бриттов, Ина основал знаменитый монастырь Глэстонбери, названный так по имени семьи Глестингов, принимавших участие в выборе места для обители и долго живших здесь в маленькой деревушке под тем же названием; монастырь этот продолжительное время был религиозной святыней для бриттов, а легенда о пребывании в нем «второго Патрика» привлекала туда ирландских ученых. Первые обитатели монастыря нашли там, как они утверждали, древнюю церковь, «построенную с нечеловеческим искусством». Тут же Ина заложил и свою собственную каменную церковь.
Заботы о духовном благоустройстве завоеванной страны Ина возложил на своего родственника Элдгельма, самого известного ученого того времени, возведя его в сан епископа новой Шерборнской епархии, включавшей в себя Сельвудский и Фромский округа. Епархия эта должна была стать духовным центром вновь приобретенных Иной провинций. При Ине появился также и самый ранний свод западносаксонских законов, показывающий, сколько забот для удовлетворения материальных и духовных потребностей своей страны принял на себя этот король. Поражение мерсийцев, попытавшихся напасть на Уэссекс, доказало и его умение защищать свои владения. Тридцатилетнее царствование Этельреда было эпохой почти непрерывного мира и периодом построения и обогащения монастырей, изменивших самый вид его королевства. В 709 году королем Мерсии стал Сельред, попытавшийся вступить с Уэссексом в борьбу за верховенство на юге, но в 715 году он был совершенно разбит в кровавом сражении при Уорнборо. Ина умел держать в страхе мерсийцев, но даже и ему не удалось прекратить внутренние распри, раздиравшие Уэссекс.
Существует легенда, повествующая о случае, внушившем Ине такое отвращение к миру, которое заставило его покинуть свет. Он царственно пировал в одном из своих деревенских замков, и когда на другой день выехал оттуда, то королева попросила его зачем-то вернуться назад; король вернулся и увидел такое зрелище: все занавеси были ободраны, сосуды унесены, пол усеян отбросами и нечистотами, а на королевской постели, где он спал с Этельбур, лежала свинья с поросятами… «Смотри, государь, как скоротечна слава мира сего», — сказала при этом королева, но сцена и сама по себе едва ли нуждалась в подобном комментарии. В 726 году Ина сложил с себя корону и стал искать душевного успокоения во время путешествия в Рим.
Анархия, заставившая Ину отказаться от престола, разразилась после него с еще большей силой и сделала Уэссекс легкой добычей преемника Сельреда. Между теми, кто разделял уединение Гутлака в Кроуленде, находился племянник Пенды Этельбальд, который вынужден был бежать от неприязни Сельреда. Спасаясь от королевского преследования, Этельбальд проживал в хижине, построенной им возле дома отшельника, и там в часы отчаяния находил утешение в его поучениях. «Сумей выждать, — говорил Гутлак, — и королевство само придет к тебе; ты приобретешь его не насилием, не жестокостью, но единственно милостью Божьею». В 716 году Сельред впал во время трапезы во внезапное сумасшествие, и Мерсия избрала Этельбальда королем. В течение первых десяти лет своего царствования новый король избегал столкновений с уорнборским победителем, но после отречения Ины он снова вступил с Уэссексом в упорную борьбу за первенство на юге. Он проник в самое сердце западносаксонского королевства и закончил войну в 733 году лишь осадой и взятием столицы Уэссекса — Сомертона; целых двадцать лет после этого верховенство Мерсии признавали все бритты к югу от Гембера, и Этельбальд фактически стоял во главе Мерсии, Восточной Англии, Кента и Уэссекса.
С этими силами он двинулся на Уэльс, титулуя себя в то время королем не только мерсийцев, но и соседних народов, называющихся общим именем южных англичан. Но Этельбальд встретил на своем пути те же препятствия, какие встречали и его предшественники: в течение двадцати лет он успешно подавлял беспрерывные восстания своих новых подданных, но в 754 году всеобщее возмущение принудило его напрячь все силы для подавления непокорных. Во главе своих мерсийцев, поддержанных союзниками из Кента, Уэссекса и Восточной Англии, двинулся Этельбальд на Берфордское поле, где собрались вестсаксы под своим знаменем с изображением Золотого дракона. Несколько часов продолжалась жестокая битва, как вдруг внезапный страх охватил короля Мерсии, он бежал с поля сражения, а вместе с этим исчезло и его верховенство над народами Средней Британии. Три года спустя Этельбальд был однажды ночью настигнут и убит своими старейшинами, и во время последовавшей вслед за тем анархии Кент, Эссекс и Восточная Англия восстановили свою самостоятельность.
В то время как два южных королевства напрягали все силы в отчаянной борьбе, Нортумбрия стояла в стороне от завоевательных движений и преследовала лишь мирные цели. В царствование Альфрита Ученого, наследника Эгфрита, и его четырех преемников это королевство сделалось в середине VIII века литературным центром Западной Европы. Нигде не было таких знаменитых школ, как в Ярроу и в Йорке. Вся тогдашняя наука, казалось, воплотилась в нортумбрийском ученом Беде. Беда Достопочтенный, как называли его впоследствии, родился в 673 году, т.е. через девять лет после синода в Уитби, на том месте, где год спустя Бенедикт Бископ воздвиг при устье Уира аббатство; в сооруженной его учеником Сильфридом пристройке к этому аббатству и протекла вся долгая спокойная жизнь Беды. Он никогда не выезжал из Ярроу. «Я провел всю мою жизнь в одном монастыре, — говорил он, старательно исполнял правила моего ордена и предписания церкви, и моими постоянными наслаждениями были чтение, письмо и обучение других».
Эти слова рисуют нам жизнь Беды, и они тем трогательнее в своей простоте, что принадлежат первому великому английскому ученому. Спокойное величие жизни, посвященной знанию, и безмятежное наслаждение, которое Беда находил в изучении, обучении других и литературной деятельности, послужили примером для последующих поколений. Очень молодым человеком он был уже учителем, и в его ярроуской школе, кроме шестисот монахов, его постоянных учеников, находилось еще множество жаждавших знаний и стекавшихся отовсюду чужестранцев.
Теперь трудно даже представить себе, как при таких трудах в школе и монастыре Беда находил время для создания многочисленных литературных произведений, столь прославивших его имя на Западе. Материалы для изучения были собраны в Нортумбрии путешествиями Уильфрида и Бенедикта Бископа, а также в основанных в Уирмуте и Йорке библиотеках. Старая ирландская традиция была еще жива в Нортумбрии, и потому занятия молодого ученого направились на изучение и толкование Священного писания, что преимущественно и стяжало ему столь громкую славу. Греческий язык, весьма малоизвестный тогда на Западе, Беда изучил в кентерберийской школе, основанной греческим архиепископом Феодором, а искусство церковного пения он позаимствовал у одного римского священника, посланного папой Римским Виталианом для сопровождения Бенедикта Бископа.
Мало-помалу молодой ученый усвоил, таким образом, все знания своей эпохи и стал, по справедливому выражению Берка, «отцом английской учености». Традиции древнеклассической культуры он первый в Англии воскресил в цитатах из Платона и Аристотеля, Сенеки и Цицерона, Лукреция и Овидия. Вергилий оказал на него такое же влияние, как впоследствии на Данте. Его повествования о судьбах мучеников прерываются стихами из «Энеиды», и ученик решился даже следовать по стопам великого учителя в небольшой эклоге, изображающей наступление весны.
Беда работал почти совершенно без помощи других. «Я сам свой собственный секретарь, — писал он, — я сам делаю все необходимые заметки, я сам и переписчик». Сорок пять сочинений, оставшихся после его смерти, свидетельствуют о его необыкновенном трудолюбии. По его собственному мнению и мнению его современников, важнейшими из этих трудов были поучения и толкования Библии, извлеченные из творений отцов церкви. Но Беда был далек от того, чтобы ограничиться теологией. В оставленных им трактатах для учеников излагаются все тогдашние сведения по астрономии, метеорологии, физике, музыке, философии, грамматике, риторике, арифметике и медицине. Такой энциклопедический характер его занятий не помешал ему одновременно оставаться чистейшим англичанином: он любил родную речь и родную песню; его последним трудом был перевод Евангелия от Иоанна на английский язык и почти последними звуками, слетевшими с его уст, были несколько английских стихов о смерти.
Благороднейшим свидетельством любви Беды к Англии, обессмертившим его имя, была его «Церковная история английского народа» (Ecclesiastical History of the English Nation), в которой он выступил как первый английский историк. Все, что мы знаем о полутораста годах, прошедших со времени прибытия Августина, стало известным только благодаря Беде, а рассказы о том периоде, в котором он сам жил и действовал, отличаются удивительной точностью и вместе с тем художественностью. Так же точны и те его повествования, сведения для которых он заимствовал у своих кентских друзей Альбина и Нотгельма; способностью историка-рассказчика Беда обязан был лишь самому себе, но гораздо трогательнее всех его рассказов история его смерти. В 735 году, за две недели до Пасхи, Беда настолько ослабел, что с трудом переводил дыхание; тем не менее, он сохранил свои обычные веселость и благодушие и, несмотря на полную бессонницу, продолжал поучать собиравшихся вокруг него учеников.
Время от времени учитель произносил английские стихи о смерти, о ее суровой непреложности. «Пробил час, и человек смущается мыслью о своей доброй или злой будущей судьбе!…» Рыдания учеников сливались со звуками его песни. «Мы не могли слушать его без плача», — писал один из них. Так шло время до Вознесения. Учитель и ученики работали без отдыха, так как Беда хотел непременно окончить свой перевод на английский язык Евангелие от Иоанна и некоторые извлечения из творений епископа Исидора. «Я не хочу, чтобы мои мальчики читали ложь или тратили время на бесцельную работу, когда меня не станет», — отвечал Беда людям, советовавшим ему отдохнуть. За несколько дней до Вознесенья его здоровье очень ухудшилось, но он все-таки целый день поучал учеников и увещевал их не падать духом. «Учитесь как можно скорее, я не знаю, долго ли я еще проживу». Прошла еще одна бессонная ночь, и на другой день старец снова собрал вокруг себя учеников и попросил их писать. «Одной главы еще недостает, — сказал ему писец при наступлении утра, а ведь тебе трудно будет диктовать дальше». «Нет, мне легко, — отвечал Беда, — бери перо и пиши скорее».
День прошел среди плача и прощаний. «Еще немножко осталось, дорогой учитель», — сказал ему ученик. «Пиши же скорее!»— просил умирающий. «Кончено!» — объявил наконец маленький писец. «Правда, теперь все кончено», — отвечал Беда. Лежа на полу, с лицом, обращенным к тому месту, где он привык молиться, Беда запел торжественно: «Слава тебе, Господи, слава тебе!» Поддерживаемый учениками, он окончил свой гимн и тихо скончался.
Монах из Ярроу, первый английский ученый, теолог, историк, может считаться, по всей справедливости, основателем английской литературы, а в качестве учителя собиравшихся вокруг него 600 учеников — и отцом английского образования. Его трактаты по физике ставят его и в число первых наших естествоиспытателей. Наконец, Беда был настолько же ученым, насколько и государственным мужем: отправленное им в последние годы жизни письмо к Эгберту Йоркскому указывает, как заботливо стремился он к подавлению возраставшей в Нортумбрии анархии. Но его план реформы появился слишком поздно, и такие люди, как король Эдберт и его брат, первый архиепископ Йоркский Эгберт, могли только на некоторое время оживить увядавшую славу Нортумбрии.
Эдберт отразил нападение Этельбальда на юге, ведя в то же время успешную войну с пиктами. Через десять лет он вошел в Эршир и заключил договор с пиктами, который помог ему в 756 году завоевать Стратклайд и даже взять его столицу — Алклуйд, или Дембартои. Но в тот момент, когда торжество Эдберта казалось полным, в его армии возникла полная дезорганизация, и обрушившиеся на короля бедствия заставили его вскоре бросить скипетр и вместе с братом искать убежища в монастыре. С того времени история Нортумбрии является лишь историей дикого произвола и кровопролития. Измены и мятежи губили одного короля за другим, поля были заброшены, страна попала в руки буйной знати и страдала от голода и чумы. Изолированное в продолжение пятидесяти лет господства анархии, это северное государство, казалось, едва входило в состав английского народа.
Дело объединения считалось, впрочем, безнадежным, так как сражение при Берфорде окончательно разделило Британию на три равносильных государства. Уэссекс так же упрочился к югу от Темзы, как и Нортумбрия — к северу от Гумбера. К тому же поражение при Берфорде далеко не сломило сил Мерсии, а при короле Оффе (758—796), царствование которого, вместе с царствованием Этельбальда, длилось почти весь VIII век, могущество этого государства даже возросло до значения, неизвестного со времен Вульфера.
Целые годы прошли, однако, прежде чем Оффа попытался возвратить Кент, и только после трехлетней войны победа при Отфорде в 775 году его снова возвратила Мерсии. Вместе с Кентом Оффа вернул, разумеется, также Сассекс, Сэррей, Эссекс и Лондон, а еще через четыре года победа при Бессингтоне отдала ему во владение и все земли, составляющие ныне Оксфордское и Бекингемское графства. В течение следующих девяти лет Мерсия не делала дальнейших попыток распространить свою власть на других соседей, но, подобно своим соперникам, обратила преимущественное внимание на Уэльс. Перебравшись в 779 году за Северн, верхнее течение которого служило до того времени границей, отделявшей англов от бриттов, Оффа прогнал короля Пауиса из его столицы и переменил ее прежнее название, Пенгуирн, на английское Шрусбери («Город кустов» — Scrobsbyryg, или Shrewsbury). Результатом этого вторжения было также возведение пограничного земляного вала, который тянулся от устья Уай до устья Ди; это сооружение было названо Окопом Оффы — «Offa’s Dykе». Поселение англичан между этим окопом и Северном послужило военной границей Мерсии.
Здесь, как и в позднейших завоеваниях нортумбрийцев и вестсаксов, прежняя система изгнания побежденных из их страны была изменена, и желавшие остаться на родине уэльсцы беспрепятственно жили среди своих завоевателей. Вероятно, с целью того же урегулирования отношений между двумя народами Оффа составил свод законов, носящих его имя. В Мерсии, как и в Нортумбрии, нападения на бриттов выявляли утрату мечты о верховенстве над самими англами. В царствование Оффы Мерсия была изолирована, и даже анархия, которая началась в Нортумбрии после смерти Эдберта, не соблазнила его перейти Гембер; не вывели его из бездействия в этом отношении и представлявшиеся случаи двинуться за Темзу. Вероятно, в годы, следовавшие за битвой при Берфорде, вестсаксы овладели ослабевшим государством Дивнент, сохранившим свое прежнее имя — Девон, и отодвинули границы на запад, к Тамару, но и этот успех был заторможен в 786 году новым взрывом анархии.
Борьба между соперниками, оспаривавшими друг у друга трон, закончилась поражением Эгберта, наследника престола по линии Сивлина, и бегством его ко двору Оффы. Король Мерсии воспользовался, однако, его присутствием не столько для увеличения могущества своего государства, сколько для заключения еще более прочного мира, а выдав вскоре свою дочь за западносаксонского короля Беортрика, Оффа и совсем выпроводил своего гостя из Мерсии. Истинной целью Оффы во всем этом деле было прочное объединение всей Средней Британии и Кента как ее «окна в Европу» под своей властью, и он ознаменовал свое стремление к полной церковной и политической независимости Мерсии учреждением в 787 году архиепископства Личфильдского, которое должно было служить соперником Кентерберийской кафедры на юге, Йоркской — на севере.
Планам Оффы препятствовали не столько боязнь силы вестсаксов, сколько становившееся опасным морское могущество франков обстоятельство, на которое король Мерсии не мог не обратить самого серьезного внимания. До того времени интересы английского народа сосредоточивались в пределах завоеванной им Британии, но с этого момента политический горизонт внезапно расширился, и судьбы Англии оказались теснейшим образом связанными с судьбами всего западного христианства. Через посредство английских миссионеров Британия завязала первые отношения с франкским двором. Нортумбриец Уиллиброд и знаменитый вестсакс Бонифаций, или Уинфрид, последовали за первыми проповедниками, работавшими среди германских язычников, и особенно между теми, которые теперь стали подданными франков. Связи франкского короля Пипина с английскими проповедниками привели его к постоянным отношениям с Англией; нортумбрийский ученый Алкуин был истинным центром литературного оживления при его дворе. Сын Пипина Карл, впоследствии известный под именем Карла Великого, проявлял тот же интерес к английским делам, и его дружба с Алкуином способствовала установлению тесных отношений со всей Северной Британией. У него же нашел убежище и претендент на западносаксонский престол Эгберт, проживавший там с 787 года, т.е. с того времени, как Оффа породнился с Беортриком.
Впрочем, и с самим Оффой отношения Карла были самые дружеские, но мерсийский король тем не менее заботливо избегал всяких случаев, которые могли быть истолкованы как признание им верховенства франков. Для таких опасений он имел серьезные основания: богатые дары, которые рассылал Карл английским и ирландским монастырям, указывали на стремление франкского владыки подчинить своему влиянию эти страны; сверх того, он поддерживал связи с Нортумбрией, Кентом, со всей английской церковью, оказывал гостеприимство при своем дворе изгнанникам из всех английских государств: королям Нортумбрии, танам Восточной Англии, беглецам из самой Мерсии; в его свите, вероятно, находился Эгберт, когда ликующий народ вместе с духовенством провозгласил Карла римским императором. Когда же в 802 году смерть Беортрика открыла изгнанникам дорогу к возвращению в Уэссекс, то еще более тесные отношения с ними Карла прямо указали на его мечту — возвратить империи потерянную вместе с другими западными провинциями Британию, возвратить теперь, когда Рим восстал из пепла в еще большем блеске, нежели когда бы то ни было раньше; при таких условиях революции внутри Англии как нельзя более содействовали его планам.
Годы, протекшие со времени бегства Эгберта, произвели мало перемен в положении Британии. За захватом Восточной Англии в 796 году последовала смерть Оффы, а при его преемнике Сенвульфе Мерсийское архиепископство было упразднено, а вместе с тем прекратились и всякие дальнейшие попытки установления верховенства Центрального королевства. Сенвульф не предпринял ничего и тогда, когда на западносаксонский престол взошел Эгберт; он даже поддерживал мир с новым правителем Уэссекса в течение всего своего царствования. Между тем, Эгберт прежде всего направил свое оружие на уэльсцев, вторгся в самое сердце Корнуолла, и после восьми лет упорной борьбы последние остатки самостоятельности британских народов на Западе были окончательно уничтожены. Как целый народ, бритты перестали существовать после победы при Дергеме и Честере; из отдельных британских народов, боровшихся с тремя английскими королевствами, бритты Кумбрии и Стратклайда еще раньше вынуждены были подчиниться Нортумбрии, бритты Уэльса уплатой дани Оффе признали верховенство Мерсии, а теперь и последний еще непокоренный народ, западные уэльсцы, склонились перед господством Уэссекса.
В то время как Уэссекс возвращал себе давно утраченное внешнее могущество, его соперник в Средней Британии все более погружался в самую беспомощную анархию. Непрерывные внутренние междоусобицы в Мерсии, начавшиеся после смерти Сенвульфа в 821 году, так ослабили это королевство, что, когда преемник Сенвульфа, Беорнвульф, возобновил борьбу с Уэссексом и проник в Уильтшир, то потерпел полное поражение в кровавой битве при Эллендене. Вся Англия к югу от Темзы подчинилась Эгберту Уэссекскому, а Восточная Англия подняла отчаянное восстание, оказавшееся роковым для ее мерсийских правителей. Двое королей Мерсии пали в Восточной Англии, и не успел вступить на престол третий, король Уиглаф, как его истощенное королевство опять было вынуждено вступить в борьбу с вестсаксами. Тут Эгберт понял, что пробил час решительного нападения. В 828 году его армия двинулась на север, не встречая сопротивления; Уиглаф беспомощно отступал перед неприятелем, и вскоре Мерсия признала над собой верховенство Уэссекса. Из Мерсии Эгберт двинулся в Нортумбрию, которую полувековая анархия ослабила до такой степени, что морские разбойники безбоязненно разоряли ее берега; дело кончилось тем, что нортумбрийская знать вышла навстречу Эгберту и признала его государем. Замыслы, не удавшиеся Освью и Этельбальду, были наконец осуществлены, так как все английские народы в Британии оказались в первый раз связанными общим управлением. Как ни была еще продолжительна и жестока борьба за независимость в Мерсии и на севере, но с того момента, как Нортумбрия подчинилась Уэссексу, на деле, хоть еще и без названия, сформировалась Англия.
Глава V УЭССЕКС И ДАТЧАНЕ (802—880 гг.)
Едва началось национальное объединение, как кратковременное величие Уэссекса было низвергнуто датчанами. В продолжение всей той эпохи, когда в Британии происходили не только борьба, но и установление гражданского порядка, жители Скандинавии и островов Балтийского моря оставались совершенно чуждыми христианскому миру и боролись за существование лишь с суровым климатом, бесплодной почвой да морскими бурями. Набеги и морские грабежи пополняли их скудные средства для жизни, и вот, в конце VIII века, эти разбойники выступили за пределы тесной области побережья северных вод.
Не успел Эгберт подчинить своей власти всю Британию, как в Англии появились викинги, или «люди заливов», как называли тогда приезжих авантюристов, и двинулись на юг, к Темзе. На первый взгляд, можно было подумать, что колесо истории повернулось на триста лет назад. Норвежские фиорды и фризские отмели опять начали выбрасывать на берега Англии целые флоты пиратов, точь-в-точь, как это было во дни Генгеста и Кердика. Повторился тот же панический ужас при виде черных лодок пришельцев, проникавших в глубь страны по рекам или пристававших к островам, те же страшные сцены, сожжение жилищ, избиение людей, захват женщин для рабства или позора, метание детей на копья или продажа их на рынках, — словом, все то же, что происходило в Британии при нашествии англов. Опять христианских священников при самых алтарях убивали поклонники Одина, опять литература, искусство, религия, гражданственность исчезли под ударами северян, как исчезли они за три века перед тем.
Но когда гроза миновала, страна, люди, правление появились опять в прежнем виде, Англия осталась Англией. Победители растворялись среди массы побежденных, и культ Одина уступил без борьбы культу Христа. Тайна различия между двумя нашествиями на Британию состояла в том, что на этот раз борьба велась между совершенно различными расами, т.е. не было борьбы между бриттами и германцами или между англами и уэльсцами. Образ жизни пришельцев был образом жизни предков англичан: их обычаи, религия, социальный строй еще не совсем исчезли из самой Англии. Скандинавы были родичами англов, перенесшими снова в Британию некогда общий для тех и других варварский быт. Нигде в Европе борьба не была такой свирепой, потому что нигде сражавшиеся не были столь родственными по крови и языку, но именно по этой же причине нигде слияние двух народов не было столь мирным и полным.
Британия должна была выдерживать нападение с двух сторон: северяне Норвегии двинулись на запад, к Шетландским и Оркнейским островам, и оттуда направились к Ирландии, в то время как родичи англов, жившие на месте их старой отчизны, двигались около берегов Фрисландии и Галлии. Замкнутая таким образом между двумя линиями неприятелей, Британия составила центр их враждебных операций, и к концу царствования Эгберта их нападения уже направлялись на окраины вестсаксонского государства. Разорив Восточную Англию и Кент, пришельцы поплыли по Темзе с целью ограбить Лондон; в это же время их единомышленники призывали к восстанию весь Корнуолл — прибавилась новая опасность. Тем не менее Эгберт разбил объединенные силы неприятелей при Генгестдене, что затянуло неравную борьбу еще на несколько лет.
Король Этельвульф, который наследовал Эгберту в 839 году, ревностно защищал свое государство и в двух сражениях, при Шармоуте и Аклее, из которых в первом потерпел поражение, а во втором одержал победу, лично командовал своими войсками против морских разбойников; он усмирил также северных уэльсцев, которые, пользуясь случаем, подняли против него оружие. Невзирая на то, что скандинавы и уэльсцы терпели поражение за поражением, опасность все-таки росла из года в год. На защиту христианской религии, оскверняемой язычниками, поднялось и духовенство. Суитен, епископ Уинчестерский, стал министром Этельвульфа, а Ильстан, епископ Шерборнский, находился в рядах воинов креста и участвовал в изгнании неприятеля из устья Перрета. Новое тяжелое поражение скандинавов повлекло за собой небольшую передышку. В 858 году Этельвульф умер и на восемь лет норманны оставили страну в покое.
Однако эти набеги были лишь прелюдией к страшной буре. До сих пор речь шла лишь о разбойничьих вторжениях неприятеля, но вскоре встал вопрос о полном завоевании острова. Эту задачу взял на себя другой северный народ — датчане. При Этельреде, третьем сыне Этельвульфа, вступившем на престол после кратковременного царствования его двух братьев, новое нашествие наводнило Британию. Характер нападения на этот раз был совсем иной: действовали не маленькими отрядами, имевшими целью грабеж и насилие, а целой регулярной армией, задачей которой были завоевание острова и постоянное на нем поселение. В 866 году датчане высадились в Восточной Англии и ближайшей же весной направились через Гембер на Йорк. Обычные гражданские междоусобицы происходили в это время в Нортумбрии, где двое претендентов оспаривали друг у друга королевскую корону.
При виде неминуемой опасности соперники объединились, выступили против общего врага и оба пали мертвыми под стенами своей столицы. Нортумбрия подчинилась датчанам, и сама Мерсия спаслась только благодаря помощи короля Этельреда. Ноттингемский мир, которым Этельред в 868 году спас от гибели Мерсию, повлек за собой поход неприятеля к богатым аббатствам в Фен, и вслед за тем запылали Питерсборо, Кроуленд и Или; жившие в них монахи бежали или были перебиты на развалинах монастырей. Отсюда датчане бросились неожиданно на Восточную Англию, король которой Эдмунд, взятый ими в плен и приведенный к их предводителю, был привязан к дереву и расстрелян стрелами. Его мученическая кончина от рук язычников сделала его святым Себастьяном английской легенды. В позднейшие дни его фигура изображалась на разноцветных стеклах храмов на восточном берегу и над его могилой возвысилось величественное аббатство Сент-Эдмундсбери. Это был и последний восточноанглийский вице-король; его королевство было не только покорено, но через десять лет и разделено между датскими воинами, предводитель которых, Гутрум, надел на себя корону. Как велик был наведенный датчанами страх, видно из примера Мерсии, которая, не будучи еще покоренной, тем не менее преклонилась перед завоевателями и уплатой дани признала их в 870 году своими повелителями.
В течение четырех лет все достижения Эгберта были уничтожены, Англия к северу от Темзы —насильственно отторгнута от власти Уэссекса. Такое быстрое завоевание Нортумбрии, Мерсии и Восточной Англии датчанами было возможно только благодаря характеру отношений побежденных королевств к Уэссексу. Для них покорение их датчанами было не более чем простой сменой повелителей, и были даже люди, предпочитавшие владычество датчан владычеству вест-саксов. Это было новым доказательством чрезвычайной трудности слияния королевств в единый народ. Теперь для Уэссекса настало время борьбы уже не за господство, а лишь за существование.
Страна казалась парализованной ужасом. За исключением своего похода к Ноттингему, Этельред ничего не сделал для спасения подвластных ему королевств. Но когда датчане двинулись вверх по Темзе, к Ридингу, то вест-саксы начали отчаянно сражаться за свою родину. Неприятель проник в самое сердце Уэссекса и достиг высот над долиной Белого Коня (Vale of White Horse). Отчаянная битва заставила вестсаксов отступить от Эшдоуна и занять неприступную позицию на узкой полосе земли между Кеннетом и Темзой; к тому же они усилились прибывшим еще подкреплением. Во время борьбы Этельред умер и оставил своего младшего брата Альфреда вести тяжелую войну с неприятелем. Прежде чем молодой король успел собраться с силами, враги расположились уже в Уилтоне, и последовавшие вслед за тем несколько поражений заставили Альфреда заплатить дань за удаление пиратов и отдых на несколько лет для своего государства.
От проницательности Альфреда не укрылось то, что датчане согласились уйти только затем, чтобы собраться с силами для нового нападения; едва прошло три года, как они снова напали на Мерсию, и ее вице-король бежал за море и уступил трон даннику пришельцев. Из Рептона половина их армии двинулась на север к Тайну, колонизируя и возделывая страну, в которой уже почти нечего было грабить, в то время как Гутрум повел остальных в Восточную Англию, чтобы там приготовиться к новому нападению на Уэссекс в следующем году. Серьезность предстоявшей борьбы заставила датчан напрячь все свои силы и, лишь пополнив свои силы прибывшими отовсюду подкреплениями, Гутрум двинулся на юг. В 876 году его флот появился при Уэргеме, и когда Альфред изгнал его оттуда, датчане ринулись на Эксетер и соединились с уэльсцами.
Всю зиму готовился Альфред к новой борьбе. В начале весны его армия окружила город, а наемный флот курсировал вдоль берегов для предупреждения неприятельской высадки. Видя своих товарищей в опасности, часть датских сил, остававшихся в Уэргеме, села на суда с целью оказать им помощь, но буря разбила их о суонеджские скалы, и тогда осажденных в Экзетере голод вынудил к сдаче и клятвенному обещанию оставить Уэссекс. На деле они удалились в Глостер, но едва Альфред распустил свои войска, как окрепшие с прибытием новых жаждавших грабежа шаек датчане опять появились у Чиппингема и стали производить в стране страшные опустошения.
Это было такой неожиданностью, что в течение месяца или двух охватившая Уэссекс паника парализовала всякую возможность сопротивления. Альфред с небольшим количеством воинов вынужден был удалиться в укрепление, наскоро воздвигнутое на острове Ательней, среди Перретских болот, откуда он мог тщательно следить за передвижением врагов.
С наступлением весны он призвал сомерсетских танов под свои знамена и с набираемыми во время самого похода войсками двинулся через Уилтшир на датчан. Он встретился с ними при Эддингтоне, нанес им жестокое поражение и после двухнедельной осады вынудил их сдаться. Гутрум был крещен в христианскую веру, после чего в Сомерсете был заключен торжественный Уэдморский мир. Однако по условиям этого мира большая часть Британии переходила во владение датчан. Вся Нортумбрия, а также Восточная и половина Центральной Англии достались пришельцам. В этой «Дейнло» (Dane law), как стали называть принадлежащую датчанам страну, завоеватели поселились среди побежденных как господа и собственники земли — плотнее на север и восток и реже в центральной части, но повсюду они ревниво сохраняли свое прежнее стремление к изоляции и собирались отдельными «heres», или армиями, вокруг городов, соединенных в непрочные конфедерации. Уэдморский мир спас, в сущности, только Уэссекс, но, спасая Уэссекс, он спасал Англию. Паника начала проходить, прекратились и опустошительные набеги с севера. Всего-навсего одна схватка нарушила пятнадцатилетний мир.
Уэдморский мир направил мысли Альфреда на еще более благородные заботы, нежели освобождение Уэссекса от датчан. «Всю мою жизнь, — писал король в конце своего жизненного пути, — я старался прожить достойным человека образом», и когда смерть стояла уже у его одра, то он говорил о своем желании «оставить будущим поколениям память о себе ничем другим, как добрыми делами». Его желание более чем исполнилось, и память о жизни и деяниях благороднейшего из английских правителей дошла до нас живой и ясной сквозь всю мглу преувеличений и легенд. Если сфера политической или духовной деятельности Альфреда может показаться слишком узкой, чтобы можно было сравнивать его с немногими людьми, признанными великими всем миром, то он, конечно, равнялся им по нравственному величию характера. Он жил исключительно для блага своего народа. Это был первый пример христианского государя, руководствовавшегося в своих поступках не побуждениями личного честолюбия, а мыслью о благе тех, во главе кого он стоял. В его устах «жить достойным человека образом» — значило посвятить жизнь делам справедливости, воздержания и самопожертвования.
Уэдморский мир сразу определил характер человека. Тридцатилетний воин и победитель, имевший перед глазами ослабленную Англию, оставил все воинственные мечты и думал не о завоеваниях, а о «добрых делах», о мире, хорошем управлении, о воспитании народа. С Англией за Уотлинг-стрит, римской дорогой, соединявшей Лондон с Честером, — другими словами, с Нортумбрией, Восточной Англией и половиной Мерсии, Альфреду было делать нечего. Всем, что он удержал за собой, был его собственный Уэссекс с верхней частью долины Темзы, всей долиной Северна и богатыми равнинами Мерсей и Ди. Над этими последними округами, получившими имя Мерсии, тогда как остальная часть Мерсийского государства была переименована в Пять датских городов (Five Boroughs of the Danes), Альфред поставил эльдорменом Этельреда, мужа своей дочери Этельфлид, правителя, который деятельно и мужественно оберегал Уэссекс от неприятельских вторжений с севера.
Дабы обезопасить себя от нападений с моря, Альфред улучшил организацию военного дела и создал флот. Вся страна была разделена на военные округа, в которых каждые пять «гайд» посылали на службу одного вооруженного человека, снабжая его вместе с тем всем необходимым за свой счет.
Обязанность каждого свободного человека служить в армии осталась неизменной, но армия делилась на две части, из которых по очереди одна находилась на действительной службе, а другая оберегала свои города и местечки. Властвовать над морем было делом потруднее, чем господствовать над сушей, и Альфред не организовал, а именно создал флот. Он постепенно увеличивал свое морское могущество, и в царствование его сына флот из ста английских кораблей сделал Уэссекс несомненным владыкой Ла-Манша.
Обеспечив таким образом защиту королевства, Альфред посвятил себя заботам о государственном управлении. Годы борьбы ослабили в самом Уэссексе все отрасли управления и суды, и нужно было заботиться о подъеме и материальной, и духовной культуры. Система Альфреда была проста: в политике, как и в военном деле, как впоследствии и в литературной деятельности, он брал то, что было ближе, и делал его как можно лучше. Главной задачей реорганизации суда он поставил в подчинение судам сотен и графств и знатного, и простолюдина, «которые постоянно спорили друг с другом в народных собраниях, так что едва ли кто-нибудь из них признавал справедливым приговор, вынесенный эльдорменом и ривами».
«Все приговоры своей земли он подвергал строгому рассмотрению — правильны они или нет, и если находил в них неправильность, то призывал к себе судей». «День и ночь, — писал его биограф, — он трудился над исправлением несправедливых приговоров, ибо в то время в целом королевстве бедняк мог найти для себя очень мало защитников, кроме короля». Альфред не задавался целью создать совершенно новое законодательство. «Все, что я встречаю, — говорил он, — в законах Этельберта, первого короля, принявшего крещение, или Ины, моего родственника, или Оффы, короля Мерсии, — все это я рассматриваю и, если нахожу справедливым, то собираю, если нет —отбрасываю». Но какой ни простой кажется эта работа, все же она имела огромное значение, ибо именно с ней явился кодекс общеанглийских национальных законов. Время существования отдельных законов для различных народностей Англии прошло, и кодексы Уэссекса, Мерсии и Кента сменились кодексом Англии.
Рис. Альфред Великий.
Могущество, которого достигло государство Альфреда за шесть лет мира, обнаружилось тотчас же, как только появившиеся из Галлии новые шайки пиратов попытались пробраться по Темзе к Рочестеру, и когда датчане Гутрума, вопреки Уэдморскому миру, протянули руку помощи своим землякам. Война на этот раз была непродолжительна, так как в 886 году Альфред одержал над датчанами блестящую победу и заключил с ними новый мир, по которому границы Уэссекса продвинулись внутрь государства Гутрума и, кроме того, датчане вынуждены были возвратить Альфреду Лондон и половину прежнего Восточносаксонского королевства. С этого момента датчане из положения наступающих перешли к положению обороняющихся, и эту перемену ясно почувствовали и сами англичане. Было заложено основание новой национальной монархии. «Взоры всех англичан, — гласит летопись того времени, — обратились к Альфреду, за исключением тех, которые находились под игом датчан».
И действительно, едва новый мир позволил опять свободно перевести дыхание, как Альфред обратился к своим обычным делам государственного устроения. Страсть к приключениям, делавшая его до конца жизни ловким охотником, и дерзкая отвага его молодых лет направились теперь на формы деятельности, которые позволяли ему среди государственных забот находить время для выполнения ежедневных религиозных обрядов, изучения и перевода книг, бесед с иностранцами, для заучивания наизусть целых поэм, планировки построек и обучения золотых дел мастеров, и даже сокольничих и псарей. Его мощный ум не ограничивался пределами острова. Он с напряженным вниманием выслушивал отчет норвежца Отера, посланного им к мысу Нордкап для исследования Белого моря, и Вульфстена, объехавшего берега Эстонии; он направлял послов с подарками в церкви Индии и Иерусалима, и каждый год его посольство отвозило в Рим «лепту святого Петра».
По характеру Альфред был человеком деловым, трудолюбивым, методичным. Он всегда носил с собой записную книжку, в которую заносил все, что поражало его: то отрывок из фамильной генеалогии, то молитву или рассказы, подобные рассказу о епископе Эдгельме, певшем священные песни на мосту. Каждый час королевского времени был посвящен особым заботам; точно так же были установлены им и расходы, и весь строй жизни при дворе. Но такая пунктуальность не мешала королю всегда оставаться простым и любезным человеком. Существует немало более или менее легендарных рассказов об Альфреде, которые тем не менее вполне обрисовывают его характер. В течение целых месяцев стоянки в Ательней, в то время как страна была наводнена датчанами, говорят, он однажды вошел в крестьянскую хижину, в которой неузнавшая его хозяйка дома обратилась к нему с просьбой присмотреть за пирогами в печи. Молодой король согласился, но, погрузившись в печальные размышления, забыл о своих обязанностях у печи, и пироги сгорели; возвратившаяся хозяйка разбранила Альфреда, выслушавшего ее брань с забавной покорностью. Предание говорит, что он очень любил рассказывать различные эпизоды из своей жизни и весьма увлекался пением. Невзирая на свои труды, он находил время заучивать наизусть древние песни и приказывал изучать их в дворцовой школе. Он основательно изучал мифологические сказания язычников, делал их переводы и пояснения к ним, а в часы грусти находил большое удовольствие в музыкальности псалмов.
Но не в войнах и не в законодательстве главное значение Альфреда, а в том толчке, который он дал развитию нашей литературы. Однако и тут он преследовал скорее практические цели: он просто стремился к воспитанию своего народа. Литература, как и вообще цивилизация, почти исчезли в то время в Великобритании. Не лучше обстояло дело и в самом Уэссексе. «Когда я начал царствовать, — говорил Альфред, — не было ни одного священника к югу от Темзы, который умел бы перевести на английский язык свой служебник». Нашествие датчан ниспровергло не только материальную культуру; в Нортумбрии датский меч пощадил слишком немногих, знакомых со школами Эгберта или Беды. Желая бороться с таким невежеством, Альфред повелел, чтобы каждый свободнорожденный и владеющий средствами молодой человек «не смел расставаться с книгой до тех пор, пока он не будет в состоянии понимать английское письмо». Он сам наблюдал за преподаванием в школе, которую основал для детей придворных. Вокруг себя он не находил никого, кто был бы в состоянии помогать ему в деле воспитания народа, кроме нескольких прелатов и священников, оставшихся в той части Мерсии, которая спаслась от пиратов, да одного уэльского епископа Ассера. «Прежде, — горько сожалел король, — люди приходили сюда из чужих стран учиться, а теперь мы сами можем поучаться только от других». Он и искал наставников среди западных и восточных франков. Один ученый по имени Гримбальд приехал из Сент-Омера и принял должность настоятеля в Уинчестерском аббатстве, а некий Джон — Старый сакс был призван, кажется, из Вестфальского аббатства Корвей с целью управлять монастырем, воздвигнутым Альфредом в Ательнейских болотах в благодарность за избавление от нашествия датчан.
Дело образования велось, однако, не столько учителями, сколько самим королем. Альфред решил передавать народу все знания, доступные тогда только духовенству, и притом передавать их не иначе как на родном для народа языке. Он хватался за все книги, которые попадались ему на глаза; это были популярные руководства того времени — компиляция Орозия, тогда единственный доступный учебник всеобщей истории, история его собственного народа, созданная Бедой, «Утешение» Боэция, «Пастырство» папы Римского Григория. Он сам перевел эти книги на английский язык, и не только перевел, но и издал их для своего народа. Некоторые места он пропускал, другие, наоборот, расширял. Книгу Орозия он дополнил очерком о новых географических открытиях на севере, а выпискам из трудов Беды придал западносаксонскую форму.
В одной книге он излагал свою теорию управления, высказывал желание увеличить население, говорил о национальном благосостоянии, обусловленном надлежащим равновесием численности священников, воинов и крестьян. Упоминание о Нероне вызывало у него замечания о злоупотреблениях власти. Холодное провидение Боэция переходило у него в восторженное признание Божьей благости. В сочинениях Альфреда мы видим не короля, а просто великодушного человека, говорящего с людьми как равный с равными. «Не порицайте меня, — просил он с чарующей простотой, — вы, знающие латинский язык лучше меня; всякий должен говорить и делать, как умеет».
Но как ни просты были цели Альфреда, именно он создал английскую литературу. До него Англия обладала только несколькими поэмами сочинения Кедмона и его последователей, несколькими балладами да военными песнями, прозаической же литературы не существовало. Масса книг, которые теперь заполняют библиотеки, берет свое начало в переводах Альфреда, и в особенности в появлении хроники его царствования. Весьма вероятно, что перевод королем «Истории» Беды был толчком к составлению компиляции, известной под именем английской или англосаксонской летописи, переработанной в ее настоящую форму во время его царствования. Сухой перечень уэссекских королей и уинчестерских епископов, сохранившийся от древности, превращается, путем вставок из «Истории» Беды Достопочтенного, в национальную историю, а когда рассказ доходит до царствования Альфреда, хроника внезапно становится гораздо более подробной, полной жизни и оригинальности, что указывает на приобретение английским языком новой силы. Как ни различна историческая ценность ее рассказов о разных эпохах, все же она является первой подлинной историей тевтонского народа, и в то же время — древнейшим и почтеннейшим памятником тевтонской прозы. Читатель нашей истории, может быть, извинит, что мы слишком долго задержали его внимание на личности Альфреда, если вспомнит, что с этого короля и начинается, собственно, английская история.
Глава VI ВЕСТ-САКСОНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО (893—1013 гг.)
Предпринятое Альфредом дело государственного устройства Уэссекса было прервано еще раз вторжением в Англию в 893 году датских орд под предводительством Гастинга. После целого года бесплодных усилий захватить позицию, с которой Альфред прикрывал Уэссекс, датчане покинули свои укрепления в Андредсуильде и перешли через Темзу, но одновременное восстание в Дейнло раскрыло секрет этого движения. В сопровождении лондонцев сын Альфреда Эдуард и мерсийский эльдормен Этельред напали на датский лагерь в Эссексе, пустились в погоню за двигавшимся вдоль Темзы отрядом, призывавшим уэльсцев к новому восстанию, настигли его у Северна, нанесли ему сильное поражение и заставили вернуться в Эссекс.
В то же время сам Альфред защищал Эксетер от пиратского флота и их уэльских союзников, а когда Гастинг повторил поход на запад и занял Честер, то Этельред выгнал его оттуда и вынудил вернуться в лагерь на Ли. Сюда поспешил на помощь к Этельреду и Альфред, после чего захватом датских судов закончилась эта война. Датчане бежали из Уэльса в страну франков, а новый английский флот изгнал разбойников из Ла-Манша.
Последние годы жизни Альфреда занимала мысль о защите государства путем учреждения союза народов, связанных между собой общностью интересов в смысле защиты от разбойничьих вторжений, но едва прошло четыре года после поражения Гастинга, как знаменитого короля не стало, и королевство перешло к его сыну Эдуарду. Мужественный и деятельный правитель, Эдуард в политике всецело шел по стопам своего отца. Восстание датчан на северной границе в 910 году и нападение пиратского флота на южные берега государства заставили Эдуарда взяться за оружие. Вместе со своей сестрой Этельфлид, оставшейся после смерти эльдормена Этельреда единственной правительницей Мерсии, Эдуард начал систематическое подчинение Дейнло.
В то время как он сам обуздывал Восточную Англию захватом Южного Эссекса и возведением крепостей Хертфорда и Уитгэма, слава Мерсии была в надежных руках ее «леди». Этельфлид обратила свою деятельность на завоевание «Пяти городов» — датской конфедерации, заменившей восточную половину прежней Мерсии, где Дерби представлял собой прежнюю Мерсию по течению Верхнего Трента, Линкольн — Линдисуоров, Лестер — Среднюю Англию, Стамфорд — провинцию Гирвас, а Ноттингем, вероятно, — провинцию соутумбрийцев. Каждый из «Пяти городов», по-видимому, управлялся отдельным графом, имевшим свой особый отряд («host»), в то время как двенадцать судей («lawmen») вершили правосудие по датским обычаям; для всей же конфедерации имелся общий высший суд. При нападении на эту сильную конфедерацию Этельфлид заменила прежнюю систему налогов и битв системой осад и возведения крепостей. Двигаясь вдоль линии Трента, она укрепила Темуорт и Стаффорд при истоке этой реки, потом повернула на юг и защитила долину Эйвона фортом Варвик. Обезопасив течение больших рек и захватив в свои руки доступы к Уэльсу, она осадила Дерби. Набеги датчан Средней Англии не могли заставить «леди» Мерсии отказаться от добычи, после чего она немедленно вынудила к сдаче и Лестер.
Этельфлид умерла в разгаре своей славы, и Эдуард тотчас присоединил Мерсию к Уэссексу. Блеску подвигов сестры равнялись его собственные успехи, когда он напал с юга на округ «Пяти городов». К югу от Средней Англии и болот лежала местность, орошаемая реками Узой и Нен, — прежний округ так называемого южноанглийского племени, теперь сгруппировавшийся, также как и северные «Пять городов», вокруг городов Бедфорд, Хантингдон и Нортгемптон. С покорением этих городов подчинилась и Восточная Англия; датчане болот покорились при взятии Стамфорда, а соутумбрийцы — с падением Ноттингема. В это же время покорился и Линкольн, последний из еще незавоеванных «Пяти городов».
Из Средней Британии король стал осторожно продвигаться к Нортумбрии и взял уже Манчестер, как вдруг весь север сам, добровольно, пал к его ногам. Не только Нортумбрия, но и шотландцы и бритты Стратклайда «избрали его своим отцом и повелителем». Причины такого подчинения были, вероятно, те же, которые заставили северных уэльсцев подчиниться Альфреду, т.е. внутренние раздоры в среде самих подчинившихся, а при таких условиях самый факт подчинения, в сущности, значил очень немного. И действительно, едва миновал год после смерти Эдуарда, как весь север был опять в огне. Этельстан, «златокудрый» внук Альфреда, опоясанный королем еще в детстве драгоценным мечом в золотых ножнах, вновь закрепил за собой владение Нортумбрией, а затем обратился против лиги, заключенной северными уэльсцами и шотландцами, и принудил их платить ему ежегодную дань, служить в его армии и являться на его советы. Западные уэльсцы Корнуолла были подчинены такой же зависимости, а бритты изгнаны из Экзетера, в котором они до этого жили вместе с англичанами. Шотландский король за союз с ирландцами поплатился опустошением своего королевства.
Это восстание было только предвестником грозного союза Шотландии, Кемберленда, бриттов и датчан запада и востока. Победа короля над этой лигой при Брунанборе, воспетая в знаменитой песне, казалось, сокрушила надежды датчан, но тем не менее дело полного их покорения было еще впереди. После смерти Этельстана его преемник — Эдмунд — столкнулся с новым восстанием в Дейнло, поддержанным и Пятью городами; заключенный архиепископами Одо и Вульфстаном мир установил опять, как в дни Альфреда, Уотлинг-стрит границей между Уэссексом и поселениями датчан.
Эдмунд, однако, обладал всеми политическими и военными талантами, и вскоре Дейнло было вынуждено снова признать его власть; для противодействия датчанам он заключил союз с шотландцами и обеспечил себе помощь их короля, отдав ему в лен Кемберленд. Достигнув таких успехов, Эдмунд внезапно погиб. Однажды, когда он пировал в Пеклечерче, за королевский стол сел разбойник Леофа, ранее изгнанный королем, и замахнулся мечом на виночерпия, велевшего ему уйти. Эдмунд бросился на помощь к своему тану, схватил разбойника за волосы и повалил его на пол, но Леофа успел смертельно ранить короля прежде, чем подоспела помощь.
Полное устройство Уэссекса было совершено, в конце концов, не королем и не воином, а священником, ставшим после смерти Эдмунда во главе управления; это был Дунстан, открывший собой тот ряд духовных государственных деятелей, который включал в себя Ланфранка, Уолси и Лода. Прошедшие со времени Дунстана девять веков всякого рода перемен и революций лишь еще более оттеняют замечательную личность этого человека. Он родился в деревушке Гластонбери, около церкви Ины. Его отец, Горстан, был человеком богатым, состоявшим в родственных отношениях с тремя епископами и многими танами. В доме своего отца хорошенький мальчик с прекрасными, хотя и жидкими, волосами пристрастился «к суетным языческим песням, вздорным легендам и погребальным кантатам» — обстоятельство, послужившее позже поводом к обвинению его в колдовстве. Там он приобрел также любовь к музыке и привычку носить с собой арфу во время путешествий и посещений знакомых. Бродячие ученые Ирландии оставляли в монастыре в Гластонбери свои книги так же, как и в монастырях на Рейне и Дунае, и Дунстан со всей страстью натуры предался изучению духовной и светской литературы. Его ученость сделалась повсеместно столь известной, что слухи о ней дошли и до двора Этельстана, но появление там ученого было встречено негодованием среди придворных, хотя многие из них и доводились ему родственниками. Даже когда Дунстан снова был призван ко двору самим Эдмундом, придворные выгнали его из королевской свиты, сбили его, когда он проезжал через болото, с лошади и со всей дикостью того времени втоптали его ногами в грязь. Дунстан после этого заболел горячкой, а выздоровев, от стыда и отчаяния стал монахом. Впрочем, в Англии того времени монашество было не более, чем простым обетом безбрачия, и в набожности Дунстана не было ничего аскетичного. Натура у Дунстана была веселой, гибкой, артистичной, способной к сильным привязанностям и к возбуждению таких же чувств в других.
Живой, обладавший отличной памятью, прекрасный оратор, веселый и остроумный, артист и музыкант, он был в то же время и неутомимым работником, касалось ли то книг, построек или ремесел. Всю свою жизнь он пользовался любовью женщин и теперь стал духовным руководителем высокопоставленной дамы, которая посвящала свою жизнь делам благотворительности и беседам с пилигримами. «Он всюду следовал за ней и любил ее самым удивительным образом». Когда сфера его деятельности расширилась, мы видим его окруженным целой свитой учеников, занимающихся литературой, игрой на арфе и живописью. Однажды некая леди пригласила его к себе для совета относительно рисунка на платье, который она вышивала; когда он вместе с ее девушками наклонился над работой, то его повешенная на стене арфа стала сама собой издавать звуки, показавшиеся изумленным слушательницам радостной антифонией.
Связи его с этим школьным миром прервались со смертью его покровительницы, но зато в конце царствования Эдмунда Дунстан снова был призван ко двору. Проснувшаяся опять ненависть придворных к Дунстану чуть не заставила его удалиться снова, но он был спасен таким обстоятельством: однажды король был на охоте; олень, за которым он гнался, разбился о чеддарские скалы, и лошадь короля остановилась на самом краю пропасти; перед лицом неминуемой смерти Эдмунд раскаялся в своей несправедливости к Дунстану. Его вызвали тотчас же по возвращении короля. «Оседлай коня, — сказал ему король, — и следуй за мной»; тут весь кортеж направился через болота к дому Дунстана, где Эдмунд дал опальному «поцелуй мира» и сделал его настоятелем аббатства Глэстонбери.
С этого момента Дунстан мог оказывать некоторое влияние на общественные дела, но влияние это возросло до огромной степени, когда после смерти Эдмунда он стал руководящим советником вступившего на престол Эдреда, брата Эдмунда. Следы его руки чувствуются в торжественном манифесте о коронации короля Англии. Избрание Эдреда было первым национальным избранием, в котором участвовали и бритты, и датчане, и англичане; его коронация была делом общенациональным, так как в ее праздновании впервые участвовали примасы севера и юга, возлагая совместно корону на голову того, чьи владения теперь простирались от Форта до Ла-Манша. Вспыхнувшее два года спустя восстание на севере было подавлено, а при взрыве нового архиепископ Йоркский Вульфстан был заключен в тюрьму, и в 954 году, с полным подчинением Дейнло, дело дома Альфреда могло считаться законченным.
Каким бы ни было упорным сопротивление датчан, но в конце концов они должны были признать себя побежденными. Со времени абсолютного торжества Эдреда всякое сопротивление прекратилось; север полностью вошел в общеанглийскую государственную организацию, а нортумбрийское вице-королевство превратилось в графство, правителем которого был назначен Освульф. Новая сила королевской власти нашла выражение в пышных титулах, принятых Эдредом; он называл себя уже не королем англосаксов, а «цезарем всей Британии».
Со смертью Эдреда снова начались политические раздоры. Королем Эдвигом, еще мальчиком, руководила знатная дама Этельгифу, ссора которой с прежними советниками короля перешла в явное столкновение во время коронационных празднеств. Король забылся до такой степени, что ушел с праздника в комнату Этельгифу, и Дунстан по приказу уитанов вытащил его оттуда насильно и привел назад. Но не прошло после этого и года, как гнев мальчика короля проявился настолько, что Дунстан должен был бежать за море, а вместе с ним исчезла и вся его система. Торжество Этельгифу увенчалось браком короля с ее дочерью. Этот брак противоречил церковным канонам, и в 958 году архиепископ Одо торжественно разлучил супругов; восставшие в то же время мерсийцы и нортумбрийцы провозгласили своим королем брата Эдвига — Эдгара и снова призвали Дунстана, который и занял последовательно кафедры в Уорчестере и Лондоне.
Рис. Дунстан (архиепископ Кентерберийский).
Смерть Эдвига снова объединила государство, Уэссекс подчинился уже признанному севером королю, а Дунстан сделался архиепископом Кентерберийским и в продолжение целых шестнадцати лет был министром Эдгара, т.е. в сущности главным светским и духовным правителем государства. Никогда еще Англия не была так могущественна и не жила так спокойно и мирно, как в то время. Ее флот совершенно очистил берега от пиратов, ирландские датчане превратились из врагов в друзей, и, как гласит предание, восемь вассальных королей гребли веслами во время прогулки короля в лодке по Ди. Умиротворение севера доказало разумность того направления, какое Дунстан дал администрации королевства. По-видимому, с самого начала он следовал скорее национальной, чем западносаксонской политике. Впоследствии его обвиняли в том, что он предоставлял слишком много власти датчанам, слишком сильно любил иностранцев, но это-то и служит лучшим доказательством беспристрастия его администрации.
Он принимал датчан на государственную службу, продвигал их на высшие государственные и церковные должности и в обнародованном им своде законов оставил за ними все прежние права. Его «сильная рука» восстановила право и порядок, а забота о процветании торговли выразилась в законах, регулировавших монету, и в актах об общих для всего государства весах и мерах. Когда на Танете береговые разбойники ограбили купеческий корабль из Йорка, то остров подвергся опустошению. Торговля потекла широким потоком, и на улицах Лондона показались купцы из Нижней Лотарингии, прирейнских стран и Руана. Со времен Дунстана Лондон получил торговое значение, которое он сохраняет и в наши дни.
Но труды министра-примаса не ограничивались только заботами о материальном благосостоянии государства и улучшении его правления: не меньшее внимание обращал он и на народное образование, совершенно заглохшее со времен Альфреда; ни одной новой книги не было издано с тех пор, и само духовенство снова погрузилось в мирскую суету и невежество. Дунстан вернулся к этой задаче если не с широкими целями Альфреда, то, по крайней мере, в духе великого администратора. Реформа монашества, начавшаяся в аббатстве Клюни, пробудила рвение английского духовенства, и сам Эдгар выражал желание ввести ее в Англии. С его же помощью Этельвольд, епископ Уинчестерский, ввел в своей епархии новое монашество, а несколько лет спустя Освальд, епископ Уорчестера, ввел монахов в свой кафедральный город.
Предание приписывало Эдгару основание сорока новых монастырей, и впоследствии английское монашество считало его время началом своего постоянного существования. Но, невзирая на все усилия, монастыри прочно утвердились только в Уэссексе и Восточной Англии, совершенно не прививаясь в Нортумбрии и в большей части Мерсии. Сам Дунстан принимал в этом мало участия, но оно очень сильно чувствовалось в литературном оживлении, шедшем рука об руку с оживлением религиозным. Он сам, когда был аббатом, славился как учитель, а его великий сотрудник Этельвольд создал в Абингдоне школу, уступавшую лишь школе в Глэстонбери. Другой не менее великий сподвижник Дунстана, Освальд, положил основание исторической школе в Уорчестере. По приглашению примаса прибыл также из Флери самый знаменитый в то время ученый в Галлии —Аббон.
Потомки с любовью обращались к так называемому «Закону Эдгара», другими словами, к английской конституции в той ее форме, которую она получила в руках его министра. Ряд влияний сильно изменил древний строй, установившийся вслед за английским завоеванием. Рабство постепенно исчезало перед усилиями церкви, Феодор отказывал в христианском погребении «похитителям детей» и запрещал продажу детей их родителями с семилетнего возраста. Эгберт Йоркский наказывал лишением причастия за всякую продажу детей или родственников. Убийство раба господином или госпожой не считалось преступлением по уголовному кодексу, но составляло все-таки грех, за который налагалась церковная епитимья. Рабы освобождались от обязательной работы в воскресные и праздничные дни, и то здесь, то там прикреплялись к земле, вместе с которой только и могли продаваться; иногда раб приобретал участок земли, и ему позволяли заработать себе средства для выкупа.
Этельстан и на рабов распространил обычай взаимной ответственности за преступления —обычай, служивший основой порядка между свободными людьми. Церковь не довольствовалась этим постепенным возвышением рабов; Уилфрид подал пример эмансипации, освободив двести пятьдесят рабов в принадлежавшем ему имении в Селси. Случаи освобождения рабов по духовным завещаниям участились, когда духовенство начало учить, что такие деяния значат весьма много для спасения души. На соборе в Челси епископы обязались освобождать перед смертью в своих имениях всех рабов, попавших в рабство за преступления и по нужде. Обычно раб получал свободу перед алтарем или на церковной паперти и на поля Евангелия заносился акт о его освобождении. Иногда господин приводил раба к месту, где сходились четыре дороги, и приказывал ему идти куда угодно.
В наиболее торжественных случаях господин в собрании графства брал раба за руку, указывал ему на открытые дорогу и дверь и дарил ему копье и меч «фримена» (свободного человека). Работорговля была запрещена в английских портах, но этот запрет долго не действовал, и еще через сто лет после Дунстана многие английские дворяне, говорят, составляли себе состояние разведением рабов для продажи; лишь в царствование первого нормандского короля проповедь Вульфстана и влияние Ланфранка уничтожили работорговлю в ее последнем убежище — бристольском порту.
Однако ослабление рабства шло рука об руку с принижением массы народа. Политические и социальные перемены давно уже видоизменяли весь строй общества; прежняя общественная организация, основой которой был союз фрименов, заменялась новой, состоящей из «лордов» и зависимых от них «вилланов». Такие изменения, уничтожившие древнюю свободу, в значительной степени зависели от перемен в характере английской королевской власти. Когда мелкие английские королевства объединялись, то обширные владения короля все более удаляли его от народа и окружали его личность каким-то таинственным ореолом.
С каждым новым царствованием королевская власть восходила все выше. Бывший прежде равным королю епископ опустился до значения ольдермена, а сами ольдермены, некогда наследственные правители небольших государств, стали простыми делегатами короля, притом ограниченными властью королевских ривов, посылаемых в графства для сбора доходов и свершения королевского суда. Религия укрепляла чувство благоговения: особа короля стала еще более священной с того времени, как из «сына Одина» он превратился в «помазанника Божьего»; измена ему стала тягчайшим из преступлений. Старое дворянство склонилось перед новой придворной знатью. С древнейших времен германской истории каждый главарь или король имел дружину из воинов, добровольно поступавших на службу, клявшихся драться до смерти и мстить за его обиду как за свою. Когда Синевульф Уэссекский был предательски убит при Мертоне, то его дружинники тотчас кинулись туда так быстро, как могли, и, презирая предложенную им пощаду, пали, сражаясь над телом своего вождя.
Такая верность дружины награждалась пожалованием ей земель из королевского имущества, король становился lord или hlaford, «подателем благ», а дружинники — его «слугами» (servants) или «танами» (thegns). Личные услуги королю стали с течением времени не унизительными, а облагораживающими, и «тан-кравчий», «тан-конюший» и казначей стали главными государственными сановниками. Значение танов увеличивалось вместе с возвышением королевской власти; они заняли все почетные места, становились эльдорменами, ривами, епископами, судьями, и по мере того как земли переходили в руки королей, обогащались все более и их таны, получавшие от них земельные пожалования.
Принцип личной зависимости тана от короля развился в теорию необходимости всеобщей зависимости. Еще со времени Альфреда признавалось, что всякий должен иметь своего покровителя. Грабежи и опустошения эпохи датских войн побуждали свободного земледельца обращаться за покровительством к тану, уступая ему право на свой участок земли и получая его назад в виде «лена» с обязательством службы своему лорду. С течением времени «человек без господина» (lordless man) стал чем-то вроде бродяги или человека, находящегося вне закона, и прежний «фримен», знавший лишь Бога да закон, все более превращался в «виллана», обязанного службой своему господину, шедшего по его приказанию на войну, подсудного его суду, отбывающего барщину на его земле. Теряя свою прежнюю свободу, фримен лишался постепенно и участия в государственном управлении.
Жизнь древнеанглийского государства сосредоточивалась в народных собраниях. Здесь свободно избирались народные представители для отправления правосудия, здесь решались вопросы о войне и мире. Наряду с народным собранием существовал Уитенагемот — «собрание мудрых», дававший советы королю и через него предлагавший народу способы действия. Предварительное обсуждение дел происходило обычно в собраниях «благородных», но окончательное их решение принадлежало всем. Подача голосов заменялась бряцанием оружия или народным криком «да» или «нет».
Но когда с объединением мелких королевств население каждого из них стало частью более крупного государства, то понизилось и значение прежних собраний; политическое верховенство перешло ко двору далекого государя, и влияние народа на управление прекратилось. Вельможи, правда, продолжали собираться вокруг короля, и в то время как народные собрания утрачивали политическое значение, Уитенагемот все более превращался в королевский совет. Он принимал участие в отправлении высшего суда, определении налогов, издании законов, заключении договоров, контроле над военными действиями, распоряжении государственными землями, назначении высших сановников государства. Иногда он даже присваивал себе право избирать или низвергать короля. Но на деле знать все меньше пользовалась этими правами: чем обширнее становилось королевство, тем увеличивались расстояния. На практике в Уитенагемоте стали заседать лишь высшие государственные и церковные сановники да королевские таны, и таким образом прежняя английская демократия выродилась в самую ограниченную олигархию. Единственное воспоминание о народном характере этих собраний сохранилось лишь в сходках граждан, собиравшихся в Лондоне или Уинчестере и своими «да» или «нет» выражавших согласие или несогласие на избрание короля.
Ослабление класса фрименов, составлявших истинную силу Англии, было причиной опасности, уже грозившей вест-саксонскому государству. В 975 году тридцатидвухлетний Эдгар умер, оставив детей в отроческом возрасте, и между сановниками началась ожесточенная борьба из-за вопроса о престолонаследии. Эта борьба была прекращена лишь энергией примаса, короновавшего сына Эдгара — Эдуарда и одержавшего победу над своими врагами в двух «собраниях мудрых». Во время одного из таких собраний, как гласит монашеское предание, внезапно провалился пол совещательной комнаты и остались невредимыми только Дунстан и его друзья. Но даже подобное чудо не могло совсем прекратить вражду. Убийство Эдуарда сопровождалось торжеством противников Дунстана, которые и возвели, «к своей великой радости», на престол десятилетнего мальчика — Этельреда. Государственное управление перешло в руки высшего дворянства, возведшего на трон Этельреда, а лишенный всякой власти Дунстан отправился в Кентербери, где спустя девять лет и скончался.
О внутренней истории с 979 по 990 год, т.е. до времени, когда Этельред достиг совершеннолетия, говорить почти нечего. Новые опасности грозили извне, и север уже готовился к новому нападению на Англию. Скандинавские народы образовали в это время три королевства — Данию, Швецию и Норвегию — и задались целью завоевать Англию путем правильной войны. Моря опять покрылись ладьями северных разбойников, и у берегов Англии появились целые флоты пиратов. Первый натиск был совершен в 991 году норвежским отрядом, разбившим ополчение Восточной Англии в битве при Малдоне. В следующем году Этельред был вынужден откупиться от разбойников деньгами и разрешением селиться в пределах его государства; в то же время он укрепил свое положение договором с Нормандией, выросшей в это время в грозную морскую силу.
Предпринятая им вслед за тем попытка прогнать из Британии разбойников послужила лишь сигналом к невиданному по своим масштабам нашествию на Англию пиратов под предводительством Свейна и Олафа, кандидатов на датский и норвежский троны. Опасность грозила отовсюду, и слабость английского государства проявилась особенно в том, что оно допустило в ряды своей армии датских наемников, решившихся за деньги бороться против своих же братьев. Вскоре после того смерть Олафа возвела Свейна на престол не только Дании, но и Норвегии, а Этельред постарался еще более сблизиться с Нормандией, женившись на Эмме, сестре нормандского герцога. Внезапный страх привел Этельреда к подлой измене: по его приказанию вест-саксы умертвили в один день всех поселившихся среди них датчан, и в том числе вновь обращенную христианку, сестру Свейна Гунхильду, перед этим убив у нее на глазах ее мужа и детей.
После получения известия об этом Свейн поклялся отнять всю Англию у Этельреда. В продолжение четырех лет он ходил вдоль и поперек Южной и Восточной Англии, «зажигая по пути свои военные маяки», т.е. предавая все встречные города и села огню и мечу. Только получив богатый выкуп, он удалился из Англии, да и то только для того, чтобы приготовиться к новому, еще более страшному нашествию. Но и этот уход Свейна не дал несчастной стране желанного покоя, так как его место занял самый свирепый из датских вождей, и из Уэссекса война распространилась на Мерсию и Восточную Англию. Кентербери был взят и разграблен, а архиепископ Эльфги увезен в Гринвич и там, за отсутствием выкупа, жестоко умерщвлен. Датчане привели его на свое собрание и били его камнями и бычьими рогами до тех пор, пока один сострадательный датчанин не разрубил ему голову топором.
В 1013 году в Англии снова появился Свейн; его флот вошел в Гембер и призвал к восстанию Дейнло. Нортумбрия, Восточная Англия, «Пять городов» и все земли к северу от Уотлингстрит покорились Свейну при Гейнсборо. Этельред остался королем одного беспомощного Уэссекса. Серьезное сопротивление было немыслимым, и война была ужасна, но непродолжительна. Страна была повсюду разграблена, церкви разрушены, люди перебиты. Один лишь Лондон думал еще о сопротивлении. Оксфорд и Уинчестер добровольно открыли ворота врагу. Уэссекские таны подчинились норманнам при Бате. Наконец вынужден был подчиниться и Лондон, и Этельред бежал за море, в Нормандию. С бегством этого короля закончилась и продолжительная борьба Уэссекса за господство над Британией. Дело, не удавшееся Эдвину и Оффе, оказавшееся слишком трудным для мужества Эдуарда и политического искусства Дунстана — словом, дело окончательного объединения Англии в единую нацию теперь переходило в иные руки.
РАЗДЕЛ II АНГЛИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ЧУЖЕЗЕМНЫХ КОРОЛЕЙ (1013—1204 гг.)
Глава I ДАТСКИЕ КОРОЛИ
Британия становилась Англией в течение пятисот лет после высадки на ее берега Генгеста, и ее покорение окончилось поселением завоевателей, принятием ими христианства, появлением национальной литературы, несовершенной цивилизации и грубого политического порядка. Но в течение всего это го периода времени все попытки слить различные племена завоевателей в единую нацию терпели неудачи. Усилия Нортумбрии распространить свое управление на всю Англию разбились о сопротивление Мерсии и Уэссекса.
Наконец, самому Уэссексу, во главе которого стояли великие короли и государственные деятели, едва удалось установить в стране видимое единство, как стремление к местной независимости снова воскресло при первом призыве к ней датчан. Самое верховенство переходило от одного государства к другому: то север властвовал над югом, то наоборот, — юг над севером, но какие титулы ни носили бы короли, каким сильным ни казалось бы их управление, нортумбриец не становился от этого вест-саксом, а датчанин-англичанином. Общие национальные симпатии, правда, уже несколько объединяли страну, но настоящее национальное объединение было еще впереди.
В продолжение двух столетий, отделяющих бегство Этельреда из Англии в Нормандию, от бегства Иоанна из Нормандии в Англию, наша история представляет историю иноземного управления. За королями датскими следовали короли нормандские, за ними — короли анжуйские. При всех этих королях англичане были народом подчиненным, покоренным и управляемым иностранными повелителями, но именно в эти годы чужеземного владычества Англия и стала настоящей Англией. Провинциальные различия исчезли под давлением чужеземцев; это же давление загладило и вред, причиненный национальному строю переходом свободных земледельцев к ленной зависимости от лордов. Сами лорды превратились в «средний класс» с тех пор, как иностранные бароны выгнали их из принадлежавших им усадеб и сами заняли их.
Эта перемена сопровождалась постепенным превращением класса крепостных и полукрепостных крестьян в класс почти свободных людей. Создавшийся таким образом средний класс был подкреплен ростом торгового класса в городах. Иностранные короли содействовали развитию торговли и промышленности охраной правосудия и порядка, а вместе с тем возрастало и политическое значение купечества. Города Англии, в начале этого периода бывшие, большей частью, простыми селами, богатели настолько, что могли за деньги приобретать от короля разные права и вольности. Права самоуправления, свободы слова, общего совещания, перешедшие было от целого народа к одной знати, ожили теперь в хартиях и собраниях горожан.
С политическим развитием шло рука об руку и духовное возрождение. Занятие епископских и аббатских кафедр чужестранцами, говорившими на непонятном языке, отделило высшее духовенство от низшего и от народа; но религия стала живым делом, когда перешла к самому народу, а отшельники и монахи проложили в духовной жизни путь к самому сердцу целой нации. В то же время установление (благодаря завоеванию) более тесных отношений с материком сблизило Англию с художественным и литературным движением других стран. Прежняя умственная косность исчезла, и Англия украсилась великолепными зданиями и оживленными школами. Время для этих успехов принес долгий мир, которым Англия была обязана твердому управлению своих королей; их политическое искусство дало ей административный порядок, а их судебные реформы положили основы ее праву. Короче говоря, двухвековой суровой дисциплине чужестранных королей обязаны мы не только богатством и свободой, но и самой Англией.
Первым из наших иностранных властителей был датчанин. Страны севера, столько времени выбрасывавшие на берега Англии и Ирландии шайки пиратов, превратились теперь в относительно благоустроенные государства. Целью Свейна было создание великой скандинавской империи, главой которой должна была служить Англия. Выполнение этого плана было прервано на некоторое время смертью Свейна, но затем за него с еще большей энергией взялся его сын Кнут. Страх перед датчанами был еще так велик в Англии, что не успел Кнут появиться у ее берегов, как уже Уэссекс, Мерсия и Нортумбрия признали его своим повелителем и снова низложили Этельреда, возвратившегося было после смерти Свейна. В 1016 году смерть Этельреда возвела на престол его сына, Эдмунда Железнобокого; преданность лондонцев позволила ему несколько месяцев сопротивляться датчанам, но решительная победа при Ассендене и смерть соперника отдали во власть Кнуту все королевство.
Датчане стали завоевателями Англии, но они не были для нее чужестранцами в том смысле, в каком позже являлись чужестранцами нормандцы. Их язык мало отличался от английского, и они не принесли с собой ни новой системы землевладения, ни нового государственного порядка. Кнут правил не как завоеватель, а как настоящий король. Расположение и спокойствие Англии были ему необходимы для осуществления его широких планов на севере, где оружие англичан помогло ему впоследствии объединить Данию и Норвегию под своей властью. Распустив поэтому свое датское войско и сохранив только отборный отряд телохранителей, Кнут смело положился на поддержку населения, которому обеспечил правосудие и порядок. Целых двадцать лет он преследовал, по-видимому, одну цель — изгладить из памяти англичан чужеземное происхождение его управления и кровопролитие, которым оно началось.
Рис. Кнут Великий.
Переменам в политике соответствовали и перемены в самом Кнуте. Когда он впервые появился в Англии, то показал себя типичным скандинавом: вспыльчивым, мстительным, соединявшим в себе хитрость и кровожадность дикаря. Его первым правительственным действием был целый ряд убийств. Эдрик Мерсийский, с помощью которого он получил корону, был по его приказанию зарублен топором; затем был лишен жизни Эдвиг, брат Эдмунда Железнобокого, детей которого он преследовал даже в укрывшей их Венгрии. Но из дикаря Кнут превратился в мудрого и рассудительного короля. Будучи иностранцем, он тем не менее возвратился к «закону Эдгара», к древней Конституции страны, и не делал никакого различия между датчанами и англичанами. Учреждением четырех графств — Мерсийского, Нортумбрийского, Уэссекского и Восточно-английского — он признал провинциальную самостоятельность, но подчинил их сильнее прежнего. Он даже проникся патриотизмом, восстававшим против иноземцев.
Церковь была центром национального сопротивления датчанам, но Кнут старался всячески обрести ее расположение. Он почтил память убитого архиепископа Эльфги перенесением его тела в Кентербери и пытался изгладить воспоминание об опустошениях своего отца щедрыми дарами монастырям. Он защищал английских пилигримов от альпийских баронов-грабителей. Его любовь к монахам выразилась в песне, сложенной им, когда он слушал их пение в Или: «Весело пели монахи Или, когда король Кнут плыл к ним через обширные воды, окружавшие их аббатство. Гребите, лодочники, ближе к берегу, послушаем, что поют монахи».
Послание Кнута из Рима к его английским подданным указывает на величие его характера и благородное понятие о королевском достоинстве. «Я дал Богу обет вести во всем праведную жизнь, — писал король, — управлять справедливо и богоугодно моим государством и моими подданными и воздавать должное всем. Если до сих пор я сделал что-нибудь несправедливое по молодости или небрежности, то я готов вполне загладить это». Ни один королевский чиновник ни из страха перед королем, ни ради чьего-либо расположения не должен соглашаться на несправедливое дело, не должен делать зла ни богатому, ни бедному, «если только он ценит мою дружбу и свое собственное благо». Отдельно останавливался он на несправедливом вымогательстве: «Я не хочу, чтобы для меня собирали деньги неправедными путями». «Я посылаю это письмо раньше себя, — заключал Кнут, — чтобы весь народ моего государства мог порадоваться моим добрым делам, ибо, как вы сами знаете, никогда я не щадил и не буду щадить себя и своих трудов для того, что нужно и полезно моему народу».
Величайшим благодеянием для народа во времена правления Кнута был мир. С него началось то внутреннее спокойствие, которое отличает нашу дальнейшую историю. В течение двухсот лет, за исключением тяжелой эпохи нормандского завоевания и смут при Стефане, только Англия из всех европейских государств наслаждалась безмятежным спокойствием. Войны ее королей велись далеко от ее пределов — во Франции, Нормандии или, как в случае Кнута, в далеких странах Севера. Твердое правление обеспечивало порядок внутри страны. Отсутствие внутренних распрей, а также истощения Англии страшными вторжениями датчан, ее долговременное спокойствие обусловили возрастание богатства и благосостояния страны.
Тем не менее, большая часть Англии еще не была возделана. Большие пространства были покрыты лесом, кустарником и вереском. На западе и востоке тянулись обширные топи; болота длиной в сотню миль отделяли Восточную Англию от центральных ее областей, а такие местности, как Гластонбери или Ательней, были почти недоступны. На болотистой почве, окружавшей Беверлей, водились еще бобры, лондонские ремесленники охотились за вепрями и дикими быками в лесах Хемпстеда, в то время как волки бродили вокруг усадеб на севере. Но мир и, как следствие его, развитие промышленности преображали пустыню: олень и волк бежали от человека, топор земледельца расчищал леса, на вырубках вырастали деревни. Расширение торговли было заметно в богатых портовых городах восточного побережья. Торговали, вероятно, звериными шкурами, канатами и корабельным лесом, но в основном железом и сталью, которые долго поставляла в Британию Скандинавия.
Сами датчане и норвежцы открыли гораздо более широкое поле торговли, нежели северные моря; их барки ходили в Средиземное море, а по рекам России они доставляли товары в Константинополь и на Восток. «Что ты привез нам?» — спрашивают купца в старинном английском диалоге. «Я привез шкуры, шелк, драгоценные камни и золото, — отвечает он, — и, кроме того, разную одежду, вино, масло, слоновую кость, бронзу, медь, олово, серебро и многое другое». Купцы из Прирейнских земель и Нормандии заходили со своими кораблями в Темзу, на грубых набережных которой складывались самые разнообразные товары: перец и пряности с Дальнего Востока, корзины с перчатками и платьем, быть может, ломбардского производства, мешки с шерстью, железные изделия из Льежа, бочонки с вином и уксусом из Франции и, наряду со всем этим, продукты сельского хозяйства страны — сыры, масло, сало, яйца, свиньи и другая живность.
Главной целью Кнута было завоевать любовь своего народа, и все предания свидетельствуют о том, как успешны были его старания, но величие его дела обусловливалось исключительно его личными качествами, и с его смертью созданная им империя сразу распалась на части. Вступление на престол Англии его сына Гарольда на несколько лет отделило ее от Дании, но затем обе страны снова объединились под властью второго сына Кнута — Гарткнута. Беззакония преемников превратили в ненависть популярность, приобретенную было Кнутом. Долгий мир внушил народу отвращение к новому взрыву кровопролития и насилия. «Никогда не видала Англия такого кровавого дела со времен прихода датчан», — пел народ, когда воины Гарольда схватили возвратившегося в Англию Альфреда, брата Эдмунда Железнобокого, перебили каждого десятого человека из его сторонников, продали остальных в рабство, а самого Альфреда ослепили и оставили умирать в Или.
Рис. Гарткнут III, король датский и английский.
Еще более жестокий, чем его предшественник, Гарткнут вырыл из могилы тело брата и бросил его в болото, а восстание против своих телохранителей в Уорчестере он подавил сожжением города и разгромом всей провинции. Его смерть была достойна его жизни: «Он умер во время попойки в доме Осгода Клапа в Ламбете». Англия многое терпела от королей, подобных этим, но их преступления помогли ей отказаться от невозможной мечты Кнута. Еще более варварский, чем она сама, север не мог дать ей новых начал цивилизации и прогресса. Осознание этого и ненависть к правителям, подобным Гарольду и Гарткнуту, в соединении с уважением к прошлому содействовали восстановлению на престоле потомков Альфреда.
Глава II АНГЛИЙСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ (1042—1066 гг.)
В переходные моменты в жизни нации ей нужны холодная рассудительность, чуткий эгоизм, своевременное понимание условий, в которых приходится действовать, — качества, отличавшие ловкого политика, которого смерть Кнута поставила в Англии на первое место. Годвин замечателен в нашей истории как первый политик, не бывший ни королем, ни священником. Человек незнатного происхождения, Годвин достиг высокого положения исключительно благодаря своим талантам; женитьба породнила его с Кнутом, от которого он получил в управление графство Уэссекс, а затем он был сделан вице-королем, или верховным правителем государства.
Командуя вспомогательным отрядом английских войск во время скандинавских войн, он обнаружил мужество и военный талант, но истинной сферой его деятельности было внутреннее управление. Проницательный, красноречивый, деятельный администратор, Годвин соединял в себе бдительность, трудолюбие и осторожность с особым умением обращаться с людьми. В смутную эпоху, следовавшую за смертью Кнута, он старался, по возможности, продолжать политику своего повелителя, стремясь сохранить единство Англии под датским правлением и обеспечить ее связь с севером. Но после смерти Гарткнута такая политика стала невозможной, и Годвин, оставив дело датчан, последовал за потоком народных симпатий, призывавших на престол Эдуарда, сына Этельреда.
С самых юных лет Эдуард жил в изгнании при нормандском дворе. Ореол нежности окружил впоследствии этого последнего представителя старой династии английских королей. Ходили легенды о его набожной простоте, веселости и кротости, о его святости, принесшей ему прозвище Исповедник и погребение в качестве святого в церкви Вестминстерского аббатства. Певцы воспевали долгий мир и славу его царствования, перечисляли воинов и мудрых советников, окружавших его трон, вспоминали о подчинении ему уэльсцев, скоттов и бриттов. Его образ выделяется светлым пятном на мрачном фоне той эпохи, когда Англия лежала униженной у ног нормандских завоевателей, и память о нем стала столь дорогой для англичан, что, казалось, в его имени воплотились сами свобода и независимость.
Подданные Вильгельма или Генриха, требуя свободы, всегда говорили «о добрых законах Эдуарда Исповедника». Но, в сущности, король был просто тенью прошлого, проскользнувшей на трон Альфреда. В его тонких чертах, невзрачном телосложении, прозрачных женственных руках было что-то неземное, и он проскользнул по политической арене именно как тень. Правительственную работу выполняли более сильные руки. Слабость короля сделала Годвина хозяином страны, и он правил ею твердо и мудро. Отказавшись с неохотой от всякого вмешательства в скандинавскую политику, он охранял Англию при помощи флота, курсировавшего у ее берегов. Внутри государства, хотя эльдормены все еще ревниво оберегали местную независимость, были признаки того, что национальное единство понемногу осуществляется. Во всяком случае, в это время было гораздо больше дела внутри, нежели вне страны, а что это дело Годвин выполнял хорошо, доказывал продолжительный мир.
Рис. Эдуард Исповедник.
В начале царствования Эдуарда Англия находилась в руках трех графов: Сиуорда Нортумбрийского, Леофрика Мерсийского и Годвина Уэссекского, и казалось, со смертью Кнута предстояло торжество старого стремления к местной обособленности. Честолюбие Годвина помешало такому разъединению. Он весь был поглощен мыслью о возвышении своей семьи. Свою дочь он выдал замуж за короля. Его собственное графство охватывало всю Англию к югу от Темзы. Его сын Гарольд был графом Восточной Англии, другой сын, Свейн, владел графством на западе, и наконец, его племянник Бирн был устроен в Центральной Англии.
Первый удар могуществу Годвина был нанесен беззакониями Свейна. Он соблазнил леоминстерскую игуменью, потом отослал ее домой с еще более оскорбительным предложением — вступить с ним в брак, и когда король отказал в этом ему, он бежал из Англии. Влияние Годвина принесло ему помилование, но как только Свейн вернулся в Англию, он убил своего кузена Бирна, выступавшего против его помилования, и опять бежал во Фландрию. Буря народного негодования сопровождала его за море. Уитенагемот признал его «негодяем», «никуда не годным», но через год Годвин снова выхлопотал ему у короля прощение и возвращение графства.
Скандальное заступничество за такого злодея оттолкнуло от Годвина почти всех, и он остался без поддержки в начавшейся вскоре борьбе с королем. Эдуард был иностранцем в своем королевстве, и его симпатии склонялись, естественно, к стране и друзьям его юности и изгнания. Он говорил по-нормандски, прикладывал к хартиям печать по нормандскому образцу, раздавал своим нормандским любимцам высшие государственные и церковные должности. Все эти иностранцы ненавидели Годвина, но были бессильны против его влияния и искусства, а когда впоследствии отваживались восставать против него, то оказывались побежденными без всякого труда с его стороны. На этот раз, используя общее недовольство Годвином, они уговорили короля Эдуарда выступить против графа. Случай дал для этого подходящий повод.
Эдуарда посетил муж его сестры, граф Евстафий Булонский, и по возвращении от короля потребовал в Дувре квартир для своей свиты. Завязалась ссора, в которой было убито много граждан и чужестранцев. Годвин возмутился, когда король гневно приказал ему наказать город за оскорбление его родственника, и потребовал справедливого суда над горожанами. Эдуард взглянул на этот отказ как на личное оскорбление, и спор перешел в открытую борьбу. Годвин тотчас собрал свои силы и двинулся на Глостер, требуя изгнания иностранных фаворитов, но даже и к этому справедливому требованию страна отнеслась холодно. Графы Мерсии и Нортумберленда стали на сторону Эдуарда, Уитенагемот в Лондоне подтвердил декрет об изгнании Свейна; тогда Годвин со своим обычным благоразумием уклонился от бесполезной борьбы и удалился во Фландрию.
Падение Годвина утихомирило недовольство народа. Как бы ни велика была вина правителя, но он был теперь единственным человеком, который защищал Англию от влияния стекавшихся ко двору иноземцев. Не прошло и года, как Годвин снова появился с флотом на Темзе, и король еще раз должен был уступить. Иностранные прелаты и епископы бежали за море, изгнанные тем же Уитенагемотом, который возвратил Годвину его права. Но Годвин вернулся лишь для того, чтобы умереть на родине, и руководство делами спокойно перешло к Гарольду, его сыну.
Когда Гарольд достиг власти, то его не стесняли препятствия, окружавшие его отца, и в течение двенадцати лет он был настоящим правителем королевства. Храбрость, ловкость, административный талант, честолюбие и хитрость Годвина оказались и у его сына. Во внутреннем правлении он следовал политике отца, избегая крайностей. Он охранял мир, заботился о правосудии, и это содействовало возрастанию богатства и благосостояния народа. Английские изделия из золота и вышивка славились на рынках Фландрии и Франции. Внешние нападения отражались быстро и решительно. Военные таланты Гарольда раскрылись в походе против Уэльса, в смелости и стремительности, с которыми он вооружил свои войска приспособленным к горной войне оружием, проник в самое сердце страны и привел ее к полной покорности.
Однако это процветание было небогато благородными началами народной деятельности и глухо к благотворным влияниям духовной жизни. На материке литература получила новую жизнь, а Англия довольствовалась псалтырем да несколькими поучениями. Религиозный энтузиазм украшал Нормандию и прирейнские земли величественными храмами, с которыми представляли странный контраст немногие церкви, воздвигнутые королями или графами Англии. Церковь впала в летаргию. Стиганд, архиепископ Кентерберийский, был против папы Римского, и таким образом высший сановник английской церкви оказывался под запретом. Ни соборы, ни церковные реформы не прерывали дремоты духовенства. На материке снова пробуждались литература, искусство, религиозная мысль, а Англия стояла совсем в стороне от этого движения.
Подобно Годвину, Гарольд всю энергию тратил на расширение владений своей семьи. После смерти Сиуорда графом Нортумбрии был назначен брат Гарольда Тостиг, и тогда почти вся Англия, за исключением небольшой части прежней Мерсии, оказалась во владении дома Годвина. Чем больше приближался бездетный король к могиле, тем ближе продвигался к трону его министр. Препятствия одно за другим устранялись с его пути. Восстание в Нортумбрии повлекло за собой бегство во Фландрию Тостига, его самого опасного соперника, и Гарольд воспользовался этим, чтобы назначить преемником Тостига Моркера, брата графа Мерсии Эдвина, и тем привлечь на свою сторону дом Леофрика. Так Гарольд достиг своей цели без борьбы: собравшиеся у смертного одра Исповедника вельможи и епископы тотчас после его кончины приступили к избранию и коронации Гарольда.
Глава III НОРМАНДИЯ И НОРМАНДЦЫ (912—1066 гг.)
Вслед за восшествием Гарольда на престол пришли тревожные вести из страны, тогда еще совсем чуждой, но сделавшейся вскоре почти частью самой Англии. Простая прогулка по Нормандии лучше знакомит с рассматриваемой эпохой нашей истории, чем все книги на свете. Название каждой деревушки знакомо англичанину; остаток крепостной стены указывает на родину Брюса, маленькая деревенька сохраняет имя Перси. Внешний вид страны, равно как и ее население, кажутся нам родными. Нормандский крестьянин в шапке и блузе напоминает фигурой и лицом английского мелкого фермера, а поля около Кана с живыми изгородями, вязами и фруктовыми садами будто скопированы с полей Англии. На окрестных высотах возвышаются квадратные серые башни, похожие на те, что нормандцы строили на утесах Ричмонда и берегах Темзы; огромные соборы, возвышающиеся над красными крышами маленьких рыночных городов, послужили образцом для величавых сооружений, сменивших собой невысокие храмы Альфреда и Дунстана.
Рольф Ходок, или Странник, такой же норвежец и пират, какими были Гутрум и Гастинг, отнял земли по обе стороны устья Сены у французского короля Карла Простоватого в то время, когда дети Альфреда начали завоевание английского Дейнло. Договор, по которому Франция уступкой этого берега купила себе мир, был полным подобием Уэдморского мира. Подобно Гутруму, Рольф крестился, женился на дочери короля и стал его вассалом в стране, получившей с того времени название «страны норманнов», или Нормандии. Но вассальные отношения и новая вера мало стесняли пиратов. С французами, среди которых они поселились на Сене, их не связывали ни узы крови, ни сходство языка, сближавшие их с англичанами, между которыми они поселились на Гембере.
Сын Рольфа, Вильгельм Длинный Меч, хотя и склонялся в сторону христианства и Франции, но в душе оставался норманном. Он призвал датскую колонию для заселения Котантена — полуострова, идущего от горы святого Михаила до утесов Шербура, и воспитал своего сына среди норманнов Байе, где упорнее всего держались датские язык и обычаи. За его смертью последовала языческая реакция: большинство норманнов, вместе с малолетним герцогом Ричардом, отошли на время от христианства, и новые флоты пиратов появились на Сене. До конца века пограничные французы называли нормандцев «пиратами», их страну — «страной пиратов», а их герцога — «герцогом пиратов».
Но позже те же силы, которые превратили датчан в англичан, еще сильнее повлияли на датчан во Франции. Ни один народ не выказывал такой способности усваивать все лучшие черты людей, с которыми он приходил в соприкосновение, или сообщать им свою энергию. В течение долгого царствования Ричарда Бесстрашного, сына Вильгельма, норманны-язычники превратились во французов-христиан и искренних феодалов. Старый датский язык удержался только в Байе да в немногих местных названиях. Когда незаметно исчезла древняя северная свобода, то потомки пиратов превратились в феодальное дворянство, а «страна пиратов» стала одним из вернейших ленов французской короны.
Перемена обычаев сопровождалась и переменой веры, связавшей с христианством и церковью страну, где язычество упорно боролось за свое существование. Герцоги первые принимали новую веру, но когда религиозное движение проникло в народ, то оно было встречено со страстным увлечением. По всем дорогам шли пилигримы, на лесных прогалинах вырастали монастыри. В небольшой долине, окаймленной лесом из ясеней и вязов и прорезанной ручейком, от которого впоследствии получил свое название монастырь (Бек), искал убежища от мира рыцарь Герлуин Брионн. Однажды, когда он своими руками складывал печь, какой-то чужестранец приветствовал его словами: «Спаси тебя Бог». «Ты из Ломбардии?» — спросил пришельца рыцарь-отшельник, пораженный его оригинальным видом. «Да», — отвечал тот и, прося принять его в монахи, упал на колени и начал целовать ноги Герлуина.
Ломбардец оказался Ланфранком из Павии, ученым, известным своими познаниями в римском праве; он перешел через Альпы с целью основать школу в Авранше, а теперь молва о святости Герлуина увлекла его в монашество. Хотя у Ланфранка действительно были религиозные устремления, но ему суждено было прославиться не столько в качестве святого, сколько в роли администратора и политика. Его преподавание в несколько лет сделало Бек знаменитейшей школой христианства. Это была как бы первая волна умственного движения, которое из Италии проникало в менее образованные страны Запада. Вся умственная жизнь того времени, казалось, сосредоточилась в группе ученых, собравшихся вокруг Ланфранка: знание канонического права и средневековой схоластики, а также философский скептицизм, впервые пробудившийся под его влиянием, — все это возводит свое начало к Беку.
Ланфранку наследовал в качестве приора и учителя знаменитейший из тех ученых, тоже итальянец, Ансельм из Аосты. Будучи приятелями, Ланфранк и Ансельм были совсем непохожи друг на друга. Ансельм вырос в тихом уединении горной долины поэтично нежным мечтателем, с душой чистой, как альпийские снега его гор, и с умом настолько же ясным и прозрачным, как окружавший его горный воздух. Весь характер Ансельма отразился в одном из сновидений его юности. Снилось ему, будто небо стоит среди блестящих горных вершин, подобно чудесному дворцу, а на окружающих его полях убирают хлеб жницы самого Небесного Царя. Но они жали лениво, и Ансельм, раздраженный их ленью, вскарабкался по горе, чтобы донести на них Господу. Когда он достиг дворца, то голос Царя призвал его к Нему, и он рассказал Ему виденное. После этого, по воле Царя, перед ним поставили неземной белизны хлеб, которым он и подкрепил свои силы.
Сон исчез с наступлением утра, но чувство близости Неба к земле, горячее стремление служить Господу, душевный покой, испытанный им в присутствии Бога, остались у Ансельма на всю жизнь. Переселившись, подобно другим итальянским ученым, в Нормандию, он стал монахом в Беке, а после назначения Ланфранка на высший пост — настоятелем аббатства. Ни один учитель не вкладывал столько любви в свое дело, как Ансельм. «Побуждайте своих учеников исправляться», — сказал однажды Ансельм другому учителю, прибегавшему к побоям. «Видели ли вы когда-нибудь, чтобы художник делал статую из золота при помощи одних ударов? Нет, он то давит ее потихоньку, то слегка постукивает по ней своими инструментами, то еще осторожнее и ловчее ее формует. А во что превращаются ваши ученики от постоянных колотушек?» «Они превращаются в скотов», — был ответ. «Плохо же ваше учение, если оно обращает людей в скотов», — едко возразил на это Ансельм.
Самые грубые натуры смягчались под влиянием нежности и терпения Ансельма. Даже Вильгельм Завоеватель, столь суровый и грозный для других, становился любезным и разговорчивым человеком в беседе с Ансельмом.
Кроме занятий в школе Ансельм находил время и для философских исследований, положивших научное основание средневековой теологии. Его знаменитые произведения были первой попыткой вывести идею Бога из самой сущности человеческого разума. Его страсть к отвлеченному мышлению нередко лишала его пищи и сна. Иногда он едва мог молиться. Часто по ночам он долго не мог заснуть, пока не овладевал известной мыслью и не записывал ее на лежавших подле него восковых дощечках. Но даже усиленная работа мысли не могла высушить страстной нежности и любви, наполнявших его душу. Больные монахи не хотели пить ничего другого, кроме сока, выжатого из винограда руками самого настоятеля. И позже, когда он был архиепископом, преследуемый собаками заяц укрылся под его лошадью, и он грозно велел ловчему приостановить охоту, пока бедное животное не скрылось в лесу. Даже страсть к расширению церковных земель, столь свойственная духовенству того времени, не одобрялась Ансельмом, и при разборе таких дел он смежал очи и сладко засыпал.
Глава IV ЗАВОЕВАТЕЛЬ (1042—1066 гг.)
Не одно только горячее рвение к новой вере увлекало нормандских пилигримов к святыням Италии и Палестины. Старая страсть северян к приключениям обратила пилигримов в крестоносцев, и цвет нормандского рыцарства, недовольный суровым правлением своих герцогов, принял участие в борьбе с мусульманами Испании или стал под знамена греков в их войне с арабами, завоевавшими Сицилию. Скоро нормандцы стали завоевателями под предводительством Роберта Гвискара, покинувшего свою родину в Котантене с одним только оруженосцем, но вскоре, благодаря мужеству и хитрости, ставшего во главе своих соратников в Италии.
Напав на греков, которым они служили до того, нормандские рыцари разбили их в сражении при Каннах и отняли у них Апулию; сам Гвискар руководил ими в завоевании Калабрии и торговых городов побережья, а сподвижники его брата Роджера после тридцатилетней войны приобрели Сицилию. Все эти завоевания соединились под властью одного княжеского дома, щедрости которого искусство обязано блеском Палермо и Монреале, а литература — первым расцветом итальянской поэзии. Вести об ограблении Юга разжигали жадность и предприимчивость населения Нормандии, где кипело еще столько жизни, а молва о подвигах Гвискара еще более воспламеняла пылкое честолюбие ее герцога.
Герцогом Нормандии был в то время Вильгельм Великий, как называли его современники, или Вильгельм Завоеватель, как он был прозван по одному событию нашей истории. До тех пор он только отчасти проявил величие неукротимой воли, широкие политические взгляды, высоту своих целей, выделявших его из ряда мелких авантюристов века. С самого детства, однако, не было момента, когда бы он не принадлежал к числу великих людей. Вся его жизнь была непрерывной борьбой со всякого рода затруднениями. Воспоминания о его происхождении сохранились в его прозвище Бастард (Незаконнорожденный). Его отец, герцог Роберт, увидел однажды в Фалезе дочь кожевника Арлетту, мывшую белье в ручейке; девушка понравилась герцогу и стала матерью его сына.
Отъезд Роберта на богомолье, из которого он так и не возвратился, оставил еще малолетнего Вильгельма главой самой буйной знати, и он рос среди измен и анархии, перешедших наконец в открытое возмущение. Восстание подняли округа Бессина и Котантена, где дольше всего сохранялись разбойничий дух и склонность к насилию. Весть о заговоре застигла Вильгельма в его охотничьем домике, и у него хватило времени только для того, чтобы броситься в реку с мятежниками за спиной. Кавалерийская схватка на скалах Валь-Эс-Дюн, к юго-востоку от Кана, дала Вильгельму власть над герцогством, и старая скандинавская Нормандия навсегда подчинилась влиянию новой цивилизации, проникавшей с французскими союзниками и языком.
Сам Вильгельм был ярким представителем этой переходной эпохи. В характере молодого герцога старый мир странным образом сливался с новым, пират сталкивался с политиком. Вильгельм был последним и самым грозным представителем северной расы. В его гигантской фигуре, непомерной силе, диком взгляде, отчаянной храбрости, бешеном гневе, беспощадной мстительности, казалось, воплощался дух «морских волков, так долго живших грабежом всего мира». «Вильгельм не имел во всем свете равного себе рыцаря», — говорили даже его враги. Люди и лошади падали под ударами копья мальчика-герцога в сражении при Валь-Эс-Дюн. Бешеная живость его характера выражалась в рыцарских приключениях его юности, в его борьбе всего с пятью солдатами против пятнадцати анжуйцев, в вызывающей поездке по земле, которой домогался у него Жоффруа Мартел, поездке с соколом на руке, как будто для него война и охота были одно и то же. Никто не мог натянуть его лук. Своей палицей он проложил себе путь сквозь цепь английских воинов к подножию знамени.
Он достигал наибольшей высоты именно в те моменты, когда другие приходили в отчаяние. Его голос гремел, как труба, когда он старался остановить своих солдат, обращенных в бегство натиском англичан при Сенлаке. Во время зимнего похода к Честеру он шел пешком во главе своих изнуренных войск и собственноручно помогал расчищать дорогу сквозь снежные сугробы. Вместе с нормандской смелостью в нем проявлялась и нормандская безжалостность. Когда жители Алансона в насмешку над его происхождением повесили на городских стенах сырые кожи с криками «Вот работа для кожевника!», то Вильгельм велел выколоть пленникам глаза, отрубить руки и ноги и бросить их в город. После своей величайшей победы он отказал телу Гарольда в погребении.
Сотни жителей Гемпшира были выгнаны из их жилищ, чтобы очистить ему место для охоты, а опустошение им Нортумбрии превратило север Англии в безлюдную пустыню. Жестокость и беспощадность сквозили в самих его шутках. Когда он состарился, то французский король Филипп насмеялся над неуклюжей полнотой Вильгельма и, когда болезнь уложила его в постель в Руане, сказал: «У Вильгельма такие же долгие роды, как у женщины». «Когда я встану, — побожился Вильгельм, — я побываю у обедни в стране Филиппа и щедро одарю церковь за счастливые роды; я принесу ей тысячу свечей. Этими свечами будут пожары, при свете которых заблещет сталь». В пору жатвы вдоль французской границы запылали города и села во исполнение обета Вильгельма.
Рис. Вильгельм Завоеватель и его жена Матильда Фландрская.
Та же суровость характера сказалась и в его любви к уединению. Он обращал мало внимания на любовь или ненависть людей. Суровый взгляд, гордость, молчаливость и дикие порывы гнева наводили страх на его приближенных. «Он был так могуч и свиреп», — писал английский летописец, — что никто не осмеливался противоречить его воле». Он был любезен только с Ансельмом, и это еще сильнее оттеняло общую суровость его тона. Сам гнев его мало проявлялся в словах. «Ни с кем не говорил Вильгельм, и никто не осмелился заговорить с ним», когда он получил известие о восшествии на престол Гарольда. Только уходя из дворца в глушь лесов, Вильгельм становился другим человеком. «Он любил диких ланей и оленей, как будто был их отцом, и человек, виновный в их убийстве, подвергался ослеплению». Сама смерть застала Вильгельма таким же одиноким, каким прожил он всю свою жизнь. Когда король испустил последний вздох, то вельможи и священники разбежались, и обнаженное тело Завоевателя осталось распростертым на полу.
Гений Вильгельма превратил его из чистого норманна в великого полководца и политика. За ростом нормандского могущества ревниво следил граф Анжуйский Жоффруа Мартел, и ему удалось вооружить против Вильгельма французского короля. Опасность превратила Вильгельма из странствующего рыцаря в стратега. Когда французская армия перешла границу, он осторожно держался на ее флангах, пока на одну из ее частей, расположившуюся в маленьком городке Мортемер, не напали врасплох его воины и не разбили ее наголову. Другую дивизию теснил сам герцог, когда Ральф де Тени, взобравшись на дерево, передал ей известие о гибели их товарищей. «Вставайте, вставайте, французы! Вы спите слишком долго; идите хоронить ваших друзей, лежащих мертвыми в Мортемере».
Через четыре года новое, еще более грозное вторжение французов в Нормандию было встречено Вильгельмом с тем же искусством. Он холодно смотрел на ограбление своих городов и аббатств, опустошение Бессина, разграбление Кана и уклонялся от сражения до тех пор, пока французы не приготовились перейти при Варавилле Див с целью проникнуть с огнем и мечом в богатый округ Лизье. Но едва перешла реку половина армии, как Вильгельм напал на ее тыл, и сражение, как и предвидел герцог, продолжалось до тех пор, пока подъем воды не разделил французов надвое. Столпившиеся на узкой плотине всадники, пехотинцы и обозы гибли под дождем нормандских стрел. Никто не спасся, и французский король, беспомощно смотревший с другого берега на поражение своей армии, отправился умирать домой.
Смерть Жоффруа Мартела избавила Вильгельма от соперника среди князей Франции. Лежавший между Нормандией и Анжу Мен признал без борьбы его власть, а Бретань, приставшая к союзу его врагов, была приведена в покорность одним походом.
Эта внешняя деятельность не отвлекала внимания герцога от положения самой Нормандии. Трудно было обеспечить мир и порядок в стране, полной буйных и хищных баронов. «Нормандцев, — говорил один из их поэтов, — надо держать под пятой; тот только может распоряжаться ими, кто умеет обуздывать их». Вильгельм «никогда не любил разбойников». Его покровительство торговцам и крестьянам в первые десять лет его правления вызывало постоянные восстания баронов. Во главе недовольных становились его собственные родственники, призывавшие на помощь французского короля. Но победы при Мортемере и Варавилле отдали мятежников в его власть. Одни из них томились в темницах, другие подверглись изгнанию и присоединились к завоевателям Апулии и Сицилии.
Упрочив в стране мир и порядок, Вильгельм обратился к реформе церкви. Архиепископ Руанский, большой любитель охоты и пиров, был поспешно сменен, и на его место поставлен ученый и благочестивый француз. Частые соборы под руководством герцога заботились об улучшении нравственности духовенства. Школа в Беке, как мы уже знаем, стала центром просвещения, и Вильгельм с тонким пониманием людей, составлявшим выдающуюся черту его гения, сделал Ланфранка своим главным советником.
В споре с папой, вызванным браком герцога и Матильды Фландрской, Ланфранк принял сторону Рима, и в наказание за это Вильгельм повелел ему оставить Нормандию. Пока приор садился на свою единственную хромую лошадь, он был застигнут герцогом, нетерпеливо ожидавшим его отъезда. «Дай мне лошадь получше, тогда я и уеду поскорее», — невозмутимо сказал ломбардец, и гнев герцога перешел в хохот и расположение. С этого времени Ланфранк стал его министром и советником не только по делам герцогства, но и по исполнению более смелых планов, внушенных ему положением Англии.
В течение последнего полувека Англия и Нормандия сближались все теснее. В конце правления Ричарда Бесстрашного нападение датчан на Англию было поддержано Нормандией, и их флот зимовал в ее гаванях. В отместку за эту поддержку Этельред послал свой флот опустошить Котантен, но нападение было отбито и спор прекращен браком Этельреда и Эммы, сестры Ричарда Доброго. Затем Этельред с детьми нашел себе в Нормандии убежище от преследований датчан, и, если верить нормандским рассказам, только мерзкий ветер помешал нормандскому флоту восстановить изгнанников на английском престоле. Мирное призвание Эдуарда, казалось, открывало Англию норманнам; лишь только произошло изгнание Годвина, как герцог Вильгельм появился при английском дворе и, как уверял он впоследствии, получил от короля обещание передать ему престол.
Если такое обещание и было дано, то оно ровно ничего не значило без утверждения «собранием мудрых». К тому же возвращение в Англию Годвина положило конец надеждам Вильгельма. Говорят, они возродились снова благодаря буре, прибившей Гарольда во время его плавания по Ла-Маншу к французскому берегу. Вильгельм вынудил его поклясться на мощах святых и обещать поддержку его притязаниям в отплату за разрешение вернуться в Англию. Но вслед за известием о смерти Эдуарда пришла весть о восшествии на престол Гарольда; после бешеного взрыва гнева Вильгельм решил поддержать свое требование силой оружия. Вильгельм требовал себе не короны, а лишь права, которым воспользовался после своей победы, — явиться на нее претендентом, и он думал, что оно дано ему прямым обещанием Исповедника. Мешавшее этому поспешное избрание Гарольда он не признавал законным. Но такое конституционное притязание было нераздельно соединено с гневом на Гарольда и желанием отомстить ему за клятвопреступление.
Трудности предприятия Вильгельма были огромны. Он не мог рассчитывать ни на какую поддержку в самой Англии, у себя же ему приходилось выпрашивать согласие на поход у недовольных баронов, собирать людей со всех концов Франции и готовить их в течение нескольких месяцев; приходилось также создавать флот, рубить деревья, строить и спускать на воду корабли, формировать для них экипажи и среди всего этого находить время для дел правления и переговоров с Данией, Францией, Бретанью, Анжу, Фландрией и Римом. Затруднения его противника были едва ли меньшими. Гарольду грозило вторжение не только Вильгельма, но и его собственного брата Тостига, укрывшегося в Норвегии и выпросившего себе помощь у ее короля Гарольда Хардрада.
Собранные Гарольдом сухопутные и морские силы уже несколько месяцев охраняли берега. Его постоянное войско составлял отряд гвардейцев, но их численность позволяла им служить только ядром армии. С другой стороны, общее ополчение легко было собрать для одной битвы, но трудно было содержать долгое время. Собрать ополчение—значило на время прекратить все работы: люди, собравшиеся под знаменами короля, были земледельцами. Его военными кораблями были простые рыболовные суда. В сентябре удерживать их вместе оказалось невозможным, но, едва они разошлись, как над государством разразилось две бури, так долго собиравшихся; перемена в направлении ветра облегчила действия флота Вильгельма, но еще раньше ветер, удерживавший герцога, принес к берегам Йоркшира армию Гарольда Хардрада. Король с наличным войском поспешил к северу и отразил пришельцев в решительной битве при Стамфордбридже близ Йорка, но прежде чем он успел возвратиться в Лондон, нормандское войско переправилось через море, и Вильгельм, высадившись 28 сентября в Певенси, стал опустошать берег с целью принудить Гарольда к сражению.
Страшное разорение берегов, действительно, заставило Гарольда поспешить из Лондона на юг, но король все-таки благоразумно воздержался от битвы теми силами, которые он наскоро успел собрать под свои знамена. Если бы ему пришлось дать сражение, то он думал дать его на избранной им самим позиции и потому, подойдя к берегу, чтобы остановить опустошения Вильгельма, укрепился на холме, известном под названием Сенлак, вблизи Гастингса. Эта позиция прикрывала Лондон и заставила Вильгельма стянуть свои силы. Но стягивать армию, существующую за счет грабежей, значило обрекать ее на голод, и потому для Вильгельма не оставалось выбора между решительной победой и гибелью.
Ранним октябрьским утром герцог повел свои войска по возвышенности от Гастингса к устью Тельгема. С этого места нормандцы увидели английскую армию, тесно построенную за окопами и частоколом на высотах Сенлака. Ее правый фланг был прикрыт болотом, а левый — самую опасную часть позиции — защищали телохранители Гарольда в полном вооружении, с громадными секирами; над ними развевались Золотой дракон Уэссекса и королевское знамя. Остальная часть позиции была занята толпами полувооруженных крестьян, собравшихся по призыву Гарольда для борьбы с врагом. Своих рыцарей Вильгельм направил в центр этой грозной позиции, а фланги велел атаковать французским и бретонским наемникам. Общая атака нормандской пехоты открыла сражение; впереди ее ехал менестрель Тайлефер, бросавший в воздух и снова ловивший свой меч и распевавший при этом песню о Роланде. Он первый из нормандцев нанес удар, первый и пал. Тщетно пытались нормандцы овладеть крепкой изгородью, из-за которой сыпались дротики и удары секир, слышались дикие крики: «Вон! вон!» За отражением пехоты последовало отражение конницы.
Несколько раз собирал герцог войско и водил его к роковой изгороди. Весь боевой пыл, клокотавший в его нормандской крови, вся беззаветная храбрость, обеспечившая ему победу на склонах Валь-Эс-Дюн, соединились в этот день с хладнокровием, стойкостью и неистощимой находчивостью, проявленными им в битвах при Мортемере и Варавилле. Бретонцы с левого фланга попали в болото и пришли в расстройство; паника охватила все войско, когда разнесся слух о том, что герцог убит. «Я жив, — закричал тогда Вильгельм, сняв с головы свой шлем, — я жив и, с божьей помощью, еще одержу победу!» Взбешенный неудачей, герцог ринулся прямо на королевский штандарт; его сбили с коня, но он своей тяжелой палицей сразил Гирта, брата короля. Выбитый опять из седла, он своей рукой поверг на землю всадника, не уступившего ему коня. Среди грохота и шума битвы он увидел бегство части своей армии, остановил её и использовал для победы. Хотя частокол был прорван его бешеной атакой, но стена из щитов стоявших за ним воинов все еще удерживала нормандцев; тогда притворным бегством Вильгельм выманил часть англичан из их неприступной позиции, затем обратился против пришедших в беспорядок преследователей, прорвался сквозь покинутые линии и овладел центром позиции.
Тем временем французы и бретонцы удачно поднялись на флангах. В три часа холм представлялся взятым; в шесть битва еще кипела вокруг штандарта и дружинники Гарольда стойко бились на том месте, где впоследствии был воздвигнут главный алтарь аббатства Битвы. Наконец герцог выдвинул вперед стрелков, и тучи их стрел сильно разредили густые массы, столпившиеся вокруг короля; при закате солнца стрела поразила в правый глаз самого короля Гарольда; он пал среди знамен, и битва закончилась отчаянной схваткой над его трупом. Ночь прикрыла бегство англичан; Вильгельм Завоеватель поставил свою палатку на том самом месте, где пал Гарольд, и они «сели есть и пить среди трупов».
Обеспечив за собой владения Ромней и Дувр, герцог двинулся через Кентербери на Лондон. Интриги партий уже работали в его пользу. Король пал вместе со своими братьями, и из дома Годвина не осталось ни одного претендента на корону, да и из прежнего королевского рода уцелел один лишь мальчик, сын старшего из детей Эдмунда Железнобокого, Эдгар Этелинг, отец которого бежал от преследования Кнута в Венгрию. Этот мальчик и был избран королем, но избрание его мало помогло национальному делу. Вдова Исповедника отдала Вильгельму Уинчестер. Собравшиеся в Лондон епископы склонялись к покорности. Сами лондонцы не знали, что делать, когда Вильгельм, пройдя мимо стен, предал пламени Саутуорк.
Королю ребенку необходима была поддержка графов Мерсии Эдвина и Нортумбрии Моркера, но Вильгельм перешел Темзу и, вступив в Херефордшир, грозил отрезать их графства; это заставило обоих графов поспешить к себе домой, а затем тотчас сдался Вильгельму и Лондон. Сам Эдгар явился во главе делегации к Вильгельму предложить ему корону. «Они преклонились перед ним по необходимости!» патетически восклицал английский летописец, но, в сущности, они преклонились перед нормандцем так же, как некогда преклонились перед датчанином, и Вильгельм принял корону совсем в духе Кнута. Лондон, правда, был обеспечен постройкой крепости, превратившейся потом в Тауэр, но Вильгельм желал царствовать не как завоеватель, а как законный король. Он принял корону в Вестминстере из рук архиепископа Элдреда среди криков «Да! да!» своих новых английских подданных. Он наложил штрафы на крупных землевладельцев в наказание за сопротивление, признанное теперь мятежом, но, за исключением этого, все меры Вильгельма указывали на его желание править, как подобало наследнику Эдуарда или Альфреда.
Правда, большая часть Англии еще оставалась в стороне, и едва ли можно сказать, что его признавали королем Нортумбрия или большая часть Мерсии. Зато к востоку от линии между Норвичем и Дорсетширом власть Вильгельма была бесспорна, и этой частью он управлял как английский король. Свое войско он содержал в строгой дисциплине, ни в чем не менял законов и обычаев, признавал привилегии Лондона особой грамотой, и поныне хранящейся в качестве самого почтенного памятника старины в лондонских архивах. Мир и порядок были восстановлены. Вильгельм даже пытался, хотя и тщетно, выучиться английскому языку, чтобы лично судить подданных в суде. Королевство казалось настолько умиротворенным, что через несколько месяцев после Сенлакского сражения король Вильгельм, оставив Англию на попечение своего брата Одо, епископа Байе, и министра Вильгельма Фиц Осберна, вернулся на время в Нормандию.
Глава IV НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ (1068—1071 гг.)
Именем Завоевателя Вильгельм обязан не победе при Сенлаке, а новой борьбе, последовавшей вслед за возвращением его из Нормандии. В его отсутствие тирания епископа Байе принудила жителей Кента обратиться за помощью к графу Евстафию Булонскому, между тем как князья Уэльса поддерживали подобное восстание на западе; однако большая часть страны еще оставалась верной новому королю. Дувр был спасен от Евстафия, а недовольные бежали за море и искали убежища даже в Константинополе, где с этого времени англичане составили большую часть гвардии врагов восточных императоров. Возвратившийся Вильгельм снова стал править как король Англии. При помощи английских войск он подавил восстание на юго западе, поднятое Эксетером; во главе английской же армии он закончил покорение страны. Поход на север снова вынудил Эдвина и Моркера к подчинению. Новое восстание закончилось занятием Йорка, и таким образом вся Англия до Тиса спокойно подчинилась Вильгельму.
На самом деле, только народное восстание 1068 года превратило короля в Завоевателя. Сигнал к восстанию был дан извне: датский король Свейн два года готовился отвоевывать Англию у нормандцев, и лишь только его флот появился в Гембере, как весь север, запад и юго-запад Англии восстали как один человек. Во главе восстания в Нортумбрии стоял Эдгар Этелинг с толпой изгнанников, искавших убежища в Шотландии. На юго-западе жители Девона, Сомерсета и Дорсета начали осаду Экзетера и Монтакута, и только нормандский лагерь в Шрусбери помешал всеобщему восстанию на западе.
Восстание было задумано так хитро, что застало врасплох даже Вильгельма. Он охотился в Динском лесу, когда к нему пришло известие о возмущении Йорка и избиении трех тысяч нормандцев, составлявших его гарнизон. В порыве дикой ярости король поклялся «славой самого Бога» жестоко отомстить за это северу. Но гнев у него уживался с самой холодной рассудительностью, и потому, быстро сообразив, что центром восстания служит датский флот, он поскакал с кучкой всадников к Гемберу и там дорогой ценой купил устранение и невмешательство датчан. Затем, оставив Йорк напоследок, Вильгельм быстро направился с собранными по пути войсками к западу и очистил уэльскую границу до самого Шрусбери, а Фиц Осберн подавил в это время восстание вокруг Эксетера.
Эти успехи дали королю возможность исполнить свою клятву относительно севера. После долгой задержки, причиненной разливом Айры, он вошел в Йорк и затем опустошил огнем и мечом всю страну до самого Тиса. Города и деревни были разграблены и сожжены, жители перебиты или изгнаны за границу Шотландии. Берег подвергся особенному опустошению, чтобы не осталось опоры для будущих вторжений датчан. Хлеб на корню, скот, сельскохозяйственные орудия — все было истреблено так безжалостно, что последовавший затем голод, как говорят, унес более ста тысяч жертв и еще спустя полвека страна на шестьдесят миль к северу от Йорка представлялась необработанной и безлюдной пустыней.
Окончив дело мщения, Вильгельм повел свою армию назад к Йорку, а оттуда — к Честеру. Никогда он не проявлял еще такой силы характера, как в том ужасном походе. Зима была суровая, дороги загромождены снежными сугробами или размыты, провианта не хватало, и армия, промокшая от дождей, вынужденная питаться кониной, открыто взбунтовалась при получении приказа идти через мрачные болота, отделяющие Йоркшир от запада. Анжуйские и бретонские наемники потребовали отставки, на что Вильгельм с презрением дал согласие. Пешком во главе оставшихся верными войск двинулся король по недоступным для лошадей тропинкам, часто собственноручно помогая солдатам расчищать путь. Последние надежды англичан исчезли с прибытием его в Честер; король остался бесспорным властителем завоеванной страны и занялся возведением многочисленных замков, которые впредь должны были держать ее в подчинении.
С удалением датчан англичане стали рассчитывать на помощь Шотландии, где нашел себе убежище Эдгар Этелинг и где его сестра Маргарита стала женой короля Малкольма. Вероятно, в надежде на его помощь Эдвин и Моркер подняли новое восстание, которое было сразу подавлено благодаря бдительности Завоевателя. Эдвин пал в небольшой схватке, а Моркер долго скрывался в болотах восточных графств, где отчаянная группа патриотов собралась вокруг опального вождя, Геруорда. Нигде Вильгельм не встречал такого упорного сопротивления, но через болота проложили плотину в две мили длиной, Или был взят, а с ним исчезли последние надежды англичан на свободу. Держался один Малкольм, пока Вильгельм не собрал всех своих войск и не проник в самое сердце Шотландии. Он достиг Тея, когда Малкольм отказался от сопротивления, явился в английский лагерь и принес Вильгельму клятву верности.
Борьба, окончившаяся в болотах Или, совершенно изменила положение Вильгельма: к праву владычества над англичанами по избранию присоединилось теперь право завоевания. Поэтому и система его правления носила следы двойственного характера. Эта система не была системой континентального феодализма, но не была и системой прежних английских королей. Может быть, вернее будет сказать, что она представляла собой смесь обеих этих систем. Как наследник Эдуарда Вильгельм сохранил судебную и административную организацию прежнего английского королевства; как Завоеватель он ввел военное устройство феодализма, поскольку это было необходимо для обеспечения его власти в завоеванной стране.
Почва была уже, впрочем, подготовлена для такого рода организации. Мы видели зачатки английского феодализма в дружине воинов — «товарищей», или «танов», обязанных королю личной службой и взамен получавших участки поместья из «народной земли». В последующее время этот порядок значительно развился, когда масса знати по примеру короля стала раздавать участки своей земли на таких же началах арендаторам. С другой стороны, численность класса свободных земледельцев, «фригольдеров», бывшего основой древнеанглийского общества, постепенно уменьшалась, частью из подражания высшим классам, но еще более — вследствие постоянных войн и вторжений, заставлявших фригольдеров покупать себе покровительство танов отказом от своей независимости.
В сущности, феодализм уничтожил прежнюю английскую свободу еще раньше Вильгельма, совершенно так же, как уничтожил он ее в Германии и Франции. Но завоевание придало феодальным тенденциям особую силу и напряженность. Всеобщее отчаянное сопротивление англичан заставило Вильгельма охранять мечом то, что было приобретено с помощью меча, и содержать сильную армию, готовую во всякую минуту подавить народное восстание. Содержание такой армии могло обеспечиваться только обширными конфискациями земли, возможными при неудачных восстаниях англичан: большая часть высшего дворянства пала на полях сражений или бежала за границу, а низшие таны или лишились всех своих земель, или сохранили их часть, уступив остальные короне.
Обширность конфискаций видна из раздачи Вильгельмом огромных поместий его главным сподвижникам. Одному своему брату Одо он отдал двести имений в Кенте и столько же в других местах, и почти такие же пожалования достались советникам короля Фиц Осберну и Монтгомери или баронам из родов Мобреев и Клэров. Не были забыты и самые бедные солдаты. Простые нормандцы стали богатыми и могущественными в новых владениях их государя. Каждое большое или малое поместье жаловалось не иначе как под условием службы по призыву короля, а когда новые владельцы уступали части своих имений арендаторам, те же условия службы государю переходили и на новых «содержателей». «Выслушай меня, мой повелитель, — присягал вассал своему лорду, опустившись на колени, сняв оружие, обнажив голову и положив руки в руки господина, — я делаюсь твоим ленником на всю жизнь, делаюсь всем телом и всем моим земным достоянием; клянусь хранить тебе верность на жизнь и смерть, да поможет мне в том Бог». После этого поцелуй лорда закреплял за вассалом землю в качестве феода, остававшегося навсегда за ним и его потомками. Вся армия получила таким образом участки земли, и Вильгельм мог собрать ее во всякую минуту под свои знамена.
Однако такие силы, весьма действенные для обуздания побежденных, были едва ли менее опасными и для самой короны. В своем новом королевстве Вильгельм оказался лицом к лицу с теми же баронами, которых он с трудом подчинил своей власти в Нормандии, — баронами, не терпевшими закона, враждебными королевской власти, добивавшимися полной военной и судебной независимости в своих поместьях. Гений Завоевателя сказался в ясном понимании опасности и в искусстве, с которым он старался устранить ее. Он воспользовался прежним устройством страны, чтобы удержать судебную власть в своих руках. Он сохранил старые «суды сотни» и «суды графства», в которых принимали участие все фримены, но подчинил их контролю королевского суда, который при последних английских королях присвоил себе право апелляций и вызова дел из низших судов. Значение короны было возвышено уничтожением крупных графств, стеснявших ее, и назначением от нее шерифов для правления областями. Впрочем, как бы ни были крупны розданные Завоевателем поместья, они были так разбросаны по стране, что союзы между землевладельцами или наследственная привязанность больших вассалов к отдельному лорду становились одинаково невозможными.
В других странах вассал обязывался помогать своему господину против всех его врагов, не исключая и короля, но Вильгельм ввел обычай, в силу которого каждый вассал, кроме клятвы в верности лорду, присягал еще непосредственно королю; таким образом, верность короне представлялась высшим и общим долгом всех англичан. Притом с замечательной строгостью требовались все феодальные повинности и пошлины, следовавшие королю от каждого поместья. Каждый вассал обязан был в случае нужды являться три раза в год в королевский суд, платить тяжелую пошлину; когда наследовал поместье — вносить денежный сбор в случае плена короля, посвящения его старшего сына или выдачи замуж старшей дочери.
Если владельцем поместья оказывался несовершеннолетний, то опеку над ним принимала на себя корона и все доходы с имения шли королю. В случае перехода поместья к наследнице ее рукой распоряжался король, обычно отдававший ее самому выгодному претенденту. Большинство поместьев облагалось специальными сборами в пользу короны; с целью определения и регистрации этих пошлин Вильгельм рассылал по всем графствам комиссаров, отчеты которых сохранились в писцовой книге (Domesday Book). Присяжные, избираемые от каждой сотни, давали под присягой показания о размерах и естественных условиях каждого поместья, о числе, именах и положении его жителей, стоимости его до и после завоевания и о сборе с него в пользу короны.
Другое ограничение для мятежного духа феодальных баронов Вильгельм нашел в данном им церкви устройстве. Одним из первых его действий был вызов из Нормандии Ланфранка для содействия в церковных реформах. За низложением Стиганда, которого заменил в Кентербери Ланфранк, последовало смещение большинства английских прелатов и аббатов и назначение на их места нормандских духовных особ. Новый архиепископ очень содействовал повышению дисциплины среди духовенства, и, без сомнения, старания самого Вильгельма отчасти обусловливались желанием улучшить религиозную жизнь в его королевстве. «При выборе епископов и аббатов, — говорил современник тех дней, — он смотрел не столько на богатство и могущество назначаемого, сколько на его благочестие и мудрость. При открытии каждой вакансии он собирал епископов, аббатов и других мудрых советников и с их помощью заботливо отыскивал человека, по своим благочестию и мудрости наиболее пригодного к правлению церковью».
Но, как бы ни были хороши эти реформы, прямым их назначением было усиление королевской власти. Новые епископы и аббаты как иностранцы, были чужды народной массе; одновременно их влияние на народ было ослаблено передачей церковных дел из ведения общих судов, в которых епископ заседал рядом со светскими чиновниками, особому суду епископа. Такая реформа обещала в будущем немало затруднений короне, но в момент своего введения она устраняла обычную связь духовенства с народными собраниями, сглаживала память о первоначальном равенстве духовной власти и светской. Строго была проведена зависимость церкви от короны. От епископа требовалась такая же присяга, что и от барона. Ни один вассал короля не мог быть отлучен от церкви без королевского разрешения. Ни один собор не мог издавать законов без согласия и утверждения короля; ни одна папская булла не могла быть принята в королевстве без его позволения. Король твердо отвергал притязания, которые начала предъявлять римская курия. Когда папа Римский Григорий VII потребовал от него вассальной присяги, то король резко отказал. «Я никогда не намеревался присягать, да и теперь не намерен, — сказал Вильгельм, — я никогда этого не обещал и не вижу, чтобы мои предшественники были вассалами ваших».
Но главнейшей опорой короне служили богатство и личное могущество короля. Сколько ни жаловал Вильгельм поместий дворянству и солдатам, но богатейшим землевладельцем все же оставался он сам. Строгое взыскание феодальных пошлин обогащало казну в Уинчестере, начало которой было положено добычей во времена завоевания. Но Вильгельм нашел и более легкий источник доходов, обложив особым сбором прибывших из Нормандии еврейских купцов, которые, пользуясь его покровительством, основали в главнейших городах Англии особые еврейские кварталы. Евреи не имели в стране гражданских прав, и кварталы, в которых они жили, подобно королевским лесам, не подчинялись общему праву. Сам еврей считался собственностью короля, и его жизнь, как и имущество, вполне зависели от королевской милости; но это была собственность совсем иная, чтобы легко от нее отказываться. Евреи не были подсудны местным судам, и их торговые дела рассматривались государственными чиновниками. Их документы хранились для безопасности в Вестминстерском дворце. Им давали свободу в отправлении религиозных обрядов, позволяли строить синагоги и ставить во главе своих духовных дел главного раввина.
Присутствие евреев, по крайней мере в первые годы, без сомнения, было благодетельным для всего королевства. С их прибытием в страну прибывали капиталы, и как ни высоки были проценты, которые они брали ввиду общей неуверенности в завтрашнем дне, но еврейский кредит послужил толчком к невиданному еще в Англии развитию промышленности. В столетие, следовавшее за завоеванием, в Англии сильно оживилась архитектура, и страна покрылась множеством замков и соборов, строившихся не иначе как при помощи займов у евреев. Их пример повлиял на постройку домов. Здания, еще и теперь называемые, например, в Линкольне и Сент-Эдмундсбери, еврейскими домами, были почти первыми каменными постройками, заменившими жалкие лачуги английских городов.
Не на одну только промышленность повлияли евреи. Благодаря своим связям с еврейскими школами в Испании и на Востоке они помогли возрождению физических наук. В Оксфорде, по-видимому, существовала еврейская медицинская школа. Сам Роджер Бэкон учился у английских раввинов. Но для королей евреи служили просто финансовым орудием. Все накопленные ими богатства отбирались, как только государство чувствовало в них нужду, а сами евреи в случае неуспеха мягких средств подвергались пыткам и тюремному заключению. При всякой войне, при всяком восстании королевская казна наполнялась еврейским золотом, и только в сундуках евреев нормандские короли находили средство держать в повиновении своих баронов.
Глава VI ВОЗРОЖДЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ НАРОДНОСТИ (1071—1127 гг.)
Едва закончилось завоевание, как началась борьба между королями и баронами. Мудрость политики Вильгельма, уничтожившей опасные для короны большие графства, была доказана попыткой восстановить их, сделанной Роджером, сыном Фиц-Осберна главного министра Завоевателя, и бретонцем Ральфом де Гвадером, которому король в награду за храбрость при Сенлаке пожаловал Норфолкское графство. Восстание было быстро подавлено, Роджер заключен в тюрьму, а Ральф изгнан за море. Но интриги скоро нашли себе нового руководителя в лице сводного брата Байе. Под предлогом намерения добиться силой папского престола Одо стал собирать деньги и людей, но его казна была захвачена чиновниками короля, а сам епископ был арестован среди придворных.
Даже по приказу короля ни один сановник не решился схватить прелата, так что королю пришлось арестовать его самолично. «Я арестовываю не епископа, а графа Кентского», — сказал при этом Вильгельм, усмехаясь, и Одо остался в заключении до самой смерти Завоевателя. В действительности лишь сильная личность Вильгельма служила престолу главной опорой. «Суров он был, — говорил английский летописец, — ко всем противившимся ему людям; графов, сделавших что-либо против его приказаний, он заточал в темницы, епископов лишал епархий, аббатов — аббатств. Он не пощадил и родного брата. Первым лицом в королевстве был Одо, но и его подверг Вильгельм заточению. Если кто хотел жить и сохранить свои земли, то должен был следовать воле короля». Но, как ни сурово было это управление, оно приносило стране спокойствие. Даже среди страданий, неизбежно вытекавших из самих условий завоевания, — постройки крепостей, огораживания лесов и вымогательств, наполнявших Уинчестерское казначейство, — англичане не могли забыть «о добром мире, установленном им в стране и позволявшем человеку безопасно проехать все королевство с полным золота кошельком».
Некоторые черты характера Вильгельма указывали на присутствие в нем далеко опережавшей его век гуманности и находились в резком противоречии со всем складом его натуры. Замечательную черту его характера составляло отвращение к пролитию крови по судебным приговорам; он формально уничтожил смертную казнь, и в его царствование летописи упоминают всего лишь об одном случае ее применения. Еще более почетным для него эдиктом Вильгельм положил конец работорговле, процветавшей в Бристольском порту. Безжалостный воин, суровый и грозный король был нежным супругом и любящим отцом. При сношениях с чистыми и святыми людьми вроде Ансельма молчаливость и угрюмость короля превращались в предупредительную любезность. Если Вильгельм был «суров» к мятежникам и баронам, то «он был кроток с людьми богобоязненными».
Завоеватель поднял величие и славу трона на высоту, которой они никогда не достигали при его предшественниках. Страх перед датчанами, висевший так долго, подобно грозовой туче, над Англией, совершенно рассеялся при виде армии, собранной Вильгельмом для отражения нашествия короля Кнута. Мятеж рассеял датский флот, а убийство короля устранило всякую опасность с севера. Уже раньше нашествие Вильгельма подчинило Шотландию; теперь он обуздал ее постройкой сильной крепости Ньюкасл на Тайне, а проникнув с войском в самое сердце Уэльса, он начал его систематическое подчинение через поселение баронов на границе. Его постоянные успехи были нарушены лишь в конце его царствования восстанием его сына Роберта и разрывом с Францией. Когда Вильгельм ехал по крутой улице преданного им пламени города Мант, то его лошадь споткнулась на горячей золе и король сильно ударился о седло. Его увезли умирать в Руан. Звон колокола разбудил Вильгельма на заре, когда он лежал в монастыре святого Гервасия, поднимавшемся над городом; он протянул руки для молитвы и тихо скончался.
Со смертью Завоевателя исчез и страх, державший баронов в повиновении, а разделение его владений увеличило их надежды на успешное сопротивление суровому правлению, которому они подчинялись. Нормандию Вильгельм Завоеватель завещал своему старшему сыну Роберту, а второй его сын, Вильгельм, поспешил с кольцом отца в Англию, где влияние Ланфранка сразу обеспечило ему корону. Под предлогом поддержки притязаний Роберта бароны тотчас же подняли мятеж, во главе которого стал епископ Одо; они надеялись, что слабый характер Роберта даст им возможность усилить свою независимость. Новый король мог опереться только на верность своих английских подданных. Национальный отпечаток, который Вильгельм придал королевской власти, сказался сразу. Епископ Уорчестерский, Вульфстан, единственный оставшийся епископ из англичан, разбил повстанцев на западе; в то же время король призвал в свое войско всех городских и сельских фрименов, угрожая объявить неявившихся вне закона, и с большими силами двинулся к Рочестеру, где сосредоточились мятежные бароны. Начавшаяся в гарнизоне чума вынудила баронов к сдаче, и когда пленники проходили через королевскую армию, то из ее рядов слышались крики «Виселица и веревка!». Несколько позже был организован заговор с целью возвести на престол родственника королевского дома Стефана Альбемарля, но взятие в плен главы заговора Роберта Мобрея, графа Нортумберлендского, и заточение или ссылка его соучастников снова погубили надежды баронов.
В этой борьбе короля с баронами снова выразился дух национального патриотизма; в то же время смелость Ансельма оживила национальную оппозицию административному произволу, тяготевшему теперь над страной. Вильгельм Рыжий унаследовал энергию Завоевателя и его политику по отношению к покоренным англичанам, но он был далек от нравственного величия своего отца. Его распутство и расточительность скоро истощили королевскую казну, а смерть Ланфранка дала ему возможность пополнить ее за счет церкви. Доходы с незанятых епископств или аббатств должны были идти в казну королю, и Вильгельм упорно отказывал в назначении преемников умершим прелатам, так что к концу его царствования оказались незанятыми одно архиепископство, четыре епископства и одиннадцать аббатств. В самом Кентербери кафедра оставалась вакантной, пока опасная болезнь не испугала короля и не заставила его назначить на это место Ансельма, прибывшего тогда в Англию по делам монастыря. Бекский аббат был приведен к постели короля, и ему насильно вручили архиепископский крест. Но едва Вильгельм выздоровел, как встретился лицом к лицу с человеком, кротость и мягкость которого превращались в твердость и величие при столкновении с тиранией короля.
Рис. Вильгельм II.
Как мы уже видели, завоевание поставило церковь в полную зависимость от короны и лишило ее нравственного влияния в качестве защитницы высших национальных интересов от грубого деспотизма. Хотя борьба между королем и архиепископом большей частью касалась вопросов, не имевших прямого отношения к истории народа, смелость Ансельма не только нарушила обычную зависимость церкви от короны, но и внушила всей нации новый дух независимости. Истинный характер борьбы выразился в ответе примаса, когда на его возмущение против незаконных поборов с церкви король ответил требованием подарка за назначение его самого и с презрением отверг предложенные за это пятьсот фунтов: «Обращайтесь со мной как со свободным человеком, — сказал Ансельм, — и я посвящу себя и все, что имею, Вашей службе; но если Вы будете обращаться со мной как с рабом, то не получите ни меня, ни моих денег». Взрыв ярости Вильгельма удалил архиепископа от двора, и Ансельм решился наконец покинуть Англию, но его пример не пропал даром, и к концу царствования Вильгельма в Англии появился новый дух свободы, с которым пришлось считаться величайшему из сыновей Завоевателя.
Как воин, король Вильгельм Рыжий мало уступал отцу. Нормандия была заложена ему его братом Робертом за сумму, давшую возможность герцогу отправиться в крестовый поход для освобождения Святой земли, а бунт в Лемансе был усмирен. Получив известие о нем, Вильгельм бросился в первую попавшуюся лодку и переплыл канал в бурную погоду. «Короли никогда не тонут», презрительно ответил он на предостережения своих спутников. Поход к Форту принудил Малкольма к покорности, а последовавшая вслед за тем его смерть повергла Шотландию в анархию, позволившую английской армии посадить на престол сына Маргариты Эдгара в качестве вассала Англии. Не так успешны были дела Вильгельма в Уэльсе; страшные потери, понесенные нормандской конницей в твердынях Снодона, заставили его вернуться к более мягкой и благоразумной политике Завоевателя. Победы и неудачи получили странную трагическую развязку: король Вильгельм Рыжий был найден крестьянами на пролеске Нового леса со стрелой в груди; кому принадлежала эта стрела — охотнику или убийце — так и осталось неизвестным.
В это время Роберт возвращался из Палестины, где его храбрость отчасти загладила его прежнюю негативную репутацию, и английская корона, несмотря на протесты баронов, высказывавшихся за герцога Нормандского и за соединение Нормандии и Англии под одним правлением, была захвачена младшим братом Роберта Генрихом. Такое положение заставило Генриха по примеру Вильгельма Рыжего искать себе опору в народе, и две важные меры, принятые им после коронации, — дарование хартии и брак с Матильдой, — указали на новые отношения, установившиеся между королем и народом. Хартия Генриха важна не только как прямой прецедент Великой хартии Иоанна, но и как первое ограничение деспотизма, установленного завоеванием. Эта хартия прямо отменяла «злые обычаи», пользуясь которыми король Вильгельм Рыжий порабощал и грабил церковь; неограниченные поборы, взимавшиеся Завоевателем и его сыном с имений баронов, были заменены определенными налогами; не были забыты и права народа, правда, указанные несколько расплывчато. Бароны обязывались не отказывать в суде своим вассалам и уничтожить, в свою очередь, непомерные поборы с них; король же обещал восстановить порядок и «закон Эдуарда», старую Конституцию королевства, с изменениями, введенными Вильгельмом Завоевателем.
Брак короля придал этим обещаниям значение, понятное всякому английскому крестьянину. Эдифь, или Матильда, была дочерью шотландского короля Малкольма и Маргариты, сестры Эдгара Этелинга. Она была воспитана в Ромсейском монастыре, в котором настоятельницей была ее тетка Христина, и данный ею обет монашества препятствовал ее браку с королем, но это препятствие было устранено мудростью Ансельма. Возвращение архиепископа было одним из первых актов Генриха; перед архиепископским судом появилась Матильда и в горячих выражениях поведала свою историю. Она утверждала, что была пострижена в монахини в детстве для спасения от оскорблений со стороны грубой солдатни, опустошавшей страну, что она несколько раз сбрасывала покрывало и уступила, наконец, лишь брани и побоям своей тетки. «В ее присутствии, — говорила девушка, — я носила клобук, дрожа от негодования и горя, но как только я уходила с ее глаз, я срывала его со своей головы, бросала наземь и топтала ногами. Вот каким образом я стала монахиней».
Рис. Матильда Шотландская.
Ансельм тотчас же освободил Матильду от ее монашеских обетов, и радостные крики народа, когда он возложил на ее голову корону, заглушили ропот светских и духовных сановников. Насмешки нормандского дворянства, прозвавшего короля и его супругу «Годриком и Годрифу», потонули в радости всего народа. В первый раз со времени завоевания страны на английском престоле сидела английская государыня. Кровь Кердика и Альфреда должна была слиться с кровью Рольва и Завоевателя. С тех пор стало невозможно сохранять обособленность обоих народов. Их слияние произошло так быстро, что через полстолетия исчезло самое имя нормандцев, и при вступлении на престол внука Генриха уже невозможно было отличить потомков завоевателей от потомков побежденных при Сенлаке.
Трудно, однако, проследить этот процесс слияния двух племен в одно по отношению к населению городов.
Одним из непосредственных результатов завоевания было переселение массы народа с материка в Англию. За вторжением нормандских солдат тотчас последовало нашествие промышленников и торговцев из Нормандии. Каждый нормандский дворянин, становившийся английским помещиком, каждый нормандский аббат, вступавший в английский монастырь, собирал вокруг своих новых замка или церкви французских ремесленников и слуг. Например, вокруг аббатства Битвы, воздвигнутого Вильгельмом на месте его великой победы, смешивались с английским населением «Жильберт Чужестранец, Жильберт Ткач, Бенет Управляющий, Хью Секретарь, Болдуин Портной». Особенно заметно это было в столице. Еще задолго до Завоевателя нормандцы имели в Лондоне торговые поселения, которые были, разумеется, не более чем факториями. С подчинением Лондона Завоевателю «многие из граждан Руана и Кана переехали туда, предпочитая жить в этом городе, так как он был гораздо удобнее для их торговли и в нем было больше товаров, которыми они привыкли торговать».
В некоторых случаях, как, например, в Норвиче, французская колония вообще составляла отдельный город рядом с английским, но в Лондоне она, кажется, сразу же стала представлять господствующий класс населения. Жильберт Бекет, отец знаменитого архиепископа, был, как полагают, одним из портовых старшин Лондона, предшественников его мэров; во дни Стефана он был в городе владельцем нескольких домов, и воспоминание о его общественном значении сохранилось в форме ежегодного посещения всяким вновь избранным городским головой его могилы в часовенке, построенной им на кладбище святого Павла. И, однако, Жильберт был одним из нормандцев, прибывших вслед за Завоевателем; он был родом из Руана, а его жена происходила из купеческой семьи из Кана.
Частью вследствие этой примеси иностранной крови, частью же, без сомнения, благодаря продолжительности мира и порядка, обеспеченных нормандским правлением, английские города достигли богатства и значения, которыми пользовались в царствование Генриха I. Эти города прокладывали путь к постепенному возвышению английского народа. Пренебрегаемые и презираемые духовенством и дворянством, горожане хранили или вновь приобретали древнетевтонскую свободу. Ремесленники и лавочники пронесли сквозь эпоху деспотизма права самоуправления, свободы слова и собраний, суда равных. На спокойных улицах со странными названиями, на городском лугу и рыночной площади, на господской мельнице у реки, при звуках городского колокола, собиравшего граждан на сходку, в купеческих гильдиях, церковных братствах и ремесленных цехах сосредоточивалась жизнь англичан, которые больше, чем рыцари и бароны, содействовали созданию современной Англии, — их жизнь, и домашняя, и промышленная, их непрерывная и упорная борьба с угнетением, борьба за право и свободу.
Трудно проследить все ступени, по которым города один за другим достигали свободы. Большая их часть была расположена на землях короля и, подобно другим вассалам, их жители вносили обычные оброки и судились королевскими чиновниками. Среди городов особенно выделялся Лондон, и Хартия, данная ему Генрихом, служила образцом для других. Король предоставил гражданам право суда: каждый гражданин имел право требовать над собой суда своих сограждан в городском суде, заседания которого происходили каждую неделю. Тяжба совершалась при посредстве древнеанглийской присяги, с полным устранением введенного нормандцами судебного поединка.
Лондонская торговля была освобождена от пошлин и сборов по всей стране. Король, впрочем, назначал еще в Лондоне, как и в других городах, портового старшину или городского голову, и население еще не было объединено в одну общину или корпорацию. Граждане группировались по кварталам, управлявшимся эльдорменами, и по «гильдиям», добровольным союзам торговцев и ремесленников, обеспечивавшим их членам взаимную защиту. Как ни слабы были подобные связи, но они укреплялись сохранившимися в городах традициями прежней свободы. Лондонские граждане, например, собирались на сходку по призывному звону колокола храма святого Павла и свободно обсуждали свои дела под председательством эльдорменов. Здесь же они собирались и с оружием в руках, в минуту опасности для города, и вручали городское знамя своему предводителю, нормандскому барону Фиц-Уолтеру, чтобы он вел их на врага. Немногие города достигли такого значения, но в царствование Генриха одна Хартия за другой превращала горожан из людей, подчиненных своему барону, в держателей по обычному праву, купивших себе свободу определенными взносами, упорядочивших свои промыслы и подчиненных только своему собственному суду.
Рис. Генрих I.
Развитие городов, расположенных не на королевских землях, а около аббатств и замков, шло гораздо медленнее и труднее. История Сент Эдмундсбери показывает, как постепенно совершался переход от чистого рабства к неполной свободе. Многие земли, бывшие во времена Исповедника под пашней, при нормандских правителях застроились домами. Постройка большой церкви аббатства привлекла туда ремесленников и каменщиков, поселившихся на землях аббата рядом с пахарями и жнецами. Смутная пора ускорила здесь, как и в других местах, развитие городов: рабы, бежавшие от суда или от господ, торговцы и евреи, естественно, искали убежища под могущественной защитой святого Эдмунда. Все эти поселенцы находились в безусловной зависимости от аббата. Каждый из них был обязан платить оброк в аббатскую казну, обрабатывать участок его земли, собирать хлеб, стричь овец в загонах аббата, ловить угрей в принадлежащих ему водах. В пределах владений аббата, очерченных четырьмя крестами, все земли и воды принадлежали ему. Крестьяне платили ему за выпас скота на общем выгоне. Если валяльщики отказывались отдавать ему свое сукно, то управляющий имел право не пускать их на реку и захватывать сукно везде, где найдет. С арендаторов аббатских ферм не взималось никаких пошлин, и потребителям приходилось ждать перед лавками, пока закупщики аббатства не выберут все, что им нужно, и не откроют рынок. Жаловаться было бесполезно, потому что все собрания происходили в присутствии должностных лиц, назначаемых аббатом, им же назначался и эльдормен, получавший из рук аббата рог, символ власти.
Подобно всем великим общественным переворотам, выход из такого рабства произошел незаметно, и самые возмутительные проявления гнета исчезли, по видимому, сами собой. Некоторые, вроде обязательной ловли угрей, были заменены небольшим оброком, другие, вроде рабства валяльщиков, просто исчезли. Благодаря установившемуся обычаю, упущению, прямому забвению, здесь — легкой борьбе, там — подарку нуждающемуся аббату, город приобрел себе свободу. Но прогресс не всегда был бессознательным, и один случай в истории Сент-Эдмундсбери замечателен не только как признак развития права, но и как доказательство того влияния, которое должны были оказывать новые общественные взгляды на общий прогресс государства. Как бы ни были ограничены права горожан, все же они могли собираться вместе для решения общественных дел и отправления суда. Суд происходил в присутствии граждан, и подсудимый обвинялся или оправдывался после присяги его соседей. Но за пределами города преобладал нормандскии процесс, и сельские жители, подчиненные суду, должны были решать дела Судебным поединком. Казнь некоего фермера Кетеля, подчиненного такому феодальному суду, выявила резкий контраст между обеими системами. Кетель был, по видимому, невиновен в преступлении, но исход поединка решил дело против него, и он был повешен перед городскими воротами. Укоры горожан пробудили в сельчанах сознание несправедливости. «Будь Кетель горожанином, — говорили они, — соседи заверили бы присягой его невиновность, и он был бы оправдан, ибо таково наше право». Даже монахи согласились допустить, чтобы их крестьяне пользовались одинаковыми с горожанами свободой и судебной процедурой. Городские вольности были распространены на сельские владения аббатства, и крестьяне «стали приходить в городскую таможню, записываться в книгу эльдормена и платить городской сбор».
С этим нравственным переворотом шло рука об руку и религиозное оживление, составлявшее характерную черту царствования Генриха I. Епископы Вильгельма были людьми благочестивыми, учеными, энергичными, но они не были англичанами, так как до царствования Генриха I англичане не допускались к занятию епископских кафедр. По языку, образу жизни и симпатиям высшее духовенство совершенно отличалось от низшего духовенства и народа, что не могло не парализовать политического влияния церкви. Ансельм стоял особняком в своем протесте против Вильгельма II, а когда он умер, то в царствование Генриха I высшее духовенство покорно молчало. Но в конце этого царствования и в течение всего следующего в Англии возникло первое из тех великих религиозных движений, которые ей пришлось пережить и потом — в эпохи проповедей нищенствующих орденов, лоллардизма Уиклифа, пуританского энтузиазма и миссионерской деятельности уэслеянцев. Всюду по городам и деревням люди собирались для молитвы, отшельники удалялись в пустыни, дворяне и крестьяне одинаково приветствовали суровых цистерцианцев — представителей реформированного ордена бенедиктинцев, расселявшихся среди болот и лесов севера. Дух набожности пробудил и монастыри от духовной спячки, проникая в дома дворян, вроде Вальтера де л’Еспека, или купцов, вроде Жильберта Бекета.
Лондон принимал большое участие в этом оживлении. Он гордился своей религиозностью, своими тринадцатью монастырями и более чем сотней приходских церквей. Движение изменило самый его вид. В середине города епископ Ричард достраивал кафедральный собор святого Павла, начатый епископом Маврикием; по реке поднимались барки с камнем из Кана для огромных арок, вызывавших удивление у народа, а улицы и переулки уравнивались для устройства знаменитого двора этого собора. Рагер, королевский менестрель, воздвиг приорство святого Варфоломея рядом со Смитфилдом; Алкуин построил монастырь святого Джилса у Криплгета, а на месте старой английской «Cnichtenagild» возникло при Алдгете приорство Святой Троицы.
Рассказ о последнем прекрасно рисует настроение горожан того времени. Его основатель, приор Норман, построил храм и монастырь и закупил для них так много священных книг и облачений, что не осталось денег на покупку хлеба. Каноники дошли до последней крайности, когда горожане, проходя обычной воскресной процессией вокруг монастыря, заглянули в трапезную и увидели расставленные столы, но ни одной буханки хлеба на них. «Обстановка здесь прекрасная, — закричали горожане, — но откуда взять хлеб?» Тогда присутствовавшие женщины дали обещание приносить по буханке хлеба каждое воскресенье, и скоро хлеба оказалось более чем достаточно для приора и его друзей. Новое движение выдвинуло и совершенно новый класс духовных лиц. Люди, подобные Ансельму, Джону Солсберийскому или двум великим прелатам в Кентербери, следовавшим один за другим после смерти Генриха, — Теобальду и Фоме, пользовались влиянием за святость их жизни и величие преследуемых ими целей. Бессилие церкви исчезло, когда новое движение свело вместе высшее духовенство и народ, и в конце царствования Генриха церковь достигла такой силы, что смогла спасти Англию от анархии и с тех пор постоянно влиять на ее историю.
Сам Генрих стоял совершенно в стороне от этого оживления национального чувства, но благодаря энтузиазму, вызванному его браком с Матильдой, ему нечего было бояться ни притязаний на корону со стороны его брата, ни неприязни баронов. Высадившийся в Портсмуте Роберт встретился с войском, собравшимся вокруг короля по призыву Ансельма, и отступил без боя; это позволило Генриху расправиться с мятежными баронами, предводителем которых был Роберт Белем, сын Рожера Монтгомери. Шестьдесят тысяч солдат английской пехоты последовали за королем по узким переходам, ведшим к Шрусбери, и только полная покорность спасла жизнь Роберту. Упрочив свою власть в Англии и обогатившись конфискованными землями баронов, Генрих переправился в Нормандию, где плохое управление Роберта возмутило духовенство и горожан и где насилие баронов заставило мирных жители призвать короля к себе на помощь. При Теншбрэ сошлись войска короля и герцога, и решительная победа англичан над нормандцами отомстила за позор Гастингса. Покоренное герцогство стало в зависимость от английской короны, и энергия Генриха в течение целой четверти века была направлена на подавление мятежей и борьбу с Францией и с сыном Роберта Вильгельмом, пытавшимся вернуть утраченную его отцом корону.
В самой Англии в это время царил мир. Строгое управление Генриха усовершенствовало до тонкостей принятую Завоевателем систему управления. Большие поместья, доставшиеся короне благодаря мятежам и измене баронов, были розданы новым людям, целиком зависящим от милости короля, и таким образом на месте крупных феодалов Генрих создал класс мелкой знати, на которую бароны времен завоевания смотрели с презрением, но которая составила противовес и образовала класс полезных администраторов, служивших королю шерифами и судьями. Новая судебная и финансовая организация объединила все государство под властью королевской администрации. Клерки королевской капеллы составили корпорацию секретарей, или королевских министров, глава которых носил звание канцлера; еще выше стоял юстициарий, или наместник королевства, действовавший во время частых отлучек короля в качестве регента; его штаб, составленный из баронов королевского двора, превратился в высший суд королевства.
Этот «суд короля», как его называли, был постоянным представителем общего собрания королевских вассалов, раньше созывавшегося три раза в год. В качестве Королевского совета он пересматривал и регистрировал законы, а необходимость его «совета и согласия», хотя на деле они были чистой формальностью, сохраняла древнее начало народного законодательства. Как судебное учреждение он был высшей апелляционной инстанцией: по просьбе тяжущегося он мог требовать для пересмотра всякое дело из низшего суда, а назначение некоторых из его членов шерифами графств ставило его в тесную связь с местными судами. Главной задачей Королевского совета как финансового учреждения были раскладка и сбор казенных доходов, и в качестве такового он назывался Судом казначейства (Court of Exchequer) — от разлинованного в виде шахматной доски стола, за которым происходили его заседания и сдавались отчеты.
Члены совета назывались в этом случае «баронами казначейства». Дважды в год шериф каждого графства являлся перед этими баронами и вносил им определенный оброк с королевских земель, а также «датские деньги» (Danegeld), или поземельный налог, судебные штрафы и феодальные сборы с поместьев баронов, составлявшие главную часть королевских доходов. Местные споры касательно этих платежей или раскладки городских налогов разрешались посылкой членов суда, объезжавших графства. Эти налоговые ревизии привели к ревизиям судебным, к тем «судейским объездам», которые до сих пор составляют выдающуюся особенность английской судебной системы.
От этих внутренних реформ внимание Генриха было внезапно отвлечено вопросом о престолонаследии. Его сын Вильгельм Этелинг, как нежно звали сына своей Матильды англичане, с толпой дворян сопровождал Генриха, когда тот возвращался из Нормандии, но «Белый корабль», на котором он находился, отстал от остального флота, в то время как молодые дворяне, возбужденные вином, свесились с корабля и прогнали своими насмешками священника, явившегося дать обычное благословение. Наконец, хранители королевской казны ускорили отправление корабля, и усилиями пятидесяти гребцов судно быстро двинулось к морю, но у выхода из гавани оно вдруг ударилось о подводный камень и моментально пошло ко дну.
На флоте услышали страшный крик, раздавшийся среди ночной тишины, но лишь утром роковая весть дошла до короля. Он упал без сознания наземь и с тех пор никогда не смеялся. У Генриха не было другого сына, и все его внешние враги ободрились, так как теперь его естественным наследником стал сын Роберта. Но король ненавидел Гийома и любил единственную оставшуюся у него дочь Матильду; она была замужем за императором Генрихом Пятым, но после смерти мужа вернулась к отцу. Генрих объявил ее своей наследницей, хотя занятие трона женщиной казалось странным феодальному дворянству. Несмотря на это, король заставил дворянство и духовенство присягнуть Матильде как их будущей государыне и вместе с тем обручил ее с сыном единственного врага, которого он действительно боялся, графа Фулька Анжуйского.
Глава VII АНГЛИЯ И АНЖУ (870—1154 гг.)
Чтобы понять историю Англии при анжуйских королях, сначала надо познакомиться с самими анжуйцами. Характер и политика Генриха II и его сыновей были таким же наследием их рода, как и широкие равнины Анжу. Судьбы Англии готовились в истории графов Анжу, постепенно по мере того как потомки бретонского лесника становились повелителями не только Анжу, но и Турени, Мена и Пуату, Гаскони и Оверни, Аквитании и Нормандии, наконец, королями завоеванного нормандцами великого государства.
Легенда об их предке возводит нас ко времени Альфреда, когда датчане так же опустошали берега Луары, как и берега Темзы. На самой границе Бретани, в полосе, спорной между ней и Францией, жил в тяжелую годину Тортульф Лесник, полуохотник-полуразбойник, жил, не зная никакого закона, в лесах близ Ренна. В суровой лесной школе он научился «поражать врага, спать на голой земле, выносить голод и лишения, летний зной и зимнюю стужу и не бояться ничего, кроме худой славы». Помогая королю Карлу Лысому в его борьбе против датчан, лесник приобрел себе много земель по Луаре, а его сын Ингельгер, изгнавший датчан из Турени и всей земли к западу от нее, которую они опустошили и превратили в обширную пустыню, стал первым графом анжуйским.
Весь этот рассказ составляет плод фантазии какого-нибудь певца XII века, и первым графом анжуйским, которого знает история, был на самом деле Фульк Рыжий. Он сблизился с герцогами Франции, тогда все ближе придвигавшимися к престолу, и получил от них в награду графство Анжу. История его сына представляется какой-то мирной идиллией среди военных бурь их дома. Фульк Добрый был единственным анжуйцем, который не вел войн. Он любил участвовать в хоре певчих Турского собора и называться «Каноником». Однажды за вечерней в день святого Мартина, граф в одежде духовной особы пел на клиросе, когда в церковь вошел король Людовик Заморский. «Он поет, точно поп», — засмеявшись, сказал Людовик, когда придворные с насмешкой указали ему на графа «каноника». Но у Фулька был готов ответ. «Знайте, государь, — написал он Людовику, — что невежественный король не более чем коронованный осел».
На самом деле Фульк не был святошей; он был дельным правителем, устанавливавшим повсюду в разоренной стране мир и правосудие. Ему одному из его рода люди дали прозвище Доброго. Сын Фулька, Жоффруа Серый кафтан, был по характеру не более чем смелым воином и сделался почти вассалом своих могущественных соседей — графов Блуа и Шампани. Эта зависимость была грубо нарушена его преемником Фульком Нерра, или Черным. То был Джеффри Плантагенета величайший из анжуйцев; в нем мы впервые можем заметить типичный характер, который его потомкам суждено было с роковым постоянством сохранять в течение двухсот лет. У него не было естественных привязанностей. В молодости он сжег на костре свою жену, и предание рассказывает, как он вел ее на смерть, одетый в праздничное платье. В старости он вел ожесточенную борьбу со своим сыном и, победив, подверг его такому унижению, которое люди приберегали для злейших врагов. «Ты побежден! Ты побежден!» — кричал старик в жестокой радости, когда Жоффруа, взнузданный и оседланный, как вьючное животное, вымаливал себе прощение у ног отца.
Рис. Джеффри Плантагенет.
В Фульке впервые проявилось низкое суеверие, которым первые Плантагенеты поражали даже своих суеверных современников. Он грабил земли церкви, не боясь ее угроз, а потом боязнь Страшного суда увлекла его ко Гробу Господню. Босиком, подвергая свои плечи бичеванию, граф велел тащить себя на веревке по улицам Иерусалима и с дикими криками покаяния просил себе мученической смерти. Генриха Леманса, спасшего его от гибели, он вознаградил за верность тем, что захватил в плен и лишил его владений. Он обеспечил себе дружбу французского короля тем, что подослал двенадцать убийц, которые на глазах короля убили его министра, препятствовавшего этой дружбе. Как бы привычны ни были современники к предательству, грабежам, кровопролитию, но их поражал холодный цинизм, с которым Фульк совершал преступления, и они думали, что гнев Божий разразится над этим вместилищем наихудших форм зла — над Фульком Черным. Но ни гнев Божий, ни проклятия людей не помешали Фульку целых пятьдесят лет быть вполне успешным правителем.
При его вступлении на престол Анжу была самой незначительной из французских провинций, а в год его смерти (1040), она была если не по размерам, то по могуществу первой среди них. Благодаря присущим ему хладнокровию, проницательности, решительности и быстроте действий Фульк взял верх над всеми своими соперниками. Он был прекрасным полководцем и отличался личной храбростью, отсутствовавшей у некоторых величайших его потомков. В первом из его сражений был момент, когда победа, казалось, склонялась на сторону противника; притворное бегство бретонцев привлекло анжуйскую конницу к ряду скрытых ям, и сам граф свалился наземь. Освободившись из-под груды людей и лошадей, он почти один кинулся на неприятеля и, как говорила анжуйская песнь, «поражал его, подобно бурному вихрю, ломающему колосья»; сражение было выиграно. С этими военными талантами в Фульке соединялись организаторский талант, способности к широким комбинациям и к политической деятельности — качества, сделавшиеся наследственными среди анжуйцев и настолько же возвышавшие их над тогдашними правителями, насколько их бесстыдные злодеяния ставили их ниже их современников.
Победив бретонцев, Фульк постепенно завладел Южной Туренью и усеял ее замками и аббатствами, и дух Черного Графа, кажется, еще и теперь живет в мрачной Дуртальской башне, находящейся в веселой долине Луары. Победа при Понлевуа сломила силу соперничавшего с Анжу дома Блуа; захватом Сомюра Фульк закончил свои завоевания на юге, а затем кусок за куском, он захватил Северную Турень; один лишь Тур еще сопротивлялся анжуйцам. Предательское пленение графа Герберта отдало в их власть и Мен, прежде чем старый Фульк завещал свое еще неоконченное дело сыну, Жоффруа Мартелу. Военными талантами последний едва ли уступал отцу. Решительная победа отдала ему во власть Пуату, вторая победа освободила Тур от графа Блуа, а захват Леманса привел его к границе Нормандии. Но здесь его остановил гений Завоевателя, а со смертью Фулька могуществу Анжу, казалось, пришел конец.
Нормандцы отняли у провинции Мен, внутри ее раздирали междоусобицы, и при слабом сыне Жоффруа Анжу была бессильна против своих соперников. Новая энергия пробудилась в ней при Фульке Иерусалимском. Он то раздувал мятежи буйного нормандского дворянства, то поддерживал сына Роберта Гийома Вильгельма в его борьбе против дяди и постоянно выставлял себя верным вассалом Франции, теснимой со всех сторон войсками английского короля и его союзников, графов Блуа и Шампани. Словом, Фульк был единственным врагом, которого боялся Генрих I. С целью обезоружить его как непримиримого врага Генрих I отдал руку своей дочери Матильды его сыну, Жоффруа Красивому.
Брак этот в Англии был чрезвычайно непопулярен, а таинственность, которой он был окружен, дала повод баронам считать себя свободными от данной ими присяги. Так как ни один барон в случае неимения сына не мог выдавать замуж свою дочь без согласия своего лорда, то бароны вывели отсюда смелое заключение, что их согласие необходимо для брака Матильды. Более серьезную опасность представляла жадность ее мужа Жоффруа, который вследствие своей привычки носить на шлеме обычное в Анжу растение (Planta genista) получил, в добавление к прозвищу «Красивый», знаменитое имя «Плантагенет». Притязания привели его к сношениям с нормандским дворянством, и Генрих I поспешил на границу, чтобы отразить ожидаемое вторжение, но с его прибытием заговор распался, анжуйцы удалились и старый король отправился умирать в Лайонский лес.
«Бог ниспослал ему столь возлюбленный им мир», — писал находившийся при смертном одре Генриха I архиепископ Руанский. Между тем с его смертью закончился долгий период мира под управлением нормандцев. Известие о кончине Генриха I вызвало взрыв анархии, и среди беспорядка его племянник, граф Стефан, появился у ворот Лондона. Стефан был сыном дочери Завоевателя Адели, которая была замужем за графом Блуа. Он воспитывался при английском дворе и являлся после смерти своего кузена, сына Роберта, умершего во Фландрии, первейшим претендентом на престол. Прежде всего он был солдатом, но его добродушие, щедрость и даже расточительность сделали его всеобщим любимцем.
Прежде чем за дело Стефана вступился хотя бы один барон или хотя бы один город отворил ему ворота, жители Лондона кинулись к нему навстречу с бурными приветствиями. Для образования Национального собрания не было ни баронов, ни прелатов, но лондонцы не поколебались занять их места. Их голос давно считался как бы выражением народного согласия на избрание короля, но присвоение Лондоном самого права избрания указывает на развитие в царствование Генриха I духа независимости среди англичан. Не смущаясь отсутствием наследственных советников короны, эльдормены и старейшины собрали народное вече, и оно по своему усмотрению, заботясь о благе государства, единогласно решило избрать короля. Торжественное совещание закончилось выбором Стефана; граждане поклялись защищать короля своими имуществом и кровью, а Стефан — приложить все силы к мирному и доброму управлению государством.
Рис. Стефан.
Лондон сдержал свою клятву, Стефан изменил своей. Девятнадцать лет его царствования были временем неслыханных в нашей истории бесчинства и беспорядка. Стефан был признан даже сторонником Матильды, но его слабость и мотовство вскоре создали почву для феодального бунта. В 1138 году бароны восстали на юге и западе под предводительством графа Роберта Глостера; их поддержал шотландский король, двинувший свои войска через северную границу. Сам Стефан отправился в поход на западных мятежников и отнял у них все крепости, кроме Бристоля. Грабежи и жестокость диких племен Галлоуэя и горной Шотландии возмутили северян: бароны и фримены собрались в Йорке вокруг архиепископа Терстана и двинулись к Нортгемптону навстречу врагу. Священные знамена святых Кутберта Дергемского, Петра Йоркского, Иоанна Беверлейского и Уильфрида Рипонского развевались на хоругви, прикрепленной к четырехколесной телеге, стоявшей посередине войска. «На мне нет доспехов, — воскликнул вождь галлоуэйцев, — но я пойду сегодня так же далеко, как и любой кольчужник!» Его отряд бросился вперед с дикими криками: «Албин! Албин!», а за ним последовали и нормандские рыцари Нижней Шотландии. Тем не менее они потерпели полное поражение; их дикие орды тщетно пытались прорвать ряды англичан, сомкнувшиеся вокруг знамени, и вся их армия в беспорядке бежала к Карлайлю.
Но, кроме воинской храбрости, у Стефана было мало королевских достоинств, и государство скоро начало ускользать из его рук. Освободившись от суровой руки Генриха I, бароны стали укреплять свои замки, а их примеру последовали, ради самозащиты, и прелаты, и те бароны, которые были правителями при покойном короле. Рожер, епископ Солсберийский, юстициарий, и его сын Рожер, канцлер, тоже заразились всеобщей паникой. Они укрепили свои замки и стали являться при дворе не иначе как с сильным конвоем. Слабый король вдруг прибег к крутым мерам. Он захватил в Оксфорде Рожера вместе с сыном и племянником епископа Линкольнского и заставил их сдать ему замки. Этот позор до того поразил Рожера, что он умер в конце того же года, а его племянник Нигель, епископ Или и казначей, был изгнан из государства.
Падение семьи Рожеров потрясло всю систему правления. Крутые меры короля лишили его поддержки духовенства и открыли Матильде путь в Англию; вскоре вся страна разделилась на две части: запад поддерживал Матильду, Лондон и восток — Стефана. Поражение при Линкольне и плен Стефана заставили всю страну признать Матильду своей государыней, но презрение, с которым она отвергла притязания Лондона на сохранение старых привилегий, побудило его граждан снова взяться за оружие, а решение Матильды держать Стефана в плену возродило его партию. Вскоре Стефан был освобожден и осадил Матильду в Оксфорде, откуда она тайно бежала и, перейдя через реку по льду, прибыла в Абингдон. Через шесть лет она возвратилась в Нормандию.
Рис. Матильда (королева Англии), дочь Генриха I.
Война на деле стала сплошной цепью грабежей и кровопролития. Насилие феодальных баронов показало, от каких ужасов избавило Англию суровое правление нормандских королей. Нигде бедствия народа не изображаются в таких ужасных красках, как в конце «Английской летописи», последние звуки которой замирают среди ужасов той эпохи. «Они вешали людей за ноги и коптили их едким дымом. Иных они вешали за большие пальцы, других — за головы, а к ногам их привешивали зажженные тряпки. Они опутывали головы людей узловатыми веревками и закручивали их до тех пор, пока они не проникали до мозга. Они сажали людей в темницы, где кишели змеи и жабы. Многих своих жертв они заключали в короткие, узкие и неглубокие ящики с острыми камнями и так втискивали людей, что у них ломались все кости. Во многих замках находились чудовищные и ужасные цепи, поднять которые едва могли два или три человека. Эти цепи прикреплялись к бревну и своей острой железной стороной обвивали шею и горло человека, так что он не мог ни сидеть, ни лежать, ни спать. Многие тысячи людей они уморили голодом».
От этой феодальной анархии Англия была избавлена благодаря усилиям церкви. В начале царствования Стефана его брат Генрих, епископ Уинчестерский, действовавший в Англии в качестве папского легата, старался заменить исчезнувшую власть короля или нации авторитетом церковных соборов и утверждением нравственного права церкви на то, чтобы объявлять королей недостойными престола. Договор между королем и народом, ставший частью Конституции в Хартии Генриха I, получил новую силу в Хартии Стефана, но естественный вывод отсюда об ответственности короля за выполнение договора был сделан впервые теми церковными соборами. Низложение Стефана и Матильды послужило прецедентом для позднейшего низложения Эдуарда и Ричарда и для торжественного акта об изменении престолонаследия в эпоху Иакова.
Хотя формы представляются тут странными и произвольными, все же они провозглашали право нации на достойное правление. Сам Генрих Уинчестерский, «полумонах полусолдат», как его называли, имел слишком мало духовного влияния, чтобы пользоваться настоящей духовной властью; лишь в конце царствования Стефана нация получила действительно нравственного руководителя в лице Теобальда, архиепископа Кентерберийского. «Церкви, — справедливо говорил впоследствии Фома Бекет, гордясь сознанием того, что он был правой рукой Теобальда, — Генрих II обязан своей короной, а Англия — своим освобождением». Фома был сыном Жильберта Бекета, портового старшины Лондона; на месте его дома и теперь еще стоит Mercer’s chapel (памятник) в Чипсайде.
Его мать, Рогеза, была типичной благочестивой женщиной того времени. Она ежегодно взвешивала своего сына в день его рождения и раздавала бедным столько денег, платья и провизии, сколько он весил. Фома вырос среди нормандских баронов и духовных особ, посещавших дом его отца и вносивших в него дух вольности, умеряемой нормандским образованием; окончив школу в Мертоне, он отправился в Парижский университет, а возвратившись назад, повел жизнь, свойственную молодым дворянам той эпохи. Он был высок, красив, остроумен и красноречив; твердость характера сказывалась даже в его забавах: чтобы спасти своего сокола, упавшего в воду, он однажды бросился под мельничную плотину и едва не был раздавлен колесом.
Потеря отцовского состояния заставила Фому поступить ко двору архиепископа Теобальда, и вскоре он стал доверенным лицом примаса в деле освобождения Англии. В это время сын Жоффруа и Матильды Генрих II после смерти своего отца стал повелителем Нормандии и Анжу, а брак с герцогиней Элеонорой прибавил к его владениям еще и Аквитанию. Фома как агент Теобальда пригласил Генриха II посетить Англию, и по его прибытии архиепископ выступил посредником между претендентами на корону. Уоллингфордский договор устранял бедствия долгой анархии: замки должны были быть уничтожены, государственные земли — возвращены короне, иностранные наемники — изгнаны из страны. Королем был признан Стефан, в свою очередь объявивший наследником Генриха II. Едва прошел год, как смерть Стефана отдала престол Англии его сопернику.
Глава VIII ГЕНРИХ ВТОРОЙ (1154—1189 гг.)
Как ни был молод Генрих II при своем вступлении на престол, но он уже выработал определенную систему правления, которую упорно проводил в свое царствование. Его практичный, гибкий характер был к лицу самому упорному работнику своего времени. Плотно сложенная фигура, багровое лицо, коротко остриженные волосы, выпуклые глаза, бычья шея, грубые сильные руки, искривленные ноги — все это указывало на резкого, грубого человека дела. «Он никогда не садится, — говорил один из близко знавших его людей, — он всегда на ногах, с утра до ночи». Он был методичен в работе, равнодушен ко внешности, умерен в пище, сам никогда не отдыхал и не давал покоя другим; он отличался разговорчивостью и любознательностью, его обращение выделялось особенной прелестью, а память — силой; он был постоянен в любви и ненависти, хорошо образован, прекрасный охотник. Все указывало в нем на грубого, страстного, делового человека.
Личные качества Генриха II наложили печать на все его царствование. Восшествие его на престол отмечает период слияния англичан и нормандцев в один народ — слияния, ускоренного соседством, развитием торговли и взаимными браками. Так начало развиваться национальное чувство, перед напором которого должны были исчезнуть пережитки старого феодализма. К феодальному прошлому Генрих II относился даже с меньшим почтением, чем его современники; он был совсем лишен поэтического чувства, которое заставляет людей относиться с участием к прошлому вообще. Как человек практики он не терпел помех, которые его реформы встречали в старом устройстве страны; он даже не мог понять упорство людей, отказывавшихся получить несомненные улучшения за счет обычаев и традиций минувших дней.
Рис. Генрих II.
Теоретически он не был противником существования в государстве сил, ограничивающих его власть, но ему казалось вполне естественным и разумным подавлять дворянство и духовенство, чтобы добиться хорошего правления. Он ясно видел, что единственное средство против той анархии, от которой Англия страдала при Стефане, заключалось в установлении королевского правления, не стесняемого в своей деятельности сословными и классовыми привилегиями; исполнителями в нем должны были быть королевские слуги, а бароны — только уполномоченными государя. Задачей Генриха II и было провести эту идею в своих судебных и административных преобразованиях; но он не имел никакого понятия о великих движениях мысли и чувства, шедших в том же направлении. Он просто игнорировал нравственные и социальные влияния, которые действовали на окружавших его людей. Религия все более отождествлялась с патриотизмом в глазах короля, который во время обедни свистел, писал, рассматривал книги с картинками, никогда не исповедовался, а в припадках гнева — и богохульствовал. Крупные народы формировались по обе стороны моря вокруг государя, а все силы его ума были направлены на поддержание единства империи, которую должен был неизбежно разрушить рост национального сознания. Много трагического величия в положении Генриха II, этого Сфорцы XV века, перенесенного в середину XII столетия, старавшегося при помощи терпения, ловкости и силы создать государство, противоречащее глубочайшим стремлениям века и осужденное на уничтожение народными силами, само существование которых скрывали от него его ловкость и энергия. Но косвенно и непреднамеренно его политика более, чем политика всех его предшественников, подготовила Англию к единству и свободе, которые должны были обнаружиться после падения его дома.
Как известно, Генрих II был возведен на престол при содействии церкви. Первым делом нового короля было исправление всех зол прежнего царствования через восстановление правительственной системы Генриха I; по совету и при помощи Теобальда иностранные грабители были изгнаны из Англии; замки, несмотря на сопротивление баронов, разрушены, Королевский суд и казначейство восстановлены. Преклонный возраст и болезни принудили, однако, примаса вскоре отказаться от поста министра, и его власть перешла в более сильные и молодые руки Фомы Бекета, который давно уже действовал в качестве его доверенного советника, а теперь был сделан канцлером. Фома пользовался особенным расположением короля. У них, по выражению Теобальда, были «одни сердце и ум». Генрих II часто веселился в доме канцлера или срывал с его плеч платье, когда они скакали по улицам. Он осыпал своего любимца богатствами и почестями, но нет оснований думать, чтобы Фома имел какое-нибудь влияние на его правительственную систему; все хорошие и дурные стороны политики Генриха II принадлежали ему лично.
Король упорно продолжал свою реформаторскую работу среди внутренних смут и внешних затруднений. Восстание в Уэльсе заставило его перевести армию через границу. В следующем году он уже переплывал на ту сторону Ла-Манша, где был обладателем трети территории теперешней Франции. Он унаследовал от отца Анжу, Мен и Турень, от матери — Нормандию, а семь провинций юга — Пуату, Сентонж, Ангумуа, Ламарш, Лимузен, Перигор и Гасконь принадлежали его жене. Как герцогиня Аквитанская, Элеонора имела притязания на Тулузу, и в 1159 году Генрих II решился отстаивать их силой оружия. Однако в войне он не был удачлив. Французский король Людовик бросился в Тулузу, и Генрих II, понимая слабую связь своих обширных владений, уклонился от открытой борьбы с сюзереном; он отвел войска, и война закончилась в 1160 году формальным союзом и помолвкой старшего сына Генриха II с дочерью Людовика.
Фома храбро сражался во время всего похода во главе рыцарей, составлявших его свиту, но король предусмотрел для него иную деятельность. По смерти Теобальда он тотчас заставил кентерберийских монахов избрать Бекета архиепископом. Скоро обнаружилась и цель, которую преследовал Генрих II этим назначением. Король предложил епископам, чтобы всякий клирик, изобличенный в преступлении, лишался сана и передавался в суды короля. Судебные реформы Генриха I ограничили значение местных феодальных судов, и единственное крупное отступление от системы, сосредоточивавшей всю юрисдикцию в руках короля, представляли церковные суды, созданные Завоевателем, с их исключительным правом суда над духовным сословием — другими словами, над всеми образованными людьми королевства. Епископы соглашались, но сопротивление оказал именно тот прелат, которого король выдвинул для проведения своих планов.
Рис. Фома Бекет.
С момента своего назначения Фома отдался обязанностям нового звания со всей страстностью своей натуры. При первом извещении о намерении Генриха II он со смехом указал на свое нарядное платье, говоря: «Красивый костюм избрали вы для главы ваших кентерберийских монахов»; но однажды став монахом и примасом, он быстро перешел от роскоши к аскетизму. Еще будучи министром, он противился планам короля и предсказал их будущую вражду: «Вы скоро возненавидите меня так же сильно, как теперь любите, — сказал он, — ибо я никогда не соглашусь с Вашими притязаниями на безграничную власть над церковью». Благоразумный человек мог сильно сомневаться в разумности устранения единственного прикрытия, защищавшего веру и образование против деспота, подобного Рыжему королю, и в глазах Фомы церковные привилегии составляли часть священного наследия церкви. Он остался без поддержки; папа Римский советовал ему быть уступчивее, епископы покинули его, так что наконец Фома вынужден был принять постановления, составленные на соборе в Кларендоне. Король ссылался на древние обычаи королевства, и для установления их было созвано собрание в Кларендоне, близ Солсбери. Доклад, представленный епископами и баронами, и образовал свод «Кларендонских постановлений», большинство которых только восстанавливали систему Вильгельма Завоевателя. Выборы каждого епископа или аббата должны были происходить в присутствии королевского чиновника в королевской капелле и с согласия короля. Избранный прелат еще до посвящения должен был принести присягу королю и получить от него во владение земли в качестве лена, подлежащего всем феодальным повинностям. Ни один епископ не имел права выехать за границу без разрешения короля. Ни один из высших вассалов или королевских чиновников не мог быть отлучен от церкви, а его земля — подвергнута интердикту без согласия короля.
Новыми в этих постановлениях были лишь статьи, касавшиеся вопроса о подсудности духовенства. Королевскому суду было предоставлено право решать вопрос, какие из спорных между светскими и духовными лицами дел лежат в компетенции духовных и какие — светских судов. Королевский чиновник должен был присутствовать при разборе дел в духовных судах, дабы эти суды не выходили из пределов предоставленной им власти, и признанный виновным клирик тотчас же предавался в руки гражданских властей. При отказе в правосудии от суда архиепископа позволялось апеллировать к суду короля, но никто не мог апеллировать к папе Римскому иначе как с согласия короля. Право убежища, которым пользовались храмы и церковные дворы, было отменено, поскольку оно касалось имущества, а не личности.
После упорного сопротивления примас дал, наконец, согласие на эти постановления, но скоро взял его назад, а дикая злоба короля дала ему случай одержать над ним нравственную победу. Против него выдвинули ложные обвинения, и несколько месяцев спустя, на соборе в Нортгемптоне, все убеждали Фому смириться, так как опасность грозит самой его жизни; но именно в присутствии опасности и проявилось его мужество во всем своем величии. Взяв в руки свой архиепископский крест, он явился в королевский суд, протестовал против права баронов судить его и апеллировал к папе Римскому. Крики «Изменник! Изменник!» сопровождали удаляющегося архиепископа. Примас обернулся и гордо сказал: «Будь я еще рыцарем, мой меч ответил бы на это подлое оскорбление».
С наступлением ночи Фома бежал переодетым и через Фландрию пробрался во Францию. В течение шести лет шла упорная борьба: в Париже и в Риме агенты обеих сторон интриговали друг против друга. Генрих II унизился до изгнания из Англии родственников примаса и угрозы конфисковать земли цистерцианцев, чтобы принудить монахов Понтиньи отказать Фоме в убежище, а Фома выводил из терпения своих друзей, расточая отлучения от церкви и упорно повторяя оскорбительное ограничение: «Если это не будет противоречить чести моего сана», — ограничение, на деле уничтожавшее королевские реформы. Папа Римский советовал ему быть уступчивее, французский король на время лишил его своей поддержки, сами его друзья пошли наконец на уступки. «Встань, — сказал иронически один из них, когда его лошадь споткнулась на дороге, — спасая честь церкви и моего сана».
Но ни уговоры, ни бегство друзей не могли поколебать твердости примаса. Под страхом папского отлучения Генрих II решился на коронацию своего сына архиепископом Йоркским, вопреки привилегиям Кентербери; но успехи в Италии развязали папе Римскому руки, и угроза интердикта заставила Генриха II выказать притворную покорность. Архиепископу, после примирения его с королем в Фретевале, было позволено в 1170 году возвратиться, и жители Кента встретили его радостными приветствиями, когда он въезжал в Кентербери. «Это Англия», — сказал ему один из клириков, увидев белые утесы берегов. «Не пройдет и пятидесяти дней, как тебе захочется уехать оттуда», — мрачно заметил Фома, и это предсказание показало, как он понимал Генриха II.
Теперь он был во власти короля, и от имени молодого Генриха II уже были посланы приказы об аресте, когда четверо рыцарей, возбужденных страшным взрывом гнева их повелителя, переплыли пролив и проникли во дворец архиепископа. После бурных переговоров с ним в его комнате они вышли, чтобы взять оружие. Клирики увлекли Фому в собор, но когда он подошел к лестнице, ведущей на хоры, то его преследователи ворвались в храм из боковых коридоров. «Где, — закричал Реджиналд Фитцурс во мраке полуосвещенного собора, — где этот изменник Фома Бекет?» Примас смело вернулся назад. «Я здесь, — отвечал он, — но я не изменник, а служитель Божий», и, спустившись по ступеням, он прислонился спиной к колонне и встретил своих врагов.
Вся храбрость, весь пыл прежней рыцарской жизни, казалось, ожили в Фоме, когда он отражал угрозы и требования нападавших. «Ты наш пленник!» — закричал Фитцурс, и четверо рыцарей схватили архиепископа, чтобы вытащить его из церкви. «Не трогай меня, Реджиналд, помни, сводник ты этакий, что ты клялся мне в верности!» — воскликнул примас и оттолкнул его изо всех сил. «Бей, бей его», — закричал тогда Фитцурс, и один удар за другим повергли Фому на землю. Слуга Ранульф де Брок рассек мечом череп примаса. «Уйдем — воскликнул он с торжеством, — изменник больше не встанет!»
Весть о зверском убийстве была встречена с ужасом во всем христианском мире; на могиле мученика совершались чудеса, он был канонизирован и стал самым популярным из английских святых; только притворное смирение Генриха II перед папой Римским избавило его от отлучения, грозившего ему за кровавое дело. Судебные статьи Кларендонских постановлений были формально отменены, свобода выборов в епископы и аббаты — восстановлена, но, в сущности, победа осталась за королем. В течение всего его царствования назначение духовных лиц фактически находилось в его руках, и совет короля сохранил за собой право надзора за духовным судом епископов.
Окончание борьбы позволило Генриху II закончить начатое дело реформ. Он уже раньше воспользовался походом на Тулузу, чтобы нанести удар феодальному дворянству, позволив мелким вассалам откупаться от полевой службы за известную сумму, называвшуюся «scutage», или «щитовым сбором». Благодаря этому король получил возможность обходиться без военной помощи своих вассалов, на собранные деньги нанимая взамен их иностранных солдат. За ослаблением военного значения баронов последовали меры, ограничивавшие их судебные права. Были восстановлены разъезды судей, и им было поручено объехать поместья баронов и исследовать их привилегии; в то же время должности шерифов были отняты у крупных баронов и переданы законоведам и придворным, уже пополнявшими состав судей.
Недовольство баронов нашло повод выразиться тогда, когда старший сын Генриха II, после коронации при жизни отца получивший титул короля, потребовал, чтобы отец отдал ему правление Англией; Генрих II ему в этом отказал, и он бежал во Францию, к королю Людовику VII. Франция, Фландрия и Шотландия создали союз против Генриха II, а младшие его сыновья, Ричард и Жоффруа, подняли против него оружие в Аквитании. Высадка фламандских наемников в Англию под предводительством графа Лестерского была отбита верными юстициариями, но едва Людовик VII вступил в Нормандию и осадил Руан, как обнаружилась вся громадность опасности. Шотландцы перешли границу, Рожер Мобрей поднял восстание в Йоркшире, а Феррере, граф Дерби, — в центральных областях; Хью Бигод — на востоке; фламандский флот готовился поддержать восстание высадкой на берег.
Убийство архиепископа Фомы еще тяготело над Генрихом II, и первым его делом по приезде в Англию было поклонение гробнице нового мученика и публичное самобичевание для искупления греха. Едва исполнен был обряд покаяния, как все опасности были рассеяны рядом удач. Король шотландский Вильгельм Лев под прикрытием тумана был застигнут врасплох и попал в руки министра Генриха II, Ранульфа Гланвилля, а по отступлении шотландцев и мятежные бароны поспешили сложить оружие. С армией наемников, привезенных из-за моря, Генрих II мог вернуться в Нормандию, освободить Руан от осады и смирить своих сыновей. За восстанием баронов последовали новые удары по их могуществу. Следующий шаг в этом направлении представляла военная организация королевства, введенная через несколько лет в силу — «Ассиза оружия» — и возвращавшая народному ополчению то же значение, которое оно имело до завоевания. Замена военной службы щитовым сбором поставила корону вне зависимости от баронов и их вассалов; «Ассиза оружия» (1181 г.) заменила эту феодальную организацию прежним порядком, в силу которого каждый фримен был обязан являться на защиту государства. Всякий рыцарь должен был спешить на зов короля в собственной кольчуге со щитом и копьем, всякий фригольдер — в панцире и с копьем, всякий горожанин или бедный фримен — с копьем и в шлеме. Таким образом, сбор войска для защиты государства был поставлен в полную зависимость от воли короля.
Все перечисленные меры составляли лишь часть законодательства Генриха II. Его царствование, как верно замечено, положило начало царству закона и этим отличалось от деспотизма нормандских королей, то чисто личного, то умеряемого рутиной. В ряде «ассиз», или сводов, издаваемых с одобрения Совета баронов и прелатов, систематическими реформами он усовершенствовал административные мероприятия Генриха I. Наше судебное законодательство начинается с Кларендонской ассизы (1166 г.), главной целью которой было упрочить в государстве порядок, восстановив древнеанглийскую систему взаимного поручительства (frankpledge). Ни один чужак не имел права останавливаться не иначе как в городе, да и то не более чем на сутки, если не мог представить поручительства в хорошем поведении; список таких лиц представлялся разъездным судьям.
В постановлениях этой ассизы относительно преследования за преступления мы находим зачатки суда присяжных заседателей, так часто относимого к более древнему времени. Двенадцать благонадежных человек от каждой сотни вместе с четырьмя гражданами от каждой общины обязывались присягой представлять известных или подозреваемых преступников в их округе к испытанию «судом Божьим». Таким образом, эти присяжные были не только свидетелями, но действовали также и как судьи при обвинениях, и этот двойственный характер присяжных Генриха II сохранился в нашем «Большом жюри», которое и поныне обязано, после выслушивания свидетелей, подвергать обвиняемых суду. Два дальнейших шага придали учреждению его современную форму. При Эдуарде I к общим присяжным стали в каждом случае присоединять свидетелей, знакомых со спорным фактом; в позднейшее время два этих разряда присяжных обособились: последние стали простыми свидетелями, без всякой судебной власти, а первые совсем перестали быть свидетелями и стали современными присяжными, которые осуждают на основании данных показаний.
Эта ассиза также уничтожила господствовавший в Англии с древнейших времен обычай «очистительной присяги», в силу которого обвиняемый мог быть оправдан на основании добровольной присяги его соседей и родственников. В последующие 50 лет после исследования «Большого жюри» процесс ограничивался «судом Божьим», причем невиновность доказывалась способностью обвиняемого держать в руке раскаленное железо или тонуть в воде; если обвиняемый выплывал, то это доказывало его виновность. Уничтожение всей системы ордалий Латеранским собором привело к установлению так называемого «малого жюри» для окончательного суда над узниками. Кларендонская ассиза тотчас же после восстания баронов была дополнена Нортгемптонской. Как уже говорилось, Генрих II восстановил Королевский совет и деятельность разъездных судей. Новая ассиза придала этому учреждению постоянство и правильность разделением королевства на шесть округов, из которых в каждый назначалось по трое судей. В общем, эти округа еще соответствуют ныне существующим.
Основной целью этих объездов была финансовая, но рядом со сбором доходов короля шло отправление королевского суда. Это проникновение правосудия во все уголки королевства приобрело еще большее значение благодаря отмене всех феодальных изъятий из королевского суда. Главная опасность новой системы заключалась в возможности подкупа судей; и действительно, злоупотребления были так велики, что скоро принудили Генриха II на время ограничить число судей пятью и разрешить апелляции от их приговоров в Королевский совет. Преобразованный таким образом апелляционный «суд короля» в Совет с течением времени породил ряд трибунов. От него произошли судебные полномочия, принадлежащие теперь Тайному совету, а также Совестный суд канцлера.
В следующем веке Королевский совет превратился в Великий совет королевства, от которого Тайный совет получил свою законодательную, а Палата лордов — судебную власть. Суд Звездной палаты и Судебный комитет Тайного совета представляют собой позднейшие порождения апелляционного суда Генриха II. Собственно Королевский суд уступил первое место этим высшим судам и после Великой хартии разделился на три отдельных палаты — Королевской скамьи, Казначейства (Exchequer) и Общих дел (Common Pleas); каждый из этих судов в эпоху Эдуарда I получил особых судей и стал во всем самостоятельным.
В течение десяти лет, следовавших за восстанием баронов, могущество Генриха II достигло высшей степени, а вторжение в Ирландию, о котором мы расскажем позже, подчинило ее английской короне. Но его реформаторская деятельность была внезапно прервана смутами и восстаниями его сыновей. Старшие его сыновья, Генрих и Жоффруа, умерли один за другим; тогда против него стал интриговать Ричард, ставший наследником престола и правителем Аквитании, в союзе с преемником Людовика VII Филиппом II. Дело кончилось открытым разрывом, Ричард признал себя вассалом Филиппа II, и союзники внезапно появились перед Лемансом, заставив Генриха II бежать в Нормандию.
С горы, где он остановился взглянуть на пылающий город, столь дорогой ему как место его рождения, король кинул проклятие Богу: «Так как Ты отнял у меня мой любимый город, город, в котором я родился и вырос, в котором покоится прах моего отца, то я отомщу Тебе за это — я отниму у Тебя то, что Ты считаешь во мне дороже всего». Смерть уже стояла за спиной у Генриха II, предсмертное желание влекло его к Отечеству его рода, но когда он достиг Сомюра, Тур уже пал и преследуемый король должен был просить у врагов пощады. Они показали ему список заговорщиков, и король увидел во главе его имя своего младшего и любимого сына Иоанна. «Ну, — сказал он тогда, обернувшись лицом к стене, — теперь пусть дела идут как угодно; я более не забочусь ни о себе, ни о мире». Его повезли в Шинон по серебристым волнам Венны, и, бормоча: «Стыд, стыд побежденному королю», — он печально скончался.
Глава IX ПАДЕНИЕ АНЖУЙЦЕВ (1189—1204 гг.)
Нам нет необходимости следовать за Ричардом в его крестовый поход, занявший начало его царствования и на четыре года оставивший Англию без правителя, следить за его битвами в Сицилии, завоеванием Кипра, победой при Яффе, бесплодным походом на Иерусалим, перемирием с Саладином, кораблекрушением на обратном пути, двухкратным заточением в Германии. Когда он освободился из плена и вернулся, то встретился с новыми опасностями. В его отсутствие королевство находилось в руках Вильяма Лоншана, епископа Или, бывшего главой светской и духовной власти в государстве в качестве юстициария и папского легата. Лоншан был верным слугой короля, но его вымогательства и презрение к англичанам возбудили против него сильную ненависть баронов, нашедших себе предводителя в лице Иоанна, так же изменившего брату, как и отцу. Интриги Иоанна с баронами и французским королем привели, наконец, к открытому возмущению, быстро, впрочем, подавленному, благодаря находчивости нового примаса, Губерта Уолтера, а возвращение Ричарда сопровождалось полной покорностью его брата.
Но если Губерт Уолтер сумел сохранить порядок в Англии, то за морем Ричард столкнулся с такими опасностями, значения которых он со своей проницательностью, не мог не оценить. Он не обладал административными талантами отца, был менее искусен в дипломатических интригах, чем Иоанн, но он был далеко не простым солдатом. Страсть к приключениям, гордость физической силой, прорывавшееся временами романтическое великодушие сталкивались в нем с хитростью, бессовестностью и страстностью его рода. Тем не менее в душе он был политиком столь же холодным и терпеливым в исполнении своих планов, сколько и смелым в их составлении. «Дьявол на свободе. Берегитесь!» — писал Филипп II Иоанну при известии об освобождении короля. Беспокойное честолюбие Филиппа II раздражали воспоминания об оскорблениях, перенесенных им во время крестового похода, и он воспользовался планом Ричарда, чтобы напасть на Нормандию, в то время как аквитанские бароны подняли восстание с трубадуром Бертраном де Борном во главе.
Недовольство чужестранным правлением, насилием наемных солдат, жадностью и притеснением финансовых чиновников, суровостью и строгостью правления и судов побудили к восстанию против анжуйцев всех баронов их владений на материке. Не было преданности анжуйцам и среди народа. Даже Анжу, родина их семьи, так же сильно тяготела к Филиппу II, как и Пуату. Зато в военном искусстве Ричард стоял гораздо выше Филиппа II. Он задержал его на нормандской границе, захватил его казну, усмирил мятежников Аквитании. Англия стонала под тяжестью налогов: с нее был только что взят чрезвычайный налог для выкупа короля из плена, и тем не менее Губерт Уолтер снова собрал большую сумму денег на содержание армии наемников, которую Ричард повел против врагов. В течение короткого перемирия Ричард при помощи подкупа отвлек от союза с Францией Фландрию и побудил к восстанию против Филиппа II графов Шартра, Шампани и Булони вместе с бретонцами. Большую помощь ему оказало избрание его племянника, Оттона, на германский престол, и его посол, Уильям Лоншан, заключил с Германией союз, который должен был обратить немецкое оружие против короля Франции. Однако для успеха столь широких планов необходимо было спокойствие Нормандии, а Ричарду было ясно, что при ее защите нельзя полагаться на верность местного населения. Его отец еще мог указывать на свое происхождение через Матильду от Рольва, но на самом деле анжуйский правитель был для Нормандии чужестранцем. Нормандцы не могли сколько-нибудь симпатизировать анжуйскому государю, двигавшемуся вдоль границ с толпами брабантских наемников, среди которых совсем не встречалось имен старых нормандских баронов и которыми командовал провансальский разбойник Меркаде.
Чисто стратегическая позиция, избранная королем Ричардом для постройки новой крепости, посредством которой он думал оберегать границу, указывает на ясное понимание им того, что Нормандию можно было удерживать только силой оружия. Как памятник военного искусства его «дерзкий замок» (Шато-Гайяр) представляет собой одно из лучших средневековых укреплений. Он построен на том месте, где Сена при Гайоне вдруг поворачивает к северу, образуя большой полукруг, и где долина Les Andelys прерывает линию меловых утесов, идущих вдоль реки. Зеленые леса вдали венчают горы, внутри излучины реки расстилается широкий луг, вокруг которого извивается усеянная зелеными островками Сена, отражая в волнах цвет неба и, как серебряная дуга, направляясь дальше к Руану.
Рис. Замок Шато-Гайяр.
Замок составлял часть укрепленного лагеря, которым Ричард намеревался прикрыть свою нормандскую столицу. Доступ от реки преграждался палисадником и понтонным мостом, а также фортом на одном из островов посреди реки и крепкой башней, построенной в долине Гамбона, тогда непроходимом болоте. В углу между этой долиной и Сеной, на известковой горе, соединенной с главной возвышенностью только узким перешейком, над рекой на высоте 300 футов возвышалась главная крепость. Внешние укрепления крепости и стены, соединявшие ее с городом и палисадником, большей частью исчезли, но время и рука человека мало коснулись главных укреплений — глубокого рва, высеченного в твердой скале, с вырубленными по его бокам казематами, узорчатой стены цитадели, огромной башни, возвышавшейся над темными кровлями и скученными постройками деревни Les Andelys. Даже теперь среди развалин крепости мы можем понять торжествующий возглас царственного строителя, когда он увидел ее, поднимающейся к небу: «Как прекрасно мое детище, хотя ему всего один год!»
Беспрепятственное покорение Нормандии после сдачи замка Шато-Гайяр доказало потом проницательность Ричарда; но в его характере проницательность и дальновидность соединялись с наклонностью к грубому насилию и полным равнодушием к честности. «Я взял бы этот замок, если бы даже его стены были из железа!» — в гневе воскликнул Филипп II, узнав о его постройке. «Я отстоял бы его, даже если бы стены его были из масла», — вызывающе отвечал Ричард. Земля, на которой была построена крепость, принадлежала церкви, и архиепископ Руанский за ее захват наложил на Нормандию интердикт. Король встретил это насмешками и плел интриги в Риме до тех пор, пока интердикт не был снят: также он обратил мало внимания и на смутивший его придворных «кровавый дождь». «Если бы ангел с неба повелел Ричарду оставить его дело, говорил беспристрастный наблюдатель, — то и на это он ответил бы проклятием».
Рис. Ричард I Львиное сердце.
Двенадцатимесячная упорная работа действительно так укрепила границы Нормандии, что Ричард мог нанести Филиппу II давно задуманный удар. Не хватало только денег, и король со всей жадностью своего рода отнесся к толкам о сокровище, найденном на полях Лимузена. Говорили, будто барон Шалюс нашел двенадцать золотых рыцарей, сидящих вокруг золотого стола. Во всяком случае, там был клад, который и привлек Ричарда к стенам замка. Но последний упорно держался, и жадность короля перешла в дикие угрозы; он клялся перевешать всех мужчин, женщин и даже грудных детей. Среди этих угроз пущенная со стены стрела повергла его наземь. Он умер так же, как и жил, обуреваемый дикой страстью, удерживавшей его в течение последних семи лет от исповеди опасением того, что его заставят простить Филиппа II; в то же время он с царским великодушием простил поразившего его стрелка.
С его смертью анжуйские владения распались на части. Иоанн был признан королем Англии и Нормандии; герцогиня, его мать, обеспечила ему также Аквитанию; но Анжу, Мен и Турень присягнули Артуру, сыну его старшего брата Жоффруа, покойного герцога Бретани. Артуру повредило честолюбие Филиппа II, защищавшего его интересы; анжуйцы восстали против французских гарнизонов, при помощи которых Филипп II действительно подчинил себе область, и Иоанн был признан наконец государем всех владений своей семьи. Возобновление войны в Пуату оказалось роковым для соперника: застигнутый под стенами Мирбо быстрым маневром короля, Артур в качестве пленника был отвезен в Руан и там убит, как думали многие, самим его дядей.
Это грубое насилие сразу же вызвало восстание французских провинций, и в то же время Филипп II двинулся прямо на Нормандию. Легкость ее завоевания может быть объяснена лишь полным отсутствием сопротивления со стороны самих нормандцев. За полвека до того появление французов в стране заставило бы всех крестьян, от Авранша до Дьеппа, взяться за оружие, а теперь город за городом сдавались по первому требованию Филиппа II, и едва завоевание окончилось, как Нормандия стала одной из преданнейших провинций Франции. Многое здесь объясняется мудрым либерализмом, с которым Филипп II отнесся к притязаниям городов на свободу и самоуправление, а также превосходными силами и военным искусством, с каким было совершено завоевание.
Но полное отсутствие всякого сопротивления проистекало из более глубоких причин. Для нормандцев завоевание было переходом от одного иностранного властителя к другому, из которых Филипп II был даже ближе, чем Иоанн. Между Францией и Нормандией было много лет как вражды, так и дружбы; Нормандию и Анжу разделяло столетие жесточайшей ненависти. Сверх того, подчинение Франции было лишь осуществлением зависимости, давно уже существовавшей: Филипп II вступил в Руан как сюзерен нормандских герцогов; между тем подчинение анжуйскому дому было самым унизительным подчинением равному. Сознавая такое настроение нормандцев, Иоанн вынужден был отказаться от всякого сопротивления после неудачной попытки освободить замок Шато-Гайяр, с осады которого Филипп II и начал свое вторжение.
Искусство, с которым были задуманы сложные маневры для его спасения, доказало военную ловкость короля. Силы осаждавших были разделены Сеной на две части, из которых большая находилась в низине, у изгиба реки, а другой отряд был переправлен через нее для занятия Гамбонской долины и истребления припасов в окрестностях. Иоанн и предполагал разрезать французскую армию пополам, разрушив понтонный мост, служивший единственным средством сообщения между обоими отрядами, а затем напасть со всеми силами на французов, расположившихся в излучине реки и не имевших другого выхода, кроме моста. Если бы нападение было совершено так же искусно, как задумано, то оно привело бы к гибели Филиппа II; но оба натиска не были произведены в одно и то же время и поэтому были последовательно отражены.
Неудача сопровождалась полным распадом военной системы, при помощи которой анжуйцы удерживали Нормандию: казна Иоанна была пуста, и его наемники перешли к неприятелю. В отчаянии Иоанн обратился с воззванием к населению герцогства, но было уже слишком поздно: бароны договаривались с Филиппом II, города не могли сопротивляться французам. Отчаявшись получить содействие Нормандии, Иоанн отправился за море искать его, столь же напрасно, в Англии, но с падением замка Шато-Гайяр после его храброй защиты вся провинция без сопротивления перешла в руки французов.
В 1204 году Филипп II с таким же поразительным успехом обратился на юг: Мен, Анжу и Турень подчинились ему без особого сопротивления, а после смерти Элеоноры их примеру последовала и большая часть Аквитании. Уцелело немногое, кроме области к югу от Гаронны; из властителя огромной империи, простиравшейся от Тайна до Пиренеев, Иоанн сразу превратился в короля одной Англии. С падением замка Шато-Гайяр решилась и судьба Англии; грандиозные развалины на высотах Les Andelys тем и интересны, что представляют собой падение не только крепости, но и всей системы. С мрачной башни и разрушенных стен замка мы видим не только прелестную долину Сены, но и поросшую осокой равнину Реннимида.
РАЗДЕЛ III ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ (1204—1265 гг.)
Глава I АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПРИ НОРМАНДСКИХ И АНЖУЙСКИХ КОРОЛЯХ
Характер нового английского народа, с которым пришлось иметь дело Иоанну после изгнания из Нормандии, лучше всего нам поможет понять обозрение английской литературы за пройденный период.
В борьбе с Бекетом Генриху II оказал большую помощь постепенный переворот, положивший начало отделению класса собственно литераторов от класса чисто духовного. В более ранние эпохи нашей истории литература получила свое начало в церковных школах и находила себе защиту против невежества и насилия эпохи в церковных привилегиях. Почти все наши писатели, от Беды Достопочтенного до времени анжуйцев, были или священниками, или монахами. Оживление литературы, последовавшее за завоеванием, было чисто церковным; духовный толчок, данный монастырем Беком Нормандии, преодолел пролив вместе с новыми нормандскими аббатами, поселившимися в больших английских монастырях, и с этого времени ученые кабинеты (scriptoria), в которых переписывались и иллюстрировались главнейшие произведения латинских отцов церкви и классиков, составлялись жития святых и отмечались события в монастырских летописях, составляли необходимую принадлежность всякой сколько-нибудь значительной духовной обители.
Но эта литература носила скорее светский, чем духовный характер. Даже богословские и философские труды Ансельма не вызвали в Англии появления ни одной работы по богословию и метафизике. Литературное оживление после завоевания выразилось, по преимуществу, в старой исторической форме. В Дергеме Тергот и Симеон перевели на латинский язык народные летописи до эпохи Генриха I, обращая особое внимание на дела севера, а два приора в Гекземе — пустынной области, отделявшей Англию от Шотландии, отметили первые события царствования короля Стефана.
Это были только бесцветные записи простых летописцев; первые признаки влияния чисто английского чувства на новую литературу мы встречаем лишь в жизнеописаниях английских святых, составленных в Кентербери Осберном, и в рассказе Идмера о борьбе Ансельма с Вильгельмом Рыжим и его преемником. Еще заметнее это пробуждение национального гения у двух последующих историков. Военные песни английских завоевателей Британии сохранил Генрих, архидьякон Гентингдонский, включавший их в свою летопись, составленную по творениям Беды и по хронике, а баллады, представлявшие собой народные предания об английских королях, были тщательно собраны Уильямом, библиотекарем в Малмсбери.
Всего заметнее новое направление английской литературы проявилось в Уильяме. В его личности, как и в произведениях, отразилось начавшееся слияние двух народов: наполовину англичан, наполовину нормандцев. Уильям симпатизировал и той, и другой нации. Форма и стиль его сочинений указывают на влияние классической литературы, изучение которой стало тогда распространяться во всем христианском мире. Будучи монахом, он отказался от старых церковных образцов и от прежней летописной формы. Он группировал события, не обращая внимания на хронологию; его живой рассказ течет быстро, свободно, часто прерывается отступлениями из области общеевропейской и церковной истории. В этом отношении Уильям является первым из историков политического и философского направления, которые скоро появились в прямой связи с двором и из которых наиболее замечательными были автор летописи, обычно приписываемой Бенедикту Питерборо, и его продолжатель Рожер Гоуден.
Оба они занимали судебные должности при Генрихе II и, благодаря своему положению, были отлично осведомлены о внутренних и внешних делах, были знакомы со многими официальными документами и стояли на чисто государственной точке зрения, излагая столкновения короля с церковью. Та же свобода от церковных предрассудков, в соединении с замечательным критическим талантом, отличает и историю Уильяма, написанную в далеком Йоркширском монастыре. Английский двор стал, между тем, центром чисто светской литературы. Трактат Ранульфа Гланвилля, юстициария Генриха II, представляет собой древнейшее сочинение об английском праве, а трактат королевского казначея Ричарда Фиц Пиля о казначействе — первое исследование об английском правлении.
Еще более светский характер носят произведения священника, претендовавшего на сан епископа, Джеральда де Барри. Джеральд может считаться отцом нашей народной литературы и родоначальником политического и церковного памфлета. В его жилах уэльская кровь смешалась с нормандской, как показывает его имя, Giraldus Cambrensis, и горячность кельтской расы одинаково проявилась и в его произведениях, и в личной жизни. Отличный ученый в Париже, архидьякон реформатор в Уэльсе, остроумнейший из придворных капелланов, беспокойнейший из епископов, Джеральд стал самым веселым и забавным из всех современных ему писателей.
Под его пером величавая латинская речь приобретала живость и живописность языка жонглеров, он был тонким классиком, но презирал всяческий педантизм. «Лучше совсем не писать, чем писать непонятно, — говорил он в защиту своего нового слога, — новое время требует и новой формы для литературных произведений, и потому я совсем отказался от старой и сухой манеры иных авторов и стремился усвоить способ выражения, господствующий теперь». Его трактат о завоевании Ирландии и его описание Уэльса составляют, в сущности, отчеты о двух путешествиях, предпринятых им в эти страны с Иоанном и архиепископом Балдуином; в них заметны также наблюдательность, здравомыслие и смелость. Это нечто вроде живых блестящих писем, которые мы встречаем в корреспонденциях современных газет.
В том же тоне написаны и его политические памфлеты: множество острот, запас анекдотов, удачные цитаты, природная язвительность и критическая проницательность, ясность и живость изложения соединяются у него с такими смелостью и пылкостью, которые делали его обличения опасными даже для такого правителя, как Генрих II. Нападки, в которых Джеральд изливал свой гнев против анжуйцев, послужили источником для половины всех скандальных сплетен о Генрихе II и его сыновьях, проникших даже в историю. Всю жизнь Джеральд домогался кафедры святого Давида, и хотя это ему и не удалось, но его ядовитое перо сыграло свою роль в пробуждении духа нации к борьбе с короной.
Явно враждебный церкви тон заметен почти с самого начала у певцов рыцарских поэм. Эти песни давно уже нашли доступ ко двору Генриха I, где под покровительством королевы Матильды предания об Артуре, столь долго лелеявшиеся кельтами Бретани и завезенные в Уэльс свитой изгнанника Риса Тюдора, вошли в «Историю бриттов» Готтфрида Монмута. Мифы, легенды, предания, классический педантизм эпохи, надежды уэльсцев на будущее торжество над саксами, воспоминания о крестовых походах и о мировом государстве Карла Великого, — все смешалось в произведении этого смелого рассказчика, в произведении, сразу получившим громаднейшую популярность.
Альфред Беверлейский перенес выдумки Готтфрида в область серьезной истории, а двое нормандских труверов, Гаймар и Вас, переложили их на французские стихи. Доверие к этим рассказам было так велико, что Генрих II посетил могилу Артура в Гластонбери, а его внук, сын Жоффруа и Констанции Бретанской, носил имя кельтского героя. Из произведения Готтфрида выросла мало помалу целая поэма о Круглом столе. В Бретани история Артура слилась с более древней и мистической легендой о волшебнике Мерлине, а легенда о Ланселоте превратилась, благодаря странствовавшим из замка в замок менестрелям, в известный рассказ о рыцаре, забывшем свой долг ради любви к женщине. История о Тристраме и Гавайне, раньше столь же самостоятельная, как и рассказ о Ланселоте, была вовлечена вместе с ним в водоворот поэм об Артуре; а когда церковь, ревниво относившаяся к популярности рыцарских поэм, создала для противодействия им поэму о Святой чаше (святом Граале), содержащей в себе видимую для одних лишь чистых сердцем кровь Христа, то придворный поэт Вальтер де Maп слил враждебные легенды вместе, заставив Артура и его рыцарей странствовать по морю и суше в поисках святого Грааля и увенчав свое произведение фигурой сэра Галагада, представляющего тип идеального рыцаря «без страха и упрека».
Вальтер де Maп был представителем внезапно расцветшей литературной, общественной и религиозной критики, которая появилась вслед за развитием рыцарской поэзии и свободной историографии при дворе обоих Генрихов. Он родился на границе Уэльса, учился в Париже, был любимцем короля, его капелланом, юстициарием и посланником, а его талант отличался такой же разносторонностью, как и плодовитостью. С одинаковой легкостью воспроизводил он и праздную болтовню в своих «Придворных мелочах» (Courtly Trifles), и характер рыцаря Галагада; но во всю силу развернулся его талант, когда он от рыцарской поэзии обратился к церковной реформе и воплотил современные ему злоупотребления в образе епископа Голиафа.
В откровении и исповеди этого воображаемого прелата отразилось настроение Генриха II и его двора в эпоху борьбы с Бекетом. Картина за картиной срывают маску с распущенности средневековой церкви, разоблачают ее нерадивость, погоню за наживой, скрытую безнравственность. Все духовенство, от папы Римского до приходского священника, под пером поэта преданно лишь корыстолюбию: что прозевает епископ, того не пропустит архидьякон, что уплывает от архидьякона, не избегнет рук настоятеля, в то время как толпа мелких причетников с жадностью окружает этих крупных грабителей.
Из массы фигур, заполняющих картину старика, — священников-совместителей, аббатов, «красных, как их вино», монахов, обжирающихся и болтающих, как попугаи, в своих трапезных, выделяется филистимский епископ, легкомысленный, бессовестный, чувственный, пьяный, распутный Голиаф, соединяющий в себе все гнусности; в его лоб и летит острый камень сатиры нового Давида.
Однако подобные произведения на латинском и французском языках могут относиться к английской литературе только потому, что авторами их были англичане. Разговорным языком массы народа остался, несомненно, как и прежде, английский. Сам Вильгельм Завоеватель пытался изучить его, чтобы принимать личное участие в суде; через столетие после завоевания лишь несколько слов вкралось в английскую речь из языка завоевателей. Даже английская литература, изгнанная из двора чужестранных королей ее модной соперницей — литературой латинских схоластов, сохранилась не только в поэтических переложениях Евангелия и псалмов, но и в великом памятнике нашей прозы — в английской летописи.
Летопись прекращается в Питербороском аббатстве только в жалкое царствование Стефана. Но «Изречения» Альфреда (Sayings of Aelfred), ставшего идеалом английского короля и сосредоточившего вокруг своего имени легендарное поклонение великому прошлому, доказывают, что английская пародийная литература была жива еще в эпоху Генриха II, а с утратой Нормандии и возвращением Иоанна в его островное королевство совпадает по времени появление великого произведения английской поэзии. «Жил в стране священник по имени Лайямон; был он сыном Леовената, — да будет милостив к нему Господь! Жил он в Эрнли, славной церкви на берегу Северна (прекрасной казалась она ему!), около Редстона, где читал книги. И пришло ему на ум и стало его любимой мыслью, что нужно ему рассказать о благородных деяниях англичан, как звали первых пришедших в эту землю людей, и откуда они пришли».
Путешествуя повсюду по стране, священник из Эрнли нашел труды Беды и Васа, а также книги святых Албина и Лустина. «Лайямон положил перед собой эти книги и стал их перелистывать; любовно он на них смотрел, — да будет милостив к нему Господь! Потом он взял перо, исписал пергамент, соединяя подходящие слова, и три книги сократил в одну». Церковь Лайямона существует и поныне в Эрнли в Уорчестершире. Его поэма была, в сущности, расширением Васова «Брута» вставками из творений Беды; в историческом отношении она не имеет значения, но как памятник языка — бесценна.
Она показывает, что английский язык и при нормандцах, и при анжуйцах остался без изменений. В более чем тридцати тысячах строк можно найти не более пятидесяти нормандских слов. Даже в стихосложении автор придерживался старой английской традиции: аллитерация только слегка нарушается рифмованными окончаниями, уподобления вполне напоминают несколько естественных сравнений Кедмона, сцены битв рисуются с той же простой и грубоватой веселостью. Нельзя считать простой случайностью то, что английский язык возродился в литературе как раз накануне великой борьбы между нацией и королем. Искусственные формы жизни, наложенные завоеванием, спали с народа и его литературы, и новая Англия, одухотворенная кельтской живостью де Мапа и нормандской смелостью Джеральда, восстала на борьбу с Иоанном.
Глава II ИОАНН (1204—1215 гг.)
«Как ни гнусен ад, но и его запятнало появление гнусного Иоанна». Ужасный приговор современников короля сменился трезвым судом истории. Внешне Иоанн отличался живостью, проницательностью, веселостью, любезностью в обращении — характерными качествами своего рода. Злейшие враги признавали, что он упорно и постоянно занимался управлением. Он любил ученых людей, вроде Джеральда Уэльского. У него был странный талант приобретать дружбу мужчин и любовь женщин. Но в нравственном отношении Иоанн был действительно худшим представителем анжуйцев. Их наглость, эгоизм, необузданное распутство, жестокость, деспотичность, бессовестность, суеверность, циничное равнодушие к вопросам чести и правды сливались у него в одну массу гнусностей.
Уже в детстве он с грубым легкомыслием рвал бороды ирландским вождям, явившимся признать его своим повелителем. Неблагодарностью и вероломством он свел в могилу отца. По отношению к брату он оказался гнуснейшим изменником. Весь христианский мир считал Иоанна убийцей своего племянника, Артура Бретанского. Он разошелся с одной женой и изменил другой. Его казни отличались утонченной жестокостью: он до смерти морил голодом детей, давил стариков свинцовыми колпаками. Его двор был чуть ли не распутным домом, где ни одна женщина не была в безопасности от его королевской похоти, а цинизм позволял ему разглашать позор жертв. Он был настолько же труслив в суеверии, насколько смел в нечестии. Он смеялся над священниками, поворачивался спиной к алтарю во время обедни даже во время торжеств по случаю его коронации; в то же время он никогда не отправлялся в путешествие, не повесив на шею ладанки с мощами.
Но наряду с чрезвычайной порочностью он унаследовал и великие таланты своего рода. Принадлежавший ему план освобождения замка Шато-Гайяр, быстрый марш к Мирбо, разбивший надежды Артура, выявили в нем военное дарование. Широтой и быстротой воплощения своих политических планов он далеко превосходил политиков своего времени. В течение всего царствования он быстро оценивал трудности своего положения и был неистощимым в придумывании средств борьбы с ними. Разрушение его материковой державы только побудило его к образованию большого союза, чуть не приведшего Филиппа II к гибели, а на внезапное восстание всей Англии он отвечал заключением позорного союза с папством.
Рис. Иоанн.
Более внимательное изучение истории Иоанна снимает обвинения в лености и неспособности, которыми люди старались объяснить глубину его падения. Грозный урок его жизни заключается в том, что не слабый и беспечный распутник, а, напротив, самый способный и бессовестный из анжуйцев лишился Нормандии, стал вассалом папы Римского и погиб в отчаянной борьбе с английской свободой.
Вся энергия короля направилась сначала на возвращение утраченных им на материке владений. Он нетерпеливо собирал деньги и людей для поддержки приверженцев Анжуйского дома в Пуату и Гиени, еще боровшихся с французами, и направил летом 1205 года армию в Портсмут, как вдруг исполнение его плана было остановлено решительным сопротивлением примаса и графа Пемброка, Уильяма Маршалла. Бароны и церковь были так унижены его отцом, что оппозиция их представителей указала Иоанну на новое появление духа национальной свободы. Король тотчас же приготовился к борьбе с ней. Смерть примаса Губерта Уолтера через несколько недель после его протеста, казалось, давала королю возможность ослабить оппозицию церкви, поставив во главе ее одну из своих креатур. По его настоянию кентерберийские монахи выбрали примасом епископа Норвичского Джона Грея; между тем на предварительном, хотя и неофициальном собрании ими уже был избран их суб-приор Реджинальд.
Соперники поспешили апеллировать в Рим; результат их апелляции поразил как их, так и короля. Занимавший в то время папский престол Иннокентий III развил дальше, чем кто-либо из его предшественников, свои притязания на верховенство над христианством; после тщательного исследования дела он кассировал оба спорных избрания. Решение, вероятно, было справедливым, но Иннокентий III на этом не остановился: из любви к власти или, как можно думать, не рассчитывая на свободные выборы в самой Англии, он приказал явившимся к нему монахам избрать в его присутствии архиепископом Стефана Лангтона. Лучшего выбора нельзя было и сделать, потому что Стефан достиг звания кардинала единственно благодаря своей учености и святости жизни, а дальнейшие события поставили его в первые ряды английских патриотов. Но сам по себе этот шаг был нарушением прав и церкви, и короны. Поэтому король воспротивился выбору Лангтона, а на угрозы папы Римского интердиктом в случае недопущения Стефана к занятию кафедры отвечал, что вслед за интердиктом он выгонит из Англии духовенство и изувечит всех итальянцев, которых ему удастся захватить в королевстве.
Однако папа Римский Иннокентий III был не таким человеком, чтобы отступать от своего намерения, и наконец над Англией разразился интердикт. Во всей стране, за исключением немногих привилегированных орденов, прекратилось всякое богослужение, всякое совершение таинств, кроме крещения, замолкли церковные колокола, умершие оставались без погребения. Король отвечал на это конфискацией церковных земель, подчинением духовенства (вопреки его привилегиям) королевским судам, частым отсутствием наказания за наносимые церковникам обиды. «Отпустите его, — сказал Иоанн, когда однажды к нему привели уэльсца, обвиняемого в убийстве священника, — он убил моего врага».
Прошел год, прежде чем Иннокентий III сделал следующий шаг: он формально отлучил Иоанна от церкви, но и новая кара была встречена с таким же глумлением, как прежняя. Пятеро епископов бежали за море, повсюду распространялось тайное недовольство, но открыто никто не решался избегать отлученного короля. Архидьякон Норвича, отказавшийся служить, был задавлен до смерти свинцовым колпаком, и этого намека было достаточно, чтобы отбить охоту у прелатов и баронов следовать его примеру. Король оставался в одиночестве, бароны его чуждались, и церковь была против него, и тем не менее его власть казалась непоколебимой. С первых же дней своего царствования он оскорблял баронов: данное им при восшествии на престол обещание загладить несправедливости его брата осталось неисполненным, а когда просьба была повторена, то он ответил на нее захватом их замков и взятием баронских детей в заложники их верности.
Издержки его бесплодных военных попыток покрывались новыми тяжелыми налогами, а распри с церковью и боязнь восстания только усилили угнетение баронов. Он отправил в изгнание одного из самых могущественных своих маркграфов, де Браоза, а его жену и внуков, как говорили, заморил голодом в королевских тюрьмах. Баронам, еще остававшимся из страха при дворе отлученного от церкви короля, он наносил оскорбления хуже самой смерти: незаконные вымогательства, захват замков, явное предпочтение чужестранцев, — все это было пустяками в сравнении с покушениями на честь жен и дочерей баронов. Они все еще покорялись, и могущество короля проявилось в той быстроте, с какой он подавил восстание баронов в Ирландии и возмущения в Уэльсе.
Одно только средство оставалось в руках папы Иннокентия III: отлученный от церкви король переставал быть христианином и терял право на верность христианских подданных. Как духовный глава христианского мира папа Римский присваивал себе право лишать такого короля престола и передавать его другому, более достойному; и Иннокентий III наконец счел нужным воспользоваться этим правом. Он издал буллу о низложении Иоанна, объявил против него крестовый поход и поручил исполнение своего приговора Филиппу II Французскому. Иоанн и эту буллу встретил с прежним презрением: он позволил даже папскому легату, кардиналу Пандульфу, провозгласить его низложение в собственном присутствии в Нортгемптоне. Затем он собрал огромную армию на Бергемских холмах, а английский флот, переплыв пролив, захватил много французских кораблей, сжег Дьепп и тем самым устранил всякую опасность вторжения.
Не в одной только Англии проявлял Иоанн силу и активность. При всей своей низости он в высокой степени обладал политической ловкостью, присущей его дому, и выказал себя равным отцу в дипломатических уловках, которыми старался предотвратить опасность со стороны Франции. Баронов Пуату он уговорил напасть на Филиппа II с юга; на севере он купил за деньги помощь графа Фландрского. Германский король Оттон обязался привести немецкую конницу для поддержки вторжения во Францию. Среди таких дипломатических успехов Иоанн внезапно пошел на уступки.
Фактически отказаться от прежней линии поведения его заставило выявление внутренней опасности. Булла о низложении ободрила всех его врагов. Шотландский король вступил в отношения с папой Римским Иннокентием III; только что усмиренные уэльские князья снова подняли оружие. Иоанн перевешал их заложников и собрал войско для нового вторжения в Уэльс, но набранная им армия стала только новым источником опасностей. Не будучи в состоянии противиться открыто, бароны почти поголовно вступили в тайные заговоры; многие из них обещали помочь Филиппу II в случае его высадки.
Увидев себя окруженным тайными врагами, Иоанн спасся только поспешным роспуском войска и бегством в Ноттингемский замок. Ни наглая самоуверенность, ни дипломатическая ловкость не позволяли ему больше не видеть его полной изолированности. Находясь в состоянии войны с Римом, Францией, Шотландией, Ирландией и Уэльсом, враждуя с церковью, король вдруг понял, что ему изменяет единственная сила, еще остававшаяся в его распоряжении. С отличавшей его стремительностью он пошел на уступки. Прощением штрафов он попытался вернуть себе расположение народа. Он поспешно начал переговоры с папой Римским, согласился принять архиепископа и обещал возвратить отнятые у церкви деньги.
Бессовестная изворотливость короля особенно проявилась в его рвении немедленно привлечь на свою сторону Рим, обратить его духовное оружие против своих врагов, воспользоваться им для разрушения объединившегося против него союза. Его переменчивый характер имел в виду только непосредственные выгоды. 15 мая 1213 года он преклонил колени перед папским легатом Пандульфом, передал свое королевство папскому престолу, получив его назад уже в качестве податного лена, присягнул на верность и подданство папе как своему сюзерену.
Как позже полагали, будто вся Англия затрепетала от негодования при известии об этом неслыханном национальном позоре. «Он сделался папским слугой; он отказался от самого звания короля; из свободного человека он добровольно стал рабом», — говорят, роптала вся страна. Однако в свидетельствах современников тех лет мало следов подобного настроения. Как политическая мера подчинение Иоанна сопровождалось полным успехом. Французская армия тотчас разошлась в бессильной ярости, а когда Филипп II двинулся на поднятую против него Иоанном Фландрию, то пятьсот английских кораблей под командованием графа Солсбери напали на флот, сопровождавший его армию вдоль берега, и нанесли ему сокрушительное поражение.
Давно созданная Иоанном лига наконец проявила свою деятельность. Сам король отправился в Пуату, собрал вокруг себя тамошнее дворянство, победоносно перешел Луару и отбил Анжер, родину своего семейства. В то же время Оттон, подкрепив свои силы фландрским и булонским рыцарством и отрядом англичан, угрожал Франции с севера. Филипп II казался погибшим, а между тем от исхода этой борьбы зависела и судьба английской свободы. В этот критический момент Франция оказалась верной себе и своему королю: из всех французских городов жители спешили на выручку Филиппу II, священники вели свою паству на битву с церковными хоругвями впереди.
Обе армии встретились близ Бувинского моста, между Лиллем и Турне, и с самого начала счастье повернулось к союзникам спиной: первыми пустились в бегство фламандцы; потом в центре были опрокинуты массами французов немцы; наконец было прорвано правое крыло англичан — энергичной атакой епископа Бове, напавшего с палицей в руке на графа Солсбери и повергшего его на землю. Вести об этом поражении дошли до Иоанна во время его успехов на юге и развеяли по ветру все его надежды. Бароны тотчас же покинули Пуату, и только быстрое отступление позволило ему вернуться расстроенным и униженным в свое островное королевство.
Своей Великой хартией Англия обязана поражению при Бувине. С момента подчинения папе Римскому Иоанн лишь отложил мщение баронам до времени победоносного возвращения из Франции. Сознание грозившей им опасности побудило баронов к сопротивлению: сначала они отказались следовать за королем в заграничный поход до снятия с него отлучения, а когда оно было снято, они отказались снова под предлогом, что не обязаны служить вне королевства. Как он ни был взбешен новым сопротивлением, но для мести время еще не пришло, и Иоанн отправился в Пуату, мечтая о большой победе, которая сразу повергнет к его ногам и Филиппа II, и баронов. Когда он возвратился в Англию после поражения, то нашел баронов уже не в тайном заговоре, а в открытом союзе, с определенными требованиями закона и свободы.
Руководителем этой великой перемены явился новый архиепископ, возведенный папой Иннокентием III на кафедру Кентербери. С момента приезда в Англию Стефан Лангтон занял свое обычное положение примаса в качестве защитника древних английских порядков и закона от деспотизма королей. Как Ансельм боролся с Вильгельмом Рыжим, как Теобальд избавил Англию от беззаконий Стефана, так Лангтон решил сопротивляться и спасти страну от тирании Иоанна. Он уже заставил короля обещать соблюдение «законов Эдуарда Исповедника» — выражение, включавшее все национальные вольности. Когда бароны отказались от похода в Пуату, он побудил короля решить вопрос не оружием, а судебным порядком.
Однако, не довольствуясь этим сопротивлением отдельным случаям тирании, архиепископ стремился восстановить древнеанглийскую свободу на формальном основании. Обязательства Генриха I были давно забыты, когда юстициарий Жоффри Фиц-Петер извлек их на свет на собрании, происходившем в Сент-Олбансе. Тут юстициарий от имени короля обещал достойное управление на будущее и запретил всем королевским чиновникам под страхом смерти и изувечения всякое вымогательство. Он гарантировал королевский мир тем, кто прежде противился Иоанну, и обязал всех жителей страны соблюдать законы Генриха I. Лангтон сразу понял всю важность такого прецедента. На новом собрании баронов у собора святого Павла он прочел хартию Генриха I, и она была тут же принята за основание необходимых реформ.
Все зависело, однако, от исхода французской кампании. Поражение при Бувине ободрило противников Иоанна, и после возвращения короля бароны устроили тайное собрание в Сент Эдмундсбери и поклялись требовать от него если понадобится, силой оружия восстановления своих вольностей особой хартией с королевской печатью. В начале января 1215 года они явились вооруженными к королю и предъявили ему свои требования. Несколько последующих месяцев убедили Иоанна в бесплодности всякого сопротивления: все бароны и духовенство были против него, а комиссары, посылаемые им для защиты его дела на собраниях графств, возвращались с известиями, что ни один человек не станет помогать ему в борьбе против хартии.
На Пасху бароны снова собрались, вооруженные, в Беркли и повторили свои требования. «Почему они не требуют у меня моего королевства?» — воскликнул в припадке гнева Иоанн, по при его отказе вся страна восстала как один человек. Лондон отворил свои ворота войскам баронов, собравшимся теперь под командой Роберта Фитцуолтера как «маршала армии Бога и святой церкви». Примеру столицы последовали Эксетер и Линкольн; Шотландия и Уэльс обещали, со своей стороны, помощь; северные бароны поспешно шли на соединение со своими товарищами в Лондоне. Был момент, когда у Иоанна оставалось только семь рыцарей, а против него выступала с оружием вся страна. Он призвал наемников, апеллировал к своему сюзерену, к папе Римскому, но было поздно. Тогда, затаив гнев в сердце, тиран подчинился необходимости и созвал баронов на совещание в Реннимиде.
Глава III ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ (1215—1217 гг.)
Местом совещания был выбран остров на Темзе, между Стенсом и Виндзором; король расположился на одном берегу, бароны — на другом, в болотистой низине, которая и теперь известна как Реннимид. Уполномоченные с обеих сторон сошлись на острове, но переговоры служили простым прикрытием для безусловного подчинения Иоанна. Великая хартия была рассмотрена, принята и подписана в один день.
Одна из ее копий, хотя и поврежденная временем и огнем, но с сохранившейся на почерневшем и сморщенном пергаменте королевской печатью, и поныне хранится в Британском музее. Невозможно смотреть без почтения на древнейший памятник английской вольности, который мы можем видеть своими глазами и осязать руками, и на который патриоты последующих веков смотрели как на основу английской свободы. Но сама по себе хартия не была новшеством и не претендовала на установление каких-либо новых конституционных начал. В ее основе лежала хартия Генриха I, а добавления к ней представляли собой большей частью формальное признание юридических и административных реформ Генриха II. Но неопределенные выражения прежней хартии были заменены точными и отчетливыми постановлениями. Признанное прежней хартией английское обычное право казалось слишком слабым для обуздания анжуйцев, и бароны заменили его теперь ограничениями писаного закона.
В этом смысле хартия представляет собой переход от эпохи традиционных прав, сохранявшихся в народной памяти и официально провозглашенных примасом, к последующему веку писаного закона, парламентов и статутов. Церковь проявила свою способность к самозащите с помощью интердикта, и статья хартии, которой признаются ее права, единственная из всех удержала свою древнюю и общую форму. Но всякая неопределенность тотчас же исчезает, как только хартия переходит к определению прав англичан вообще на правосудие, на личную и имущественную безопасность, на достойное управление.
«Ни один свободный человек, — гласит приснопамятная статья хартии, легшая в основу всей нашей судебной системы, — не может быть арестован, посажен в тюрьму, лишен имущества, объявлен вне закона или разорен каким бы то ни было способом не иначе как по законному приговору своих пэров или на основании законов страны». «Ни одному человеку, — гласит другая статья, — мы не будем продавать или отказывать, или отсрочивать право или правосудие». Великие реформы предшествовавшего царствования были теперь формально признаны: акцизные судьи были обязаны объезжать свои округа четыре раза в год; королевский суд должен был заседать в определенном месте, а не сопровождать, как это делалось прежде, короля в его поездках по стране. Но отказ в правосудии был мелочью по сравнению с вопиющими финансовыми злоупотреблениями, практиковавшимися при Иоанне и его предшественнике.
Ричард увеличил размер введенного Генрихом II «щитового сбора» и воспользовался им для сбора средств, чтобы выкупить себя. Он восстановил под названием «плужного сбора» (carucage) так часто уничтожавшиеся «датские деньги», или поземельный налог, захватывал шерсть цистерцианцев и их церковную утварь и облагал налогами не только землю, но и движимость. Иоанн снова повысил «щитовой сбор» (scutage), вводил сборы, штрафы и выкупы по своему усмотрению, без совещания с баронами.
Великая хартия устранила это злоупотребление, установив порядок, на котором зиждется наш конституционный строй. За исключением трех обычных феодальных сборов, оставленных за короной, «ни один налог не может быть взимаем в нашем королевстве без согласия совета королевства», на который прелаты и крупные бароны должны приглашаться специальными уведомлениями (writ), а прочие вассалы короля — через шерифов и бальи не менее чем за сорок дней до этого. Статья, вероятно, только излагала общепринятый обычай королевства, но это изложение обратило обычай в национальное право, притом настолько важное, что на него опирается вся наша парламентская жизнь.
Тех прав, которых бароны домогались для себя, они требовали и для всей нации. Благо свободного и неподкупного правосудия было благом для всех, но особое постановление охраняло бедняка. Штраф с фримена за совершенное им преступление не мог затрагивать его земли, с купца — его товаров, с ремесленника — его земледельческих орудий. Даже у виновного должны были оставаться средства для существования. Подвассалы или арендаторы гарантировались хартией от незаконных вымогательств лордов в тех же выражениях, в каких сами лорды гарантировались от вымогательств короны. Городам было обеспечено пользование их муниципальными привилегиями, свободой от произвольного обложения, правами суда, общего совещания, регулирования торговли. «Пусть город Лондон пользуется всеми своими старыми вольностями и свободой от податей как на суше, так и на воде. Сверх того, мы желаем и позволяем, чтобы все остальные города, местечки и порты пользовались всеми вольностями и свободой от податей».
Влияние торгового класса заметно в двух других постановлениях, из которых одно гарантирует иностранным купцам свободу передвижения и торговли, а другое устанавливает для всего государства единство весов и мер. Оставался только один вопрос, и притом самый трудный: как обеспечить порядок, вводимый хартией в управление королевством. Непосредственные злоупотребления были легко устранены; заложники были возвращены по домам, иностранцы — изгнаны из страны. Труднее было найти средства для контроля над королем, которому никто не доверял. Для этого был избран совет из двадцати пяти баронов, обязанный наблюдать за выполнением хартии Иоанном с правом объявлять королю войну в случае ее нарушения. Наконец хартия была распространена по всей стране и ей, по повелению короля, присягнули все сотенные и общинные собрания.
«Они поставили надо мной двадцать пять опекунов!» — кричал в припадке ярости Иоанн, катаясь по полу и грызя от бессильной злобы ветки и солому. Но его ярость скоро сменилась интригами, на которые он был такой мастер. Через несколько дней он покинул Виндзор и несколько месяцев провел на южном берегу в ожидании известий о помощи, которой он просил у Рима и Европы. Недаром же он сделался вассалом Рима. В то время как Иннокентий III мечтал об обширной христианской империи, глава которой, папа Римский, следил бы за соблюдением начал права и веры государями, Иоанн рассчитывал на то, что поддержка папы позволит ему править так самовластно, как он захочет и что папские громы будут всегда так же к его услугам, как теперь английские армии готовы защищать деспотизм турецкого султана или Низама Гайдебарадского.
Его посланники уже действовали в Риме, и папа Римский Иннокентий III, раздраженный тем, что вопрос, подлежавший решению им как сюзереном, был разрешен вооруженным восстанием, уничтожил Великую хартию и отклонил Стефана Лангтона от исполнения обязанностей примаса. Осенью под знамя короля прибыл из-за моря отряд иноземных наемников и король двинулся на расстроенные силы баронов, голодом принудил Рочестер к сдаче и пошел дальше к северу, опустошая все центральные графства, в то время как наемники рассыпались, подобно саранче, по всей стране. Из Бервика торжествующий король повернул назад и наказал своих врагов в Лондоне, на которых, как и на баронов, папа Римский наложил в это время новые отлучения.
Но лондонцы насмеялись над Иннокентием III: «Решение светских дел не касается папы», — сказали они, и эти слова представляются как бы предвестием грядущего лоллардизма. По совету Симона Лангтона, брата архиепископа, колокола продолжали звонить и богослужение совершалось по-прежнему. Тем не менее недисциплинированной милицией сел и городов невозможно было справиться с регулярными войсками короля, и бароны в отчаянии обратились за помощью к Франции. Филипп II давно уже ждал случая отомстить Иоанну, его сын Людовик тотчас принял корону, несмотря на папские отлучения, и высадился со значительной армией в Кенте.
Как и предвидели бароны, служившие в армии Иоанна французские наемники отказались сражаться против своего короля, и положение дел сразу изменилось. Покинутый большей частью войск Иоанн был вынужден поспешно отступить к границам Уэльса, а его соперник вступил в Лондон и принял присягу большей части Англии. Один только Дувр упорно держался против Людовика. Рядом быстрых атак Иоанну удалось расстроить планы баронов и отстоять Линкольн; затем, после короткой остановки в Линне, он перешел Уаш и снова двинулся на север. Но в этом переходе его армия была захвачена приливом, унесшим королевский обоз вместе с казной. Растерявшийся король подхватил лихорадку в аббатстве Суайнесхед; болезнь усилилась благодаря его обжорству, и он вступил в Ньюарк только для того, чтобы умереть.
Смерть Иоанна совсем изменила ситуацию: его сыну Генриху было всего девять лет, и королевская власть перешла в руки одного из великих английских патриотов, графа Уильяма Маршалла. Едва только Генрих был коронован, как Маршалл и папский легат издали от его имени ту самую хартию, против которой до смерти боролся его отец. Только статьи, касавшиеся налогообложения и созыва парламента, были пока объявлены недействительными. Тогда бароны быстро стали покидать лагерь Людовика IX: против него восставали национальное самосознание и боязнь измены; в то же время сострадание, пробужденное малолетством и беспомощностью Генриха, усиливалось сознанием того, что несправедливо взваливать на ребенка ответственность за проступки отца.
Одним смелым ударом граф Уильям Маршалл решил исход борьбы. Объединенная армия французов и английских баронов под командованием графа Перча и Роберта Фитцуолтера осадила Линкольн, когда на его освобождение двинулся Маршалл, поспешно собрав войска из королевских замков. Стесненные в крутых и узких улицах и атакованные в одно время Маршаллом и гарнизоном, бароны в отчаянии бежали. Граф Перч пал на поле битвы, Роберт Фитцуолтер был взят в плен. Людовик, в это время осаждавший Дувр, отступил к Лондону и послал за помощью во Францию. Но еще более тяжелое поражение сокрушило его последние надежды. Небольшой английский флот, вышедший из Дувра под командованием Губерта де Борга, смело напал на подкрепления, переправлявшиеся под охраной известного тогда на Ла-Манше пирата, Евстафия Монаха.
Это сражение наглядно показывает особенности морской войны того времени. С палуб английских кораблей стрелки пускали стрелы в массу транспортных судов, другие бросали неприятелям в лицо известь, а более подвижные суда своими острыми носами пробивали бока французских кораблей. Искусство моряков «пяти портов» одержало верх над численным превосходством противников, и флот Евстафия был совершенно разбит. Королевская армия тотчас двинулась на Лондон, но борьба, в сущности, была закончена. По договору, заключенному в Ламбете, Людовик обещал покинуть Англию взамен на уплату суммы, которой он требовал в качестве долга. Его сторонникам возвращалось их имущество, вольности Лондона и других городов подтверждались, пленники с обеих сторон выпускались на свободу. Изгнание чужеземца позволило английским политикам вернуться к делу реформ, а новое издание хартии, хотя и в измененной форме, ясно указывало на характер и политику графа Маршалла.
Глава IV УНИВЕРСИТЕТЫ
От политических бурь обратимся теперь к более спокойному, но не менее важному перевороту, со времени которого ведет свое начало наше национальное образование. После царствования Генриха III английские университеты стали оказывать заметное влияние на духовную жизнь страны. О первоначальной истории Кембриджа мы знаем очень мало или, вернее, ничего, но зато можем проследить первые шаги Оксфорда на пути к духовному возвышению. Учреждение высших школ было повсюду в Европе частным результатом влияния, оказанного крестовыми походами. На Западе при столкновении его с более культурным Востоком появилось стремление к образованию. Путешественники, вроде Абеляра Батского, приносили из школ Кордовы и Багдада первые начатки физических и математических наук.
В XII веке классическое Возрождение снова сделало Цезаря и Вергилия предметом изучения в монастырских школах и наложило свою печать на педантичный стиль и частные классические цитаты у таких писателей, как Уильям Малмсберийский или Иоанн Солсберийский. В школах Парижа появилась схоластическая философия, а изучение римского права было возобновлено болонскими юристами. Долгий умственный застой феодальной Европы исчез, как лед под лучами летнего солнца. Странствующие учителя вроде Ланфранка или Ансельма переезжали моря и горы с целью распространения новой силы знания. Тот же дух тревоги, исследования, недовольства старыми формами жизни, который увлек половину христиан ко Гробу господню, покрыл дороги тысячами юношей, спешивших в те города, где собирались наставники.
В мире, доселе признававшем лишь грубую силу, появилась новая власть. Бродячие учителя были бедны, принадлежали иногда даже к рабскому классу, но толпы, собиравшиеся у их ног почти в каждом монастыре, называли их «господами», наставниками (masters). Абеляр был противником, достойным угроз соборов, громов церкви. Учение простого ломбардца получило в Англии такое значение, что навлекло на себя королевский запрет. Вакарий был, вероятно, гостем при дворе архиепископа Теобальда, где Бекет и Иоанн Солсберийский уже занимались изучением гражданского права; но когда он начал читать по этой науке лекции в Оксфорде, то Стефан, враждовавший тогда с церковью и завидовавший влиянию, которое упадок королевской власти принес Теобальду, велел их тотчас прекратить.
Ко времени прибытия Вакария Оксфорд был одним из самых значительных городов Англии. Его городская церковь святого Мартина высилась среди массы скученных домов, которые были обнесены массивными городскими стенами, построенными на сухой почве низкого полуострова, образованного реками Черуэль и Верхней Темзой. К востоку и западу местность постепенно понижалась; к югу крутой спуск вел через болотистые луга к городскому мосту. Местность вокруг города была дикой, лесной. По течению Темзы тянулись болота, большие леса замыкали горизонт с юга и востока. Две высоких башни нормандского замка указывали на стратегическое значение Оксфорда, командовавшего долиною реки, по которой преимущественно шла торговля Южной Англии, но стены города служили для него гораздо меньшей защитой, чем окружавшие его со всех сторон, кроме севера, болотистые луга и запутанная сеть протоков, на которые делится Темза в лугах Оснея.
Среди этих лугов возвышалось аббатство августинских каноников, которое вместе с более древним приорством святого Фридуайда придавало городу некоторое церковное значение. Пребывание в замке нормандских баронов д’Ольи, частые посещения английскими королями их дворца за городскими стенами, нередкие созывы в Оксфорде важных собраний — все это свидетельствовало о его политическом значении в государстве. Устройство в самом центре города одного из богатейших еврейских кварталов Англии указывало на его оживленную торговлю. Оксфорд служит показателем того, какой переворот произошел в стране при нормандских владельцах, как внезапно развилась в ней промышленная деятельность, активизировалась торговля, увеличилось благосостояние в эпоху, следовавшую за завоеванием. К западу от города возвышался один из величественнейших в Англии замков, а в лугах ниже по течению — не менее величавое аббатство Осней. На полях к северу от города последний из нормандских королей построил свой Бомонский дворец. Каноники святого Фридуайда возвели церковь, действующую и поныне как кафедральный собор, а набожные нормандские кастеляны перестроили почти все приходские церкви города и создали в стенах нового замка храм каноников святого Георгия.
Мы ничего не знаем о причинах, привлекших студентов и преподавателей в стены Оксфорда. Возможно, что здесь, как и в других местах, какой-нибудь новый учитель оживил прежние учебные заведения и что в монастырях Осней и святого Фридуайда уже имелись школы, получившие более широкое значение под влиянием Вакария. Пока, однако, успехи Оксфордского университета затмевались славой Парижского. Английские студенты тысячами собирались вокруг кафедр Шампо или Абеляра. Англичане составляли одну из «наций» французского университета. Иоанн Солсберийский прославился как один из парижских преподавателей. Бекет перешел в Париж из своей Мертонской школы.
В мирное царствование Генриха II численность студентов и репутация университета возросли. Через сорок лет после посещения Вакарием научное значение Оксфорда вполне определилось. Когда Джеральд Уэльский читал его студентам свою любопытную топографию Ирландии, самые ученые и славные члены английского духовенства присутствовали, по словам автора, в его стенах. В начале XIII века Оксфорд уже не имел соперников в Англии, а по европейской известности состязался с величайшими школами западного мира. Но чтобы представить себе тот старый Оксфорд, мы должны выбросить из головы все знания об Оксфорде современном. Во внешности старого университета совсем не было того великолепия, которое поражает теперь человека, когда он в первый раз проходит по его верхним этажам или смотрит вниз с галереи святой Марии.
Вместо длинных рядов величавых коллегий и красивых аллей из древних вязов история приводит нас в узкие и грязные улицы средневекового города. Тысячи юношей, скученных в простых меблированных комнатах, толпящихся на папертях церквей и в передних домов вокруг наставников, столь же бедных, как и они сами, пьяных, ссорящихся, играющих в кости, просящих милостыню на углах улиц, занимают место докторов и туторов в разноцветных мантиях. Мэр и канцлер тщетно старались водворить мир и порядок среди этой буйной и шумной молодежи. Приходившие в университет с молодыми господами слуги завершали на улицах распри своих домов. Студенты из Кента и Шотландии продолжали и здесь ожесточенную борьбу севера с югом.
По ночам кутилы бродили с факелами по тесным улицам, задевая полицию и избивая горожан у дверей их домов. Сегодня толпа студентов бросалась на еврейский квартал и разграблением одного-двух еврейских домов погашала свои денежные долги. Назавтра в таверне студент затевал с горожанином ссору, которая переходила в общую свалку, и академический колокол святой Марии и городской святого Мартина наперебой призывали жителей к оружию. Каждый церковный спор или политический вопрос всегда начинался каким-нибудь взрывом в этой буйной мятущейся толпе. Когда Англия стала роптать в ответ на папские вымогательства, то студенты осадили легата в доме оснейского аббата. «Войне баронов» предшествовал ряд кровавых столкновений между горожанами и студентами. «Когда Оксфорд вынимает нож, — гласила старая поговорка, — то в Англии скоро начнется резня».
Но буйство и волнения служили только выходом для избытка жизненных сил. Горячее стремление к знанию и поэтичная набожность собирали толпы юношей вокруг беднейшего учителя и заставляли их горячо приветствовать босоногого монаха. В это время в Оксфорде появился Эдмунд Рич, впоследствии архиепископ Кентерберийский, признанный святым, а тогда двенадцатилетний мальчик из глухого уголка в Абингдоне, носящего теперь его имя. Сначала он учился на подворье Эйншемского аббатства, в которое удалился от мира его отец. Его мать была по тогдашнему благочестивой женщиной, но до того бедной, что не могла дать сыну многих вещей, кроме разве что волосяной рубашки, которую он обещал носить каждую среду; но Эдмунд был не беднее своих соседей.
Он сразу погрузился в духовную жизнь Оксфорда с его жаждой знания и мистической набожностью. Тайно, быть может вечером, когда в церкви святой Марии сгустился мрак, а толпа учителей и студентов удалилась из боковых приделов, мальчик встал перед изображением Святой Девы и, надев ей на палец золотое кольцо, обручился с ней навеки. Прошли годы учения, прерываемого эпидемиями, свирепствовавшими в густонаселенном грязном городе, наступило время закончить образование в Париже, и вот Эдмунд вместе со своим братом Робертом отправляются, собирая по дороге милостыню, — дело, обычное в то время для бедных студентов, — в великую школу западного христианства. Здесь одна девушка, не обращая внимания на тонзуру Эдмунда, стала за ним так упорно ухаживать, что он наконец согласился на свидание, но явился на него в сопровождении важных чиновников академии, которые, как объявила потом в час раскаяния девушка, «тотчас же выбили из нее первородный грех Евы».
Все еще верный своей девственной невесте, Эдмунд по возвращении из Парижа стал самым популярным из оксфордских наставников. Ему обязан Оксфорд первым знакомством с логикой Аристотеля. Мы живо представляем его себе в маленькой комнатке, которую он снимал (рядом с капеллой Святой Девы), в сером, доходящем до пола плаще, аскетически набожного, засыпающего во время лекций вследствие бессонной, проведенной в молитве ночи, но, несмотря на это, с изящными любезными манерами, говорившими о его французском воспитании, с рыцарской любовью к знанию, позволявшей ученикам платить, сколько они захотят.
«Прах к праху», — говорил юный наставник с гордостью ученого, к которой примешивалось презрение к мирским благам, бросая плату на пыльный подоконник, с которого иногда ее утаскивал вороватый студент. Но и наука приносила свои волнения; Ветхий Завет, вместе со списком декреталий долго составлявший всю его библиотеку, был в противоречии с любовью Эдмунда к светской науке, от которой ему трудно было освободиться. Однажды в час дремоты фигура его покойной матери появилась в комнате, где наставник стоял среди своих математических чертежей. «Что это такое?» —почудилось ему, спросила она и, схватив Эдмунда за правую руку, начертила на его ладони три пересекающихся круга, из которых каждый носил имя одного из лиц Святой Троицы. «Да будут они отныне твоими чертежами, сын мой», — сказало видение и исчезло.
Этот рассказ прекрасно выявляет настоящий характер новой науки и скрытое противоречие между стремлениями университетов и чаяниями церкви; неожиданно появившаяся среди клерикального и феодального строя средневекового мира новая сила грозила одновременно и феодализму, и церкви. В основе феодализма лежали местная обособленность, отделение одного королевства от другого, одного баронства от другого, различия людей по крови и племени, господство грубой материальной силы, подчинение, обусловленное случайностью места и общественного положения. С другой стороны, университет являлся протестом против такого отчуждения человека от человека. Самая незначительная школа была школой европейской, а не местной. Не только всякая провинция Франции, но всякий христианский народ имел своих представителей «среди наций» Парижского или Падуанского университетов. Латинский язык, ставший общим языком науки, заменил собой в школах враждующие языки новой Европы. Общим родством и соперничеством в интеллектуальной жизни сменились мелкие распри провинций и целых государств.
Объединение западных народов в одно великое целое — цель, к которой безуспешно стремились и империя, и церковь, — было на время осуществлено университетами. Данте чувствовал себя так же дома в Латинском квартале вокруг горы Святой Женевьевы, как и под арками Болоньи. Странствующие оксфордские ученые заносили сочинения Уиклифа в библиотеки Праги. В Англии слияние провинций представлялось делом менее трудным или важным, чем где бы то ни было, но даже и там его нужно было осуществить. Столкновения северян и южан, так долго нарушавшие порядок в Оксфорде, во всяком случае указывали на то, что эти враждебные друг другу элементы сошлись наконец на его улицах. Здесь, как и в других центрах, дух национальной обособленности был ослаблен широтой устремлений университета. После смут, грозивших процветанию Парижского университета в XIII веке, нормандцы и гасконцы встретились с англичанами в аудиториях Оксфорда. Позднее, в эпоху восстания Оуэна Глендауэра, вокруг оксфордских профессоров собирались сотни уэльских юношей.
В этой разнородной массе общество и правительство были основаны на чисто демократических началах. Среди оксфордских студентов сын дворянина считался совершенно равным беднейшему нищему. Богатство, физическая сила, искусство владеть оружием, гордость предками и кровью — настоящие основы феодального общества — считались ничем в аудиториях. Университет представлял собой вполне самостоятельную корпорацию, доступ в которую открывали только чисто интеллектуальные способности. Только знания делали в них человека магистром (magister). Единственное право человека быть «ректором» школы составляли его более глубокие, чем у товарищей, знания; среди этой интеллектуальной аристократии все были равными. Когда свободная республика магистров собиралась в церкви святой Марии, то все пользовались одинаковым правом голоса при обсуждении и решении дел. Касса и библиотека находились в их полном распоряжении. Они сами избирали всех должностных лиц, предлагали и утверждали все университетские правила. Даже канцлер, их глава, сначала назначавшийся епископом, стал потом избираться корпорацией.
Если демократические устремления университетов были угрозой феодализму, то их стремление к свободному исследованию грозило церкви. По внешнему виду они были чисто церковными корпорациями. Средневековый обычай придавал термину «духовное звание» такое широкое значение, что вводил в состав духовенства всех образованных людей. Профессора и студенты, каковы бы ни были их возраст и специальность, были одинаковыми клириками, свободными от контроля светских судов и подчиненными управлению епископа и приговорам его духовных судов. Такой церковный характер университета отражался и на положении его главы. Канцлер, как известно, сначала даже не выбирался университетом, а назначался тем церковным учреждением, под опекой которого вырос университет. В Оксфорде канцлер был просто местным уполномоченным епископа Линкольнского, в огромной епархии которого находился тогда университет.
Но это тождество внешних форм университета и церкви только еще ярче оттеняло различие их стремлений. Внезапное расширение пределов образования ослабило значение чисто церковных и богословских предметов, поглощавших до того всю духовную энергию человечества. Возрождение классической литературы, открытие великого мира древности, соприкосновение с более широкой и свободной жизнью — духовной, общественной и политической — ввело в область безусловной веры дух скептицизма, сомнения, отрицания. Абеляр провозгласил начало верховенства разума над верой. Флорентийские поэты с улыбкой обсуждали вопрос о бессмертии души. Даже Данте, осуждая их, считал Вергилия таким же святым, как Иеремию. Самый замечательный представитель нового просвещения, император Фридрих II, «чудо мира» своего времени, был в глазах половины Европы нисколько не лучше «неверного». Слабое оживление естествознания, долго подавлявшегося всесильным духовенством как чародейство, привело христиан в опасное соприкосновение с мусульманами и евреями. Для Роджера Бэкона книги раввинов уже не были «проклятыми писаниями»; Абеляр Батский уже не считал кордовских ученых «языческими свиньями».
Как медленно и с какими препятствиями наука прокладывала себе путь, показывает свидетельство Роджера Бэкона. «Медленно, — говорил он, — распространялись в латинском мире части философии Аристотеля. Его физика и метафизика с комментариями Аверроэса и других были переведены в мое время, но запрещены в Париже в 1237 году за утверждение вечности мира и времени, за книгу об откровениях во сне (это третья книга, «De Somniis et Vigiliis») и за неправильный перевод многих мест. Даже его «Логику» медленно принимали и начинали изучать. Святой Эдмунд, архиепископ Кентерберийский, первый в мое время стал читать основы ее в Оксфорде. Я видел магистра Гуго, который впервые читал позднейшую аналитику, и видел его писания. Таким образом, немного было, если принять во внимание массу латинян, людей, сколько-нибудь знакомых с философией Аристотеля, совсем мало, а до настоящего, 1292, года даже едва ли они были».
Мы скоро узнаем, как упорно боролась церковь против этого оппозиционного течения и как ей удалось при помощи нищенствующих орденов снова подчинить себе университеты. Однако именно в рядах нового монашества духовный прогресс университетов нашел своего лучшего представителя. Жизнь Роджера Бэкона охватывает почти весь XIII век. Он был сыном изгнанного и разорившегося во время междоусобных войн роялиста, учился сначала в Оксфорде под руководством Эдмунда Абингдонского, которому и был обязан первым знакомством с сочинениями Аристотеля; оттуда он перешел в Парижский университет, где истратил все свое состояние на дорогие занятия и опыты. «С ранней юности, — писал он впоследствии, — я работал над изучением наук и языков, добиваясь дружбы всех тех людей среди латинян, которые были сколько-нибудь известны своими знаниями. Я побуждал юношей изучать языки, геометрию, арифметику, составление таблиц и устройство инструментов и многие другие необходимые вещи».
На избранном пути он натолкнулся на страшные затруднения. У него не было ни инструментов, ни средств для производства опытов. «Без математических инструментов нельзя овладеть ни одной наукой, — жаловался он впоследствии, — а инструментов этих нельзя найти у латинян и нельзя изготовить даже за две-три сотни фунтов. Кроме того, необходимы лучшие таблицы, на которых без особого труда отмечаются движения небесных светил от начала до конца мира, но такие таблицы стоят столько, сколько выкуп короля, и не могут быть составлены без огромных затрат. Я сам часто пытался составить такие таблицы, но не мог их закончить из-за недостатка средств и невежества своих помощников». Доставать книги было трудно, а иногда и совсем невозможно. «Философские творения Аристотеля, Авиценны, Сенеки, Цицерона нельзя достать без больших затрат; главные произведения одних не переведены на латинский язык, списков других нельзя найти в обычных библиотеках, даже нигде. Замечательного сочинения Цицерона «О государстве», насколько мне известно, не оказалось нигде, хотя я разыскивал его повсеместно лично и через посланцев. Я никогда не мог найти сочинений Сенеки, хотя тщательно искал их в течение двадцати и более лет. То же можно сказать относительно еще многих полезнейших книг, касающихся науки о нравственности».
Только читая подобные заявления, можно составить себе понятие о страшной жажде знаний, о терпении и энергии Роджера Бэкона. Он вернулся в Оксфорд преподавателем, и трогательное свидетельство его любви к ученикам сохранилось в рассказе о Джоне Лондонском, которого его способности возвышали над общим уровнем учеников Бэкона. «Когда он пришел ко мне бедным мальчиком, — говорил Роджер, рекомендуя его папе Римскому, — я стал кормить и учить его из любви к Богу, но особенно ввиду его способностей, невинности и никогда невиданного мной в юноше послушания. Пять или шесть лет назад я побудил его заняться изучением языков, математики и оптики, и обучал его сам, даром, с того времени, как получил Ваше поручение. Нет и в Париже студента, который был бы так хорошо знаком с основами философии, хотя он и не дал еще ветвей, цветков и плода по причине своей юности, а также неопытности в науке. Но он имеет возможность превзойти всех латинян, если доживет до старости и будет продолжать так, как начал».
Гордость, с которой Бэкон говорил о методе своего обучения, оправдывается широким размахом, который он придал научному преподаванию в Оксфорде. Он говорил, вероятно, о себе, когда повествовал нам, что «оптика до того не читалась ни в Парижском, ни в других западных университетах, а только два раза в Оксфорде». Сам он работал над этой наукой в течение десяти лет. Однако его преподавание, по-видимому, падало на бесплодную почву. С тех пор как нищенствующие ордена утвердились в университетах, схоластика поглотила всю духовную энергию ученого мира. Дух времени не благоприятствовал научным или философским исследованиям. Прежний энтузиазм по отношению к знаниям исчез; единственным средством проложить себе путь к почестям со стороны церкви и государства стало изучение права. Кредит философии был подорван, литература в ее высших формах почти исчезла.
Сам Бэкон после сорока лет непрерывных занятий стал, по его собственному выражению, «безвестен, забыт и зарыт». По-видимому, какое то время он имел средства, но скоро обеднел. «В течение двадцати лет, когда я, покинув обычный путь людей, старался усвоить себе мудрость, я издержал на такие занятия более двух тысяч фунтов, приобретая книги, материалы для опытов, приборы, таблицы, пособия для усвоения языков и тому подобное. Прибавьте к этому жертвы ради приобретения дружбы ученых мужей и содействия образованных помощников».
Разорившись и обманувшись в надеждах, Бэкон послушался совета своего друга Гросстета и отказался от мира. Он стал монахом францисканского ордена, где на книги и ученые занятия смотрели как на отвлечение от главной задачи — проповеди среди бедных.
Сначала он едва ли писал там что-нибудь, тем более что новые начальники запретили ему издавать что бы то ни было под страхом потери книг и ареста на хлебе и воде. Однако он с жадностью ухватился за представившийся ему внезапно странный случай, и в этом видны стремление его ума к деятельности, тот страстный инстинкт творчества, которые отличают гениальных людей. «Несколько глав о различных предметах, написанные по просьбе друзей», по-видимому, попали за границу, и один из капелланов обратил на них внимание Климента IV. Папа Римский тотчас предложил ему писать. Но тут появились новые трудности. На материалы, переписку и прочее для задуманного им произведения нужно было истратить, по крайней мере, семьдесят фунтов, а папа Римский не прислал ни копейки.
Бэкон обратился за помощью к семье, но она была не богаче его самого. Никто не хотел дать взаймы нищенствующему монаху, пока наконец друзьям не удалось достать нужную сумму под залог своего имущества в надежде на то, что Климент IV ее вернет. Но и это было еще не все: как бы ни было отвлеченно и научно по содержанию задуманное сочинение, но чтобы обратить на него внимание папы, ему надо было придать простую и популярную форму. Такие затруднения могли бы сокрушить многих; в Бэконе же они только вызвали прилив нечеловеческой энергии. «Главное творение», представляющее собой фолиант убористой печати с последующими перечнями и приложениями, которые составляют еще добрый том форматом в одну восьмую, было написано и отправлено папе Римскому через пятнадцать месяцев.
В самой книге не осталось и следа от этой лихорадочной поспешности. «Opus Majus» представляет собой сочинение, замечательное как по плану, так и по исполнению. Главная цель Бэкона, по выражению Уэвелла, состояла «в доказательстве необходимости реформировать способ философствования, в указании причин, почему наука не сделала больших успехов, в обращении внимания на источники знания, несправедливо находившиеся в пренебрежении, в указании других источников, до того совершенно неизвестных, и в побуждении людей к занятию наукой ввиду приносимой ею громадной пользы». Свой план он выполнил в самых широких размерах: он собрал воедино все знания своей эпохи по всем известным ему отраслям науки и, обозревая их, внес почти во все значительные усовершенствования. Его работы, как здесь, так и в последующих произведениях по грамматике и филологии, постоянные указания на необходимость наличия правильных текстов, точного знания языков и точного толкования, не менее примечательны, чем его научные исследования.
От грамматики он перешел к математике, от математики — к опытной философии. Под математикой он понимал и все естественные науки эпохи. «Пренебрежение к ней за последние тридцать сорок лет, — горячо утверждал Бэкон, — почти уничтожило все знания в латинском мире; кто не знает математики, тот не может знакомиться и с другими науками, а что еще хуже, — он не может раскрыть своего невежества и найти против него подходящие средства». География, хронология, арифметика, музыка — изложены у Бэкона до некоторой степени в научной форме; так же быстро рассматривал он и вопросы климатологии, гидрографии, географии и астрологии. С особым вниманием останавливался он на своем любимом предмете — оптике, затрагивая не только вопросы собственно этой области, но и анатомию глаза.
Словом, «Главное творение» является, по выражению Уэвелла, «Энциклопедией и Novum Organum тринадцатого века». Все последующие работы Бэкона (до недавнего времени в наших библиотеках открывали трактат за трактатом) были лишь детальным развитием грандиозных воззрений, изложенных им для Климента IV. Подобное творение уже в самом себе заключало вознаграждение, но от окружающих Роджер получил за него немного выражений признательности. Папа, Римский по-видимому, не удостоил автора и словом благодарности. Если верить более поздним сведениям, то наградой Роджеру Бэкону от его францисканского ордена была тюрьма. Старец умер так же, как и жил, — «безвестен, забыт и зарыт». Лишь последующим векам суждено было рассеять окутавший его память мрак и поставить его имя во главе списка великих деятелей новой науки.
Глава V ГЕНРИХ III (1216—1257 гг.)
Смерть графа Маршалла в 1219 году отдала руководство делами Англии в руки папского легата Пандульфа, возвратившегося из Рима с разрешением Стефана Лангтона и юстициария Губерта де Борга. То была переходная эпоха, и это отразилось на характере самого Губерта. Воспитанный в школе Генриха II, он мало симпатизировал делу свободы, и его взгляды на хорошее управление сводились, подобно взглядам его учителя, к разумной единоличной администрации и к поддержанию порядка и законности. Но вместе с тем он отличался чисто английским стремлением к национальной независимости, отвращением к чужестранцам и нежеланием расточать кровь и деньги англичан в материковых войнах. Как бы ни был он ловок, но его задача представляла большие трудности. В английские дела постоянно вмешивался Рим, и живший при дворе папский легат претендовал на участие в управлении королевством в качестве представителя сюзерена и как опекун юного короля. Партия иностранцев также была еще сильна, потому что Уильям Маршалл не был в силах отделаться от людей, подобных Петру де Рошу или Фоксу де Бреотэ, в борьбе с Людовиком сражавшихся на стороне короля.
Кроме того, Губерту приходилось иметь дело и с порожденной войной анархией. Со времени завоевания Центральная Англия покрылась владениями крупных баронов, стремившихся к феодальной независимости; их мятежный дух сдерживался частью строгим управлением королей, частью — другими баронами, возвышенными двором и по большей части расселенными на севере. Гнет Иоанна объединил старые и новые семьи в борьбе за хартию; но характер каждой из этих групп остался тем же, и по окончании войны феодальная партия снова стала выказывать склонность к насилию и пренебрежение к короне. Одно время казалось, что вернулась анархия эпохи Стефана, но Губерт, ревностно поддержанный Лангтоном, решился победить ее. Поднявший было оружие глава феодалов граф Честерский вынужден был смириться ввиду наступления Губерта и угроз примаса отлучить его от церкви.
Более опасным врагом оказался француз Фокс де Бреотэ, бывший шерифом шести графств, захвативший шесть королевских замков и вступивший в союз с мятежными баронами и Левелином Уэльским. После двухмесячной осады его замок Бедфорд был взят Губертом, а его гарнизон, состоявший из двадцати четырех рыцарей и их слуг, был по приказанию юстициария перевешан возле стен замка. Эта мера подействовала: королевские замки были сданы баронами, и страна снова успокоилась. Освободившись от иноземных солдат, она освободилась и от папского легата. Лангтон вырвал у Рима обещание, что при его жизни новый легат не будет прислан в Англию, и благодаря этому с отставкой Пандульфа в 1221 году прекратилось прямое вмешательство Рима в дела Англии. Но еще более важные услуги оказал примас делу английской свободы. В течение всей его жизни хартия была главным предметом его забот. Отсутствие статей, ограничивавших влияние короля на налогообложение, в Хартии, обнародованной при восшествии Генриха III на престол в 1216 году, объясняется, без сомнения, не участием в то время примаса и его опалой в Риме. Подавление беспорядка оживило, по-видимому, старый дух сопротивления среди министров; когда Лангтон потребовал нового подтверждения Хартии на лондонском парламенте, то один из советников короля, Уильям Брюэр, протестовал, ссылаясь на то, что Хартия была принята силой и потому не может считаться законной. «Если бы вы любили короля, — гневно отвечал ему примас, — вы не стали бы мешать установлению мира в государстве».
Король испугался гнева Лангтона и тотчас обещал соблюдение Хартии. Через два года архиепископ и бароны еще раз потребовали торжественного обнародования ее в виде платы за разрешенную субсидию, и согласие Генриха III установило плодотворный по своим конституционным последствиям принцип, в силу которого исправление злоупотреблений должно было предшествовать назначению субсидий короне.
Смерть Стефана Лангтона в 1228 году была тяжелой потерей для английской свободы. За год перед тем Генрих III объявил себя совершеннолетним, а Губерт, хотя и остался юстициарием, но с каждым годом его успехи в борьбе с Римом и стремлениями короля становились более слабыми. По средневековой теории папства весь христианский мир должен был составлять единое духовное государство, организованное на феодальных началах, с папой Римским в качестве верховного повелителя, епископами — его баронами, и священниками — его низшими вассалами. Как король требовал в случае нужды всякого рода помощи от своих вассалов, так и папа Римский считал себя вправе обращаться за поддержкой к духовенству.
В описываемый момент казна папы Римского была истощена долговременной борьбой с императором Фридрихом II, и Рим становился все более назойливым в своих требованиях. В особенности доставалось Англии, на которую папа Римский смотрел как на вассальную страну, обязанную помогать своему сюзерену. Бароны, однако, отвергли требование помощи от мирян, и тогда папа Римский обратился к духовенству. Он потребовал у него десятой доли всей движимости, а угроза отлучением подавила всякий ропот. Вымогательство следовало за вымогательством, права светских властей были оставлены без внимания, а под именем «резерваций» в Риме продавали вакансии на английские бенефиции, и итальянское духовенство заняло все наиболее доходные должности. Всеобщее недовольство нашло себе наконец выражение в широком заговоре: вооруженные люди распространяли но стране воззвания «от всей массы тех, кто предпочитает смерть покорности папскому грабежу», захватывали собранные для папы и иноземного духовенства деньги и раздавали их бедным, били папских агентов, топтали ногами папские буллы. Жалобы Рима выявили всего только народный характер движения, но по мере расследования в движении обнаружилось и участие юстициария. Шерифы спокойно смотрели на производимое перед ними насилие; мятежники показывали королевские грамоты, одобрявшие их действия.
Папа Римский открыто приписал взрыв тайному потворству Губерта де Борга. Обвинение это пришло в ту минуту, когда король был в явном раздоре с министром, которому он приписывал неудачу своих попыток возвратить континентальные владения предков. Вследствие представлений Губерта было отклонено приглашение баронов Нормандии, а когда король собрал большую армию для похода в Пуату, то ее пришлось распустить из Портсмута вследствие недостатка перевозочных средств и провианта. Тогда молодой король обнажил меч и бешено кинулся на Губерта, обвиняя его в измене и подкупе французами, но ссора была улажена и поход отложен на год. Неудача экспедиции следующего года в Бретань и Пуату снова была приписана проискам Губерта, своим сопротивлением помешавшего решительному сражению.
Обвинения папы Римского переполнили чашу терпения короля. Губерта вытащили из Брентвудской часовни и приказали кузнецу заковать его в кандалы. «Я скорее умру любой смертью, чем надену цепи на человека, освободившего Англию от чужестранцев и отстоявшего Дувр от французов», — отвечал кузнец. Увещевания епископа Лондонского заставили короля вернуть Губерта в его убежище, но голод принудил его сдаться. Его посадили в Тауэр, и хотя вскоре освободили, но он лишился всякого влияния на дела. Его падение отдало Англию в полное распоряжение самого Генриха III.
Рис. Генрих III.
В характере Генриха III были черты, привлекавшие к нему людей даже в худшие дни его правления. Памятником его художественного вкуса служит храм Вестминстерского аббатства, которым он заменил неуклюжий собор Исповедника. Он был покровителем и другом художников и литераторов, сам был знатоком «веселой науки» трубадуров. В нем не было и следа жестокости, распутства и нечестия его отца, но зато он почти совсем не унаследовал и политических талантов своих предков. Расточительный, непостоянный, порывистый и на доброе и на злое, несдержанный в действиях и словах, смелый в обидах и насмешках, Генрих III любил суетную роскошь, а его понятия об управлении сводились к мечте о неограниченной власти.
При всем своем легкомыслии король с упорством слабого человека держался в политике определенного направления. Он лелеял надежду возвратить себе заморские владения своего дома, он верил в неограниченную власть короны и смотрел на Великую хартию как на обещания, которые были вырваны силой и силой же могли быть взяты назад. Притязания королей Франции на неограниченную власть, исходящую от Бога, освещали в уме Генриха III его притязания, находившие, к тому же поддержку у любимых им членов Королевского совета. Смерть Лангтона и падение Губерта позволили ему окружить себя зависимыми министрами — простыми орудиями королевской воли.
Толпы голодных итальянцев и бретонцев были тотчас вызваны для занятия королевских замков, а также судебных и административных должностей при дворе. Вслед за браком короля с Элеонорой Прованской последовало прибытие в Англию дядей королевы. Название дворца на Стренде «Савойским» напоминает о Петре Савойском, прибывшем пять лет спустя, чтобы на время занять главную должность в Королевском совете; его брат, Бонифаций, занял первое после короля место в Англии — архиепископа Кентерберийского. Молодой примас, подобно своему брату, принес с собой довольно странные для английского народа обычаи: его вооруженные слуги грабили рынки, а собственный кулак архиепископа сбил с ног приора храма святого Варфоломея, что в Смитфилде, когда тот воспротивился его ревизии. Лондон пришел в негодование от такого поступка, а после отказа короля в правосудии шумная толпа граждан окружила дом примаса в Ламбете с криками мщения, и «изящный архиепископ», как величали его приверженцы, очень обрадовался возможности бежать за море.
Рис. Элеонора Прованская.
За этим роем провансальцев последовало в 1243 году прибытие в Англию из Пуату родственников супруги Иоанна, Изабеллы Ангулемской. Эймер был назначен епископом Уинчестерским, Вильгельм Валанский получил графство Пемброкское. Даже шут короля был родом из Пуату. За крупными баронами пришли искать счастья в Англию сотни их вассалов. Прибывшая из Пуату знать привезла с собой много невест, искавших женихов, и король женил на иностранках трех английских графов, состоявших под его опекой. Вся правительственная машина перешла в руки невежественных людей, относившихся с пренебрежением к началам английского управления и закона. Их управление было чистой анархией: королевские слуги превратились в настоящих разбойников, грабивших иностранных купцов в ограде дворца; в среду судей проник подкуп, и один из юстициариев, Генрих Батский, был изобличен в том, что открыто брал взятки и присуждал в свою пользу спорные имения.
Беспрепятственное продолжение таких беспорядков, вопреки постановлениям Хартии, объясняется разъединением и вялостью английских баронов. При первом прибытии иностранцев сын великого регента, граф Ричард Маршалл, выступил с требованием удаления иноземцев из Королевского совета; хотя большинство баронов его покинуло, но он разбил высланный против него иноземный отряд и принудил Генриха III вступить в переговоры о мире. В этот момент интрига Петра де Роша заставила его уехать в Ирландию; там он пал в незначительной стычке, и бароны остались без предводителя. В это время кентерберийскую кафедру занимал Эдмунд Рич, бывший профессор Оксфорда; он вынудил короля удалить Петра от двора, но настоящей перемены в системе не произошло, и дальнейшие предложения Рича и епископа Линкольнского Роберта Гросстета остались без результатов.
Затем наступил долгий период беспорядочного управления, когда финансовые затруднения заставили короля обращаться к одному налогу за другим: лесные законы стали средствами вымогательства, места епископов и аббатов оставались незамещенными, у прелатов и баронов вымогались деньги взаймы, сам двор во время путешествий жил всюду на даровых квартирах. Однако всех этих средств далеко не хватало для покрытия расходов расточительного короля. Шестая часть его доходов тратилась на пенсии иноземным фаворитам; долги короны в четыре раза превышали ее годовой доход. При таких условиях Генрих III вынужден был обратиться к Великому совету королевства, разрешившему произвести сбор, но под условием подтверждения Хартии. Хартия была подтверждена, однако позже король стал упорно ее нарушать; негодование баронов выразилось в решительном протесте и отказе королю в дальнейших субсидиях.
Несмотря на это, Генрих III собрал достаточно средств для большого похода с целью вернуть Пуату. Попытка окончилась позорной неудачей. При Тальебуре войска Генриха III позорно бежали перед французами, и только внезапная болезнь Людовика IX и эпидемия, сокращавшая его войско, помешали им взять город Бордо. Королевская казна была истощена, и Генрих III снова обратился за помощью к баронам. Бароны твердо решили добиться порядка в управлении и потребовали, чтобы подтверждение Хартии сопровождалось избранием в Великом совете юстициария, канцлера и казначея и чтобы при короле находился постоянный совет для выработки плана дальнейших реформ. Эта идея, однако, разбилась о сопротивление Генриха III и запрет папы Римского. Бремя папских вымогательств страшно отягчало духовенство.
После тщетных представлений королю и папе Римскому архиепископ Эдмунд в отчаянии удалился в изгнание, и на несчастное духовенство стали набрасываться все новые сборщики, уполномоченные отлучать от церкви, отрешать от должностей и назначать на церковные места. Страшный грабеж вызвал всеобщее сопротивление. Пример подали оксфордские студенты, изгнавшие из города папского легата с криками: «Лихоимец! Святокупец!» Фульк Фиц-Уоррен от имени баронов приказал папскому сборщику убираться из Англии. «Если вы промедлите еще три дня, — прибавил он, — то вы и вся ваша свита будете изрублены в куски». На время сам Генрих III был увлечен потоком народного негодования. Вместе с баронами и прелатами он послал письма в Рим с протестами против папских вымогательств и издал указ, которым запрещался вывоз денег из государства; но угроза отлучением скоро вернула его к политике грабежа, в которой он шел рука об руку с Римом.
История этого беспорядочного периода сохранена для нас летописцем, страницы записок которого озарены новым взрывом патриотического чувства, вызванного общим угнетением народа и духовенства. Матвей Парижский является величайшим и, в сущности, последним из наших монастырских летописцев. Правда, Сент-Олбанская школа существовала еще долгое время, но ее писатели превратились в простых летописцев, кругозор которых ограничивался оградой монастыря, а произведения были бесцветными и сухими. У Матвея, наоборот, широта и точность рассказа, обилие сведений о местных и общеевропейских делах, правдивость и справедливость замечаний соединяются с патриотическим пылом и энтузиазмом. Он наследовал ведение монастырских летописей после Рожера Уэндовера, и его «Большая хроника», а также ее сокращенный вариант, приписывавшиеся Матвею Вестминстерскому, «История англичан» и «Деяния аббатов» составляют лишь небольшую часть написанных им объемных произведений, свидетельствующих о его огромной работоспособности.
Он был не только писателем, но и художником, и многие из сохранившихся рукописей украшены его собственными иллюстрациями. Широкий круг корреспондентов — епископы вроде Гросстета, министры вроде Губерта де Борга, духовные судьи вроде Александра Суэрфорда — сообщали ему подробные сведения о политических и церковных событиях. Паломники с Востока и папские агенты приносили в его кабинет в Сент-Олбансе известия об иностранных событиях. Он имел доступ к государственным актам, грамотам, реестрам казначейства и часто ссылался на них. Посещения аббатства королем приносили ему массу политических известий, и сам Генрих III давал материал для «Большой хроники», сохранившей с такой ужасающей правдивостью память о его слабостях и злоупотреблениях. В один из торжественных праздников король узнал Матвея, посадил его на ступеньки трона и попросил написать историю современных событий. В другое посещение Сент Олбанса он пригласил его в свою комнату к столу и перечислил ему для сведения названия двухсот пятидесяти английских баронств.
Но все эти любезности короля оставили мало следов в произведениях летописца. «Задача историка тяжела, — говорил Матвей, — повествуя правду, он восстанавливает против себя людей; утверждая ложь, грешит перед Богом». С полнотой материалов, присущей придворным историкам (вроде Бенедикта или Гоудена) Матвей Парижский в своих трудах соединял чуждый им дух независимости и патриотизма. С одинаковой беспощадностью он изобличал притеснения и папы Римского, и короля. Точка зрения, которой он придерживался, — не придворная и не церковная, а общеанглийская, и этот новый для летописца тон являлся лишь эхом национального чувства, которое наконец объединило баронов, крестьян и духовных особ в один народ, решившийся добиться свободы у короны.
Глава VI НИЩЕНСТВУЮЩИЕ ОРДЕНА
От утомительного рассказа о беспорядочном управлении и политическом слабодушии, тяготевших над Англией в течение сорока последних лет, мы с удовольствием обращаемся к истории нищенствующих орденов.
Никогда еще власть церкви над христианским миром не была так беспредельна, как в эпоху папы Римского Иннокентия III и его непосредственных преемников, но ее духовное влияние слабело день ото дня. Старое почтение к папству не могло не исчезать при виде его политических притязаний, злоупотреблений интердиктами и отлучениями для чисто мирских целей, обращения самых священных чувств в орудие денежных вымогательств. В Италии борьба, начавшаяся между Римом и императором Фридрихом II, породила такой дух скептицизма, что эпикурейские поэты Флоренции дошли до отрицания бессмертия души и стали подкапываться под самые основы веры. В Южной Франции, в Лангедоке и Провансе, появилась ересь альбигойцев, отвергавшая всякое подчинение папству.
Даже в Англии, где еще не было признаков религиозного возмущения и где политическое влияние Рима в общем способствовало проявлениям свободы, существовало стремление противодействовать его вмешательству в национальные дела; стремление, выразившееся во время борьбы с Иоанном. «Светские дела не касаются папы», — отвечали лондонцы на интердикт Иннокентия III. Внутри английской церкви многое требовало преобразования. Ее роль в борьбе за Хартию, равно как и последующая деятельность примаса, сделали ее более чем когда-либо популярной, но ее духовная энергия была слабее политической. Отвыкание от проповедей, превращение монашеских орденов в крупных землевладельцев, невежество приходских священников — все это лишало духовенство нравственного влияния.
Злоупотребления были так огромны, что притупляли энергию даже таких людей, как епископ Линкольнский Гросстет. Его наставления запрещали духовенству посещать таверны, вести азартные игры, участвовать в кутежах, вмешиваться в разгул и разврат, царившие среди дворян; но такие запреты только указывали на распространенность зла. Епископы и деканы отрывались от своих церковных обязанностей для деятельности в качестве министров, судей, послов. Бенефиции скапливались сотнями в руках королевских фаворитов вроде Джона Манзеля. Монастыри отнимали у приходов десятины, снабжая их полуголодными вивариями, а купленные в Риме привилегии защищали скандальную жизнь каноников и монахов от дисциплинарных взысканий епископов. Кроме этого, существовала группа светских политиков и ученых, которая не решалась, правда, на открытую борьбу с церковью, но с ядовитой насмешкой выявляла ее злоупотребления и ошибки.
Возвращение мира под власть церкви и составляло цель двух монашеских орденов, возникших в начале XIII века.
Религиозный пыл испанца Доминика пробудился при виде надменных прелатов, старавшихся огнем и мечом возвратить альбигойцев к покинутой ими вере. «Ревности должна быть противопоставлена ревность, — воскликнул он, — смирению — смирение, ложной святости — истинная святость, проповеди лжи — проповедь правды». Его пламенное рвение и непреклонная преданность вере встретили отклик в мистической набожности и мечтательном энтузиазме Франциска Ассизского. Жизнь Франциска освещает каким-то нежным светом мрак того времени. Во фресках Джотто и стихах Данте мы видим его обручающимся с нищетой. Он отказывается от всего, бросает к ногам отца свое платье, чтобы остаться наедине с природой и Богом. В трогательных стихах он называл луну своей сестрой, а солнце — братом, призывал брата-ветра и сестру-воду. Последним слабым восклицанием Франциска был привет сестре-смерти.
Как ни различались по своим характерам Франциск и Доминик, но цель у них была одна — обращение язычников, искоренение ереси, примирение науки с религией, проповедь Евангелия бедным. Этих целей можно было достичь полной реорганизацией прежнего монашества, поиском личного спасения в стремлении спасти своих братьев, заменой отшельничества проповедью и монахов — нищенствующими братьями. Чтобы поставить новых «братьев» в полную зависимость от тех, в среде которых им приходилось работать, их обет бедности был обращен в суровую действительность: «нищенствующие монахи» должны были существовать исключительно подаянием; они не могли владеть ни деньгами, ни землями; даже дома, в которых они жили, содержались для них другими.
Народное сочувствие ко вновь появившимся братьям заглушило антипатию Рима, недоброжелательство старых орденов, оппозицию приходского духовенства. Тысячи братьев собрались за несколько лет вокруг Франциска и Доминика, и нищенствующие проповедники, одетые в грубые шерстяные рясы, подпоясанные веревками, с босыми ногами, отправлялись в качестве миссионеров в Азию, боролись с ересью в Италии и Франции, читали лекции в университетах, проповедовали и грудились среди бедных.
Появление «братьев» произвело целый переворот в религиозной жизни городов. Городские священники составляли наиболее невежественную часть духовенства, существовавшую исключительно на подаяния прихожан за исполнение треб. Религиозным поучением для купцов и ремесленников должны были служить лишь пышные церковные обряды да картины и скульптуры, украшавшие стены церквей. Поэтому можно удивляться тому взрыву восторга, с которым были встречены странствующие проповедники с горячими воззваниями, грубым остроумием, простой речью, перенесшие религию на ярмарки и рыночные площади. С одинаковым восторгом встречали горожане и черных доминиканцев, и серых францисканцев.
Прежние ордена предпочитали деревню, новые селились в городах. Едва высадившись в Дувре, они направились прямо в Лондон и Оксфорд. По незнанию местности два первых «серых брата» сбились с пути в лесах между Оксфордом и Балдоном и, испугавшись ночи и непогоды, повернули в сторону, на хутор абингдонских монахов. Их оборванные платья и странные жесты, с какими они просили себе приюта, дали повод привратнику принять их за жонглеров, шутов и фокусников того времени; известие о таком нарушении монотонной монастырской жизни привлекло к воротам настоятеля, ризничего и эконома, пожелавших приветствовать их и посмотреть на фокусы. Сильно разочарованные, монахи грубо вытолкали прибывших за ворота и принудили их искать себе на ночь приют под деревом.
Прием горожан всюду служил странникам наградой за недоброжелательность и противодействие духовенства и монахов. Работа «братьев» была не только нравственной, но и физической; быстрый рост населения городов опередил санитарные порядки средневековья, и горячка, чума и еще более страшный бич — проказа — гнездились в жалких лачугах предместий. На такие-то притоны и указывал Франциск своим ученикам, и «серые братья» сразу стали селиться в самых плохих и бедных кварталах городов. Поприщем для их главной работы были отвратительные лазареты; места для своих поселений они обычно выбирали среди прокаженных. В Лондоне они поселились на Ньюгетском рынке, в Оксфорде — на болоте, между городскими стенами и протоками Темзы. Бревенчатые хижины и землянки, не лучше окружавших их лачуг, строились внутри грубой изгороди и рва, окружавших это жилье.
Орден Франциска вел упорную борьбу с присущим этому времени пристрастием к пышным постройкам и личному удобству. «Не затем поступил я в монахи, чтобы строить стены», — сказал английский провинциал своей братии, попросившей у него более просторного помещения, а Альберт Пизанский приказал срыть до основания построенный для них жителями Саутгемптона каменный монастырь. «Вам не нужно маленьких гор, чтобы поднимать головы к небу», — презрительно ответил он на требование подушек. Только больным разрешалось носить обувь. Один брат в Оксфорде нашел утром пару башмаков и проносил их до заутрени. Ночью ему приснилось, что в опасном месте, между Глостером и Оксфордом, на него напали разбойники с криком: «Бей, бей его!» «Я босоногий монах!» — закричал насмерть перепуганный брат. «Лжешь, — был немедленный ответ, — ты ходишь обутый». Монах в опровержение поднял ногу, но на ней оказался башмак. В припадке раскаяния он проснулся и выбросил башмаки за окно.
Не так успешно боролся орден со страстью к знаниям. Буквально понимаемый основателями обет нищеты не позволял братьям иметь в своем распоряжении ни книг, ни учебных пособий. «Я ваш требник, я ваш требник!» — воскликнул Франциск, когда послушник попросил у него Псалтырь. Когда же он услышал в Париже о приеме в орден одного великого ученого, он изменился в лице. «Я боюсь, сын мой, — сказал он, — чтобы подобные ученые не погубили моего виноградника; настоящие ученые — это те, которые со смирением мудрости совершают добрые дела для назидания своих ближних». Мы знаем, как впоследствии Роджеру Бэкону не позволяли иметь ни чернил, ни пергамента, ни книг, и лишь приказы папы смогли освободить его от строгого соблюдения этого правила.
Одну отрасль знания почти навязывали ордену его задачи. Популярность проповедников скоро привела их к более глубокому изучению богословия. Спустя немного времени после их поселения в Англии было уже около тридцати лекторов в Херефорде, Лестере, Бристоле и других городах и множество преподавателей при каждом университете. Оксфордские доминиканцы читали богословие в своей новой церкви, а философию — в монастыре. Первый провинциал «серых братьев» построил школу в их оксфордском доме и убедил Гросстета читать там лекции. Влияние Гросстета после назначения его на Линкольнскую кафедру было постоянно направлено на распространение знаний в среде братьев и на утверждение их в университете. К тому же стремился и его ученик Адам Марш, или де Мариско, при котором францисканская школа в Оксфорде приобрела известность во всем христианском мире. Лион, Париж и Кёльн брали себе из нее профессоров, и благодаря ее влиянию Оксфорд в качестве центра схоластики едва ли уступал тогда самому Парижу. Среди его преподавателей были три самых глубоких и оригинальных схоласта — Роджер Бэкон, Дунс Скотт и Уильям Оккам; за ними следовал ряд наставников, едва ли менее славных в те дни.
Результаты этого могущественного движения вскоре оказались роковыми для более широкой умственной деятельности, до того отличавшей жизнь университетов. Богословие в его схоластической форме вернуло себе преобладание в школах; его единственными соперниками оставались практические науки, вроде медицины и права. Сам Аристотель, который так долго считался опаснейшим врагом средневековой веры, превратился теперь, через применение его логического метода к обсуждению и определению богословских догматов, в неожиданного союзника. Это тот самый метод, который вел к «бесполезной изощренности и утонченности» и который лорд Бэкон считал главным недостатком схоластической философии. «Но, замечал дальше о схоластах великий мыслитель, несомненно и то, что если бы эти ученые с их страшной жаждой знания и неустрашимым остроумием соединяли разностороннее чтение и размышление, они оказались бы превосходными светочами и содействовали бы успехам всякого рода учености и знания».
Несмотря на все заблуждения, несомненная заслуга схоластов состояла в том, что они настаивали на необходимости строгого доказательства и более точного употребления терминов, ввели в обиход ясное и методичное рассмотрение всех обсуждаемых вопросов и, что еще важнее, заменили безусловное подчинение авторитету обращением к разуму. Благодаря этому критическому направлению, а также ясности и точности, приданным исследованию схоластика, несмотря на частое занятие пустыми вопросами, в течение двух ближайших веков сообщила человеческому духу направление, которое позволило ему воспользоваться великими научными открытиями эпохи Возрождения.
Тому же духу смелого исследования и народным симпатиям, возбужденным самим устройством новых орденов, надо приписать и влияние, которое они несомненно оказали на предстоявшую борьбу между народом и короной. Они занимали ясное и вполне определенное положение в течение всего спора. Оксфордский университет, подчинившийся их руководству, первым восстал против папских вымогательств и в защиту английской свободы. Городское население, на котором влияние новых орденов сказалось сильнее всего, было стойким защитником свободы во время «войны баронов». Адам Марш был ближайшим другом и поверенным Гросстета и графа Симона де Монфора.
Глава VII «ВОЙНА БАРОНОВ» (1258—1265 гг.)
Однажды, катаясь по Темзе, король был захвачен грозой и поспешил укрыться от нее во дворце епископа Дергемского. В это время в гостях у епископа находился граф Симон Монфор, который, встретив королевскую шлюпку, стал уверять Генриха III, что гроза прошла и что бояться решительно нечего. «Если я и боюсь грозы, то Вас, граф, я боюсь больше всех громов на свете», — остроумно отвечал ему король.
Человек, которого Генрих III боялся как защитника английской свободы, сам был иностранцем, сыном того Симона Монфора, имя которого прославил в истории кровавый поход против альбигойцев в Южной Франции. От своей матери молодой Симон унаследовал графство Лестерское, а тайный брак со вдовой второго Уильяма Маршалла Элеонорой, доводившейся сестрой королю, породнил его с королевским домом. Недовольное этим браком с иностранцем дворянство восстало против Симона, и восстание окончилось неудачей только из-за отступничества его главы, графа Ричарда Корнуоллского. С другой стороны, против этого брака восстала и церковь, основываясь на данном Элеонорой после смерти первого супруга обете вдовства, и только путешествие в Рим с трудом уладило это дело.
Вернувшись, Симон увидел, что и непостоянный король отдалился от него, и гнев Генриха III заставил его покинуть Англию. Вскоре, однако, милость короля вернулась и Симон стал одним из первых патриотических вождей. В 1248 году король назначил его правителем Гаскони, где его суровое правосудие и тяжелые налоги, необходимые для поддержания порядка, навлекли на него ненависть беспокойных баронов. Жалобы гасконцев привели к открытому разрыву с королем. Когда граф предложил отказаться от своего места, если, как раньше было обещано, ему будут возмещены все произведенные на службе издержки, то король гневно ответил, что не считает себя связанным обещанием, данным лживому изменнику. Симон тотчас изобличил Генриха III во лжи: «Если бы ты не был королем, то плохо пришлось бы тебе в тот час, когда у тебя вырвалось такое слово!» Потом они, однако, примирились, и граф вернулся в Гасконь, но еще до наступления зимы должен был уехать во Францию.
Как высока была уже в это время его репутация, видно из того, что вельможи предложили ему управлять Францией, впредь до возвращения Людовика IX из крестового похода, но Симон отказался от этой чести. Генрих III сам взялся за умиротворение Гаскони, но в 1253 году с удовольствием передал неудавшееся ему дело ее прежнему правителю. Характер Симона тогда окончательно сформировался. Он унаследовал строгую суровую набожность своего отца, постоянно днем и ночью посещал церковные службы, был другом Гросстета и покровителем новых орденов. Из его переписки с Адамом Маршем мы видим, что во время смут в Гаскони он находил себе утешение в чтении Книги Иова. Он вел нравственную и чрезвычайно воздержанную жизнь и был весьма умерен в пище, питье и сне. В обществе он был любезен и шутлив; его характер был живым и пылким, чувство чести — сильно развитым, а речь — быстрой и резкой. Его нетерпимость и горячий характер, действительно, были большими препятствиями в его дальнейшей карьере.
Рис. Симон де Монфор и король Генрих III.
Но самой характерной чертой его было то, что его современники называли «постоянством», — твердая готовность жертвовать всем, даже жизнью, ради верности праву. Девиз Эдуарда I «держись правды» гораздо больше подходил графу Симону. Из его переписки мы видим, как ясно понимал он все внутренние и внешние затруднения, когда «счел позорным отклонить от себя опасности такого подвига», как умиротворение Гаскони, и как, взявшись за дело, он стоял на своем, несмотря на оппозицию, отсутствие помощи из Англии и даже отступничество короля, и стоял на своем до тех пор, пока дело не было сделано. Та же сила воли и определенность цели характеризуют и патриотизм Симона. Письма Гросстета показывают, как рано начал граф сочувствовать восстанию епископа против Рима; в разгар спора он предлагал Гросстету поддержку — свою и своих единомышленников.
Он за собственной печатью послал Адаму Маршу трактат Гросстета «Об управлении государством и о тирании». Он терпеливо слушал советы друзей относительно своей деятельности и характера. «Терпеливый человек лучше сильного, — писал почтенный Адам Марш, — а тот, кто умеет управлять самим собой, выше того, кто берет приступом город. Что толку заботиться о мире сограждан и не поддерживать мира в своем доме?» По мере того как волна неурядиц возрастала, граф в тишине учился обеспечивать «мир своим согражданам», и результат этой подготовки обнаружился, когда наступил кризис. В то время как другие колебались, смущались и отступали, народ отнесся с восторженной любовью к строгому, серьезному воину, который «стоял подобно столпу», не поддаваясь ни обещаниям, ни угрозам, ни страху смерти и руководствуясь только данной им клятвой.
Дела в Англии шли все хуже. Папа Римский продолжал угнетать духовенство; два торжественных подтверждения Хартии не заставили короля следовать ее постановлениям. В 1248, в 1249 и в 1255 годах Великий совет безуспешно продолжал требовать настоящего управления; решимость баронов добиться хорошего управления все росла, и они предложили королю субсидии, а условием, чтобы главные сановники короны назначались Советом. Генрих III с негодованием отверг предложение и продал королевскую посуду гражданам Лондона, чтобы покрыть издержки своего двора. Бароны роптали и становились все смелее. «Я пошлю жнецов и велю убрать Ваши поля», — пригрозил король отказавшему ему в помощи графу Бигоду Норфолкскому. «А я отошлю Вам назад головы Ваших жнецов», — возразил граф.
Стесненный мотовством двора и отказом в субсидиях, Генрих III не имел ни гроша, а между тем предстояли новые расходы, так как он принял предложение папы Римского возвести на престол Сицилии своего второго сына Эдмунда. В это же время позор покрыл английское оружие: старший сын короля Эдуард был позорно разбит на границах Левелином Уэльским. Недовольство усилилось из-за голода и перешло всякие границы, когда в начале 1258 года Рим и Генрих III предъявили новые требования. На собрание, созванное в Лондоне, бароны явились вооруженными. Истекшие пятьдесят лет выявили сильные и слабые стороны Хартии: она была важна как основа объединения для баронов и как определенное утверждение прав, к признанию которых нужно было принудить короля; ее слабая сторона заключалась в том, что она не объясняла средств для проведения ее постановлений на деле. Несколько раз клялся Генрих III исполнять Хартию и тотчас же бессовестно нарушал свою клятву. Бароны обеспечили свободу Англии; тайна их долготерпения в 12-е царствование — царствование Генриха III — заключалась в трудности обеспечить стране надлежащее управление.
Эту задачу и готовился решить граф Симон. Вместе с графом Глостером он явился во главе вооруженных баронов и потребовал назначения комитета из двадцати четырех человек для выработки плана государственных реформ. Хотя половина комитета и состояла из королевских министров и фаворитов, но противиться народному настроению было невозможно. «Оксфордскими постановлениями», принятыми в июле 1258 года, было определено, что Великий совет должен собираться трижды в год по приглашению короля или без него, и что «община» (Commonalty) «избирает всякий раз двенадцать честных людей, которые будут являться в парламенты и в других случаях по приглашению короля и его совета для обсуждения нужд короля и королевства. Община будет считать законными все решения своих выборных».
Кроме того, были избраны три постоянных комитета — один для реформ в церкви, другой — для заведования финансами, третий — Постоянный совет пятнадцати — для содействия королю в текущих делах. Юстициарий, канцлер и коменданты королевских замков присягнули действовать только по указанию и с согласия Постоянного совета, и, кроме того, первые два, а также казначей, должны были представлять Совету в конце каждого года отчет в своих действиях. Шерифы должны были назначаться на один год из числа главнейших дворян графства и не должны были взимать незаконных поборов за решение дел в их судах.
Королевская прокламация на английском языке, первая из дошедших до нас на этом языке со времени завоевания, предписывала соблюдение этих постановлений. Сопротивление выказали лишь иностранные любимцы, но вооруженная демонстрация баронов принудила их бежать за море. Вся королевская власть была теперь на деле в руках комиссий, назначавшихся Великим советом; характер новой администрации сказался в запрете дальнейших взносов, светских и церковных, в папскую казну, в формальном отказе от похода в Сицилию, в переговорах графа Симона с Францией, окончившихся полным отречением Генриха III от права на утраченные области; наконец, в заключении мира, прекратившим набеги уэльсцев.
Внутреннее управление баронов характеризовалось, однако, слабостью и своекорыстием. Изданные ими в следующем году под давлением общественного мнения «Вестминстерские постановления» имели целью охрану интересов собственников и улучшение суда, но принесли мало пользы. Стремление к чисто феодальным привилегиям явственно обнаружилось в освобождении баронов и прелатов от появления в судах шерифов. Тщетно граф Симон, вернувшийся из Франции, настаивал на более серьезных реформах, а сын короля Эдуард оставался верен своему обещанию соблюдать постановления и открыто поддерживал его. Глостер и Гуго Бигод изменили делу реформы и вместе со всей феодальной партией примкнули к королю; тогда Генрих III добыл у папы Римского буллу, отменявшую постановления и освобождавшую его от присяги, взял Тауэр и другие замки, назначил нового юстициария и возвратил короне ее прежнюю власть.
Покинутый баронами, граф Лестер вынужден был удалиться на полтора года во Францию, а Генрих III стал править с явными нарушениями Хартии. Расстройство дел в королевстве оживило недовольство правительством, а смерть Глостера устранила важную помеху для деятельности Симона Лестера. В 1263 году он снова вернулся в Англию в качестве несомненного главы партии баронов. На поход Эдуарда и королевской армии против Ллевелина Уэльского бароны смотрели как на прелюдию к важным действиям против них самих; граф Симон тотчас очистил границы Уэльса, пошел на Дувр и наконец появился перед Лондоном. Его усиленно поддерживали города.
Новый демократический дух нищенствующих орденов побуждал теперь чисто промышленные классы добиваться участия в городском управлении, до того находившемся в руках богатых членов купеческих гильдий, и переворот, который позже мы опишем подробнее, передал управление Лондоном и другими городами низшим классам. «Общины», как стали называть новое городское управление, выказывали восторженную преданность графу Симону и его делу. Королева сделала попытку бежать из Тауэра, но яростная толпа остановила ее и прогнала назад камнями и ругательствами. Когда Генрих III попытался захватить Лестера на его стоянке в Саутуорке, то лондонцы порвали цепи, которыми богатые граждане заперли улицы, и с торжеством впустили графа в город. Духовенство и университеты разделяли симпатии горожан, и, несмотря на упреки роялистов, обвинявших Симона в том, что он ищет себе союзников против знати в простом народе, сочувствие последнего придало графу силу, которая позволила ему вынести сильнейшие удары, нанесенные его делу. Бароны перешли на сторону короля.
Боязнь междоусобиц усилила желание соглашения, и обе стороны решили передать спор на разрешение короля Франции Людовика IX. В «Амьенском решении» Людовик IX высказался безусловно в пользу короля. Оксфордские постановления были уничтожены; сохраняли обязательную силу только хартии, дарованные раньше этих постановлений. Назначение и смещение должностных лиц должны были всецело зависеть от короля, который мог также приглашать в свой совет иностранцев. Удар был силен, а папа Римский, со своей стороны, поспешил подтвердить решение Людовика IX. Бароны чувствовали себя связанными этим решением и протестовали только против пункта об иностранцах, который они не хотели отдавать на волю третейского судьи. Но Симон сразу приготовился сопротивляться. К счастью, решение Людовика IX сохранило за англичанами право на вольности, которыми они пользовались до Оксфордских постановлений, и Симону нетрудно было доказать, что произвольная власть, приписанная короне, противоречит не только Оксфордским постановлениям, но и Хартии.
Лондон первым отверг приговор; его граждане собрались на звон городского колокола у собора святого Павла, схватили королевских чиновников и разграбили королевские парки. Король собрал, со своей стороны, большую армию, а бароны один за другим стали покидать Симона. Каждый день приносил худые вести. К войску Генриха III присоединился отряд из Шотландии; младший Монфор был взят в плен; король взял Нортгемптон и освободил Рочестер от осады. Лишь быстрое движение Симона спасло Лондон от захвата Эдуардом. Преданный чуть ли не всеми, граф остался верен себе. Он заявил, что будет сражаться и тогда, когда останется один со своими сыновьями. С войском, подкрепленным 15000 лондонцев, он пошел на выручку «пяти портам», которым теперь угрожал король. Многие из сопровождавших его баронов покинули его во время похода. Остановившись у Флетчинга в Сассексе, в нескольких милях от Льюиса, где расположилось королевское войско, граф Симон и молодой граф Глостер предложили королю возмещение всех убытков, если он согласится соблюдать постановления. Генрих III отвечал на это вызовом, и тогда Симон, несмотря на превосходство сил неприятеля, решил дать сражение.
Как опытный воин он воспользовался выгодами местоположения: двинувшись на заре, он захватил возвышенности к востоку от города и двинулся по склонам в атаку. Перед сражением его воины, с крестами на груди и спине, преклонили колена и помолились. Первым начал сражение Эдуард. Он яростно напал на левое крыло армии Симона, состоявшее из лондонцев, опрокинул его и, ослепленный ненавистью, гнал его четыре мили, убив три тысячи человек. Но когда он возвратился, то сражение было уже проиграно. Зажатые в тесном пространстве, с рекой в тылу, центр и левое крыло армии короля были раздавлены графом Симоном; граф Корнуоллский, в то время король Римский, и сам Генрих III были захвачены в плен. Эдуард пробился в приорство только затем, чтобы разделить с отцом его участь.
Победа при Льюисе поставила графа Симона во главе государства. «Теперь Англия жила в надежде на свободу, — пел тогдашний поэт; — англичан прежде презирали, как собак, теперь они подняли головы, а их враги побеждены». Далее песнь эта излагает с почти юридической точностью теорию патриотов: «Кто хотел бы поистине быть королем, тот является вольным королем, если управляет как следует собой и королевством. Все, что идет на благо королевства, он считает законным, а вредное для него — преступным. Одно дело — править согласно долгу короля, другое — разрушать государство, противясь закону». «Пусть совещаются общины королевства и пусть выяснится мнение всех, так как им лучше всего известны их законы. Всего лучше знают законы те, кто ими управляется; всего лучше знакомы с ними те, кто ежедневно имеет с ними дело; а так как тут дело идет об их интересах, то они приложат больше заботы и в своих действиях будут иметь в виду свой мир». «Общины имеют право следить за тем, какого рода людей нужно, собственно, выбирать для блага государства».
Никогда еще не излагались так ясно конституционные ограничения королевской власти, право нации совещаться о своих делах и решать их, а также право иметь голос в выборе представителей администрации. Однако умеренность условий Льюисского решения, — соглашения между королем и победителями, — показывает, что Симон абсолютно понимал трудности своего положения. Вопрос о Постановлениях решено было снова отдать на рассмотрение третейского суда, а до его приговора парламент, в который из каждого графства было вызвано по четверо рыцарей, передал управление в руки нового Совета девяти, членов которого должны были назначить графы Лестер и Глостер и стоявший на стороне патриотов епископ уичестерский. Ответственность перед народом была установлена тем, что за собранием баронов и прелатов признавалось право устранять любого из трех избирателей, которые в свою очередь, могли назначать и смещать членов Совета девяти. Такая Конституция сильно отличалась от запутанного и олигархического устройства 1258 года. Но расчеты на посредничество не оправдались: Людовик IX отказался от пересмотра своего решения, а папа Римский формально осудил действия баронов.
Затруднения графа росли с каждым днем. Королева собрала во Франции армию для вторжения в Англию, а на границах Уэльса все еще стояли вооруженные бароны. Вступать в соглашение с пленным королем было невозможно, освободить его без всяких условий — значило возобновить войну. В январе 1265 года в Вестминстере был созван новый парламент, но слабость патриотической партии среди баронов сказалась уже в том, что рядом со ста двадцатью церковниками в нем заседали всего двадцать три графа и барона. Но именно сознание своей слабости и побудило графа Симона к конституционной реформе, оказавшей сильнейшее влияние на нашу историю. На этот раз, он вызвал из каждого графства по два рыцаря, назначив заседать рядом с ними по двое граждан от каждого города, одновременно он создал новую силу в английской политике. Вызов депутатов от городов давно уже практиковался в собраниях графств, когда обсуждаемые вопросы касались их интересов; но лишь грамота графа Симона впервые заставила купцов и мещан заседать рядом с рыцарями графств, баронами и прелатами в парламенте королевства.
Только этот великий шаг и дает нам возможность понять широкий и пророческий характер планов графа Симона. Едва прошло несколько месяцев со времени победы при Льюисе, а его власть уже начала колебаться, в то время как горожане заняли свои места в Вестминстере. Внешние опасности граф преодолел с полным успехом: общий сбор всех сил Англии на Бергемских холмах положил конец планам наемников, собранных королевой во Фландрии, — вторгнуться в Англию; угрозы Франции ограничились переговорами; папскому легату было запрещено переплывать через Ла-Манш, а буллы об отлучении бросили в море. Но внутренние трудности с каждым днем становились все более грозными. Плен Генриха III и Эдуарда возмущал в народе чувство лояльности и привлекал к ним массу англичан, которая всегда становится на сторону слабого. И прежде слабая среди баронов партия патриотов ослабела еще больше, когда начались споры из-за дележа добычи.
Симону сильно повредили его справедливость и решимость обеспечить внутренний мир. Джон Жиффар покинул Симона, потому что он запретил ему требовать выкуп у пленника, так как это противоречило соглашению, заключенному после победы при Льюисе. Молодой граф Жильберт Глостер, хотя и обогатился за счет имений иностранцев, сердился на него за запрещение турнира, назначение собственной властью комендантов королевских замков и занятие крепостей Эдуарда на границах Уэльса своими гарнизонами. Последующее поведение Глостера доказало справедливость опасений Лестера. На весеннем заседании парламента 1265 года Глостер открыто обвинял Симона в тирании и в стремлении к захвату короны. До закрытия парламента он удалился в свои поместья на западе и вступил в тайное соглашение с Роджером Мортимером и пограничными баронами. Граф Симон скоро последовал за ним, захватив с собой короля и Эдуарда. Он пошел вдоль Северна, закрепляя за собой города, дошел до Херефорда и в конце июня направился по плохим дорогам в самое сердце Уэльса с целью напасть на замки графа Жильберта в Гламоргане, но в это время Эдуард неожиданно бежал из Херефорда и присоединился к Глостеру в Ледлоу. Момент был выбран удачно, и Эдуард выказал редкое искусство в маневрах, при помощи которых он воспользовался невыгодным положением графа. Двинувшись быстро вдоль Северна, он захватил Глостер и мосты через реку, уничтожил суда, на которых Симон старался переправиться через канал в Бристоль, и таким образом совершенно отрезал войска Лестера от Англии. Этот маневр поставил его между силами графа и его сына Симона, шедшего с востока на помощь отцу.
Быстро обратившись на второй отряд, Эдуард напал на него при Кенильворте и с тяжелыми потерями загнал в стены замка. Но это было более чем уравновешено тем, что отсутствие короля позволило графу прорвать линию Северна. Захваченный врасплох и изолированный, Симон вынужден был искать себе помощи в открытом союзе с Левелином и обратиться на восток с уэльскими подкреплениями. Но захват его кораблей и мостов на Северне отдал его во власть Эдуарда, а сильная атака последнего отогнала его разбитые войска в горы Уэльса. В полном отчаянии граф бросился на север к Герфорду, но отсутствие Эдуарда позволило ему 2 августа переправить свои войска на лодках через Северн ниже Уорчестера. Известие об этом заставило Эдуарда вернуться к реке, но граф после длинного ночного перехода уже достиг утром 4 августа Ившема, тогда как его сын, вернувший, благодаря отступлению Эдуарда, свободу движений, в ту же ночь подошел к небольшому местечку Алчестер. Обе армии были теперь отделены одна от другой каким-нибудь десятком миль, и их соединение казалось обеспеченным, но обе они были истомлены трудными переходами, и в то время как граф неохотно подчинился желанию бывшего с ним короля остановиться в Ившеме для церковной службы и обеда, армия Симона-младшего остановилась ради того же в Алчестере.
«Увы! То были два горестных обеда!»— пел Роберт Глостерский. В ту достопамятную ночь Эдуард спешил от Северна по проселочным дорогам, чтобы занять небольшое пространство, разделявшее обе армии. С наступлением утра войско Эдуарда уже достигло дороги, ведшей на север от Ившема к Алчестеру. Ившем лежит на сгибе Эйвона, там, где он поворачивает к югу, и единственный выход из него закрывала высота, на которой и расположил свои войска Эдуард. С целью отрезать Симону всякое отступление на другую сторону реки переправился отряд Мортимера и завладел всеми мостами. Приближение войска Эдуарда побудило Симона двинуться вперед, и в первую минуту он принял его за армию сына. Хотя надежда тотчас рассеялась, но в нем пробудилась гордость солдата, когда в правильном движении врагов он увидел доказательство пользы своих наставлений: «Клянусь рукой святого Иакова, — воскликнул он, они идут умело, но ведь этому они научились у меня!» Ему довольно было одного взгляда, чтобы убедиться в безнадежности борьбы. Для горсти всадников и толпы полувооруженных уэльсцев было невозможно сопротивляться дисциплинированному рыцарству королевской армии. «Вручим наши души Богу, ибо наши тела — во власти врагов», — сказал Симон окружавшей его небольшой группе. Он уговаривал Гуго Деспенсера и остальных товарищей бежать. «Если ты умрешь, то и мы не хотим жить», — доблестно отвечали они. Через три часа резня была окончена. Уэльсцы побежали при первом же натиске, как овцы, и были беспощадно перебиты в полях и садах, где искали себе убежища. Небольшая группа рыцарей, окружавших Симона, отчаянно билась; они падали друг за другом, и наконец граф остался один. Удары его меча были столь страшны, что он почти достиг уже вершины холма, когда чье-то копье повергло наземь его коня; но и тут Симон отказался от предложения сдаться и защищался, пока удар сзади не нанес ему смертельную рану. «Это милость Божья!», — воскликнул великий патриот, падая на землю и испуская последний вздох.
РАЗДЕЛ IV ТРИ ЭДУАРДА (1265—1360 гг.)
Глава I ЗАВОЕВАНИЕ УЭЛЬСА (1265—1284 гг.)
В то время как литература и наука, на короткое время расцветшие в Англии, были заглушены смутами войны баронов, оживление поэзии поставило в резкое противоречие общественный строй и духовную жизнь Уэльса.
Судя по внешним признакам, Уэльс в XIII веке был погружен в полное варварство. Целые века ожесточенных войн и междоусобиц, отчуждение от общехристианской культуры изгладили все следы древнеримской цивилизации, и непокоренные еще бритты превратились в массу диких пастухов, одевавшихся в звериные шкуры и питавшихся молоком своих стад; они были вероломны, жадны, мстительны, не имели политической организации выше клана, разъединялись страшными распрями и сходились только для битвы и набегов на чужестранцев. Но в душе этого дикого народа все еще тлела искра поэтического огня, воодушевлявшего их четыреста лет назад песнями Анеурина и Лайуорча Гена на борьбу с саксами. И вот в час крайнего падения Уэльса его молчание было внезапно нарушено толпой певцов. Эта песнь XII века исходила не от того или другого барда, но от всего народа. «Во всяком доме, — говорил наблюдательный Жеральд де Барри, — чужестранцы, прибывшие утром, наслаждаются до вечера рассказами девушек и игрой на арфе».
Романтическая литература племени нашла удивительное выражение в его языке, бывшем таким же потомком древнекельтского наречия времен Цезаря, какими романские языки являются для латыни его эпохи. Этот язык получил определенный строй и литературную обработку гораздо раньше всех остальных языков новой Европы. Ни в одной средневековой литературе язык не достигал такой обработанности и законченности. В этих отработанных формах кельтская фантазия играет с поразительной свободой. В одной из позднейших поэм Гуайон Малый превращается в зайца, рыбу, птицу, пшеничное зерно, и это не более чем символ причудливых форм целой серии рассказов, a «Mabinogion», в которых проявилась игра кельтского воображения, пришли к высшему совершенству в легендах об Артуре.
Их веселая причудливость не обращает внимания на действительность, предание, вероятность и упивается невозможным и нереальным. Когда Артур отправляется в неведомый мир, то едет на стеклянном корабле. «Нисхождение в ад» в описании одного кельтского поэта отбрасывает и средневековые ужасы, и средневековое благочестие: спустившийся туда рыцарь проводит годы адского заточения в охоте, пении и беседах с прекрасными женщинами. Мир «Мабиногиона» — мир чистой фантазии, мир чудес и очарования, мрачных лесов, тишина которых прерывается звоном колокола отшельника, и светлых полян, где свет играет на доспехах героя. Каждая фигура, проходящая через воображение поэта, сверкает яркими красками. «Девушка была одета в платье из блестящего шелка, вокруг ее шеи вилось ожерелье из червонного золота, украшенное изумрудами и рубинами. Ее золотистые волосы блестели ярче дрокового цветка, цвет лица был белее морской пены, а пальчики — прекраснее лесного анемона среди брызг лугового ключа. Глаза сокола не ярче ее очей. Ее грудь была белее груди лебедя, а щеки — румянее самых красных роз».
Всюду здесь восточное богатство пышных образов, но эта роскошь редко подавляет воображение. Восприимчивость кельтского характера, столь чувствительного к красоте, столь жаждущего жизни, ее треволнений, ее грусти и радостей, умеряется страстной меланхолией, восстающей против невозможного, инстинктивным пониманием благородства и чарующей прелести природы. Среди всех крайностей выражения здесь всюду ощущаются то грациозный полет чистой фантазии, то нежная нотка человеческого чувства, то магическое прикосновение красоты. Когда серые собаки Кальвега прыгают вокруг лошади своего хозяина, то они «играют, как две морских ласточки». Его копье разит «быстрее, чем падает капля росы с листка красной травки на землю в июне, когда роса бывает всего обильнее».
Глубокая и тонкая любовь к природе, к естественной красоте получает светлую окраску от охватывающего поэта страстного чувства человечности; это чувство прорывается в восклицании Гуалмайя: «Я люблю птичек и их сладкие голоса в убаюкивающих песнях леса!», и он не спит ночью, а идет по «непритоптанной траве» леса или на берег моря слушать соловья или любоваться игрой морских чаек. Сам патриотизм облекается в те же живописные формы: уэльский поэт ненавидит плоскую однообразную страну саксов; говоря о своей родине, он описывает ее «морские берега и ее горы, ее города на краю лесов, ее прекрасные пейзажи, ее долины и воды, ее белых морских чаек и прекрасных женщин». Песнь переходит, быстро и тонко, в область нежных чувств: «Люблю я ее поля, одетые нежным трилистником, люблю болота Мерионета, где моя голова покоилась на белоснежной руке». В кельтской любви к женщине мало тевтонских глубины и серьезности, а вместо них мы видим игривый дух изящного наслаждения, далекий слабый отблеск страсти, подобный розовому свету зари на снежных вершинах гор, радостное упоение красотой: «Моя милая бела, как цвет яблони, как пена моря; ее лицо блистает, как жемчужная росинка, румянец ее щек подобен блеску солнечного заката». Легкий и упругий характер французского трувера одухотворялся у певцов Уэльса более тонким поэтическим чувством: «Кто ни взглянет на нее, тот полюбит ее; где ступит ее ножка, там вырастают четыре трилистника». Прикосновение чистой фантазии переносит ее предмет из сферы страсти в область восхищения и уважения.
От этого поэтического мира странно, как мы сказали, переходить к действительной истории Уэльса. Но рядом с этим причудливым поэтическим течением шла струя более энергичной поэзии. Старый дух древних бардов, их наслаждение битвами, их любовь к свободе и ненависть к саксам — все это проявилось в ряде песен, странных, монотонных, часто прозаичных, но вдохновленных пылким патриотизмом. Новое появление таких песен свидетельствовало и о пробуждении новой энергии в долгой борьбе с английскими завоевателями.
Из трех государств, на которые победы при Дергеме и Честере разбили земли еще непокоренных бриттов, два давно перестали существовать. Страна между Клайдом и Ди была постепенно поглощена Нортумбрией и расширением Шотландской монархии; Западный Уэльс, между Ла-Маншем и устьем Северна, подчинился мечу Эгберта. Более упорное сопротивление спасло независимость главной, средней области, которая теперь и носит название Уэльс. Она и сама была обширнейшим и сильнейшим из бриттских государств, да, кроме того, в ее борьбе с Мерсией ей помогали слабость противника — младшей и слабейшей из английских держав, а также внутренние раздоры, подрывавшие энергию завоевателей. Но едва Мерсия достигла главенства среди других государств, она энергично взялась за дело завоевания. Оффа оторвал от Уэльса землю между Северном и Уай, вторжение его преемников внесло огонь и меч в самое сердце страны, и уэльские государи должны были признать верховенство Мерсии.
После ее падения первенство перешло к королям Уэссекса. Законы Гоуэла Дда признавали выплату ежегодной дани «государем Эберфроу» «королю Лондона». Слабость Англии в эпоху ее долгой борьбы с датчанами оживила надежды бриттов на независимость, но с падением Дейнло князья Уэльса снова покорились англам, а когда в середине царствования Исповедника они воспользовались ссорой между домами Леофрика и Годвина, чтобы перейти границу и напасть на саму Англию, то победы Гарольда восстановили английское верховенство. Его легко вооруженные войска высадились на берег, проникли в горы Уэльса, и наследники князя Груффайда, голова которого послужила трофеем победы, поклялись соблюдать верность английской короне и платить ей прежнюю дань.
Борьба стала еще более отчаянной, когда волны нормандского завоевания разбились о границу Уэльса. Ряд крупных графств, учрежденных Вильгельмом Завоевателем вдоль этой границы, сразу ограничил разбойничьи набеги. Палатин Честера Хьюг Ульф превратил Флинтшайр в пустыню, а граф Шрусбери Роберт де Белем, по словам летописца, «резал уэльсцев, как овец, покорял их, обращал в рабство, обдирал их железными гвоздями». При поддержке этих крупных баронов толпа мелких авантюристов получила от короля разрешение отвоевывать земли уэльсцев. Монмут и Абергавенни были захвачены нормандскими кастелянами, Бернард Нефмарше приобрел себе поместье Брекнок, а Роджер Монтгомери заложил в Пауайсленде город и крепость, до сих пор носящие его имя. Общее восстание всего народа в эпоху Вильгельма II отняло у нормандцев часть их добычи. Новый замок Монтгомери был сожжен, Брекнок и Кардиган — очищены от пришельцев, границы самой Англии подверглись опустошению.
Дважды король безуспешно водил свою армию в горы Уэльса: неприятели укрывались в своих твердынях, пока голод и лишения не вынуждали войско к отступлению. Более благоразумный Генрих I вернулся к отцовской системе постепенного завоевания, и волна нового вторжения разлилась вдоль берега, где страна была открытой, ровной и доступной с моря. Успеху вторжения содействовали внутренние распри. Один из уэльских главарей призвал к себе на помощь Роберта Фиц-Гамо, лорда Глостера, а поражение Риса Тюдора, последнего князя, объединившего Южный Уэльс, породило анархию, позволившую Роберту спокойно высадиться на берегу Гламоргана, завоевать страну и разделить ее между своими воинами. Отряд фламандцев и англичан сопровождал графа Клера, когда он высадился близ милфордской гавани, оттеснил бриттов в глубь страны и основал «Малую Англию» в нынешнем Пемброкшире. Несколько смелых искателей приключений сопровождали также нормандского лорда Кемейса в Кардиган, где земля могла быть добычей для всякого, «кто только отваживался на войну с уэльсцами».
В тот момент, когда полное подчинение бриттов, казалось, было близко, новый взрыв энергии остановил нашествие завоевателей и превратил колеблющееся сопротивление отдельных областей Уэльса в борьбу всего народа за утраченную независимость. Явился снова, как мы видели, поэтический пыл. Каждое сражение, каждый герой тотчас находили себе певцов. Имена древних бардов ожили в смелых подделках, побуждавших народ к сопротивлению и предвещавших победу. Новый патриотизм сильнее всего поддерживался этими песнями в Северном Уэльсе. Несколько раз приходилось Генриху II отступать перед неприступными твердынями, с которых «лорды Снодона», князья из дома Груффайда, сына Конана, господствовали над Уэльсом. Однажды разнесся слух, что король убит; Генрих Эссекский бросил королевское знамя, и только отчаянные усилия короля спасли армию от полного поражения. Во время другого похода нападающие были застигнуты такими ливнями, что вынуждены были бросить обоз и стремглав бежать к Честеру.
Величайшая из уэльских од, известная английским читателям по переводу Грея, — «Триумф Оуэна», — представляет собой победную песнь Гуальмайя, сложенную в честь отражения английского флота от Эберменей. В течение долгого управления двух Левелинов, сыновей Жоруэрта и Груффайда, управления, занимавшего почти весь последний век независимости Уэльса, — казалось, суждено было осуществиться всем надеждам их соплеменников. Первому из них удалось принудить к присяге всех уэльских вождей, что поставило его во главе всего народа и тем придало новый характер его борьбе с королем Англии. Укрепляя свою власть внутри страны и распространяя ее на Южный Уэльс, Левелин, сын Жоруэрта, упорно стремился найти средства к низвержению ига саксов. Тщетно старался Иоанн купить его дружбу выдачей за него замуж своей дочери. Новые набеги на границы заставили короля войти в Уэльс; но хотя его армия и дошла до Снодона, она вынуждена была, как и ее предшественницы, истомленная голодом и лишениями, отступить перед неуловимым врагом. Второе вторжение сопровождалось большим успехом. Вожди Южного Уэльса отказались от недавней присяги и перешли на сторону англичан, а стесненный в своих твердынях Левелин вынужден был наконец подчиниться. Не успели, однако, еще высохнуть чернила, которыми был подписан договор, как пламя восстания снова охватило Уэльс. Страх перед англичанами еще раз объединил его вождей, а борьба между Иоанном и его баронами обезопасила от нового вторжения. Отказавшись от присяги отлученному королю, Левелин заключил союз с предводителем баронов Фитц Уолтером, очень желавшим привлечь на свою сторону государя, который мог держать в узде пограничных графов, стоявших за короля. Левелин воспользовался этим случаем, чтобы захватить Шрусбери, присоединить Пауайсленд, где всегда было сильно английское влияние, выгнать королевские гарнизоны из Кермартена и Кардигана и принудить даже фламандцев Пемброка к признанию его власти.
С каждым из этих триумфов лорда Снодона надежды уэльсцев возрастали. Двор Левелина был наполнен бардами. «Он сыплет золото бардам, — пел один из них, — как дерево роняет созревшие плоды наземь». Но золото едва ли было нужно для пробуждения их энтузиазма. Поэт за поэтом воспевали «опустошителя Англии», «орла среди людей, который не любит валяться и спать», который «со своим длинным окровавленным копьем поднимается над прочими людьми», у которого «красный боевой шлем увенчивается лютым волком». «Шум его приближения подобен реву морских волн, которые разбиваются о берег и которые ничто не может ни остановить, ни укротить».
Менее известные барды в грубых песнях воспевали победы Левелина и вдохновляли его на бой. «Будь храбр в бою, — повторял Элидир, — будь верен своему делу, опустошай Англию, разоряй ее народ». Сильная жажда крови слышалась в отрывистых страстных стихах придворных поэтов. «Суэнси, этот мирный город, превращен в груду развалин, — с торжеством восклицал поэт, — Сент-Клир с его широкими меловыми землями, уже не саксы владеют им теперь!» «В Суэнси, этом ключе Лоэгрии, мы сделали вдовами всех женщин». «Грозный орел привык класть трупы рядами и торжествовать вместе с волками и летучими воронами, наглотавшимися мяса, — мясниками, чующими трупы». «Лучше могила, — кончается песнь, — чем жизнь человека, который тяжко вздыхает, когда рога вызывают его на поле брани». Но даже в песнях бардов Левелин возвышается над толпой вождей, живших лишь грабежом и хваставших на пирах, когда рог переходил из рук в руки, «что они не просят и не дают пощады». Левелин был «нежным, мудрым, остроумным и находчивым» мужем, «Великим Цезарем», которому предстояло собрать под свою власть остатки кельтского племени. Таинственные предсказания Мудрого Мерлина переходили из уст в уста и вдохновляли уэльсцев на борьбу с завоевателем. Медрод и Артур явятся еще раз на землю и снова будут биться в роковой Камланской битве. Жив также и последний кельтский завоеватель, Кадваллон, и будет он драться за свой народ.
Стихи, приписывавшиеся Тальезину, выражали неумиравшую надежду на возрождение кимров. «В руках их опять окажется вся земля, от Бретани до Мена… и пронесется молва, что германцы уходят обратно на свою родину». Все эти предсказания, собранные в странном произведении Готтфрида Монмута, производили глубокое впечатление не только на уэльсцев, но и на их завоевателей. Сам Генрих II с целью уничтожить мечту о том, что Артур еще жив, разыскал и посетил могилу легендарного героя в Гластонбери, но ни эта уловка, ни даже завоевание не могли поколебать твердой веры кельтов в конечное торжество их на рода. «Думаете ли вы, — спросил Генрих II приставшего к его войску уэльского вождя, — что ваш мятежный народ может противостоять моей армии?» «Мой народ, — отвечал тот, — может быть ослаблен вашим могуществом и даже в большей части истреблен, но совсем погибнуть он может только тогда, когда гнев Божий станет на сторону его врагов. Я не допускаю, чтобы в день последнего суда перед судьей всех отвечал вместо уэльсцев какой-нибудь другой народ, и не на языке Уэльса». Народная песнь гласила: «Будут хвалить они своего Бога и сохранять свой язык, но потеряют свои земли, кроме дикого Уэльса».
Возрастающая сила кельтского племени, казалось, оправдывала эту веру и эти пророчества. Слабость и раздоры, отличавшие царствование Генриха III, позволили Левелину, сыну Жоруэрта, фактически сохранить независимость до конца своей жизни, когда архиепископ Эдмунд заставил его снова признать верховенство Англии. Наследовавший ему Левелин, сын Груффайда, снова покрыл славой свое оружие, опустошил пограничные земли до самых ворот Честера и завоевал Гламорган, что соединило весь народ в одну державу, достаточно сильную, чтобы отражать нападения иноземцев. В течение всей «войны баронов» Левелин оставался владыкой Уэльса, да и по окончании ее, когда ему стало грозить нападение соединенных сил Англии, он покорился только под условием признания его главенства над Уэльсом. Прежде английские короли называли его просто «князем Эберфро»; теперь ему был пожалован титул «государя Уэльса» и за ним было признано право требовать, чтобы ему присягали другие вожди его княжества.
Хотя, по-видимому, Левелин и был очень близок к осуществлению своих притязаний, однако он оставался вассалом английской короны, и при восшествии на престол нового короля от него тотчас же потребовали присяги. Уже в молодости Эдуард I проявил высокие качества, отличавшие его впоследствии как правителя Англии. С самого начала в нем обнаружились любовь к законности и стремление к порядку в управлении, которым суждено было сделать его царствование столь памятным в нашей истории. Сначала он поддерживал баронов в их борьбе с Генрихом III и убеждал отца соблюдать Оксфордские постановления. На сторону роялистов он перешел только тогда, когда, вероятно, опасность стала грозить самой короне; а когда гроза миновала, то он вернулся к своим прежним взглядам. В пылу победы, когда участь графа Симона была еще неизвестна, только Эдуард I высказывался за его пленение, вопреки мнению пограничных баронов, желавших его смерти. Когда все было кончено, он плакал над телом своего кузена, Генриха де Монфора, и провожал тело графа до могилы. У графа Симона, как признал Эдуард I перед смертью с горделивой горечью, научился он искусству полководца, отличавшему его среди других современных ему государей; у него же он научился и самообладанию, что возвышало его как правителя над другими людьми. Он не разделял грубого удовлетворения роялистов своей победой, обеспечил побежденным сносные условия и, сломив всякое сопротивление, добился принятия короной конституционной системы управления, за которую боролись бароны.
Страна настолько успокоилась, что Эдуард I счел для себя возможным отправиться в крестовый поход. Смерть отца в 1272 году заставила его вернуться на родину и тотчас поставила лицом к лицу с притязаниями Уэльса. В течение двух лет Левелин отвергал приглашения короля явиться для присяги; наконец терпение Эдуарда I истощилось, и королевская армия двинулась в Северный Уэльс. Величие Уэльса рушилось при первом же толчке: недавно клявшиеся в верности Левелину, вожди Центрального и Южного Уэльса изменили ему и перешли на сторону Эдуарда I; английский флот завладел Энглези, и стесненный в своих твердынях Левелин вынужден был сдаться на милость победителя. С обычной своею умеренностью победитель ограничился присоединением к своим владениям прибрежного округа вплоть до Конуэя.
Титул «государя Уэльса» был оставлен в пожизненное пользование Левелину; вместе с тем ему был прощен сначала наложенный на него тяжелый штраф. Кроме того, английский двор выдал за него захваченную на пути к нему его невесту Элеонору, дочь графа Симона Монфора.
В течение четырех лет все было спокойно, пока брат Левелина Давид, изменивший ему в предыдущей войне и награжденный за измену английским лордством, не подстрекнул его к новому мятежу. По стране ходило пророчество Мерлина, гласившее, что когда английская монета станет круглой, то князь Уэльса будет коронован в Лондоне; распоряжение Эдуарда I о чеканке новой медной монеты и запрет разбивать серебряную, как обычно, на две и четыре части, в Уэльсе приняли за исполнение предсказания. В разгоравшейся войне Левелин держался в Снодоне с отчаянным упорством, а поражение английского отряда, наводившего мост через пролив на Энглези, затянуло поход до зимы.
Как ни ужасны были страдания английской армии, но Эдуард I оставался непоколебим, отверг все предложения об отступлении и приказал образовать новую армию в Кермартене, чтобы окружить Левелина со всех сторон. В это время последний вышел из своей горной твердыни с целью напасть на Редноршир и был убит в небольшой стычке на берегах Уай. С ним погибла и независимость его народа. После шестимесячного укрывательства брат Левелина Давид был схвачен и, как изменник, приговорен парламентом к смерти. За подчинением менее значительных вождей последовали постройка сильных крепостей в Конуэе и Кернарвоне и поселение английских баронов на конфискованных землях. По мудрому распоряжению Эдуарда I «Уэльский статут» ввел в стране английские законы и английское управление. Но эта попытка принесла немного пользы, и на самом деле Уэльс вошел в состав Англии не раньше чем во время правления Генриха VIII. Что действительно удалось сделать Эдуарду I, так это сломить сопротивление уэльсцев. Его справедливая политика достигла своей цели (рассказы «об убийствах бардов» — чистая выдумка), и, несмотря на два более поздних восстания, Уэльс целых сто лет не представлял сколько-нибудь серьезной опасности для Англии.
Глава II АНГЛИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ (1283—1295 гг.)
Завоевание Уэльса свидетельствовало об усвоении короной новой политики. С самого начала царствования Эдуард I отказался от всякой мысли о возврате французских владений, утраченных его дедом, и сосредоточил внимание на улучшении управления собственно Англией. Присоединение Уэльса или попытку подчинить Шотландию можно понять, как следует, только рассматривая их как части того же плана национального управления, которому Англия обязана окончательным установлением ее судебного и законодательного строя, ее парламента. Английская политика короля, подобно его английскому имени, была знаменем его времени. Долгий период образования нации, в сущности, шел к концу.
С царствованием Эдуарда I начиналась новая Англия — конституционная Англия нашего времени. Это не значит, что ее последующая история отделялась от предшествующей пропастью вроде той, какой в истории Франции служит революция: зачатки английской Конституции можно проследить еще до времени первого появления англов в Британии. Но с теми зачатками произошло то же, что и с английским языком. Язык Альфреда — тот же язык, на каком теперь говорят англичане, но, несмотря на это тождество, англичанам приходится изучать его как язык иностранный. С другой стороны, язык Чосера почти так же понятен, как современный. По языку Альфреда историк и филолог могут познакомиться с началом и развитием английской речи; на языке Чосера английский школьник может забавляться историей Троила и Крессиды или прислушиваться к веселым рассказам кентерберийских пилигримов.
Точно так же знание древних законов Англии необходимо для правильного понимания позднейшего законодательства, его начала и развития, а основу парламентской системы непременно следует искать в «собраниях мудрых» до завоевания или в «Великом совете» баронов после него. Но парламенты, собиравшиеся в конце царствования Эдуарда I, не только вытесняют историю позднейших парламентов: они совершенно тождественны тем, которые и до сих пор заседают у святого Стефана, а на статут Эдуарда I, если он не отменен, можно ссылаться так же прямо, как и на статут Виктории.
Словом, долгая борьба за само существование Конституции подошла к концу. Последующие пререкания уже не затрагивают, подобно предыдущим, общего строя политических учреждений; это просто ступени той строгой школы, которая приучила и еще учит англичан: лучше пользоваться и разумно развивать скрытые силы народной жизни, поддерживать равновесие сил, общественных и политических, приноравливать конституционные формы к изменяющимся условиям времени. Со времени царствования Эдуарда I мы, в сущности, стоим лицом к лицу с новой Англией. Король, лорды, общины, высшие суды, формы управления, местные деления, провинциальные суды, отношения церкви и государства, вообще остов всего общества — все это приняло форму, которую, в сущности, сохраняет и до сих пор.
Многое в этой великой перемене следует, несомненно, приписать общему настроению эпохи, для которой, по-видимому, главной целью и задачей было выработать определенные формы для великих начал, получивших новую силу в течение предшествующего века. Как начало XIII века было временем основателей, творцов, первооткрывателей, так конец его был веком законодателей; самыми знаменитыми людьми эпохи были уже не Бэкон, Симон Монфор или Франциск Ассизский, а деятели вроде Людовика Святого или Альфонса Мудрого — организаторы, правители, законодатели, учредители. К их разряду принадлежал и сам Эдуард I. В его характере было мало творческого гения или политической оригинальности, но он в высокой степени обладал способностями организатора, и его страстная любовь к закону пробивалась даже в судейском крючкотворстве, до которого он временами снисходил. В судебных реформах, которым он посвящал так много внимания, он выказал себя если не «английским Юстинианом», то, во всяком случае, проницательным человеком дела, развивавшим, реформировавшим, придававшим прочные формы учреждениям своих предшественников.
Одной из его первых забот было завершение судебных реформ, начатых Генрихом II. Важнейший суд для гражданских дел, суд шерифа или графства, сохранил как пределы своей юрисдикции, так и характер королевского чиновника за шерифом. Но высшие суды, на которые распался со времени Великой хартии суд короля, — суды королевской скамьи, казначейства и общих дел, — получили особый состав судей. Гораздо важнее этой перемены, в сущности, только заканчивавшей давно уже начавшийся процесс разделения, было установление «совестного суда» наряду с судом по общему праву. Реформой 1178 года Генрих II уничтожил прежний «суд короля», который до того служил высшей апелляционной инстанцией, выделив собственно судей, постепенно к нему присоединявшихся, из общего собрания своих советников.
Выйдя, таким образом, из совета, эти судьи сохранили за собой имя и обычную юрисдикцию «суда короля», а все дела, которые они не могли разрешить, представлялись на особое рассмотрение Королевского совета. Этой высшей юрисдикции «короля в совете» Эдуард I дал широкое развитие. Собрание министров, высших сановников и юристов короны на первый раз оставило за собой в качестве судебного учреждения исправление тех правонарушений, с которыми не могли справиться низшие суды по слабости, пристрастию или подкупности, и, в частности, преследование беззаконий высоких вельмож, пренебрегавших властью обычных судей. Хотя парламент и относился ревниво к юрисдикции совета, но она, по-видимому, постоянно сохраняла свою силу в течение двух следующих веков; в царствование Генриха VII она получила определенную юридическую форму в виде суда Звездной палаты, и еще в наши дни ее полномочиями пользуется судебный комитет Тайного совета.
Та же обязанность короны восстанавливать право там, где ее судам не удалось дать должного удовлетворения за обиду, выражалась и в юрисдикции канцлера. Этот сановник, действовавший сначала, может быть, только как председатель совета при отправлении им судебных обязанностей, очень рано приобрел независимое судебное положение такого же рода. Только припоминая происхождение канцлерского суда, мы поймем характер полномочий, которые он постепенно получил. Его ведению, как и ведению королевского совета, подлежали все жалобы подданных, в частности, жалобы на злоупотребления чиновников и притеснения сильнейших, а также тяжбы касательно опеки над детьми, приданого, арендных повинностей или десятин. Его «совестный суд» объяснялся пробелами и неизменными нормами общего права.
Как совет давал удовлетворение в делах, где право становилось несправедливостью, так и канцлерский суд, не стесняясь правилами судопроизводства, принятыми в судах общего права, вмешивался по ходатайству стороны, не находившей себе справедливого удовлетворения в общем праве. Подобное распространение его полномочий позволяло канцлеру оказывать помощь в случаях обмана или злоупотребления доверием, и эта сторона его юрисдикции впоследствии сильно расширилась под влиянием законодательства о церковном землевладении. К какому бы времени ни относилось первоначальное применение отдельных полномочий канцлера, но они, по видимому, были уже установлены при Эдуарде I.
В законодательстве, как и в судебных реформах, Эдуард I восстановил и закрепил те начала, которые уже были приведены в действие Генрихом II. Знаменательные законы указали на его намерение продолжать политику Генриха II в деле ограничения независимого суда церкви. Он намеревался придать ей национальный характер, возложив на нее часть общенародных повинностей, и порвать ее возраставшую зависимость от Рима. На вызывающее сопротивление церковного общества он отвечал резкими мерами. Попадая в «мертвую руку» церкви, земля переставала нести феодальные повинности, и вот закон «о мертвой руке» запретил такую передачу земли церковным корпорациям, при которой она переставала служить королю. Это ограничение, вероятно, не было благотворным для страны, так как церковники были лучшими землевладельцами, а находчивость церковных юристов скоро изобрела способы его обходить; но оно выявило ревнивое отношение ко всякой попытке освободить часть нации от служения общим нуждам и пользе.
Непосредственным результатом закона было сильное недовольство духовенства. Но Эдуард I остался твердым, и когда епископы предложили отнять у королевских судов разбор дел о патронате или тяжб об имуществе церковников, то он ответил на эти предложения решительным отказом. Его забота о торговых классах видна в законе о купцах, предписывавшем запись долгов торговцев и покрытие их путем ареста имущества должника и личного его задержания. Уинчестерский статут, важнейшая из мер Эдуарда I для охраны общественного спокойствия, оживил и преобразовал старые учреждения национальной защиты и полиции. Он регулировал действия сотни, сторожевую повинность и собрания ополчения королевства в той форме, которую придал ему Генрих II в своей «Ассизе оружия». Каждый обязан был в надлежащем вооружении быть готовым к службе королю в случае вторжения неприятеля или мятежа, или для преследования преступников в случае тревоги. Каждый округ был ответственен за преступления, совершенные в его пределах; улицы каждого города предписывалось перекрывать с наступлением ночи, и все посторонние обязаны были заявлять о себе городским сановникам.
Чтобы обезопасить путников от неожиданных нападений разбойников, предписывалось вырубать кустарник на расстоянии двухсот футов с каждой стороны проезжей дороги, — постановление, одинаково характеризующее и общественное, и природное положение страны в ту эпоху. Для наблюдения за применением этого закона в каждом графстве назначались рыцари под названием хранителей мира; когда значение этих местных сановников прояснилось и полномочия расширились, их стали называть мировыми судьями, сохраняется доселе. Важная мера, называемая обычно статутом «О покупателях», принадлежит к числу законов, свидетельствующих о широком общественном перевороте в целой стране.
Число крупных баронов постоянно уменьшалось, тогда как количество мелкого дворянства и состоятельного крестьянства с увеличением народного богатства все росло. Состоятельные крестьяне очень стремились стать землевладельцами. Вассалы крупных баронов брали себе подвассалов с условием, чтобы те несли такие же повинности, какие на них самих налагали их лорды; бароны хотя и пользовались всеми доходами, за которые первоначально отдали в лен свои земли, но смотрели с завистью на переход в чужие руки повинностей новых подвассалов с доходов от опеки, наследства и другого — одним словом, всей прибавки к ценности земли, которая появляется вследствие ее дробления и лучшей обработки. Целью статута было затруднить этот процесс предписанием о том, что при всяком отчуждении подвассал должен впредь зависеть не от вассала, а прямо от сюзерена. Но вместо того чтобы затруднить передачу и дробление земли, статут только ускорил их. Прежде вассал стремился удержать за собой столько земли, чтобы можно было нести повинности сюзерену; теперь он получил возможность передавать новым владельцам и землю, и повинности с помощью приема, похожего на позднейшую продажу «арендного права». Как бы ни были мелки имения, создававшиеся таким образом, в массе они зависели непосредственно от короны, и с этого времени численность и значение класса мелких помещиков и вольных поселян постоянно возрастали.
Этому социальному перевороту, а также широкой политике Эдуарда I обязан своим происхождением парламент. Ни «Собрание мудрых» до завоевания, ни «Великий совет» баронов после него не имели никакого представительного характера. В теории Уитенагемот состоял из свободных землевладельцев; фактически он был собранием эрлов, вельмож и епископов, а также сановников и слуг королевского двора. Завоевание внесло мало перемен в состав этого собрания: в «Великий совет» нормандских королей должны были входить все прямые вассалы короны, епископы и главные аббаты, которые из независимых духовных сановников все чаще становились баронами, и высшие сановники двора.
Однако, несмотря на сохранение прежнего состава, характер собрания существенно изменился. Из свободного «Собрания мудрых» оно превратилось в «двор» королевских вассалов. Его функции стали, по-видимому, почти призрачными, а полномочия ограничивались разрешением без права обсуждения (или отказа) всех субсидий, требуемых от него королем. Однако его «совет и согласие» оставались необходимыми для юридической силы всякой крупной финансовой или политической меры, и само существование его являлось настоящим протестом против теорий самовластия, выдвинутых юристами Генриха II и провозглашавших волю государя единственным источником закона. На деле при Генрихе II эти собрания стали более регулярными, а их функции — более важными. Реформы, прославившие его царствование, были обнародованы в «Великом совете», и в нем допускалось даже обсуждение финансовых вопросов.
Его влияние на налогообложение было, однако, формально признано не ранее издания Великой хартии, установившей правило о том, что никакой налог сверх обычных феодальных повинностей не может быть назначен иначе как «общим собранием королевства». Великая хартия впервые определила и форму собрания. В теории, как известно, оно состояло из всех прямых вассалов короны; но те же самые причины, по которым участниками Уитенагемота остались одни вельможи, повлияли и на состав собрания баронов. Присутствие в нем было обременительно по требовавшимся для этого расходам для простых вассалов короны, рыцарей или «мелких баронов», а их численность и зависимость от вельмож делали такое собрание опасным для короны. Поэтому уже со времени Генриха I мы находим признание различия между «крупными баронами», из которых обычно состояло собрание, и «мелкими баронами», составлявшими массу вассалов короны. Но хотя присутствие последних и становилось редким, их право на участие в собрании оставалось нетронутым.
Постановив, что на каждое собрание Совета прелаты и вельможи должны быть приглашены отдельными грамотами, Великая хартия в своей замечательной статье предписала рассылку шерифами общих приглашений всем прямым вассалам короны. Вероятно, целью постановления было побудить мелких баронов к пользованию правами, пришедшими в забвение, но так как статья эта опущена в позднейших изданиях Великой хартии, то можно сомневаться, чтобы выраженное в ней начало где либо получало широкое применение. Есть указания на присутствие немногих рыцарей от места, видимо, соседнего с местом собрания дворянства, на некоторых заседаниях Совета при Генрихе III, но до самого позднего периода царствования его преемника Великий совет оставался собранием вельмож, прелатов и сановников короны.
Перемена, которая не удалась Великой хартии, была теперь осуществлена социальными условиями эпохи. Одним из самых замечательных условий было постоянное уменьшение числа крупных баронов. Масса графских владений уже перешла к короне вследствие прекращения существования семей, ими владевших; из крупных баронств многие фактически прекратили существование из за раздела между сонаследниками, другие — вследствие постоянного стремления бедных баронов освободиться от своего звания, чтобы избежать тяжести высшего обложения и присутствия в парламенте. Как далеко это зашло, можно заключить из того, что в первых парламентах Эдуарда I заседало едва ли более ста баронов. В то время как число лиц, действительно пользовавшихся правом участия в парламенте, быстро падало, число и богатство «мелких баронов», для которых право присутствия стало только конституционным преданием, быстро росло.
Продолжительный мир и процветание королевства, расширение торговли, увеличение вывоза шерсти умножали ряды и доходы поместного дворянства, а также фригольдеров и состоятельных крестьян. Мы уже отметили возросшее стремление к землевладению, что делает это царствование столь важным в истории английских фригольдеров; но то же течение существовало до некоторой степени и в предыдущем веке, и именно сознание растущего значения этого класса землевладельцев побудило баронов в эпоху Хартии сделать бесплодную попытку — привлечь их к участию в совещаниях Великого совета. Баронам нужно было их присутствие для борьбы с короной; корона желала его, чтобы сделать налогообложение более действенным. Пока Великий совет оставался просто собранием вельмож, министрам короля необходимо было договариваться отдельно с другими сословиями государства о размерах и раскладках их взносов.
Субсидия, принятая Великим советом, была обязательна только для баронов и прелатов, признавших ее: прежде чем в королевскую казну могли поступить взносы городов, церквей или графств, чиновники казначейства должны были вести отдельные переговоры со старейшинами каждого города, с шерифом или собранием каждого графства, с архидьяконами каждой епархии. По мере возрастания нужд короны в последние годы правления Эдуарда I переговоры эти становились все более затруднительными, и фискальные удобства потребовали включения этих классов в состав Великого совета для получения от них согласия на предложенное обложение налогами.
Едва ли, однако, можно было повторить попытку восстановления прежнего личного участия мелких баронов — попытку, неудавшуюся на полвека раньше, — повторить в эпоху, когда возрастание их числа делало это еще более невозможным. К счастью, средство обойти это затруднение было указано самим характером собрания, через которое только и можно было обращаться к поземельному дворянству. Среди судебных реформ Генриха III и Эдуарда I суд графства остался без изменений. Древний холм или дуб, вокруг которых сходилось собрание (часто суд происходил на открытом воздухе) служили воспоминаниями о том времени, когда свободное королевство еще не было графством, а сейм — его собранием. Но собрание фригольдеров осталось без изменений, кроме того, что королевский приказчик занял место короля, а нормандские законы устранили епископа и посадили рядом с шерифом четырех коронеров.
Рис. Эдуард I.
Местные дворяне, крестьяне, домовладельцы графства, — все были представлены в толпе, собиравшейся вокруг шерифа, когда он в сопровождении ливрейных слуг обнародовал повеления короля, извещал о требовании им субсидий, принимал представляемых преступников и показания местных присяжных, распределял в каждом округе налоги или торжественно выслушивал апелляции по гражданским и уголовным делам от всех, кто считал себя обиженным в низших судах сотни или вотчины. Только на собрании графства и мог шериф по закону пригласить мелких баронов к участию в Великом совете, и именно в действующем устройстве этого собрания корона нашла выход из названного затруднения, так как начало представительства, при помощи которого оно было разрешено, совпадало по времени с собранием графства. Во всех гражданских и уголовных делах двенадцать присяжных помощников как члены одного класса, хотя и не уполномоченные на это непосредственно, в сущности, представляли при шерифе судебное мнение всего графства. От каждой сотни являлись группы из двенадцати присяжных посланцев, через которых округ представлял шерифу свои обвинения и с которыми последний уговаривался насчет доли графства в общем налогообложении.
Домовладельцы другой группы, одетые в черные блузы, сохранившиеся доселе в одежде извозчиков и пахарей, разбивались на группы из пяти человек — старосты и четырех ассистентов — служивших представителями сельских общин. Если считать собрания графств прямыми потомками древнейших собраний английского народа, то начало парламентского представительства будет справедливо относить к числу древнейших учреждений. Но к переустройству Великого совета это начало применялось очень медленно и постепенно. О приближении перемен свидетельствовал уже в конце царствования Иоанна вызов от каждого графства «четырех рассудительных рыцарей». В борьбе, происходившей при Генрихе III, обе стороны ощущали необходимость в поддержке областей, поэтому и король, и бароны приглашали рыцарей из каждого графства «для совещания об общем деле королевства»». Без сомнения, с той же целью Симон Монфор предписал грамотами выбор рыцарей в каждом графстве для знаменитого парламента 1265 года.
Нечто подобное постоянному участию в собраниях началось с восшествия на престол Эдуарда I, но прошло много времени, прежде чем на рыцарей перестали смотреть как на простых областных депутатов для распределения налогов и допустили их к участию в общих делах Великого совета. Статут «О покупателях», например, был проведен раньше, чем могли явиться приглашенные рыцари. Их участие в совещательной деятельности парламента, а также правильное и постоянное присутствие в нем начались только с парламента 1295 года. К этому времени в их конституционном положении произошла еще более важная перемена — распространение избирательных прав на массу фригольдеров.
Право заседать в Великом совете принадлежало, как мы видели, только классу мелких баронов, да и из них право представительства имели теоретически только рыцари. Однако необходимость выборов в собрании графства исключала всякое ограничение состава избирателей. Собрание состояло из всей массы фригольдеров, и ни один шериф не мог отличить голос крестьянина от голоса барона. Поэтому с первого появления рыцари считались не просто представителями баронов, а рыцарями графств, и этот незаметный переворот допустил к участию в управлении королевством всю массу сельских фригольдеров.
Финансовые затруднения короны привели к еще более значительной перемене — к допуску в Великий совет представителей городов. Присутствие рыцарей от каждого графства было признанием древнего права, но относительно депутатов городов нельзя было сослаться ни на какое право присутствия или участия в национальных «совете и согласии». С другой стороны, быстрое обогащение делало их с каждым днем все более важными субъектами национального налогообложения. Города давно уже освободились от всякого платежа пошлин или оброков королю как высшему владельцу земли, на которой они в большинстве случаев вырастали, — освободились через покупку так называемой «городской аренды», другими словами, через обращение неопределенных оброков в известную сумму, которая распределялась между всей массой горожан их собственными выборными и ежегодно уплачивалась королю.
Юридически король сохранял только принадлежавшее всякому крупному собственнику право — взимать с лиц, живущих на его земле, налог, известный как «добровольный сбор», всякий раз, когда бароны Великого совета давали субсидию на национальные нужды. Но стремление воспользоваться растущим богатством торгового класса оказалось сильнее юридических ограничений, и, стало быть, Генрих III и его сын присвоили себе право произвольного обложения даже Лондона без соглашения с Советом. Правда, горожане могли отказаться от внесения требуемого королевскими чиновниками «добровольного сбора», но приостановка их рыночных или торговых привилегий в конце концов приводила их к покорности. Однако каждый из этих «добровольных сборов» приходилось вымогать после долгих споров между городом и чиновниками казначейства, и если городам приходилось мириться с тем, что они считали вымогательством, то уловками и задержками они могли вообще принуждать корону к уступкам и снижению ее первоначальных требований. Поэтому те же самые финансовые основания, как и в случае с графствами, побуждали желать присутствия в Великом совете и представителей городов; но впервые нарушил старое конституционное предание гениальный Монфор, решившийся вызвать в парламент 1265 года по два депутата от каждого города. Однако прошло много времени, прежде чем политическая идея великого патриота воплотилась в жизнь.
В первые годы царствования Эдуарда I было немного случаев присутствия представителей от городов, да и тут их малое число и нерегулярное участие показывают, что они вызывались скорее для предоставления финансовых сведений Великому совету, а не в качестве представителей в нем отдельного сословия. Но с каждым необходимость их включения виделась все явственнее, и наконец парламент 1295 года воспроизвел собрание 1265 года. «Этому он научился от меня!» — воскликнул при Ившеме Монфор, заметив искусство Эдуарда I в атаке. «Этому он тоже у меня научился», — могла сказать его душа при виде того, как король собирает наконец по два депутата от каждого города и местечка королевства для заседания в Великом совете, совместно с рыцарями и баронами.
Для короны сначала это было выгодно. Субсидии горожан в парламенте оказывались более доходными, чем прежние вымогательства казначейства. В общем, субсидии городов на одну десятую превышали взносы прочих категорий. Притом их представители оказывались гораздо более послушными воле короля, чем вельможи или рыцари графств; только однажды в царствование Эдуарда I горожане отказали короне в своем содействии. Впрочем, их легко было и контролировать, так как подбор представляемых городов всецело зависел от короля, и он мог по своему усмотрению увеличивать или уменьшать их число. Решение предоставлялось шерифу, и по указанию Королевского совета шериф Уилтса мог уменьшить число представленных в его графстве городов с 11 до 3, а шериф Бекса — объявить, что в своем графстве он может указать только одно местечко. Такой произвол очень ограничивал стремление городов добиться своего представительства.
Трудно было ожидать, что со временем корона подчинится влиянию собрания скромно одетых торговцев, которых приглашали только для определения взносов их городов и присутствия которых так же трудно было добиться, как это казалось для них самих и пославших их городов. Масса граждан почти совсем не принимала участия в выборах депутатов, так как они избирались в собрании графства немногими уполномоченными горожанами; но издержки на их содержание (два шиллинга в день платил депутату город, четыре шиллинга получал рыцарь от графства), были бременем, от которого города всеми силами старались освободиться. Иные упорно не являлись на зов шерифа. Другие покупали грамоты, освобождавшие их от тягостной привилегии. Из 165 городов, указанных Эдуардом I, более трети перестали присылать представителей после первого королевского призыва. Во все время от царствования Эдуарда III до царствования Генриха VI шериф Ланкашира отказывался называть какие-либо города в графстве «ввиду их бедности».
Сами представители не больше стремились присутствовать в парламенте, чем города — посылать их. Деловой помещик и бережливый торговец старались избежать хлопот и издержек поездки в Вестминстер. Часто приходилось принимать особые меры, чтобы обеспечить их присутствие. Существует еще много грамот вроде той, которая обязывает Уолтера Леру ’’представить восемь волов и четырех лошадей в обеспечение того, что он в назначенный день явится перед королем” для присутствия в парламенте. Несмотря на подобные препятствия, участие представителей от городов можно, начиная с парламента 1295 года, считать постоянным. Как представительство мелких баронов незаметно расширилось в представительство графств, так и представительство городов, в общем ограниченное городами на королевских землях, со времен Эдуарда I в действительности было распространено на все, которые могли оплачивать расходы по содержанию депутатов. Точно так же незаметно и в самом парламенте депутат, вызванный первоначально для участия только в вопросах налогообложения, был наконец допущен к полному участию в совещаниях и, в сущности, к власти других сословий государства.
Допуск горожан и рыцарей графств в собрание 1295 года закончило выработку представительной системы. Великий совет баронов преобразовался в парламент королевства, где были представлены все сословия государства, принимавшие участие в разрешении налогов, законодательной работе, наконец, контроле над управлением. Но хотя в основных чертах характер парламента с того времени и до сегодня не изменился, однако было несколько замечательных особенностей, которыми собрание 1295 года отличалось от современного парламента. Некоторые из этих отличий, например, те, которые появились вследствие расширения полномочий или изменения соотношения отдельных сословий, рассмотрим позже. Гораздо более заметное отличие заключается в присутствии духовенства. Если есть в парламентском плане Эдуарда I черта, которую можно считать принадлежавшей лично ему, то это мысль о представительстве духовного сословия. Король по крайней мере дважды вызывал его представителей в Великий совет, но окончательно выработалось полное представительство церкви только в 1295 году, когда в грамоты, вызывавшие епископов в парламент, внесено было постановление, требовавшее личного присутствия всех архидьяконов, деканов или настоятелей кафедральных церквей, одного депутата от каждого капитула и двух — от духовенства епархии.
Постановление это повторяется в грамотах до сего времени, но его практическое значение было почти сразу уничтожено решительным сопротивлением духовенства, которое сумело добиться того, что не удалось городам. Даже когда ему приходилось подчиняться приглашениям короля, как это было, по-видимому, при Эдуарде I, оно упорно держалось в стороне, а его отказ разрушать субсидии иначе как в своих областных собраниях, или конвокациях, в Кентербери и Йорке лишил корону основания настаивать на его постоянном участии. Хотя иногда, в особо торжественных случаях, духовенство и появлялось в парламенте, присутствие его стало такой формальностью, что совсем вышло из обихода в конце XV века. Стремясь сохранить положение отдельного привилегированного сословия, духовенство отказалось от власти, которая в случае ее сохранения пагубно повлияла бы на развитие государства. Например, трудно представить себе, как можно было бы осуществить великие перемены Реформации, если бы добрая половина Палаты общин состояла из чистых церковников, влиятельных не только по своей численности, но и по богатству — как владельцы части земель королевства.
Едва ли менее важным отличием следует считать постепенно установившийся обычай собирать парламент только в Вестминстере. Названия ранних статутов напоминают о созыве его в самых различных местах: в Уинчестере, Актон-Бернелле или Нортгемптоне. Только позже парламент утвердил свою резиденцию в уединенной деревне, выросшей на топком болоте острова Торне рядом с дворцом, зубчатые стены которого возвышались над Темзой, и большим собором, еще стоявшим в дни Эдуарда I на месте старой церкви Исповедника. Возможно, что, содействуя его конституционному значению, размещение тут парламента помогло оттеснить на второй план его значение как высшего апелляционного суда.
Созывавший его манифест приглашал всех, «кто хотел просить милости у короля в парламенте или принести жалобу по делам, не могущим быть решенными в обычном порядке, или кто терпел притеснение от чиновников короля, или был неправильно обложен или обременен податями и повинностями», — представить свои ходатайства приемщикам, заседавшим в большой зале Вестминстерского дворца. Ходатайства передавались в Совет короля и, вероятно, именно расширение юрисдикции этого суда и последующее расширение сферы деятельности суда канцлера свели это древнее право подданных к существующему доселе обычаю, в силу которого при открытии нового парламента Палата лордов избирает для формы «исследователей ходатайств». Но должно быть, памятуя о старом обычае, подданные всегда искали защиты от притеснений короны или ее слуг у парламента королевства.
Глава III ЗАВОЕВАНИЕ ШОТЛАНДИИ (1290—1305 гг.)
В описанных конституционных преобразованиях важную роль играл характер Эдуарда I, но еще сильнее значение его личных качеств проявилось в войне с Шотландией, охватившей вторую половину его царствования.
В свое время и среди своих подданных Эдуард I был предметом почти безграничного восхищения. Он был народным государем в полном смысле слова. Когда исчез последний след чужеземного завоевания и потомки победителей и побежденных при Сенлаке навсегда слились в единый народ, Англия увидела своим правителем не чужестранца, а англичанина. Национальное происхождение сказывалось не только в золотистых волосах или английском имени, связывавшем его с древними королями. Сам характер Эдуарда I был вполне английским. В добре, как и в зле, он являлся типичным представителем народа, которым он правил. Как истинный англичанин, он был своенравен и надменен, стоек в своих принципах, неукротим в гневе, горд, упрям, медлителен в умозаключениях и ограничен в симпатиях; с другой стороны, он отличался справедливостью, бескорыстием, трудолюбием, добросовестностью, уважением к истине, умеренностью, сознанием долга, религиозностью. Он унаследовал, правда, от анжуйцев их наклонность к бешеному гневу; его казни были безжалостны, и священник, явившийся перед ним с увещеванием в бурную минуту, упал к его ногам мертвым только от страха. Но вообще он руководствовался великодушными побуждениями, был прямодушен, испытывал отвращение к жестокости. «Никто никогда не просил у меня милости, — говорил он в старости, — без того, чтобы получить ее».
Грубое солдатское благородство его натуры проявилось при Фалкирке, где он спал на голой земле среди своих солдат, или в его отказе во время уэльского похода выпить из единственного бочонка, уцелевшего от мародеров: «Это я довел вас до такой крайности, — сказал он томимым жаждой соратникам, — и я не хочу иметь перед вами преимущества в пище или питье». Под суровой властностью его внешнего вида скрывались удивительная чувствительность и способность к привязанности. Всякий подданный привязывался сильнее к королю, горько плакавшему при известии о смерти отца, хотя она и принесла ему корону, — к королю, у которого сильнейший взрыв мести был вызван оскорблением в адрес его матери и который как памятники своей любви и скорби воздвиг кресты всюду, где останавливался гроб его жены. «Я любил ее нежно при жизни, — писал Эдуард I другу Элеоноры, аббату Клюни, — и я не перестаю любить ее теперь, после ее смерти».
Как было с матерью и женой, так было и с целым народом. Самодовольное отчуждение первых анжуйцев абсолютно исчезло у Эдуарда I. Со времени завоевания он был первым королем, любившим свой народ и, в свою очередь, жаждавшим его любви. Его доверие к народу выразилось в парламенте, его забота о народе — в великих законах, стоявших в преддверии законодательства. Даже в своей борьбе с ним Англия чувствовала все сходство его характера со своим, и в спорах между королем и народом никто из споривших, несмотря на все упорство, ни минуты не сомневался в достоинстве или привязанности другого. В истории Англии мало сцен более трогательных, чем окончание долгого спора из-за Хартии, когда Эдуард I явился в Вестминстерском зале перед своим народом и с хлынувшими вдруг слезами откровенно признал себя неправым.
Именно эта чувствительность, способность поддаваться впечатлениям и влияниям и привела к странным противоречиям в деятельности Эдуарда I. При первом короле с несомненно английским характером сильнее всего сказалось иноземное влияние на обычаи, литературу, национальный характер. Превращение Франции, со времени Филиппа Августа, в единую организованную монархию сделало ее господствующей в Западной Европе. «Рыцарство», столь известное по Фруассару, — живописное подражание высоким чувствам, героизму, любви и учтивости, перед которым исчезало всякое настоящее и глубокое благородство, уступая место грубому распутству, узкому духу касты и полному равнодушию к человеческому страданию, — было чисто французским созданием. В характере Эдуарда I было благородство, ослаблявшее вредное влияние этого рыцарства. Его жизнь отличалась чистотой, его благочестие, когда оно не опускалось до суеверия современников, — достоинством и искренностью, а высокое сознание долга оберегало его от легкомысленной распущенности его преемников. Но он был не совсем свободен от современной ему «заразы». Он страстно желал быть образцом светского рыцарства своей эпохи. С самой молодости он славился как замечательный полководец; Симон Монфор был изумлен его искусной тактикой в битве при Ившеме, а в уэльском походе он выказал настойчивость и силу воли, превратившие в победу его поражение. Он умел руководить бурной атакой конницы при Льюисе или устраивать интендантство, позволявшее ему вести армию за армией через разоренную Шотландию. В старости он мог оценить значение английских стрелков и воспользоваться ими для победы при Фалкирке.
Но свою славу как полководца Эдуард I считал пустяком по сравнению со славой рыцаря. Он полностью разделял народную любовь к борьбе. Притом у него была фигура природного воина — высокий рост, широкая грудь, длинные руки и ноги; он был вынослив и деятелен. Схватившись после Ившема с Адамом Гердоном, рыцарем огромного роста и известной храбрости, он заставил противника просить пощады. В начале царствования он спас свою жизнь ловкой борьбой на турнире в Шалоне. Эта страсть к приключениям доводила его до пустой фантастичности нового рыцарства. За «круглым столом в Кенильворте» сотня рыцарей и дам, «одетых в шелк», восстановила поблекшую славу двора короля Артура. Отпечаток ложного романтизма, придававшего важнейшим политическим решениям вид сентиментальных порывов, заметен и в «лебединой клятве», когда Эдуард I поднялся за королевским столом и поклялся над стоявшим перед ним блюдом отомстить Шотландии за смерть Комайна. Еще более роковое влияние оказало на него рыцарство, воспитывая у него симпатию к высшему сословию и отнимая всякое право на его участие у крестьян и ремесленников. Эдуард I был «рыцарем без страха и упрека» и в то же время спокойно смотря на избиение жителей Бервика, видел в Уильяме Уоллесе лишь простого разбойника.
Едва ли слабее, чем французское понятие рыцарства, повлияла на характер Эдуарда I новая французская теория королевской власти, феодализма и права. Возвышение класса юристов всюду обращало обычное право в писаное, верность — в подданство, слабые связи вроде коммендации — в определенную зависимость. Но именно французское влияние, влияние Людовика Святого и его преемников, привело в порядок деспотичные теории римского права. С этим естественным стремлением эпохи, когда посредством юридической фикции «священное величество» Цезарей было перенесено на короля — главу феодальной знати — все конституционные отношения изменились. «Вызов», путем которого вассал отказывался от службы сюзерену, оказался изменой, а дальнейшее его сопротивление — «клятвопреступлением». Судебные и парламентские реформы Эдуарда I показывают, что он мог оценить здравые и благородные начала тогдашнего права, в точности, непреклонности, технической узости которого было нечто от характера короля. Он никогда не был намеренно несправедливым, но слишком часто в своем суде был придирчив, пристрастен к судейскому крючкотворству и склонен следовать букве, а не духу закона.
Эта склонность его ума в соединении с заимствованным у Людовика Святого высоким мнением о королевской власти породили худшие поступки Эдуарда I. Подчиняя здравый смысл идее величия короны, он знать ничего не хотел о правах или вольностях, не занесенных в хартии или свитки. Ему казалось невероятным, что Шотландия должна будет восстать против юридической сделки, поставившей ее национальную свободу в зависимость от условий, навязанных претенденту на ее престол, и он мог видеть только измену в сопротивлении своих баронов произвольному обложению налогами, которое терпели их отцы. Именно в подобных странностях, в удивительном смешении правды и несправедливости, благородства и мелочности нужно искать объяснение многого в поведении и политике Эдуарда I, вызывавшего потом резкое порицание.
Чтобы как следует постичь его борьбу с шотландцами, мы должны отрешиться от тех понятий, которые мы отождествляем теперь со словами «Шотландия» или «шотландцы». В начале XIV века королевство Шотландия состояло из четырех областей; каждая из них первоначально была населена особым народом, говорившим на особом языке, или по крайней мере — наречии, и имевшим свою собственную историю. Первой из них была низменная область, одно время называвшаяся Саксонией, а теперь носящая название Лотиана и Мерзы (или Украйны); в общих чертах — это пространство между Фортом и Твидом. Мы знаем, что в конце завоевания англами Британии королевство Нортумбрия простиралось от Гембера до Фортского залива и что низменная область составляла только северную его часть. Английское завоевание и колонизация здесь были так же абсолютны, как и в прочей Британии. Реки и горы сохранили, правда, кельтские названия, но наименования рассеянных по стране поселений указывали на заселение ее германцами. Ливинги и Додинги передали свои имена Ливингстону и Деддингстону; Эльфинстон, Дольфинстон и Эдмундстон сохранили память об англичанах Эльфинах, Дольфинах и Эдмундах, поселившихся по ту сторону Тивиота и Твида.
К северу и западу от этой области лежали земли туземцев. Бритты искали себе убежища за «Пустошью» — рядом бесплодных болот, идущих от Дербишира до Тивиота в длинной береговой полосе между Клайдом и Ди, составлявшей Древнюю Кумбрию. Правители Нортумбрии постоянно выступали против этого королевства. Победа при Честере отделила его от земель уэльсцев на юге; Ланкашир, Вестморленд и Кемберленд были подчинены уже во времена Эгфрита, а клочок между заливами Сольвей и Клайд, оставшийся непокоренным и носивший название Кумбрии в его позднейшем смысле, признал английское верховенство. В конце VII века казалось вероятным, что это верховенство распространится и на кельтские племена севера.
Страна к северу от Форта и Клайда первоначально была заселена народом, который римляне назвали пиктами (Пикты (Picti) — означает «раскрашенный народ», перед сражением наносивший боевую раскраску на тело каждого воина). Для этих горцев страна к югу от Форта была землей чуждого народа, и их летописцы в своих скудных записях многозначительно рассказали нам, как «пикты делали набеги на саксов», живших на низменности. Однако в эпоху величия Нортумбрии и горцы, по крайней мере пограничные, начали подчиняться ее королям. Эдвин построил в Дендине форт, ставший Эдинбургом и грозивший противоположному берегу Форта; рядом с ним, в Эберкорне, утвердился английский прелат с титулом епископа пиктов. Эгфрит, в руках которого могущество Нортумбрии достигло высшего предела, перешел через Форт с целью превратить верховенство в прямое владычество и закончить ряд английских побед. Его войско с огнем и мечом прошло за Тэй и вдоль подножия Грампианских гор достигло Нектансмира, где его ожидал во главе пиктов король Бруиди. Произошедшая здесь битва оказалась поворотным пунктом в истории севера. Пришельцы были разбиты наголову, сам Эгфрит — убит, могущество Нортумбрии — навсегда сломлено. С другой стороны, великая победа придала новую жизнь царству пиктов и открыла им в следующем веке пути на запад, восток и юг, пока вся страна к северу от Форта и Клайда не признала их верховенства. Но эта эпоха величия пиктов была ознаменована внезапным исчезновением их названия.
За несколько веков, когда пришельцы-англы начали разорять южный берег Британии, флот из рыбачьих лодок перевез одно племя скоттов, как назывались тогда обитатели Ирландии, с темных скал Антрима на зубчатый утесистый берег Южного Арджайла. Основанное этими выходцами небольшое владение прозябало в безвестности среди гор и озер к югу от Лох-Линна, подчиняясь верховенству то Нортумбрии, то пиктов, пока прекращение прямой линии пиктских государей не возвело на их престол короля скоттов, оказавшегося их ближайшим родственником. Его преемники в течение полувека еще называли себя «королями пиктов», но с начала X столетия имя это пропадало; племя, давшее правителей соединенной страны, дало ей и название, и «страна пиктов» исчезла со страниц летописи, уступив место «стране скоттов» (Шотландии).
Прошло много времени, прежде чем эта перемена проникла в самый народ, и настоящий союз нации с ее государями явился только как результат общих страданий в эпоху Датских войн. На севере, как и на юге Британии, вторжение датчан содействовало политическому объединению. Не только пикты и скотты слились в один народ, но благодаря присоединению Кумбрии и низменной области их короли стали правителями страны, которую мы теперь называем Шотландией. Это присоединение было следствием новой политики английских королей. После долгой борьбы с северянами они перестали стремиться к разрушению королевства за Фортом, а хотели превратить его в оплот против норманнов, которые еще заселяли Кетнесс и Оркнейские острова и для нашествий которых Шотландия служила естественной дорогой. С другой стороны, только у англичан могли короли скоттов найти себе поддержку против нормандских вождей. Вероятно, общая борьба с этими врагами и привела к «коммендации», в силу которой скотты по ту сторону Форта вместе с уэльсцами Стратклайда избрали короля Англии Эдуарда Старшего «своим отцом и господином».
Какое бы значение ни получил этот выбор в свете позднейших событий, но он, по-видимому, был просто возобновлением слабого верховенства Англии над племенами севера, существовавшего в эпоху величия Нортумбрии; в данное время он, несомненно, не заключал в себе ничего, кроме права обеих сторон на военную помощь, хотя, при необходимости, она поступала в распоряжение сильнейшей стороны. Такая связь, естественно, прекращалась в случае войны между договаривавшимися сторонами; на деле это вовсе не было феодальной зависимостью позднейшей эпохи, а скорее, военной конвенцией. Но как ни слаба была связь обеих стран, король Шотландии скоро вступил в более близкие отношения со своим сюзереном. После поражения при Нектансмире Стратклайд сбросил с себя иго Англии, потом признал верховенство Шотландии, затем на время вернул себе независимость и, наконец, был завоеван королем Англии Эдмундом. Последний уступил его Малкольму Шотландскому с условием, что тот будет его «сотрудником» на суше и на море, и с этого времени Стратклайд стал уделом старшего сына короля Шотландии. Позже, при Эдгаре или Кнуте, шотландским королям досталась вся Северная Нортумбрия, или то, что мы называем теперь Лотианом, но на условиях ли феодальной зависимости или под видом «коммендации», уже существовавшей для стран к северу от Форта, — мы не имеем возможности определить. Однако удаление границ великой епархии севера, кафедры святого Кутберта, к югу, до Пентлендских гор, по-видимому, указывает на большие изменения в политическом характере отдаленной области, чем это допускает первая из высказанных теорий.
Какие бы изменения эти уступки ни произвели в отношении шотландских королей к английским, они, несомненно, оказали сильное влияние на отношение первых к Англии и к их собственному королевству. Одним из последствий приобретения низинной области было окончательное утверждение королевской резиденции в новом южном владении — в Эдинбурге, и английская цивилизация, окружавшая тут королей, скоро превратила их почти в настоящих англичан. Брак Малкольма с Маргаритой, сестрой Эдгара Этелинга, открыл им путь к английской короне. В Англии сильная партия считала их детей представителями старой династии и претендентами на престол, и это стало еще опаснее, когда опустошение севера Вильгельмом не только побудило новые толпы англичан к поселению в низменной Шотландии, но и наполнило ее двор английской знатью, искавшей там убежища. Притязания эти получили такой грозный характер, что способнейший из нормандских королей вынужден был коренным образом изменить свою политику. Завоеватель и Вильгельм Рыжий на угрозы шотландцев отвечали вторжениями, каждый раз приводившими к призрачной покорности; но брак Генриха I с Матильдой не только отнял у притязаний шотландской линии большую долю их силы, но и позволил им поставить ее в более тесные отношения с нормандской династией.
Король Давид отказался от честолюбивых замыслов своих предшественников и позже в споре Матильды со Стефаном стал во главе партии своей племянницы, но как шурин Генриха I стал играть при его дворе роль первого вельможи и воспользовался английскими образцами и помощью англичан в преобразованиях, предпринятых им в своих владениях. Как брак с Маргаритой превратил Малкольма из кельтского вождя в английского короля, так и брак Матильды обратил Давида в феодального нормандского государя. Двор его наполнился нормандскими баронами вроде Баллиолов и Брюсов, которым суждено было впоследствии играть важную роль, но тогда они впервые получили лены в Шотландии. В низменной области было введено феодальное право по образцу английского. Связи обеих стран стали еще теснее, когда короли Шотландии и их сыновья начали получать в Англии земли. Иногда они приносили присягу не то этим землям, не то низменной области или даже целой Шотландии, но только пленение Вильгельма Льва во время мятежа английских баронов внушило Генриху II мысль об установлении более тесной зависимости Шотландии от английской короны. Чтобы вернуть себе свободу, Вильгельм Лев согласился признать себя вассалом Генриха II и его наследников, прелаты и вельможи Шотландии присягнули Генриху II как своему государю и во всех шотландских делах была допущена апелляция к высшему суду сюзерена.
Однако Шотландия скоро избавилась от этой зависимости благодаря расточительности Ричарда, который позволил ей выкупить утраченную свободу, и с этого времени затруднения, вызывавшиеся старым притязанием, устранялись благодаря юридическому компромиссу. Короли Шотландии не раз присягали государю Англии, но с сохранением за собой прав, которые они благоразумно оставляли без определения. Король Англии принимал присягу, предполагая, что она приносится ему как сюзерену Шотландии, и это предположение не находило ни подтверждения, ни отрицания.
В течение почти ста лет отношения обеих сторон сохраняли, таким образом, мирный, даже дружелюбный характер, а смерть Александра III в 1286 году, казалось, должна была снять даже всякую возможность протестов установлением более тесного союза двух королевств. Свою единственную дочь Александр III выдал за короля Норвегии, а парламент Шотландии, после долгих переговоров, согласился на брак ее дочери Маргариты, «девы Норвегии», с сыном Эдуарда I. Однако в брачном договоре указывалось, что Шотландия остается отдельным, самостоятельным королевством и сохраняет неприкосновенными свои законы и обычаи. Король Англии не имел права требовать от нее военной помощи, от судов Шотландии нельзя было апеллировать к судам Англии. Но этот план был внезапно расстроен смертью ребенка на пути в Шотландию. На вакантный престол явился ряд претендентов, и это обусловило совсем иные отношения Эдуарда I к шотландскому королевству.
Из тринадцати претендентов на престол Шотландии только три могли считаться серьезными. После прекращения линии Вильгельма Льва право наследования перешло к дочерям его брата Давида. Джон Баллиол происходил от старшей из них, Роберт Брюс — от средней, Джон Гастингс — от младшей. При этом кризисе король Норвегии, примас Шотландии и семеро шотландских графов еще перед смертью Маргариты обращались к Эдуарду I; после ее смерти и претенденты, и совет регентства согласились предоставить вопрос о наследовании решению Эдуарда. Но признанное шотландцами верховенство было менее прямым и определенным, чем то, какого он требовал при открытии совещаний. Его требование поддерживалось ссылками на монастырские летописи Англии и медленным приближением английской армии; захваченные врасплох шотландские лорды извлекли мало пользы из данной им отсрочки и наконец, вместе с девятью претендентами, формально признали прямое верховенство Эдуарда.
Фактически эта уступка Шотландии для баронов не имела большого значения, так как, подобно главным претендентам, они были в основном нормандского происхождения, владели землями в обеих странах и ожидали почестей и наград от английского двора. От общин, собравшихся вместе с баронами в Норгеме, нельзя было добиться признания требований Эдуарда, но в феодализированной Давидом Шотландии они еще мало значили, и потому их оппозицию спокойно обошли. Эдуард I тотчас воспользовался всеми правами феодального сюзерена. Он вступил во владение Шотландией как спорным леном, который до разрешения спора должен управляться его сюзереном; вся страна поклялась соблюдать мир, ее замки были поручены его попечению, ее епископы и бароны присягнули ему как своему сюзерену. Таким образом, Шотландия была доведена до подчинения, испытанного ею при Генрихе II, но последовавшее затем внимательное обсуждение различных притязаний показало, что, требуя того, что он считал принадлежащим ему по праву, Эдуард I желал быть справедливым к Шотландии. Комиссары, которых он назначил для разбора притязаний, были в большинстве шотландцами; предложение разделить королевство между претендентами было отвергнуто как противное шотландскому закону; наконец, Баллиолу как представителю старшей линии было отдано предпочтение перед соперниками.
Новому монарху тотчас были сданы замки, и Баллиол, вполне сознавая все, чем Шотландия была обязана Эдуарду I, принес ему присягу. На время воцарился мир. В действительности Эдуард I не желал, по-видимому, проводить дальше права своей короны. Даже если допустить, что Шотландия была зависимым королевством, она вовсе не являлась обычным леном английской короны. Феодальное право всегда признавало различие между отношениями зависимого короля к сюзерену и отношениями вассального барона к его государю. При присяге Баллиола Эдуард I, строго следуя упомянутому брачному договору, отказался от обычных прав сюзерена в случаях опеки и брака; но в Шотландии были и другие обычаи, столь же бесспорные. Ее король не был обязан являться на совет английских баронов, служить в английской армии или платить Англии от лица Шотландии налоги. Прямо эти права Эдуард I не признал, но какое-то время они действительно соблюдались. Требование независимого суда было более проблематичным и одновременно более важным.
Известно, что со времен Вильгельма Льва апелляция от суда шотландского короля в суд его предполагаемого сюзерена не допускалась и что судебная независимость Шотландии прямо оговаривалась в брачном договоре. Но с феодальной точки зрения право конечной апелляции служило доказательством верховенства. Эдуард I имел намерение осуществить это право, и Баллиол сначала уступил. Однако недовольство баронов и народа заставило его воспротивиться: он торжественно явился в Вестминстер и отказался допускать апелляцию не иначе как с согласия своего Совета. На самом деле он обратился за помощью к Франции, которая, как станет ясно потом, ревностно следила за действиями Эдуарда I и старалась вовлечь его в войну. Новым нарушением обычного права со стороны Эдуарда I было требование от баронов Шотландии помощи в войне с Францией. Оно было отвергнуто, а второй отказ в помощи сопровождался тайным союзом с Францией и папским освобождением Баллиола от присяги на верность.
Эдуарду I все еще не хотелось начинать войну, но все надежды на соглашение были разрушены отказом Баллиола явиться на заседание парламента в Ньюкасле, поражением небольшого отряда английских войск и осадой Карлайла шотландцами. Тотчас был отдан приказ идти на Бервик. Насмешки горожан из-за деревянной стены — единственной защиты города, задели короля за живое. Стена была взята с потерей всего одного рыцаря, и около восьми тысяч горожан было перебито в беспощадной резне, а горсть фламандских торговцев, упорно защищавших ратушу, была сожжена в ней живьем. Резня прекратилась только тогда, когда духовенство в крестном ходе принесло королю святые дары, прося о пощаде; у Эдуарда I вдруг хлынули слезы, и он отозвал свои войска. Тем не менее город был разорен навсегда, и с тех пор крупный торговый центр севера превратился в небольшой порт. В Бервике Эдуард I получил от Баллиола «вызов». «И безумец сделал эту глупость! — с надменным презрением воскликнул король. — Если он не придет к нам, то мы придем к нему». Страшная резня произвела, однако, свое действие, и поход короля стал триумфальным шествием. Эдинбург, Стирлинг и Перт отворили свои ворота, Брюс присоединился к английской армии, сам Баллиол сдался без сопротивления и прямо с престола попал в английскую тюрьму.
Другим взысканиям подчинившееся королевство подвергнуто не было. Эдуард I обошелся с ним как с простым леном и объявил, что измена Баллиола юридически влечет за собой потерю королевства. Оно на самом деле подчинилось сюзерену: графы, бароны и дворяне Шотландии на парламенте в Бервике присягнули Эдуарду I как своему королю. Священный камень, на котором посвящали прежних государей, — продолговатая глыба песчаника, по преданию, служившая изголовьем Иакову, когда ангелы восходили и спускались с неба, — был увезен из Сконы и поставлен в Вестминстере возле гроба Исповедника. По приказу Эдуарда I его вставили в великолепный трон, который с тех пор используется при коронации королей Англии.
Самому королю все это представлялось вторым, и даже более легким, завоеванием Уэльса, за которым также следовали и милость и достойное управление, отличавшие его первый успех. Руководство новой областью было вверено Уоренну, графу Серрею, главе Английского совета регентства. Прощения щедро раздавали всем, кто противился нашествию; порядок и общественное спокойствие строго соблюдались. Но и справедливость, и злоупотребления нового правительства оказались для него роковыми.
Недовольство шотландцев, уже возбужденное назначением английских священников в приходы Шотландии и раздачей пограничных земель английским баронам, было доведено до крайности строгим применением закона и преследованием распрей и угона скота. Роспуск войск, вызванный истощением королев скойказны и своеволием оставшихся солдат, усилили народное раздражение. Позорное подчинение вельмож подвигло на выступление народ. Несмотря на столетний мир, земледельцы низменной области и городские ремесленники оставались отважными англичанами Нортумбрии. Они никогда не признавали верховенства Эдуарда I, и их кровь возмущалась при виде надменного управления иноземцев. Один опальный рыцарь, Уильям Уоллес, задумал воспользоваться этим тлеющим недовольством для освобождения родины, и его смелые нападения на отдельные отряды английского войска вызвали наконец восстание по всей стране. О самом Уоллесе, его жизни и характере нам неизвестно почти ничего; даже предание о его громадном росте и неимоверной силе смутны и недостоверны. Но инстинкт не обманул шотландцев, когда они выбрали Уоллеса своим национальным героем. Он первый провозгласил свободу прирожденным правом народа, и ввиду пассивности вельмож и духовенства призвал к оружию народ. Во главе армии, собранной по преимуществу из береговых округов, занятых населением того же происхождения, что и низменность, Уоллес в сентябре 1297 года расположился лагерем возле Стирлинга в проходе, ведшем с севера на юг, и ожидал приближения англичан.
Предложения Джона Уоренна были презрительно отвергнуты: «Мы пришли сюда, — сказал вождь шотландцев, не мириться, а освобождать родину». Позиция Уоллеса на холмах, за излучиной Форта, действительно была выбрана с замечательным искусством. По единственному узкому мосту через реку могли ехать рядом только двое всадников, и хотя английская армия начала переход на рассвете, но только половина ее переправилась к полудню, когда Уоллес напал на нее и после короткого боя разбил наголову на виду у остальной части войска. Отступление графа Серрея за границу поставило Уоллеса во главе освобожденной им страны, и некоторое время он действовал в качестве «попечителя королевства» от имени Баллиола и руководил набегом шотландцев на Нортумберленд. Захват им Стирлингского замка заставил наконец выступить Эдуарда I, собравшего под свои знамена более многочисленное, чем когда-либо, войско. Измена дала ему возможность настичь Уоллеса, когда он отступал (во избежание столкновения), и принудить его принять сражение близ Фалкирка. Шотландское войско состояло почти исключительно из пехоты, и Уоллес построил своих копейщиков в четыре больших круга или каре, причем наружные ряды стали на колени; внутри каре были поставлены стрелки, а небольшой отряд конницы был выстроен в качестве резерва позади.
Это было то же расположение, что и при Ватерлоо, первое появление в нашей истории со времен Сенлака «той непобедимой британской пехоты», перед которой суждено было стушеваться рыцарству. На мгновение она имела весь успех Ватерлоо. «Я привел вас в хоровод, танцуйте, если можете», — с грубоватым юмором, характеризующим его настроение, сказал шотландцам Уоллес, и сомкнутые ряды дружно отозвались на его призыв. Епископ Дергемский, вождь английского авангарда, благоразумно отступил при виде каре. «Вернись, епископ, к своей обедне!» — закричали отважные рыцари, следовавшие за ним. Но напрасно масса конницы бросалась на лес копий. Ужас охватил английское войско, и отряд уэльских союзников отступил с поля битвы.
Однако тактика Уоллеса встретилась здесь с тактикой короля. Эдуард I вызвал вперед своих стрелков, разредил их стрелами ряды шотландцев и тогда снова бросил свою конницу на поколебавшийся строй. В один момент все было кончено, и взбешенные рыцари устроили в поникших рядах беспощадную резню. Тысячи пали на поле битвы, сам Уоллес с трудом спасся в сопровождении горстки людей. Но хотя дело свободы и казалось погибшим, свою задачу он все-таки выполнил. Он пробудил Шотландию, и даже такое поражение, как при Фалкирке, не заставило ее подчиниться. Эдуард I остался хозяином только своих позиций; недостаток средств принудил его к отступлению; а в следующем году борьбу за независимость продолжало регентство вельмож Шотландии во главе с Брюсом и Комайном. Эдуарда I задержали внутренние смуты и внешние опасности. Бароны Англии все сильнее настаивали в удовлетворении своих жалоб и понижении тяжелых налогов, вызванных войной. Франция все еще сохраняла угрожающее положение; по ее внушению папа Бонифаций VIII выставил притязания на феодальное верховенство над Шотландией, и это остановило новый поход короля.
Все эти препятствия были устранены ссорой Филиппа IV с папой Римским, позволившей Эдуарду I пренебречь угрозами Бонифация VIII и вынудить у Франции договор, по которому она обязалась не помогать Шотландии. В 1304 году он повторил нашествие, и когда он явился на севере, то вельможи снова сложили оружие. Глава регентства Комайн признал его верховенство, а сдача Стирлинга завершила подчинение Шотландии. Торжество Эдуарда I было только прелюдией к полному исполнению его плана — объединить обе страны мудрым милосердием, доказывающим величие его политики. Общая амнистия была распространена на всех участников мятежа. Уоллес отказался воспользоваться ею. Его схватили и приговорили в Вестминстере к смерти как изменника, клятвопреступника и разбойника. Голова великого патриота, в насмешку увенчанная лавровым венком, была выставлена на Лондонском мосту. Но казнь Уоллеса была единственным пятном на милосердии Эдуарда I. С мастерской смелостью он вверил управление страной совету шотландских вельмож, многие из которых получили прощение за участие в войне, и предварил политику Кромвеля, предоставив Шотландии десять мест в общем парламенте своего королевства. Для избрания этих представителей в Перте было созвано собрание, был обнародован план судебной реформы, принявший за основу нового законодательства исправленные законы короля Давида и разделивший страну в судебном отношении на четыре округа: Лотиан, Галлауэй, Горный и область между горами и Фортом; во главе каждого из них было поставлено по двое судей — один англичанин, а другой шотландец.
Глава IV АНГЛИЙСКИЕ ГОРОДА
От только что описанных несправедливостей и кровопролития иноземного завоевания мы переходим к мирной жизни и прогрессу самой Англии.
В эпоху трех Эдуардов весь строй английского общества был постепенно преобразован двумя переворотами, почти не обратившими на себя внимания наших историков. Первого из них — усиления нового класса земельных арендаторов — мы коснемся позже в связи с великим крестьянским восстанием, известным как восстание Уота Тайлера. Второй — рост ремесленного класса в городах и борьба его за власть и привилегии со старыми гражданами — представляет собой самое замечательное явление обозреваемого периода истории Англии.
Первоначально английский город был просто общиной или группой общин, жителям которых для торговли или защиты удалось теснее, чем в других местах, объединиться друг с другом. Эта особенность наших городов наиболее отличает их от городов Италии и Прованса, сохранивших муниципальные учреждения римской эпохи, от немецких городов, основанных Генрихом Птицеловом с особой целью избавить промышленность от притеснений окрестных феодалов или от коммун Северной Франции, вызванных к жизни возмущением против насилия феодалов в городских стенах. В Англии римская традиция исчезла совсем, а насилия феодалов были ограничены королями. Поэтому английский город вначале был просто частью всей страны, устроенной и управлявшейся точно так же, как и окружавшие его общины.
Вероятно, город был более укрепленным поселением, чем обычная деревня: его окружал ров или вал вместо живой изгороди (tun), от которой получила свое название деревня (township). Но его устройство было то же, что и всего народа. Горожане, как и жители окрестных сел, обязаны были держать в порядке вал и ров, посылать отряд в ополчение, а старосту и четырех выборных — на собрание сотни и графства; внутреннее управление городом, как и соседними деревнями, находилось в руках фрименов, собиравшихся на городское вече. Но общественный переворот, произведенный войнами с датчанами, требование закона, чтобы у каждого непременно был свой лорд, повлияли на города так же, как и на остальную страну. Некоторые города перешли в руки соседних вельмож, другие оказались на землях короля. Этот переворот выразился в появлении новых чиновников — приказчиков лорда или короля. Приказчики стали созывать вече и отправлять на нем суд; они же собирали доходы владельцев, или ежегодный городской оброк, и взыскивали натуральные повинности с горожан.
На теперешний взгляд, эти повинности ставили последних почти в полную зависимость от владельца. Когда Лестер, например, из рук Вильгельма Завоевателя перешел к его графам, то его жители были обязаны убирать хлеб владельца, молоть на его мельнице, выкупать заблудившийся скот из его загороди. Большой лес, окружавший городок, принадлежал графу, и только по его милости горожане могли выгонять своих свиней в лес или пасти скот на прогалинах. Суд и управление городом находились в руках его владельца, назначавшего правителя, собиравшего с его жителей оброки и штрафы, а с его ярмарок и рынков — пошлины и сборы.
Но, однажды уплатив эти сборы и отбыв повинности, английский горожанин становился человеком действительно свободным. Его права определялись обычаем так же строго, как и права его лорда. Личность и собственность одинаково гарантировались от произвольного захвата. По всякому обвинению он мог требовать правильного суда, и хотя суд вершился приказчиком владельца, но в присутствии и с согласия других горожан. По звону колокола городской башни горожане собирались на общую сходку, где пользовались правами свободы речи и свободного совещания о своих делах. Их купеческая гильдия на своем «пивном празднике» регулировала торговлю, распределяла между горожанами городские сборы, следила за исправностью ворот и стен и, в сущности, играла почти ту же роль, что и теперешнее городское собрание. Притом эти права не только были обеспечены обычаем с самого начала, но и постоянно расширялись с течением времени.
Знакомясь с внутренней жизнью английского города, мы всюду находим прогресс того же мирного переворота, исчезновение повинностей вследствие отвыкания от них или упущения, покупку привилегий и изъятия за деньги. Владелец города — будь то король, барон или аббат — обычно бывал расточителен или беден, и вот пленение рыцаря, поход государя или постройка нового собора приором вызывали обращение к домовитым гражданам, которые охотно пополняли казну своего лорда в оплату за клочок пергамента, предоставлявший им свободу торговли, суда и управления. Иногда с этой освободительной работой нас знакомит случайный рассказ.
В Лестере одним из главных стремлений горожан было вернуть себе старый английский обычай очистительной присяги, это грубое предвестие суда присяжных — обычай, отмененный графами в пользу нормандского поединка. «Случилось так, — говорится в тамошней грамоте, — что два родственника, Николай, сын Акона, и Жоффри, сын Николая, вступили в поединок из-за известного клочка земли, относительно которого между ними произошел спор, и бились они с первого часа до девятого, побеждая поочередно. Тогда один из них, отступая перед другим, дошел до маленькой ямы, и когда он стал на краю ямы и был близок к тому, чтобы упасть в нее, родственник закричал ему: «Берегись ямы, обернись, чтобы не упасть в нее». Из-за этого среди стоявших и сидевших вокруг поднялись такие крик и шум, что их услышал в замке граф и поинтересовался, отчего там такой крик; ему ответили, что там бились два родственника из-за клочка земли, и что один из них отступал, пока не дошел до маленькой ямы, и что когда он стал над ямой и готов был упасть в нее, другой остерег его.
В результате горожане прониклись состраданием и заключили с графом договор, по которому обязались платить ему ежегодно по три пенса за каждый дом на Верхней улице, имевший шпиль на крыше, с условием, что он позволит, чтобы впредь все дела, могущие возникнуть между ними, рассматривались и разрешались двадцатью четырьмя присяжными, издавна существовавшими в Лестере. Большей частью вольности наших городов были приобретены именно таким путем — при помощи упорного торга. Древнейшие английские хартии, кроме Лондонской, относятся к тем годам, когда казна Генриха I была истощена его войнами в Нормандии, а грамоты, пожалованные анжуйцами, являлись, вероятно, результатом дорогостоящего пользования наемными войсками. В конце XIII века эта борьба за освобождение уже почти закончилась. Более крупные города обеспечили отправление суда на своем городском вече, право самоуправления и надзор за торговлей, а их вольности и хартии послужили образцами и побуждением для более мелких общин, добивавшихся свободы.
По мере успехов этого внешнего переворота и внутренняя жизнь английского города, так же медленно и полусознательно, преобразовывала общие формы народной жизни в формы собственно городские. Внутри, как и вне рва или частокола, составлявших древнейшую ограду города, с самого начала признаком свободы служила земля, и гражданами считались только землевладельцы. Для пояснения этой основной черты в истории наших городов мы можем, пожалуй, привести пример из истории другой страны.
Когда герцог Бертольд Церинген задумал основать Фрейбург («вольный город») в Брейсгау, то собрал кучку ремесленников и каждому из них дал во владение клочок земли вокруг будущей рыночной площади новой общины. В Англии безземельный человек, живший в городе, не принимал участия в его общинной жизни; для целей управления и хозяйства город был просто союзом живших в его пределах землевладельцев, и в первоначальном устройстве этого союза не было ничего особенного или исключительного. Устройство английского города, как ни разнообразились впоследствии его формы, было сначала вполне схожим с устройством сельской общины. Известно, что у германских племен в основе общества лежал родовой союз, члены которого селились и сражались бок о бок, а также были связаны взаимной ответственностью перед всеми другими и перед законом. Когда общество стало более сложным и менее устойчивым, оно естественно переросло эти простые кровные связи. В Англии это разложение родового союза, по-видимому, совпало с тем временем, когда вторжение датчан и рост феодализма сделали обособленную жизнь для фримена чрезвычайно опасной. Единственным выходом для него было искать защиты у других фрименов и заменить прежнее родовое братство добровольным союзом соседей в тех же целях порядка и самозащиты.
В IX—X веках стремление соединяться в такие «гильдии мира» стало общим во всей Европе, но на материке оно встретило отпор и преследование. Преемники Карла Великого грозили за образование добровольных союзов бичеванием, изувечением и изгнанием. Даже союз бедных галльских крестьян против пришельцев норманнов был уничтожен оружием франкских вельмож. В Англии отношение к союзам королей было совсем другим. После датских войн за основу общественного порядка была принята система ручательства соседей друг за друга, известная впоследствии под названием «frank pledge», или круговой поруки. Рядом с ответственностью родичей Альфред признал общую ответственность членов «гильдий мира», а Этельстан принял последние в «Лондонских постановлениях» как основной элемент городской жизни.
Итак, в древнеанглийском городе «братство мира» вполне походило на союзы, составившие основу общественного порядка во всей стране. Для ее членов место родовой связи заступила клятва взаимной верности; ежемесячный братский праздник в общей зале заменил собрание родичей вокруг их родового очага. В этой новой семье братство стремилось установить столь же тесную взаимную ответственность, как и в старой. «Пусть все разделяют один жребий, — гласил его закон, — если кто совершил преступление, все должны отвечать за него». Брат мог требовать помощи у товарищей, если ему приходилось отвечать за преступление, совершенное по несчастью. Он мог призывать их на помощь в случае совершенного над ним и его близкими насилия или нанесенной обиды; если его ложно обвиняли, братья вместе с ним давали очистительную присягу на суде; они оказывали ему помощь при разорении и хоронили его после кончины.
С другой стороны, он отвечал перед ними, как они перед государством, за порядок и подчинение законам. Обида, нанесенная одним братом другому, была также обидой для всего братства и наказывалась штрафом или, в крайнем случае, исключением обидчика из братства, ставившим его вне закона, делавшим изгоем. Единственное различие между этими союзами в деревне и в городе состояло в том, что в последнем случае они, ввиду их близкого соседства, неизбежно стремились к слиянию. При Этельстане лондонские гильдии соединились в одну для более успешного проведения своих общих стремлений; позднее гильдии Бервика постановили, что «где несколько союзов оказываются рядом в одном месте, они могут составить одно целое, иметь одну волю, а в сношениях одного с другим выказывать крепкую, сердечную любовь».
Процесс их объединения, вероятно, был долгим и трудным, потому что братства, естественно, сильно различались по общественному положению, и даже после объединения заметны следы существования иных, более богатых или аристократичных гильдий. В Лондоне, например, «рыцарская гильдия», по-видимому, стоявшая во главе других, долгое время сохраняла отдельную собственность, а ее эльдормен, — так назывался глава каждой гильдии, — стал эльдорменом объединенной гильдии всего города. В Кентербери была известна похожая гильдия танов, из которой, по-видимому, обычно выбирались главные сановники города. Но хотя объединение и было несовершенным, однако если оно произошло, город из простого скопления братств превратился в сильную организованную общину, характер которой неизбежно определялся обстоятельствами ее возникновения.
Вначале население наших городов, по-видимому, занималось преимущественно сельским хозяйством: первые «Лондонские постановления» специально рассматривали вопрос о розыске принадлежавшего горожанам скота. Но по мере того как улучшение безопасности в стране побуждало землевладельца и помещика селиться особняком на своих землях, а города развивались благодаря растущему богатству и торговле, резче определялось различие между городом и деревней. Лондон, очевидно, шел во главе этого движения. Даже во времена Этельстана каждый лондонский купец, совершивший за свой счет три дальних поездки, становился равным с таном. Корабельная гильдия Лондона (lithsmen) уже при Гарткнуте пользовалась таким значением, что ее члены участвовали в избрании короля, а его главная улица уже самим названием (Чипсайд, или Торговая площадь) говорит о быстром росте торговли. С нормандским завоеванием значение торговли еще более усилилось. С тех пор соединенное братство почти всегда называли уже не «городской гильдией», а купеческой.
Такая перемена в занятиях городского населения имела важные последствия для системы городских учреждений. Превратившись в купеческую гильдию, союз горожан расширил свои полномочия в области законодательства, взяв на себя надзор за внутренней торговлей и промыслами. Главной задачей гильдии стало получение от короля или владельца города более широких торговых привилегий: права чеканить монету и устраивать ярмарки, освобождения от пошлин; в самом городе она издавала распоряжения относительно продажи и качества товаров, контроля над рынками, уплаты долгов. Еще более важную перемену вызвал рост количества городского населения вследствие приумножения богатства и развития промышленности.
Масса новых поселенцев из беглых крепостных и торговцев, не владевших землей, из семей, утративших свои городские участки, и вообще из ремесленников и бедняков, не принимала участия в текущих городских делах. Право торговли и ее регулирование, вместе со всеми другими формами суда, находились целиком в руках только что упомянутых граждан-землевладельцев. Их имущественное преобладание привело, естественно, к новому разделению горожан на «граждан» купеческой гильдии и на бесправную массу. В английских городах сказалось, хотя с меньшей силой, то же движение, которое во Флоренции отделило семь главных «искусств», или промыслов, от четырнадцати мелких и которое даже в кругу привилегированных оставило преобладание банкирам, фабрикантам и владельцам красилен. Члены купеческой гильдии постепенно сосредоточились на крупных торговых операциях, требовавших большого капитала, а занятие мелкими промыслами предоставили своим бедным соседям.
Подобное разделение труда проявилось в XIII веке в обособлении торговцев тканями от портных или торговцев кожевенным товаром — от мясников. Всего сильнее оно повлияло на устройство городов. Представители промыслов, покинутых богатыми гражданами, сами создали ремесленные цехи, скоро ставшие опасными соперниками старой купеческой гильдии. Чтобы быть полноправным членом цеха, необходимо было пройти семилетнее ученичество. Цеховые постановления отличались чрезвычайной подробностью: они строго определяли качество и цену работы, ее продолжительность («от рассвета до вечернего звона»), строго запрещали конкуренцию труда. Члены цеха собирались каждый раз вокруг цехового ящика, в котором хранились правила общества, и при его вскрытии стояли с обнаженными головами. Старшина и выборные из цеховых составляли совет, следивший за исполнением правил, осматривавший все работы членов цеха, отбиравший негодные инструменты или плохие товары; неповиновение приказам совета наказывалось штрафами или, в крайнем случае, исключением, которое влекло за собой потерю права на промысел.
Взносы членов составляли общий фонд, из которого не только покрывались текущие расходы цеха, но и основывались часовни, заказывались обедни, вставлялись раскрашенные стекла в церкви святого покровителя братства. Еще и в настоящее время в соборах, рядом с гербами прелатов и королей, часто видны расписные гербы цехов. Но такого значения цехи достигли очень медленно и постепенно. Всего труднее были для них первые шаги. Чтобы сколько-нибудь успешно достигать своих целей, цеху нужно было, во-первых, чтобы в его состав входила вся масса ремесленников, занимавшихся известным промыслом, и, во-вторых, чтобы ему был обеспечен надзор за отправлением ремесла. Для этого была необходима королевская хартия, за получение которой ремесленники начинали борьбу с купеческой гильдией, до того пользовавшейся исключительным правом надзора за городскими промыслами.
Первым цехом, добившимся королевского утверждения в царствование Генриха I, были ткачи, но и им пришлось отстаивать свою самостоятельность еще при Иоанне, когда граждане Лондона посредством подкупа добились временной отмены их цеха. Эксетер противился учреждению цеха портных уже при Ланкастерских королях. Однако с XI века эти союзы постоянно распространялись, а надзор за промыслами переходил от купеческих гильдий к ремесленным цехам.
Говоря языком эпохи, это была борьба «младших», или «коммуны», против «лучших людей», то есть всей массы населения против кучки «разумных» (prudhommes). Когда она, не ограничиваясь одним регулированием промышленности, затронула все городское управление, то произвела великий гражданский переворот XIII—XIV веков. На материке, и особенно в долине Рейна, борьба была тем упорнее, чем полнее было преобладание старых граждан. В Кельне ремесленники были низведены почти до крепостного состояния; в Брюсселе купец мог сколько угодно бить по щекам «человека без сердца и чести, живущего своим трудом». Такое притеснение одного класса общества другим целый век вызывало в городах Германии кровавые столкновения.
В Англии социальная тирания была ограничена общим характером права, и потому борьба классов в большинстве случаев принимала более мягкие формы. Дольше и ожесточеннее всего велась она, естественно, в Лондоне, потому что нигде поземельный строй не укоренился так глубоко, нигде олигархия землевладения не достигла таких богатств и влияния. Город делился на кварталы, каждый из которых управлялся эльдорменом, выбиравшимся из правящего класса. Притом в некоторых кварталах должность эта стала, по-видимому, наследственной. «Магнаты», или «бароны», купеческой гильдии одни решали все вопросы городского управления и регулирования промыслов, они по своему усмотрению распределяли городские доходы или повинности.
Такое положение давало повод к подкупам и притеснениям самого возмутительного свойства, и, по-видимому, первое серьезное недовольство было вызвано в 1196 году именно общим сознанием того, что бедных несправедливо обременяют налогами и что на низшие классы неправильно сваливают повинности. Во главе заговора, в котором, по мнению перепуганных граждан, участвовало пятьдесят тысяч ремесленников, стоял Уильям Длинная Борода, сам принадлежавший к правившему сословию. Его красноречие и смелое сопротивление эльдормену на городской сходке принесли ему широкую популярность, и окружавшая толпа приветствовала его как «спасителя бедняков». К счастью, один из современных ему слушателей сохранил для нас одну из его речей. По средневековому обычаю, он начал ее текстом из Библии: «Вы с радостью будете черпать воду из источника Спасителя». «Я, — сказал он, — спаситель бедняков. Вы, бедные люди, испытавшие тяжесть рук богачей, черпайте из моего источника воды спасительного наставления, и притом с радостью, ибо близко время вашего освобождения. Я отделю воды от вод. Вода — это народ, и я отделю смиренных и верующих от надменных и неверующих; я отделю избранных от осужденных, как свет от мрака».
Напрасно старался он своими обращениями привлечь короля на сторону народа. Поддержка состоятельных классов была необходима Ричарду в его дорого стоивших войнах с Францией, и после временного колебания юстициарий, архиепископ Губерт, отдал приказ схватить Уильяма. Последний поразил секирой первого приблизившегося к нему солдата и, укрывшись с немногими спутниками в башне святой Марии (St. Mary-le-Bow), призвал своих приверженцев к восстанию. Но Губерт уже ввел в город войска и, пренебрегая правом убежища, поджег башню и тем вынудил Уильяма к сдаче. Когда тот выходил, его поразил сын убитого им гражданина, и с его смертью распри затихли более чем на полвека.
Действительно, до начала «войны баронов» других волнений в Лондоне не было, но в течение всего этого промежутка времени недовольство волновало город: неполноправные ремесленники под предлогом охраны порядка тайно образовали свои «братства мира», и время от времени толпы принимались грабить дома иностранцев и богатых граждан. Открытая борьба возобновилась не раньше начала междоусобной войны. Ремесленники добились доступа на городское вече, низложили эльдорменов и магнатов и выбрали в 1261 году своим старейшиной Томаса Фиц Томаса. Хотя несогласия продолжались и в царствование Эдуарда II, эго избрание можно рассматривать как доказательство конечной победы ремесленных цехов.
При Эдуарде III прекратились, по-видимому, все споры: всем ремеслам были дарованы грамоты, их уставы были формально признаны и внесены в протоколы суда старшины (мэра), цехам была присвоена форменная одежда, которой они обязаны существующим и ныне названиям «ливрейных товариществ». Богатые граждане, потеряв прежнюю власть, вернули себе влияние, записавшись в члены цехов, и сам Эдуард III поддался общему настроению и вступил в цех оружейников. Этот факт определяет эпоху, когда городское управление действительно стало более демократичным, чем было когда либо впоследствии до издания в наши дни закона о муниципальной реформе. Из рук олигархии управление городами перешло к средним классам, и ничто еще не предвещало того попятного движения, которое превратило ремесленные цехи в столь же узкую олигархию, как и низложенная ими.
Глава V КОРОЛЬ И БАРОНЫ (1290—1327 гг.)
Обращаясь снова к конституционной истории Англии со времен восшествия на престол Эдуарда I, можно заметить явления не менее положительные, чем прогресс городов, но задержанные более резкими колебаниями. Долгая борьба за Хартию, реформы Монфора, первые законы самого Эдуарда I привели к значительному перемещению власти. Правда, по своему пониманию королевской власти Эдуард I был справедливым и благочестивым преемником Генриха II, но его Англия так же отличалась от Англии Генриха II, как парламент одного от Великого совета другого. В простых стихах Роберта Глостерского содержится простой символ политической веры целого народа: «Когда, по милости Божьей, земля была приведена к доброму миру, лучшие люди обратили мысли к восстановлению старых законов; для восстановления доброго старого закона, как мы сказали раньше, король составил и даровал свою Хартию». Но власть, отнятая Хартией у короны, досталась не народу, а баронам. Земледелец и ремесленник, принимавшие иногда участие в великой борьбе за свободу, еще не хотели вмешиваться в дела управления. Энергию и внимание промышленных классов поглощал великий экономический переворот в городе и селе, начавшийся в царствование Генриха I и продолжавшийся со все большей силой при его сыне.
В земледелии огораживание общинных земель и введение крупными собственниками арендной системы, вместе с облегченным законами Эдуарда I дроблением земель, постепенно создавали из массы крепостных крестьян класс земельных арендаторов, вся энергия которых уходила на стремление к общественной свободе. Те же причины, которые так затрудняли рост городской свободы, содействовали обогащению городов. К торговле с Норвегией и ганзейскими городами Северной Германии, к торговле шерстью с Фландрией и вином с Гасконью присоединилась теперь быстро растущая торговля с Италией и Испанией. Большие галеры венецианских купцов причаливали к берегам Англии, флорентийские торговцы селились в южных портах, банкиры Флоренции и Лукки последовали за кагорскими, уже нанесшими смертельный удар ростовщичеству евреев.
Но богатство и промышленная энергия страны проявлялись не только в росте класса капиталистов, но и в массе светских и церковных построек, отличавших ту эпоху. Церковная архитектура достигла высшего совершенства в начале царствования Эдуарда I, к которому относятся окончание постройки храма Вестминстерского аббатства и изящный кафедральный собор в Солсбери. Английский аристократ гордился прозванием «несравненного строителя»; некоторые черты искусства, развивавшегося за Альпами, быть может, проникали с итальянскими духовными особами, которых папы Римские навязывали английской церкви. В Вестминстерском аббатстве рака Исповедника, мозаичный пол и картины на стенах собора и дома капитула напоминают произведения художников школы Джотто и пизанцев.
Но даже если бы не было этого увлечения промышленностью, производительные классы не стремились к прямому участию в текущих делах управления. За отсутствием короны дела эти, естественно, согласно идеям эпохи, попали в руки знати. Определилось конституционное положение английских баронов. Без их согласия король не мог больше издавать законы, налагать подати или даже вести войну. Народ оказывал аристократии непоколебимое доверие. Бароны Англии уже не были грубыми чужестранцами, от насилия которых «сильная рука» нормандского государя должна была охранять подданных; они были такими же англичанами, как крестьяне или горожане. Своими мечами они принесли Англии свободу, и сословная традиция обязывала их считать себя ее естественными защитниками. В конце «войны баронов» вопрос, так долго смущавший королевство, — вопрос о том, как обеспечить управление согласно хартии, — был разрешен передачей дела управления в руки постоянного комитета из главных прелатов и баронов, действовавших в качестве высших сановников государства вместе с особо назначенными министрами короны. Этот комитет назывался «постоянным советом», и спокойствие королевства под его управлением в долгий промежуток от смерти Генриха III до возвращения его сына показывало, как успешно было это правление баронов.
Для характеристики новых отношений, которые они старались установить между собой и короной, важное значение имеет утверждение совета в послании, возвещавшем о вступлении Эдуарда I на престол, что это произошло «по воле пэров». Между тем сам состав нового парламента, в котором баронов поддерживали выбранные большей частью под их влиянием рыцари графств и еще верные преданиям времен Монфора представители городов, — более частый созыв парламентов, позволявший сговориться и организовать партии и дававший определенную основу для политических действий, но больше всего влияние, которое контроль над налогообложением позволял баронам оказывать на корону, — все это в конечном счете дало их власти такую прочную основу, что ее не могли поколебать даже отчаянные усилия самого Эдуарда I.
С самого начала король вступил в бесплодную борьбу с этим подавляющим влиянием, и его стремления должны были найти поощрение в перевороте, происходившем по другую сторону пролива, где короли Франции сокрушали власть феодальной знати и на ее развалинах воздвигали королевский деспотизм. Эдуард I ревностно охранял почву, уже отнятую короной у баронов. Следуя политике Генриха II, он учредил в самом начале своего царствования комиссию для исследования существующих судебных привилегий, и по ее докладу разослал разъездных судей для определения прав, на которых основывались эти привилегии. Кое-где вопросы судей встретили негативный прием. Граф Уоррен вынул ржавый меч и бросил его на судейский стол. «Вот, господа, — сказал он, — мое право. Мечом приобрели себе свои земли наши деды, когда пришли сюда с Завоевателем, и мечом будем мы защищать их».
Но король далеко не ограничивался планами Генриха II, он стремился все больше ослабить могущество знати, подняв на тот же уровень массу землевладельцев, и королевская грамота обязала всех фригольдеров, владевших землей стоимостью в 20 фунтов, принимать рыцарство из рук короля. В то время как политическое влияние аристократии как сословия, руководящего народом, усиливалось, личная и собственно феодальная власть каждого барона на его землях, в сущности, постоянно падала. Влияние короны на каждую знатную семью благодаря правам опеки и женитьбы, объезды королевских судей, все большее сужение функций феодального суда, подрыв военного значения баронов щитовой податью, безотлагательное вмешательство совета в их распри — все это больше и больше принижало баронов до уровня прочих подданных. Однако многое еще оставалось сделать. Как ни отличалась английская аристократия, взятая в целом, от феодальной знати Германии или Франции, всякому военному классу свойственно стремление к насилию и беззаконию, которое трудно было подавлять даже строгому суду Эдуарда I. Во все его царствование ему приходилось сильной рукой поддерживать порядок среди враждующих баронов. Крупные вельможи вели частные войны; для мелких и бедных баронов представляло большое искушение богатство купцов — их длинные телеги с товарами, проезжавшие по дороге.
Однажды, под прикрытием шуточного турнира монахов с канониками, кучка провинциальных дворян успела проникнуть на большую ярмарку в Бостоне; с наступлением ночи они подожгли строение, ограбили и перебили купцов, а добычу перевезли на суда, стоявшие наготове у пристани. Потоки золота и серебра, как гласило полное ужаса предание, текли расплавленными по канавам в море; «все деньги Англии едва ли могли вознаградить те потери». Даже в конце царствования Эдуарда I шайки разбойников, вооруженных дубинами, жили за общий счет, помогали сельским дворянам в их распрях и угрозами вымогали у крупных торговцев деньги и товары. У короля было довольно силы, чтобы оштрафовать и посадить в тюрьму графов, повесить вождя бостонских грабителей и подавить разбои строгими мерами. В трехлетнее отсутствие (1286—1289 гг.) Эдуарда I в королевстве судьи, назначавшиеся тоже из мелких баронов, провинились в насилии и подкупе. После тщательного расследования судебные злоупотребления были обнаружены и исправлены, двое главных судей подверглись изгнанию, а их товарищи — заточению и штрафу.
Следующий год принес событие, оставшееся темным пятном на царствовании Эдуарда I. Ненависть народа к евреям быстро росла при анжуйцах, но покровительство королей никогда не колебалось. Генрих II даровал им право погребения за пределами городов, где они жили. Ричард сурово наказал за избиение евреев в Йорке и организовал смешанный суд из евреев и христиан для записи их договоров. Иоанн никому, кроме себя, не позволял их грабить; правда, сам он выудил у них однажды сумму, равную годовому доходу королевства. Смуты следующего царствования принесли больше, чем могла взять даже королевская жадность; евреи приобрели достаточно средств для покупки имений, и только взрыв народного негодования не позволил закону дать им право владения вольными землями.
Гордость и презрение евреев к бытовавшим суевериям проявлялись в насмешках, которыми они осыпали процессии, проходившие через еврейские кварталы, а иногда, как в Оксфорде, и в настоящих нападениях на них. В народе ходили нелепые истории о детях, увлеченных в еврейские дома для обрезания или распятия, а в Линкольне народ стал почитать как «святого Гуго» мальчика, которого нашли зарезанным в еврейском доме. Первым делом францисканцев было поселиться в еврейских кварталах и попробовать обратить в христианство их жителей, но народная ненависть была слишком велика для таких мягких средств примирения. Когда своими ходатайствами перед Генрихом III монахи спасли от смерти семьдесят евреев, народ гневно отказал братии в подаянии. Во время «войны баронов» народная ненависть находила выражение в разграблении еврейских кварталов. По окончании войны евреев постигло еще большее бедствие: против них стали издавать указ за указом. Им запретили владеть недвижимой собственностью, держать в услужении христиан, обязали ходить по улицам не иначе как с двумя белыми нашивками из шерсти на груди, указывавшими на их национальность. Им запрещали строить новые синагоги, есть с христианами, лечить их.
Обороты капиталов, уже подорванные соперничеством банкиров из Кагора, стали совсем невозможны, когда король под страхом смерти приказал евреям отказаться от ростовщичества. Дальше преследованию идти было некуда, и накануне войны с Шотландией Эдуард I, желая пополнить казну и сам увлекшись фанатизмом подданных, купил у духовенства и мирян сбор «пятнадцатой деньги» за согласие на изгнание евреев из королевства. Из 16 тысяч человек, которые предпочли изгнание отступничеству, немногие достигли берегов Франции. Многие потерпели крушение, другие были ограблены и выброшены за борт. Один шкипер высадил толпу богатых купцов на песчаную отмель и посоветовал им призвать нового Моисея для спасения себя от моря. Со времен Эдуарда I до О. Кромвеля ни один приезжий еврей не ступал на землю Англии.
Сам Эдуард I был ни при чем в тех жестокостях, которыми сопровождалось изгнание евреев: напротив, он не только позволил беглецам взять с собой имущество, но и наказал через повешение людей, ограбивших их на море. Но изгнание все-таки было жестокостью, а разрешенный благодарным парламентом сбор «пятнадцатой деньги» оказался только слабым возмещением понесенных казной потерь. Война с Шотландией скоро истощила данные парламентом субсидии. Казна была совсем пуста; дорогая борьба с Францией в Гаскони требовала средств, а между тем король задумывал еще более дорогую экспедицию — на север Франции при помощи Фландрии. Прямая нужда привела Эдуарда I к жестоким вымогательствам.
Первый его удар пал на церковь; он уже потребовал от духовенства половины его годового дохода и был так раздражен его сопротивлением, что настоятель храма святого Павла, выступивший с возражением, от страха упал мертвым к его ногам. «Если кто воспротивится требованию короля, — гласило его послание к церковному собору, — поставьте ему на вид, что он может быть объявлен врагом королевского мира». Обиженные церковники очень неудачно сослались на то, что они обязаны платить только Риму, и как на основание своего отказа в дальнейшем обложении указали на разрешительную буллу папы Римского Бонифация VIII. На их отказ Эдуард I отвечал объявлением всего сословия вне закона: королевские суды были закрыты, а люди, отказавшие королю в пособии, — лишены всякого правосудия. Своими доводами духовенство поставило себя с формальной стороны в неловкое положение, а объявление его вне закона скоро принудило его к покорности, но его взносы мало могли помочь пополнению истощенной казны, а между тем тяжесть войны все возрастала.
Для снаряжения экспедиции, которую Эдуард I готовился лично вести во Фландрию, требовались более широкие масштабы произвольного обложения. Сельские дворяне были вынуждены принимать рыцарское звание или откупаться от обременительной чести. От графств были истребованы принудительные поставки скота и зерна, а вывозная пошлина на шерсть, — в то время главный продукт страны, — была поднята в шесть раз против прежней суммы. Хотя в этом и не было прямого нарушения хартий или статутов, результаты Великой хартии и «войны баронов» вдруг оказались уничтоженными. Едва удар был нанесен, как Эдуард I почувствовал свое бессилие. Сопротивление начали бароны. Во главе оппозиции стали два сильнейших из них: Боген, граф Герфорд, и Бигод, граф Норфолк. Их протест против войны и сопровождавших ее вымогательств фактически выразился в отказе вести войско в Гасконь в качестве заместителей Эдуарда I, тогда как сам он отправлялся во Фландрию. Они ссылались на то, что не обязаны служить за границей в случае отсутствия короля. «Клянусь богом, граф, — сказал король Бигоду, — Вы пойдете, или будете повешены!» «Клянусь богом, государь, — был холодный ответ, — я не пойду и не буду повешен!» (непереводимая игра слов: клянусь богом — (By Good) —звучит также как и фамилия графа — Бигод). Прежде чем собрался созванный им парламент, Эдуард I понял свое бессилие и под влиянием одной из внезапных перемен настроения, которые были присущи его натуре, появился в Вестминстерском зале перед своим народом и со слезами на глазах признался, что брал его достояние без достаточного на то права.
Настойчивое обращение к верности подданных заставило их против своей воли согласиться на продолжение войны, но этот кризис выявил необходимость дальнейших гарантий против власти короля. В то время как Эдуард I еще сражался во Фландрии, примас Уинчелси с двумя графами и гражданами Лондона воспретил дальнейший сбор податей, пока Эдуард не подтвердил торжественно в Генте (1297 г.) Хартию с дополнительными статьями, воспрещавшими королю взимать подати не иначе как с общего согласия королевства. По требованию баронов он повторил подтверждение в 1299 году, когда его попытка присоединить уклончивую оговорку в защиту прав короны доказала справедливость их недоверия. Два года спустя новое собрание вооруженных баронов вынудило его к полному выполнению лесной Хартии. Горечь унижения тяготила Эдуарда I; свое обещание не брать новых пошлин с товаров он обходил, продавая купцам торговые привилегии; а получение от папы формального освобождения от данных обещаний указывало на его намерение снова поднять те вопросы, по которым он сделал уступки. Но его остановила роковая борьба с Шотландией, возобновленная восстанием Роберта Брюса, и смерть короля (307 г.), завещавшая спор его недостойному сыну.
Как ни был низок в нравственном отношении Эдуард II, он далеко не был лишен умственных дарований, наследственных в роду Плантагенетов. У него было твердое намерение свергнуть иго баронов, и он рассчитывал достичь этой цели, выбрав в министры человека, всецело зависевшего от короны. Мы уже отметили, что «клерки королевской капеллы» — министры своевольного правления нормандских и анжуйских королей — были незаметно заменены прелатами и лордами Постоянного совета.
В конце царствования Эдуарда I прямое предложение баронов назначить высших сановников грубо отвергли. Но фактически в выборе своих министров король был ограничен кругом прелатов и баронов, а такие сановники, хоть и тесно связанные с королевской властью, всегда разделяли в значительной степени чувства и мнения своего сословия. Молодой король, по-видимому, стремился уничтожить незаметно установившийся порядок и, подражая политике современных королей Франции, выбирать себе в министры людей невысокого положения, своей властью полностью обязанных короне и представлявших только политику и интересы своего государя. Еще при жизни отца его товарищем и другом был иностранец Петр Гавестон, родом из Гиени; в конце своего царствования Эдуард I изгнал его из королевства за участие в интригах, отдаливших от него сына. Новый король тотчас по воцарении вернул его, сделал графом Корнуолла и поставил во главе администрации.
Живой, веселый, расточительный, Гавестон в своих первых действиях проявил быстроту и смелость южного француза; старые слуги получили отставки, всякие притязания на старшинство или наследственность при распределении должностей во время коронации были устранены, вызывающие насмешки иностранца раздражали гордых баронов до бешенства. Гавестон был прекрасным воином и своим копьем на турнирах сбрасывал с коней одного противника за другим. Его беспечное остроумие осыпало вельмож насмешливыми прозвищами: граф Ланкастер был Актером, Пемброк — Жидом, Уорвик — Черным Псом. После нескольких месяцев власти оказалось невозможно противиться требованию парламента отставить Гавестона от должности, и он был формально изгнан из королевства.
Рис. Эдуард II.
В следующем, 1309 году Эдуард II добыл средства для войны с Шотландией только уступкой прав, которые старался утвердить его отец, — прав облагать товары ввозными пошлинами по соглашению с купцами. Твердость баронов была обусловлена тем, что они нашли вождя в лице графа Ланкастера, двоюродного брата короля. Его влияние оказалось неодолимым. Когда Эдуард II, распустив парламент, вернул Гавестона, Ланкастер вышел из Королевского совета, а парламент, собравшийся в 1310 году, постановил, что дела королевства должны быть вверены на год комиссии из 21 «распорядителя» (Ordainers).
Грозный список «распоряжений», составленный комиссией, в 1311 году встретил Эдуарда II при возвращении его из бесплодного похода в Шотландию. Этот длинный и важный статут изгонял Гавестона, устранял из Совета других советников и высылал из королевства флорентийских банкиров, займы у которых позволяли Эдуарду II держать в страхе баронов. Ввозные пошлины, введенные Эдуардом I, были объявлены незаконными. Парламенты должны были созываться ежегодно, и в них, при необходимости могли привлекаться к суду слуги короля. Высшие сановники государства должны были назначаться по совету и с согласия баронов и присягать в парламенте. Такое же согласие баронов в парламенте нужно было королю для объявления войны или выезда из королевства. Как показывают эти «распоряжения», бароны все еще смотрели на парламент скорее как на политическую организацию знати, чем на собрание трех сословий королевства. О низшем духовенстве совсем не упоминается; общины рассматриваются только как плательщики налогов, участие которых ограничивается представлением ходатайств и жалоб и назначением налогов.
Но даже в этом несовершенном виде парламент был настоящим представительством страны, и Эдуард II вынужден был после долгой и упорной борьбы согласиться с «распоряжениями». Изгнание Гавестона было свидетельством торжества баронов; его возвращение через несколько месяцев возобновило борьбу, окончившуюся его пленением. «Черный пес» Уорвик поклялся, что фаворит почувствует на себе его зубы; напрасно бросался Гавестон к ногам графа Ланкастера, прося милости у «благородного лорда»: вопреки условиям сдачи, его обезглавили. Порывы горя короля были так же бесплодны, как и его угрозы отомстить. Притворное подчинение победителей завершило унижение короля: в Вестминстерском зале бароны преклонили перед Эдуардом II колени и получили прощение, казавшееся смертельным ударом для королевской власти.
Но если у короля не хватало сил победить баронов, он мог приводить в замешательство все королевство, уклоняясь от соблюдения «распоряжений». Шесть лет, следующие за смертью Гавестона, принадлежат к самым мрачным в истории Англии. Ряд страшных голодовок усилил бедствия, проистекавшие из полного отсутствия всякого управления в период споров между баронами и королем. Поражение при Баннокберне и опустошение шотландцами севера покрыли Англию невиданным позором. Наконец, захват Бервика Робертом Брюсом вынудил Эдуарда II уступить, «распоряжения» были формально одобрены, дарована амнистия, и небольшое число пэров, принадлежавших к партии баронов, присоединились к высшим сановникам государства.
Возглавлял баронов граф Ланкастер, соединивший в своих руках четыре графства — Линкольн, Лестер, Дерби и Ланкастер — и, подобно королю, приходившийся внуком Генриху III. Окончание долгой борьбы с Эдуардом II предоставило ему высшую власть в королевстве, но его характер оказался, по-видимому, ниже его положения. Не способный к управлению, он только с завистью смотрел на новых советников, которых приблизил к себе король, — двух Деспенсеров, старшего и младшего. Возвышение младшего, которому король пожаловал графство Гламорган вместе с рукой его наследницы, было достаточно быстрым, чтобы возбудить общую зависть, и Ланкастеру нетрудно было силой оружия добиться изгнания его из королевства.
Уже поколебавшиеся симпатии народа повернулись к королю вследствие оскорбления, нанесенного королеве, перед которой леди Бедлесмир заперла двери замка Ледс, а неожиданная храбрость, которую проявил в отмщении обиды, придала новые силы его сторонникам. Он нашел себя достаточно сильным, чтобы вернуть Деспенсера, а когда Ланкастер созвал баронов, чтобы снова изгнать его, слабость их партии обнаружилась в предательских переговорах графа с шотландцами и в поспешном отступлении к северу с приближением армии короля. При Боробридже его силы были остановлены и рассеяны, а сам граф приведен пленником к Эдуарду II в Понтефрект, подвергнут суду и осужден за измену на смерть. «Сжалься надо мной, Царь Небесный! — воскликнул Ланкастер, когда его на сером пони без узды везли на казнь, — ибо царь земной покинул меня».
За его смертью последовала гибель многих его приверженцев и пленение других; между тем парламент в Йорке уничтожил приговор против Деспенсеров и отменил «распоряжения». Однако этому парламенту 1322 года и, может быть, победоносной уверенности роялистов Англия обязана знаменитым постановлением, объясняющим политику Деспенсеров и гласящим, что все законы касательно «положения короны или королевства и народа должны быть обсуждаемы, принимаемы и устанавливаемы в парламенте государем, королем и соглашением прелатов, графов, баронов и общин королевства сообразно бывшему доселе обычаю». Содержание этого замечательного постановления наводит на мысль о том, что внезапный поворот народного чувства зависел от присвоения баронами всей законодательной власти. Но высокомерие Деспенсеров, полная неудача нового похода в Шотландию и унизительное перемирие, которое Эдуард II вынужден был заключить с Брюсом, скоро лишили корону временной популярности и привели ко внезапному перевороту, которым закончилось это несчастное царствование.
Было условлено, что королева, сестра короля Франции, отправится на родину для заключения договора между обеими странами, распри которых снова грозили войной; за королевой последовал ее сын, двенадцатилетний мальчик, чтобы от имени отца принести присягу герцогству Гиень (прежняя Аквитания). Однако ни просьбами, ни угрозами король не мог побудить к возвращению жену и сына; связь королевы с тайным заговором знати раскрылась тогда, когда примас и бароны по ее высадке в Оруэле поспешили под ее знамена. Покинутый всеми, отвергнутый гражданами Лондона, у которых он просил помощи, король поспешно бежал на запад и сел с Деспенсерами на корабль, но ветер снова пригнал беглецов к берегу Уэльса, где они попали в руки нового графа Ланкастера.
Рис. Изабелла Французская (жена Эдуарда II) королева Англии.
Младший Деспенсер тотчас был повешен на виселице в 50 футов высотой, а король посажен под стражу в Кенильворте впредь до решения его участи парламентом, созванным для этой цели в Вестминстере. Собравшиеся пэры смело вернулись к старому обычаю английской Конституции и провозгласили свое право низложить короля, который оказался недостойным власти. Никто не поднял голоса в защиту Эдуарда II; протестовали только четыре прелата, когда молодой принц был провозглашен королем и в качестве государя представлен народу. Юридическую форму перевороту придал билль, обвинявший пленного монарха в беспечности, неспособности, потере Шотландии, в нарушении коронационной присяги и в угнетении церкви и баронов; ввиду доказанности этого и было постановлено, что Эдуард Кернарвонский перестал царствовать и что корона перешла к его сыну, Эдуарду Виндзорскому. Парламент отправил в Кенильворт депутацию, чтобы получить от развенчанного короля согласие на его низложение, и Эдуард, «одетый в простое черное платье», подчинился своей участи.
Сэр Уильям Трессел тотчас же обратился к нему со словами, которые лучше, чем что-либо другое, показывают характер шага, сделанного парламентом: «Я, Уильям Трессел, представитель графов, баронов и других, имея на то полные и достаточные полномочия, возвращаю и отдаю назад Вам, Эдуард, бывший король Англии, присягу и верность лиц, названных здесь, и разрушаю и освобождаю их от этого наилучшим образом, предписываемым законом и обычаем. И теперь я объявляю от их имени, что они не будут больше Вашими верными подданными и не желают владеть чем-нибудь от Вас как от короля, а будут считать Вас впредь частным лицом без всякого следа королевского достоинства». За этими торжественными словами последовал выразительный обряд. Сэр Томас Блаунт, гофмаршал короля, сломал свой жезл, что делалось только в случае смерти государя, и объявил об освобождении от их обязанностей всех лиц, состоявших на службе у короля. В следующем сентябре король был умерщвлен в замке Беркли.
Глава VI БОРЬБА ШОТЛАНДИИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ (1306—1342 гг.)
Чтобы составить ясное представление о конституционной борьбе между королем и баронами, мы отложили до окончания рассказ ее о великой войне, в течение всего этого периода бушевавшей на севере.
С Пертской конвокацией, казалось, закончилось завоевание Шотландии и упрочение в ней порядка. Эдуард I уже собирался созвать парламент для обоих народов в Карлайле, когда покоренная страна вдруг снова взялась за оружие под предводительством Роберта Брюса, внука одного из прежних претендентов на престол. Нормандский род Брюсов принадлежал к йоркширскому дворянству, но путем заключения браков приобрел также графство Каррик и лордство Аннандэл. И претендент, и его сын почти все время были на стороне Англии в ее борьбе с Баллиолом и Уоллесом; сам Роберт воспитывался при английском дворе и пользовался милостью короля.
Удаление Баллиола придало притязаниям Брюса новую силу, а раскрытие интриги, завязанной им с епископом Сент Эндрюса, так возмутило Эдуарда I, что Роберт должен был спасать свою жизнь бегством за границу. В церкви францисканцев в Демфризе он встретил Комайна, лорда Бедноха, измене которого приписывал раскрытие своих планов, и, обменявшись с ним несколькими горячими словами, заколол его кинжалом. Этот поступок не допусал забвения, и Брюс вынужден был ради своей безопасности через шесть недель возложить на себя корону в Сконском аббатстве. При вести об этом Шотландия снова взялась за оружие, и Эдуард I должен был снова выступить против своего непобедимого врага. Убийство Комайна заставило короля забыть о жалости: он грозил смертью всем участникам преступления и выставил напоказ в клетке, построенной для этого в одной из башен Бервика, графиню Бечэн, возложившую корону на голову Брюса.
Во время парадного обеда, данного королем в честь получения его сыном рыцарского звания, он поклялся над лебедем, — главным блюдом королевского стола, — посвятить остаток своих дней отмщению убийце. Во время этого обета Брюс, спасая свою жизнь, уже бежал на западные острова. «Отныне, — сказал он своей жене при коронации, — Вы королева Шотландии, а я ее король». — «Боюсь я, — отвечала Мария Брюс, — что мы только играем в королей, как дети — в свои игрушки». Игра скоро стала горькой действительностью. Небольшого английского отряда под начальством Эмера де Валанс оказалось достаточно для поражения нестройных полчищ, собравшихся вокруг нового короля, и бегство Брюса отдало его приверженцев в руки Эдуарда I. Вельможи один за другим всходили на эшафот. Граф Этол сослался на свое родство с королевским домом. «Его единственным преимуществом, — гневно отвечал на это король, — будет повешение на более высокой виселице». Английские судьи вешали рядом рыцарей и священников, жена и дочь Брюса были брошены в тюрьму. Сам Брюс предложил принцу Эдуарду II сдаться, но это только еще больше возмутило короля. «Кто смеет, — воскликнул он, — без нашего ведома вступать в переговоры с нашим изменником?» И, поднявшись с одра болезни, он повел свою армию на север завершать завоевание. Но рука смерти уже витала над ним, и на виду у всей Шотландии старый король испустил дух.
Смерть Эдуарда I только на один момент остановила движение его армии на север. Граф Пемброк перевел ее через границу и без сопротивления овладел страной. Брюс повел жизнь отчаянного авантюриста; даже горские вожди, в замках которых он находил убежище, были врагами человека, претендовавшего на престол враждебной им низменной Шотландии. Эти невзгоды и превратили убийцу Комайна в славного народного вождя. Смелый и храбрый, с повелительной осанкой и веселым характером, Брюс переносил превратности судьбы с неизменным мужеством. В легендах, создавшихся вокруг его имени, мы видим его в горных долинах прислушивающимся к лаю преследующих его ищеек или защищающим в одиночку горный проход от толпы диких горцев. Иногда небольшой кучке его спутников приходилось довольствоваться плодами собственной охоты или рыбной ловли, иногда — разбегаться ради безопасности, когда враги преследовали их до самого убежища. Самому Брюсу не раз приходилось сбрасывать кольчугу и спасать свою жизнь, босиком карабкаясь на скалы. Но мало-помалу мрачное небо прояснилось. По мере обострения борьбы между Эдуардом II и его баронами гнет англичан слабел. Первым из баронов низменности к Брюсу вернулся любимец шотландских историков Джеймс Дуглас, и его смелый шаг ободрил приверженцев короля. Однажды Брюс захватил врасплох собственный дом, уже отданный англичанину, съел обед, приготовленный для нового хозяина, убил своих пленников и побросал их трупы на костер, сложенный у ворот замка. Потом он вышиб донья у винных бочек, так что вино смешалось с их кровью, и поджег дом.
В деле освобождения, таким образом, героизм соединялся с ужасной жестокостью, но оживление страны шло своим путем. Разорение Брюсом Бечэна после поражения его владельца, присоединившегося к английской армии, повернуло, наконец, колесо фортуны в его сторону. Эдинбург, Роксбург, Перт и большинство шотландских крепостей одна за другой перешли в руки короля Роберта. Духовенство созвало собор и признало Брюса своим законным государем. Постепенно вынуждены были подчиниться и шотландские бароны, бывшие еще на стороне Англии, и Брюс счел себя достаточно сильным, чтобы осадить Стирлинг, — последнюю и важнейшую из шотландских крепостей, еще державших сторону Эдуарда II.
Стирлинг действительно был ключом к Шотландии, и его опасное положение заставило англичан забыть о своих внутренних раздорах и собрать все силы, чтобы не выпустить из рук добычи. Главную силу огромной армии, двинувшейся за Эдуардом II на север, составляли тридцать тысяч всадников; к ним на помощь были вызваны толпы диких мародеров из Ирландии и Уэльса.
Армия, собранная Брюсом для противодействия вторжению, состояла почти из одной только пехоты и расположилась к югу от Стирлинга, на возвышенной местности, обрамленной небольшим ручьем Беннокберном, давшим свое имя битве. Как и при Фалкирке, здесь снова встретились лицом к лицу две системы тактики, так как Роберт, подобно Уоллесу, поставил свое войско в густые колонны копейщиков. Англичане с самого начала были смущены неудачей своей попытки освободить Стирлинг и исходом поединка между Брюсом и Генрихом де Богуном — рыцарем, бросившимся на Брюса, когда он спокойно ехал вдоль фронта своего войска. Роберт ехал на маленькой лошадке и держал в руке только легкий боевой топор, но, отклонив копье противника, он раскроил ему череп таким страшным ударом, что рукоятка сломалась в его руке.
В начале боя англичане пустили вперед стрелков с целью разредить ряды врагов, но стрелки не имели подкрепления и были легко рассеяны отрядом конницы, который Брюс держал для этого в резерве. Затем на фронт шотландцев кинулась масса конницы, но ее нападение было стеснено узким пространством, по которому приходилось двигаться, а упорное сопротивление каре скоро привело рыцарей в беспорядок. «Раненые кони, — с торжеством говорил шотландский писатель, — метались и сильно бились». В момент неудачи вид толпы обозных слуг, принятых по ошибке за неприятельское подкрепление, посеял в английской армии панический страх. Она обратилась в беспорядочное бегство. Тысячи блестящих рыцарей валились в ямы, вырытые нарочно на низинном левом фланге армии Брюса, или бешено неслись к границе; но достигнуть ее успели лишь немногие счастливцы. Самому Эдуарду II с пятьюстами всадниками едва удалось добраться до Денбара и моря. Цвет его рыцарства попал в руки победителей, а бегущие ирландцы на конях и пехотинцы были безжалостно перебиты поселянами. Богатая добыча, захваченная в английском лагере, на целые века оставила свой след в сокровищницах и ризницах замков и аббатств всей Нижней Шотландии.
Как ни ужасно было это поражение, все же оно не могло заставить Англию отказаться от своих притязаний на Шотландию. Брюс с таким же упорством отказывался от всяких переговоров, пока ему отказывали в королевском титуле, и настойчиво стремился к возвращению своих южных владений. Наконец Бервик был вынужден сдаться и потом отразил отчаянную попытку англичан вернуть его; в то же время варварские набеги порубежников с Дугласом во главе опустошили Нортумберленд. Новый перерыв в борьбе Эдуарда II с баронами позволил двинуть на север большую армию, но Брюс уклонялся от битвы, пока голод не принудил пришельцев к бедственному отступлению из опустошенной страны. Эта неудача заставила Англию в 1323 году заключить перемирие на тринадцать лет и признать за Брюсом королевский титул.
Низложение Эдуарда II юридически прерывало перемирие. Обе стороны собрали войска, а Эдуард Баллиол, сын бывшего короля, был торжественно принят при английском дворе в качестве вассального короля Шотландии. Проказа не позволяла Брюсу лично выйти на войну, но оскорбление побудило его снова послать своих мародеров под предводительством Дугласа и Рандольфа за границу. Вот как очевидец тех событий изображал шотландскую армию в походе: «Она состояла из четырех тысяч воинов, рыцарей и оруженосцев на хороших конях, и двадцати тысяч человек, сильных и выносливых, вооруженных по обычаю их страны, на маленьких лошадках, которых они никогда не привязывают и не чистят, а прямо после дневного перехода пускают на траву или на поля. Они не берут с собой обоза ввиду того, что в Нортумберленде им приходится переходить через горы, и не везут с собой запасов хлеба и вина, ибо на войне они так умеренны, что могут долгое время питаться полусырым мясом без хлеба и пить речную воду без вина. Поэтому они не нуждаются ни в горшках, ни в мисках, так как, ободравши скотину, они готовят мясо в ее же шкуре, и поскольку они уверены, что найдут в изобилии скот в стране, куда они направляются, то и не гонят его с собой. Под краями седла каждый воин везет широкий металлический лист, а сзади — небольшой мешок с овсяной мукой. Когда они съедят много вареного мяса, а желудок кажется слабым и пустым, они ставят эти листы на огонь, месят муку с водой и, когда лист нагреется, кладут на него немного теста в виде тонкого пирожка, похожего на бисквит, и тотчас глотают его, чтобы согреть желудок. Неудивительно поэтому, что они могут делать гораздо большие переходы, нежели другие солдаты».
Перед подобным врагом английская армия, вышедшая под предводительством мальчика-короля для защиты границы, оказалась совершенно беспомощной. Однажды она заблудилась в обширных пограничных пустынях; в другой раз потеряла всякий след неприятеля, и король обещал тому, кто откроет местонахождение шотландцев, рыцарское звание и сотню марок. Найденная, наконец, за Уиром позиция противника оказалась неприступной; после смелого нападения на английский лагерь Дуглас ловким отступлением расстроил планы англичан отрезать ему путь внутрь страны. Английская милиция в унынии разошлась, а новое вторжение в Нортумберленд принудило короля заключить мир в Нортгемптоне, по которому Шотландия была формально признана независимой, а Роберт Брюс стал ее королем.
Гордость англичан была, однако, слишком задета борьбой, чтобы легко примириться с подобным унижением. Первым результатом договора было падение заключившего его правительства, ускоренное надменностью его главы, Роджера Мортимера, и отстранением прочих вельмож от всякого участия в управлении королевством. Первые попытки поколебать могущество Роджера оказались безуспешными: союз, руководимый графом Ланкастерским, распался без результата. Прежде чем в борьбу вмешался юный король, на эшафот был возведен его дядя, граф Кентский. Тогда Эдуард III вошел в залу Совета в Ноттингемском замке с отрядом, проведенным им через тайный проход в скале, на которой стоял замок, собственноручно схватил Мортимера, предал его казни, а ведение дел взял в свои руки.
Его первой заботой было восстановить порядок в Англии, пришедшей при последних правителях в полное расстройство, и развязать себе руки для дальнейших мероприятий на севере Англии, заключением мира с Францией. Счастье, по-видимому, наконец снова повернулось лицом к Англии. Через год после Нортгемптонского договора Брюс умер, и шотландский престол перешел к его сыну, восьмилетнему мальчику, а внутренние затруднения привели к междоусобной борьбе. Для крупных баронов как Англии, так и Шотландии последний мир приносил серьезные потери: многие англичане владели большими поместьями в Шотландии и наоборот; и хотя договор оговаривал их права, фактически они оставлялись без внимания.
Недовольством баронов по этому поводу и объясняется неожиданный успех попытки Баллиола захватить шотландский престол. Несмотря на запрет Эдуарда III, Баллиол отплыл из Англии во главе кучки баронов, добивавшихся возвращения своих поместий на севере, высадился на берегах Файфа и, отразив (с большим уроном) напавшую на него близ Перта армию, короновался в Сконе. Давид Брюс, не видя другого выхода, бежал во Францию. Эдуард III не принимал открытого участия в этом предприятии, но успех раздразнил его честолюбие, и он добился от Баллиола признания английского верховенства. Это признание оказалось, однако, роковым для самого Баллиола. Его тотчас изгнали из Шотландии, а Бервик, который он обещал сдать Эдуарду III, — сильно укрепили. Англичане вскоре осадили город, но на выручку к нему явилась шотландская армия под командой регента Дугласа, брата знаменитого сэра Джеймса, и напала на осаждающих, занявших сильную позицию на Галидонской горе.
Однако английские стрелки поддержали славу, впервые приобретенную ими при Фалкирке и затем увенчанную победой при Кресси. Шотландцы пробрались через болото, прикрывавшее фронт англичан, только затем, чтобы быть осыпанными градом стрел и пуститься в беспорядочное бегство. Эта битва решила судьбу Бервика: с тех пор он остался навсегда в руках англичан как единственное приобретение Эдуарда III, сохраненное английской короной. Как ни был незначителен Бервик, англичане всегда смотрели на него, как на представителя всего государства, частью которого он некогда являлся. Как и вся Шотландия, он имел своих канцлера, камергера и других государственных сановников. Особый заголовок парламентских актов, издаваемых для Англии и «города Бервика на Твиде», до сих пор сохраняет память о его необычном положении.
Баллиол, которого победители восстановили в праве на престол, отплатил им за помощь формальной уступкой Нижней Шотландии. В течение следующих трех лет Эдуард III продолжал усвоенную им политику: он поддерживал свою власть над Южной Шотландией и помогал в ряде походов своему вассалу Баллиолу против отчаянных усилий баронов, еще стоявших за дом Брюса. Его упорство едва не увенчалось успехом; Шотландию спас только взрыв войны с Францией, отвлекший силы Англии на другую сторону Ла-Манша. Патриотическая партия в Шотландии снова собралась с силами; покинутый всеми, Баллиол бежал ко двору Эдуарда III, а Давид вернулся в свое королевство и возвратил главные крепости низменности. Свобода Шотландии была, в сущности, обеспечена. Из завоевательной войны и патриотического сопротивления борьба между Англией и Шотландией превратилась в мелкие ссоры враждующих соседей, служившие простыми эпизодами в великой борьбе Англии с Францией.
РАЗДЕЛ V СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА (1336—1431 гг.)
Глава I ЭДУАРД III (1336—1360 гг.)
В середине XIV века могучее движение к объединению нации, начавшееся при последнем из нормандских королей, достигло, повидимому, своей цели. Признаком полного слияния покоренных и завоевателей явилось отвыкание, даже среди высших классов, от французского языка. Несмотря на усилия грамматических школ и влияние моды, употребление английского языка при Эдуарде III все больше распространялось, а при его внуке оно восторжествовало окончательно. «Дети в школе, — говорил писатель начала царствования Эдуарда III, — вопреки привычке и обычаю всех других народов, вынуждены забывать свой родной язык, готовить уроки и писать сочинения по-французски, и так ведется с первого прибытия нормандцев в Англию. Точно так же дети дворян учатся говорить по-французски с того возраста, когда их еще качают в колыбели и они учатся разговаривать и забавляться игрушками; сельские жители также хотят походить на дворян и с большим трудом стараются говорить по-французски, чтобы о них больше судачили».
«Этот обычай, — добавлял переводчик времен Ричарда, — был в большом ходу до первого мора (чумы 1349 года), а с тех пор несколько изменился; учитель грамматики, Джон Корнуол, изменил обучение в грамматических школах и заменил французский язык английским. Этот способ обучения у него заимствовал Ричард Пенкрайч, а от него — другие. Так что теперь (в 1385 году) во всех школах Англии дети оставили французский язык и обучаются по-английски». Более ясным доказательством перемены служило введение в 1362 году английского языка в суды «на том основании, что французский язык многим неизвестен»; по английски же произнес речь в следующем году канцлер при открытии парламента. Епископы начали проповедовать по английски, а английские сочинения Уиклифа снова сделали его литературным языком.
Это стремление к общему пользованию народной речью сильно повлияло на литературу. В начале XIV века влияние французской поэзии способствовало тому, чтобы единственным литературным языком стал французский; в Англии это влияние поддерживалось французским тоном двора Генриха III и трех Эдуардов. Но в конце царствования Эдуарда III длинные французские поэмы нужно было переводить даже для слушателей-рыцарей. «Пусть духовные лица пишут по-латыни, — говорил автор «3авещания любви», — пусть французы излагают также на своем языке свои любезности: он родной для их уст; мы будем передавать наши фантазии словами, которым научились из языка матери».
Новая национальная жизнь предлагала теперь английской литературе сюжеты более высокие, чем «фантазии». Вместе с завершением дела национального объединения закончилось и дело народного освобождения. При Эдуарде I парламент отстоял свое право контроля над налогообложением, при Эдуарде II он от удаления министров дошел до низложения короля, при Эдуарде III он стал подавать свой голос по вопросам мира и войны, контролировать расходы, руководить ходом гражданского управления. Общественная жизнь Англии проявилась в широком распространении торговли и вообще, в ускорении торговли шерстью, в частности, в увеличении числа мануфактур после поселения на восточном берегу фламандских ткачей, в укреплении городов, в победе ремесленных цехов, в развитии земледелия вследствие дробления земель и в возвышении класса земельных арендаторов и фригольдеров. Еще более значительным для английского общества было пробуждение по призыву Уиклифа духа национальной независимости и нравственной строгости. Новые мысли и чувства, которым суждено было оказывать влияние на все эпохи позднейшей истории Англии, пробили себе выход сквозь кору феодализма и сказались в социалистическом движении лоллардов, а внезапный всплеск военной славы вдруг озарил своим блеском век Кресси и Пуатье.
Это новое радостное настроение великого народа и выразилось в произведениях Джеффри Чосера. Чосер родился около 1340 года в семье лондонского виноторговца, жившего на улице Темзы; в Лондоне он и провел большую часть жизни. Его семья, хотя и не дворянская, по-видимому, имела некоторое влияние, так как с самого начала карьеры Чосер был в тесной связи с двором. В шестнадцать лет он стал пажом жены Лайонела Кларенса (3-го сына Эдуарда III), в девятнадцать — впервые участвовал в походе 1359 года, но имел несчастье попасть в плен и после своего освобождения по договору в Бретиньи больше не принимал участия в военных действиях. По-видимому, он вернулся к службе при дворе; в это время и вышли первые его поэмы, а его покровителем стал Джон Гонт. Семь раз его посылали с дипломатическими поручениями, вероятно, связанными с финансовыми затруднениями короны; три раза эти поручения приводили его в Италию. Он посетил Геную и блестящий двор Висконти в Милане; во Флоренции, где еще жива была память о Данте, «великом учителе», о котором он с таким почтением отзывался в своих стихах, он мог встретиться с Боккаччо; в Падуе, подобно оксфордскому студенту, он мог слышать из уст Петрарки историю Хризеиды.
Он был деятельным практическим человеком: таможенным контролером в 1374 году, контролером мелких сборов в 1382, членом Палаты общин в парламенте в 1386 году, а в 1389—1391 годах он в качестве секретаря королевских работ был занят постройками в Вестминстере, Виндзоре и Тауэре. Единственный сохранившийся портрет изображает его с раздвоенной бородой, в платье темного цвета, с ножом и пеналом за поясом; этот портрет мы можем дополнить несколькими живыми чертами, взятыми у самого Чосера. Хитрое, лукавое лицо, быстрая походка, плотная осанистая фигура выявляли его веселый и насмешливый характер, но люди подсмеивались над его молчаливостью и любовью к книгам. «Ты смотришь, как будто хочешь найти зайца, — замечает трактирщик в «Кентерберийских рассказах», — и даже я вижу, ты впиваешься взором в землю». Он мало слушал разговоры своих соседей, когда заканчивались служебные дела. «Ты тотчас идешь к себе домой и немой, как камень, сидишь за книгой, пока совсем не потемнеет в глазах, и живешь ты отшельником, хотя, — прибавляет он лукаво, — ты не очень воздержан».
Рис. Джефри Чосер.
Но в его стихах незаметно следов невнимания к своим собратьям. Никогда поэзия не носила более человечного характера; никто не относился так свободно и весело к читателю. Первые звуки песни Чосера — звуки свежести и веселья, и впечатление радости остается таким же свежим и теперь, несколько веков спустя. Историческое значение поэзии Чосера сразу бросается в глаза: она резко противоречит той поэтической литературе, из глубины которой вышла. Длинные французские романы были продуктом века богатства и довольства, праздного любопытства, мечтательного, поглощенного собой чувства. Из великих стремлений, придававших жизнь средним векам, религиозный энтузиазм выродился в жеманные фантазии культа Мадонны, а военный — в рыцарские сумасбродства.
Любовь, однако, осталась, и только она давала темы трубадурам и труверам; но это была любовь утонченная, с романтическими безрассудствами, схоластическими рассуждениями и чувственными наслаждениями, — скорее забава, чем страсть. Природе приходилось отражать веселую беспечность человека: песнь трубадура воспевала вечный май, трава всюду зеленела, с поля и из кустов раздавались песни жаворонка и соловья. Поэзия упорно избегала всего, что в жизни человека есть серьезного, нравственного, наводящего на размышление; жизнь представлялась слишком забавной, чтобы быть серьезной, слишком пикантной и сентиментальной, слишком полной интереса, веселья и болтовни. Это был век болтовни: «Нет ничего приятного, — говорил трактирщик, в том, чтобы ехать по дороге немым, точно камень».
Трувер стремился просто к тому, чтобы быть самым приятным рассказчиком своего времени. Его романы и поэмы полны красок, фантазии, бесконечных подробностей; поэт относился с горделивым равнодушием к самой их растянутости, к мелочности описания внешних предметов, неопределенности очертаний, когда заходила речь о тонкостях внутреннего мира. С этой литературой Чосер познакомился сначала, ей он и следовал в своих ранних произведениях.
Но со времени поездок в Милан и Геную симпатии влекли его не к умирающей поэзии Франции, а к пышно расцветающей вновь поэзии Италии. Орел Данте взирал на него с солнца. «Франческо Петрарка, увенчанный лаврами поэт», — для него один из тех, «чья риторическая сладость осветила всю Италию поэзией». «Троил и Хризеида» Чосера представляет собой распространенный английский пересказ «Филострата» Боккаччо; рассказ рыцаря носит на себе легкие следы влияния «Тезеиды». Саму форму «Кентерберийских рассказов» подсказал Чосеру «Декамерон». Но даже изменяя под влиянием итальянцев форму английской поэзии, Чосер сохранял свой почерк.
Посмеиваясь в стихах о сэре Топазе над томительной пустотой французского романа, он сохранил все заслуживавшие внимания особенности французского характера: быстроту и легкость движений, свет и блеск описаний, живую насмешливость, веселость и добродушие, холодную рассудительность и самообладание. Французское остроумие более, чем у какого-либо другого английского писателя, оживляет тяжелый смысл и резкость народного характера, умеряет его эксцентричность, облегчает его несколько тяжеловесную мораль. С другой стороны, отражая веселую беззаботность итальянской повести, поэт умерял ее английской серьезностью, а так как он следовал Боккаччо, то все изменения направлены в сторону скромности. «Троил» флорентийца заканчивается старой насмешкой над изменчивостью женщины, а Чосер приглашал нас «воззреть на Бога» и распространялся о неизменности Неба.
Но что бы ни заимствовал Чосер из обеих литератур, его гений был глубоко английским, а с 1384 года все следы иноземного влияния исчезают. Его главное произведение, «Кентерберийские рассказы», было начато после его первых поездок в Италию, а лучшие произведения написаны между 1384 и 1391 годами. В последние десять лет своей жизни он прибавил к ним немного творений; силы его слабели, и в 1400 году он успокоился от трудов в своем последнем жилище, в саду часовни Святой Марии в Вестминстере. Сюжет этой поэмы — путешествие на богомолье из Лондона в Кентербери — не только давал автору возможность связать в одно целое ряд стихов, написанных в разное время, но и удивительно соответствовал главным особенностям его поэтического таланта, драматической гибкости и широте увлечений.
Его рассказы охватывают все области средневековой поэзии: церковная легенда, рыцарский роман, чудесный рассказ путешественника, широкий юмор «фабльо», аллегория и басня. Еще более широкий простор для своего таланта он находил в личностях, передающих эти истории, — тридцати богомольцах, отправляющихся в майское утро от гостиницы «Табарды» в Саутуорке и представляющих собой тридцать образов из всех классов английского общества, от дворянина до пахаря. Мы видим «благородного рыцаря» в военном плаще и кольчуге, за ним — кудрявого оруженосца, свежего, как майское утро, а позади них — смуглолицего крестьянина в зеленом кафтане и шапочке, с прекрасным луком в руке. Группа церковников представляет средневековую церковь: смуглый монах, любитель охоты, у которого узда звенит так же громко и ясно, как церковный колокольчик; распутный нищенствующий монах — первый попрошайка и арфист во всем графстве; бедный священник, оборванный, ученый и набожный («он возвещал учение Христа и двенадцати апостолов и сам первый следовал ему»); церковный пристав с огненным взглядом; продавец индульгенций с сумкой, «до верху полной отпущений, привезенных из Рима совсем горячими»; веселая игуменья с ее придворной французской картавостью, мягкими розоватыми губками и девизом «Любовь побеждает все», вырезанным на брошке.
Наука представлена здесь солидной фигурой доктора медицины, озабоченного чумой; делового судебного пристава, «который всегда казался более занятым, чем был»; оксфордского студента со впалыми щеками, у которого любовь к книгам и резкие приговоры заслоняют скрытую нежность, прорывающуюся, наконец, в истории Гризельды. Вокруг них масса типов английской промышленности: купец, помещик, у которого в доме «еды и питья, сколько снегу зимой», моряк —прямо от битв в Ла-Манше, веселая мещанка из Бата, широкоплечий мельник, мелочный торговец, плотник, ткач, красильщик, обойщик, — каждый в кафтане своего цеха, и наконец — честный пахарь, готовый для бедняка даром косить и пахать.
В первый раз в английской поэзии мы встречаем не характеры, аллегории или воспоминания прошлого, а живых людей, различных по характеру и чувствам, а также по наружности, костюму и способу выражения; это отличие поддерживается в течение всей истории тысячей оттенков в речах и поступках. Впервые также встречаем мы драматический талант, который не только создал каждый характер, но и скомбинировал его с подобными, который не только приспособил каждый рассказ или шутку к характеру персонажа, их произносящего, но и свел все это в одно поэтическое целое. Здесь нас окружает жизнь с ее широтой, разнообразием и сложностью. Правда, от некоторых из этих стихов, написанных, без сомнения, в более раннее время, веет скукой старого романа или педантизмом схоластики; но в целом поэма — произведение не литератора, а человека дела. Свое воспитание, не книжное, а житейское, Чосер получил на войне, в судах, на работе, в путешествиях, и он любил жизнь — тонкость чувства, широту иронии, смех и слезы, нежность Гризельды или смехотворные приключения мельника и клерков. Эта сердечная широта, эта бесконечная терпимость позволяли ему изображать человека так, как не изображал его никто, кроме Шекспира, описывать его так живо, с тонким пониманием и добродушным юмором, которых не превзошел сам Шекспир.
Странно, что такой голос не нашел отзвука у последующих певцов, но первые звуки английской песни замерли вместе с Чосером так же внезапно и надолго, как надежды и слава его века. Столетие, последовавшее за мимолетным блеском Кресси и «Кентерберийских рассказов», время глубочайшего мрака; в истории Англии нет эпохи более печальной и мрачной, чем период между правлением Эдуарда III и подвигами Жанны д’Арк. Трепет надежды и славы, охвативший в начале его все классы общества, в конце превратился в бездействие или отчаяние. В материальном отношении жизнь, правда, развивалась, расширялась торговля, но это не имело ничего общего с благородными началами национального благополучия. Города снова стали замкнутыми олигархиями; крепостные, стремившиеся к свободе, снова попали в зависимость, еще тяготевшую над землей. Литература снизошла до наинизшего уровня. Религиозное возрождение лоллардов было потоплено в крови, а духовенство превратилось в эгоистичное и корыстолюбивое жречество. В шуме междоусобиц политическая свобода почти исчезла, и век, начавшийся «добрым парламентом», кончил деспотизмом Тюдоров.
Объяснения этих перемен следует искать в роковой войне, которая в течение более ста лет истощала силы и извращала характер английского народа. Мы проследили борьбу с Шотландией до ее неудачного конца, но еще прежде она вовлекла Англию в новую войну, к которой мы должны теперь вернуться и которая оказалась еще более разорительной, чем война, начатая Эдуардом I. Из войны с Шотландией вытекала столетняя борьба с Францией. С самого начала Франция следила за успехами своей соперницы на севере частью из естественной зависти, но еще более — в надежде воспользоваться этим как предлогом для приобретения крупных герцогств на юге — Гиени и Гаскони, — единственного остатка из наследства Элеоноры, еще сохраненного ее потомками. Едва Шотландия начала сопротивляться притязаниям своего сюзерена Эдуарда I, как Франция нашла предлог к явной ссоре в соперничестве моряков Нормандии и «Пяти портов», которое в то время привело к большому морскому сражению, стоившему жизни восьми тысячам французам.
Эдуарду I так хотелось предупредить ссору с Францией, что его угрозы вызвали со стороны английских моряков характерный ответ. «Да будет хорошо известно Совету короля, — гласило их послание, — что если нам каким-нибудь образом будут причинены, вопреки справедливости, обида или вред, мы скорее покинем своих жен, детей и все имущество и пойдем искать на морях такое место, где нам можно будет рассчитывать на выгоду». Поэтому, несмотря на усилия Эдуарда I, спор продолжался, и Филипп IV воспользовался случаем, чтобы вызвать короля к себе на суд в Париж для ответа за обиды, причиненные ему как сюзерену. Эдуард I снова попытался предупредить столкновение, формально передав на сорок дней Гиень в руки Филиппа IV, но отказ последнего вернуть ее по истечении срока не оставил ему никакого выбора.
В то же время отказ баронов Шотландии явиться по призыву короля в английское войско и возмущение Баллиола показали, что захват герцогств был только первой частью давно задуманного плана атаки. Сначала у Эдуарда не хватало сил для нападения на Францию, а когда первое завоевание Шотландии развязало ему руки, его союз с Фландрией для возвращения Гиени оказался беспомощным из-за его спора с баронами. Перемирие с Филиппом позволило ему обратиться против новых смут на севере, но даже после победы при Фалкирке угрозы Франции и вмешательство ее союзника, папы Бонифация VIII, еще на шесть лет сохранили независимость Шотландии, и только ссора этих двух союзников позволила Эдуарду I закончить подчинение страны. Восстание Брюса снова поддержала Франция и возобновила старый спор из-за Гиени, — спор, мешавший Англии во время царствования Эдуарда II и косвенно повлиявший на его ужасное падение.
Вступление Эдуарда III на престол привело к временному миру, но новое нападение на Шотландию, ознаменовавшее начало его царствования, снова возбудило вражду: молодой король Давид нашел себе убежище во Франции, и для его поддержки из ее гаваней стали присылать оружие, деньги и людей. Это вмешательство Франции разрушило надежды Эдуарда III на подчинение Шотландии именно тогда, когда успех казался уже обеспеченным. Торжественное заявление Филиппа IV Валуа о том, что трактаты (договоры) обязывают его оказывать деятельную помощь своему старому союзнику, и сбор французского флота в Ла-Манше отвлекли силы Эдуарда III с севера на юг, где уже нельзя было предупредить столкновение переговорами.
С самого начала война захватила и другие государства. Слабость Империи и пленение пап в Авиньоне оставили Францию среди держав Европы без соперников. По численности и богатству население Франции далеко превосходило своих соседей за Ла-Маншем. Англия едва могла насчитать четыре миллиона жителей, Франция хвалилась двенадцатью. Эдуард III мог иметь только восемь тысяч всадников; Филипп VI мог явиться во главе сорока тысяч, хотя третья часть его войска была занята в другом месте. Вся энергия Эдуарда III была направлена на создание против Франции коалиции держав; его планам помогал страх, который ближайшим князьям Германии внушали завоевательные стремления Франции, а также ссора императора с папой Римским.
Предвосхищая позднейшую политику Годольфина и Питта, Эдуард III стал казначеем бедных князей Германии; его субсидии предоставили ему помощь Геннегау, Гельдерна и Юлиха; шестьдесят тысяч крон достались герцогу Брабанта; самого императора обещание трех тысяч золотых флоринов побудило выставить две тысячи всадников. Однако переговоры и щедрые подачки принесли Эдуарду III мало пользы, кроме титула наместника империи на левом берегу Рейна: то отступал император, то отказывались идти союзники, а когда войско перешло, наконец, границу, оказалось невозможным вызвать на сражение короля Франции. Расчеты на союз с империей не оправдались, но у Эдуарда III появилась новая надежда. Его естественной союзницей была Фландрия.
Англия была на Западе главным производителем шерсти, но шерстяных тканей в ней вырабатывалось немного. Число цехов ткачей показывает, правда, что этот промысел постепенно расширялся, и в самом начале своего царствования Эдуард III принял меры для его поддержания. Он пригласил фламандских ткачей поселиться в Англии и принял под свое покровительство новых поселенцев, которые выбрали своим местопребыванием восточные графства. Но английские мануфактуры еще переживали период детства, и девять десятых английской шерсти шло для станков Брюгге или Гента. О быстром росте этого вывоза свидетельствует, что король от пошлин с одной шерсти получал в год более 30 тысяч фунтов. Прекращение ее вывоза лишило бы работы половину населения главных городов Фландрии; но не только интересы промышленности привлекали ее к союзу с Англией, но и демократичный дух городов, резко сталкивавшихся с феодалами Франции.
С герцогом Брабанта и городами Фландрии был заключен договор; производилась подготовка для нового похода. Для предупреждения переправы через Ла-Манш Филипп IV собрал при Слюйсе флот из 200 кораблей, но Эдуард III с меньшими силами разбил его наголову и пошел осаждать Турне. Осада, однако, оказалась безуспешной, армия рассеялась, а недостаток средств принудил его заключить перемирие сроком на год. В 1341 году начался спор за наследование герцогства Бретань, в котором из двух соперничавших претендентов одного поддерживал Филипп IV, другого — Эдуард III, и спор тянулся из года в год. Во Фландрии дела англичан шли плохо, и смерть великого патриота Ван Артевельде оказалась тяжелым ударом для планов Эдуарда III. Наконец неприятности короля достигли высшей степени. Заемы у крупных банкиров Флоренции дошли до половины миллиона на наши деньги; мирные предложения были с пренебрежением отвергнуты; притязания Эдуарда III на французскую корону встретили поддержку только среди граждан Гента.
Рис. Эдуард III.
В сущности, оправдать эти притязания было довольно трудно. Три сына Филиппа IV Красивого умерли, не оставив сыновей, и Эдуард III заявил свои притязания как сын дочери Филиппа IV, Изабеллы. Но хотя ее братья и не оставили сыновей, они оставили дочерей, и если допускалось наследование по женской линии, то дочери сыновей Филиппа IV должны были иметь преимущество перед сыном его дочери. На это возражение Изабелла отвечала, что хотя женщины и могут передавать права наследования, сами пользоваться ими не могут, и что ее сын как ближайший мужской потомок Филиппа IV, родившийся при его жизни, должен иметь преимущество перед женщинами, состоявшими в таком же родстве с Филиппом IV.
Но большинство французских юристов утверждало, что право на престол дается только происхождением по мужской линии. По этой теории переходящее от Филиппа IV право наследования было исчерпано, и корона перешла к сыну его брата Карла Валуа, который мирно вступил на престол под именем Филиппа VI. По-видимому, обе стороны считали притязания Эдуарда III чистой формальностью; действительно, король в качестве герцога Гиени присягнул своему сопернику и серьезно выдвинул свои притязания не раньше, чем рассеялись его надежды на Германию и ему понадобилось обеспечить себе помощь городов Фландрии.
Крушение надежд на иноземные державы заставило Эдуарда III обратиться к средствам самой Англии. С армией в 30 тысяч человек он высадился при Ла-Гоге и начал операцию, которой суждено было изменить весь ход войны. Силы французов были заняты отражением английской армии, высадившейся в Гиени; страх охватил Филиппа VI, когда Эдуард двинулся по Нормандии и, найдя мосты на Нижней Сене разобранными, направился прямо к Парижу, восстановил мост в Пуасси и стал угрожать столице. В эту критическую минуту неожиданную помощь Франции оказал отряд немецких рыцарей. Папа Римский низложил императора Людовика Баварского и в качестве его преемника объявил сына короля Иоанна Богемского, известного как Карл IV.
Вся Германия восстала против присвоения папой Римским права распоряжаться ее короной, Карл IV вынужден был искать помощи у Филиппа VI и в то время находился во Франции со своим отцом и отрядом в пятьсот рыцарей. Отряд поспешил к Парижу и составил ядро армии, собравшейся в Сен-Дени, которая вскоре была подкреплена силами в 15 тысяч генуэзских стрелков (с самострелами), нанятых на залитой солнцем Ривьере из солдат князя Монако, подоспевших в критическую минуту. Французские войска также были вызваны на выручку из Гиени. Увидев перед собой такие силы, Эдуард III отказался от похода на Париж и перешел через Сену, чтобы соединиться с войсками фламандцев при Гравелингене и начать военные действия на севере. Но реки на его пути тщательно охранялись, и только нечаянный захват брода на Сене избавил Эдуарда III от необходимости сдаться огромному войску, спешившему теперь за ним по пятам.
Едва его сообщение было обеспечено, как он остановился при деревне Кресси в Понтье и решил дать сражение. Половина его армии, очень ослабленной быстрым походом, состояла из легко вооруженной пехоты — ирландской и уэльской; остальную массу представляли английские стрелки лучники. Король приказал своим всадникам спешиться и расположил свои силы па небольшом возвышении, постепенно спускавшемся к юго-востоку; на вершине его стояла ветряная мельница, с которой можно было наблюдать все поле сражения. Непосредственно под ней стоял резерв, а у подножия холма была расположена основная часть армии из двух отрядов, правым из которых командовал молодой принц Уэльский. Эдуард Черный Принц, как его называли, а левым — граф Нортгемптонский.
Английский фронт был прикрыт небольшим рвом, за ним были расставлены «в виде бороны» стрелки с небольшими бомбардами в промежутках, «пускавшими вместе с огнем небольшие железные шары для того, чтобы пугать лошадей», — первый случай использования артиллерии в полевой службе. Остановка английской армии захватила Филиппа VI врасплох, и сначала он пытался прекратить наступление своего войска, но беспорядочная масса продолжала наступать на фронт англичан. Вид врагов, наконец, привел короля в бешенство, «так как он ненавидел их», и под вечер 26 августа 1346 года началась битва. Генуэзским арбалетчикам было приказано начать атаку, но люди были утомлены переходом; внезапная гроза вымочила тетиву их луков и затруднила пользование ими, а громкие крики, с которыми они кинулись вперед, были встречены угрюмым молчанием в английских рядах. Первая туча их стрел вызвала грозный ответ. Англичане стреляли так быстро, «что казалось, будто идет снег». «Бейте этих бездельников!» — закричал Филипп VI, когда генуэзцы подались назад, и его конница кинулась рубить их расстроенные ряды, а графы Алансона и Фландрии во главе французских рыцарей бешено напали на отряд Черного Принца.
На минуту показалось, что он погиб, но Эдуард III отказался послать ему помощь. «Что он, убит или сброшен с коня, или так ранен, что не может сражаться?» — спросил он посланного. «Нет, государь, — был ответ, — но он находится в очень трудном положении и очень нуждается в вашей помощи». «Вернитесь к тем, кто вас послал, сэр Томас, — сказал король, — и велите им не присылать больше ко мне, пока мой сын жив! Дайте мальчику приобрести себе шпоры; если богу так угодно, я хочу, чтобы этот день принадлежал ему, и чтобы честь его досталась принцу и тем, попечению которых я его вверил». В действительности, Эдуард III мог видеть со своего холма, что все идет хорошо. Английские стрелки и всадники упорно удерживали свои позиции, а уэльсцы поражали в схватке лошадей французов и сбрасывали на землю одного рыцаря за другим.
Скоро французское войско пришло в страшное замешательство. «Вы, мои вассалы, мои друзья! — закричал слепой Иоанн, король Богемский, присоединившийся к армии Филиппа VI, окружавшим его немецким вельможам, — я прошу и умоляю вас провести меня подальше в сражение, чтобы мне можно было нанести моим мечом славный удар!» Связав поводья своих коней, небольшая группа кинулась в гущу сечи и пала, как и их товарищи. Сражение продолжалось, к сожалению французов; наконец сам Филипп VI покинул поле битвы и поражение превратилось в бегство; 1200 рыцарей и 3000 пехотинцев — число, равное всей английской армии — остались мертвыми на поле битвы.
«Бог наказал нас за наши грехи!» — воскликнул летописец Сен-Дени со скорбью и изумлением, рассказывая о бегстве огромного войска, сбор которого он видел под стенами своего монастыря. Но неудача французов едва ли была так непонятна и внезапна, как падение от одного удара целой военной системы и основанного на ней политического и общественного строя. Феодализм зависел от превосходства конного дворянина над пешим мужиком; его боевая сила заключалась в рыцарстве. Английские же крестьяне и мелкие землевладельцы, являвшиеся во всенародное ополчение с луками, превратили их в грозное орудие войны; в лице английских стрелков Эдуард III вывел на поля Франции новый разряд воинов.
Мужик победил дворянина; крестьянин оказался сильнее рыцаря на поле битвы, и после поражения при Кресси феодализм медленно, но неизбежно стал клониться к упадку. Для Англии эта победа была началом периода военной славы, который, правда, оказался роковым для высших чувств и интересов народа, но придал стране на время такую энергию, какой она никогда не знала раньше. Победа следовала за победой. Через несколько месяцев после Кресси была разбита шотландская армия, напавшая на север Англии, а король Давид Брюс был взят в плен; в то же время удаление французов с Гаронны позволило англичанам вернуть себе Пуату.
Между тем Эдуард III решил нанести удар по морскому могуществу Франции, обеспечив себе господство над Ла-Маншем. Главным притоном пиратов служил Кале: в один только год из его гавани вышло двадцать два капера; к тому же его взятие обещало королю удобный базис для сношений с Фландрией и действий против Франции. Осада продолжалась целый год, и только когда не удалась попытка Филиппа VI выручить город, голод принудил его к сдаче. Гарнизону и жителям была обещана пощада на том условии, если шестеро граждан отдадутся в руки короля. «С ними, — сказал Эдуард в припадке жестокого гнева, — я поступлю по своему желанию».
На звук городского колокола, по словам летописца жители Кале собрались вокруг лица, принесшего эти условия; собрались, желая услышать добрые вести, так как все они были истомлены голодом. Когда названный рыцарь передал им условия, они начали так громко плакать и кричать, что их стало очень жалко. Тогда встал богатейший из граждан города, господин Евстафий Сен-Пьер, и так сказал всем: «Господа мои, великим горем и несчастьем было бы для всех оставлять столько народу на гибель от голода или от чего-то иного, и великую милость и благодать получит от Бога тот, кто спасет его от смерти. Что до меня, то я сильно надеюсь на Господа, что если я своей смертью спасу этот народ, мне будут прощены мои грехи; поэтому я хочу быть первым из шести и по своему собственному желанию, — босым, в одной рубашке и с веревкой на шее; и я отдамся на милость короля Эдуарда III».
Список обреченных скоро был составлен, и шесть жертв были приведены к королю. Собралось все войско, произошла большая давка; многие требовали немедленного их повешения, а многие плакали от жалости. Благородный король вышел на площадь со свитой из графов и баронов, за ним последовала королева (хоть она и была в это время беременна) посмотреть, что будет. Шестеро граждан тотчас стали на колени перед королем, и господин Евстафий сказал: «Благородный король, здесь мы, шестеро старых граждан Кале и богатых купцов; мы приносим Вам ключи от города и замка и передаем их в Ваше распоряжение. Мы передаем себя, как видите, в Вашу полную волю, с целью спасти остальной народ, перенесший много горя. Так сжальтесь и будьте милосердны к нам, ради Вашего высокого благородства».
Наверное, не было тогда на площади ни вельможи, ни рыцаря, которые не плакали бы от жалости или которые могли бы говорить; но сердце короля было так ожесточено гневом, что долгое время он не мог ответить, а затем приказал отрубить им головы. Все рыцари и вельможи, как могли, умоляли его со слезами сжалиться над ними, но он не хотел их слушать. Тогда заговорил благородный рыцарь Уолтер де Моне и сказал: «О, благородный государь! Обуздайте Ваш гнев, Вы пользуетесь славой и известностью за Ваше благородство, так не делайте того, что позволит людям дурно отзываться о Вас. Если Вы не сжалитесь, все будут говорить, что сердце Ваше исполнено такой жестокости, что вы предали смерти этих добрых граждан, которые по своей воле пришли сдаться Вам для спасения остального народа».
В эту минуту король вышел из себя и сказал: «Помолчите, господин Уолтер! Иначе не будет. Позвать палача! Жители Кале погубили у меня столько людей, что сами должны умереть». Тут благородная королева Англии снизошла до высокого смирения и от жалости заплакала так, что не могла дольше стоять на ногах; поэтому она пала на колени перед супругом-королем и сказала ему такие слова: «О, благородный государь! С того дня, как я с большими опасностями переправилась через море, я, как Вам известно, не просила у Вас ничего; теперь я вас прошу и умоляю, простирая руки, сжалиться над ними из любви к Сыну нашей Небесной Владычицы». Благородный король, прежде чем ответить, некоторое время молчал и смотрел на преклонившуюся перед ним и горько плакавшую королеву. Потом понемногу его сердце стало смягчаться, и он сказал: «Государыня, хотел бы я, чтобы Вы были в другом месте; Вы просите так нежно, что я не решаюсь Вам отказать, и хотя я поступаю против своего желания, однако возьмите их, я отдаю их Вам». Затем он взял за веревки шестерых граждан, передал их королеве и из любви к ней избавил от смерти всех жителей Кале; а добрая государыня велела одеть спасенных и щедро их угостить.
Эдуард III находился теперь на вершине славы. Он одержал величайшую победу своего века. До сих пор Франция была первой державой Европы; теперь одним ударом она была сломлена и свергнута с высоты своего величия. Описание Фруассара изображает Эдуарда III, отправляющегося на встречу испанского флота, завладевшего проливами. Мы видим короля, сидящим на палубе в камзоле из черного бархата; на голове у него — шапка черного бобра, «которая прекрасно к нему шла»; он призывает сэра Джона Чандоса петь песни, привезенные им с собой из Германии, пока на горизонте не показываются испанские корабли и не разгорается жестокий бой, победа в котором делает Эдуарда III «владыкой морей».
Но до мира с Францией было так же далеко, как и прежде. Даже семилетнее перемирие, навязанное обеим странам их полным истощением, оказалось невозможным. Эдуард III приготовил три армии, чтобы действовать сразу в Нормандии, Бретани и Гиени, но задуманный им план похода внезапно расстроился. Черный Принц, как был назван герой Кресси, заслужил недобрую славу. Не имея денег для уплаты жалованья своим войскам, он для удовлетворения их требований предпринял чисто разбойничий поход. Северная и Южная Франция были в это время совсем разорены, королевская казна истощена, крепости — без гарнизонов, войска распущены из недостатка средств. Страну опустошали разбойники.
Только юг наслаждался миром, и молодой принц повел свою армию вверх по Гаронне, «где была одна из богатейших стран мира, народ добрый и простой, не знавший, что такое война, ведь до прихода принца у них совсем не было войн. Англичане и гасконцы нашли страну богатой и нарядной, комнаты, украшенные коврами и занавесями, шкатулки и сундуки, полные драгоценных камней. Ничто не ускользнуло от этих разбойников. Они, и особенно жадные гасконцы, увозили с собой все». Взятие Нарбона обогатило их добычей, и они вернулись в Бордо «с лошадьми настолько нагруженными, что они с трудом могли двигаться».
В следующем году поход армии принца через Луару был направлен прямо на Париж, и французское войско под командованием Иоанна, наследовавшего престол Филиппа VI Валуа, поспешило остановить его движение. Принц отдал приказ отступать, но когда он приблизился к Пуатье, то нашел на своем пути войско французов, насчитывавшее 60 тысяч человек. Тотчас, 19 сентября 1356 года, он занял сильную позицию на полях Мопертюи: фронт ее был прикрыт частой изгородью, и приблизиться к нему можно было только по длинной и узкой тропинке, проходившей между виноградниками. Виноградники и изгородь принц занял своими стрелками, а небольшой отряд конницы расположил в том месте, где тропинка выходила на высокую равнину, занятую его лагерем. Его войско состояло всего из 8 тысяч человек, и опасность была так велика, что он вынужден был предложить вернуть пленных, сдать занятые им крепости и отказаться на семь лет от войны с Францией в обмен на свободное отступление.
Эти условия были отвергнуты, и триста французских рыцарей бросились вверх по тропинке. Скоро она была завалена убитыми людьми и лошадьми, а передние ряды наступавшей армии подались назад под градом стрел из кустарников. В минуту замешательства на фланг французов внезапно напал отряд английской конницы, стоявший на холме справа, и принц воспользовался этим, чтобы смело кинуться на противника. Английские стрелки довершили беспорядок, вызванный этим внезапным нападением; король Иоанн был взят в плен после отчаянного сопротивления, и в полдень, когда его армия бросилась бежать к воротам Пуатье, 8 тысяч человек из ее числа оказались павшими на поле битвы, 3 тысячи бежали и 2 тысячи всадников с множеством дворян были взяты в плен.
Царственный пленник торжественно вступил в Лондон, а перемирие на два года, казалось, дало Франции время для поправки. Но несчастная страна не могла найти себе покоя. Разбитые войска превратились в шайки разбойников, взятые в плен бароны доставали суммы, необходимые для выкупа, вымогая их у крестьян; эти притеснения и голод привели крестьян к бурному восстанию, и они стали убивать помещиков и жечь их замки; в то же время Париж, недовольный слабостью и неумелым управлением регентства, поднял против короны вооруженное восстание. «Жакерия», как называли то крестьянское восстание, была жестоко подавлена, когда Эдуард III снова предпринял опустошительное нашествие на страну, и без того обнищавшую. Лучшей защитой для нее оказался голод. «Я не мог бы поверить, — сказал об этом времени Петрарка, — что это та самая Франция, которую я видел столь богатой и цветущей. Глазам моим представились только страшная пустыня, крайняя нищета, невозделанная земля, дома в развалинах. Даже по соседству с Парижем всюду заметны следы опустошения и пожаров. Улицы пустынны, дороги поросли травой, все представляет собой огромную пустыню».
Опустошение страны заставило, наконец, регента Карла уступить, и в мае 1360 года был заключен договор в Бретиньи, небольшом местечке к востоку от Шартра. По этому договору Эдуард III отказывался от своих притязаний на корону Франции и герцогство Нормандия. С другой стороны, его герцогство Аквитания, охватившее Гасконь, Пуату и Сентонж, Лимузен и Ангумуа, Перигор и графства Бигорра и Руэрга, не только возвращалось ему, но и освобождалось от ленных обязательств по отношению к Франции и отдавалось Эдуарду III в полное владение вместе с Понтье, унаследованным от второй жены Эдуарда I, а также с Гином и вновь завоеванным Кале.
Глава II "ДОБРЫЙ ПАРЛАМЕНТ" (1360—1377 гг.)
Если от потрясающих, но бесплодных событий иноземной войны мы обратимся к более плодотворной среде конституционного развития, то нас сразу поразит заметная перемена в составе парламента. Столь обычное для нас разделение его на Палату Общин и Палату Лордов не входило в первоначальный план Эдуарда I; в ранних парламентах каждое из четырех сословий: духовное, бароны, рыцари и горожане — сходилось, совещалось и разрешало субсидии отдельно от других. Скоро, однако, появились признаки того, что такое разъединение сословий подходит к концу. Правда, духовенство, как известно, упорно держалось в стороне; зато рыцари завязали тесные отношения с лордами благодаря сходству в общественном положении. По-видимому, бароны в самом деле скоро поставили их в почти равное с собой положение в качестве законодателей или советников короны.
С другой стороны, горожане вначале мало участвовали в работе парламента, кроме вопросов, относившихся к обложению налогами их класса. Но смуты царствования Эдуарда II, в которых их помощь была нужна знати, боровшейся с короной, увеличили их значение, и их право на полное участие во всех законодательных актах было подтверждено знаменитым статутом 1322 года. По причинам, не вполне известным, рыцари графств постепенно перешли от прежней своей связи с баронами к такому тесному и полному союзу с представителями городов, что в начале царствования Эдуарда III два сословия оказались формально объединенными под названием «общин», а в 1341 году распад парламента на две палаты завершился окончательно.
Трудно преувеличить значение этой перемены. Если бы парламент остался разделенным на четыре сословия, то его влияние в каждом крупном кризисе ослаблялось бы соперничеством и несогласованными действиями его составных частей. С другой стороны, постоянный союз рыцарства и знати превратил бы парламент в простое представительство аристократии и лишил бы его той силы, которую он черпал из своей связи с торгово промышленными классами.
Новое положение рыцарства, его социальная близость к знати, политический союз с горожанами в действительности соединили три сословия в одно целое и придали парламенту единство чувств и действий, на котором с тех пор всегда основывалось его значение. С этого момента деятельность парламента заметно активизировалась. Постоянная нужда в субсидиях в течение войны заставляла созывать его ежегодно, а с каждой субсидией он делал новый шаг к приобретению большего политического влияния. Ряд постановлений, разумно или неразумно регулировавших торговлю и охранявших подданных от притеснений и обид, а также важные церковные меры этого царствования выявляют быстрое расширение сферы парламентской деятельности. Палаты присвоили себе исключительное право разрешать субсидии и утвердили ответственность министров перед парламентом.
Но от вмешательства в чисто административные дела общины долго уклонялись. Желая свалить со своих плеч ответственность за войну с Францией, Эдуард III обратился к ним за советом по поводу одного из многих предложений мира. Они отвечали: «Что до Вашей войны, августейший государь, и до необходимого для нее снаряжения, то мы так несведущи и просты, что не знаем, как тут быть, да и не имеем права советовать; поэтому мы просим Ваше величество извинить нас в этом деле и благоволить, по совету знатных и мудрых членов Вашего Совета, установить то, что кажется Вам наилучшим для чести и блага Вашего и королевства, и что бы ни было установлено таким образом с согласия и одобрения Вашего и Ваших лордов, мы охотно это примем и будем считать окончательным решением». Но, уклоняясь от такого повышения своей ответственности, общины добились от короны практической реформы величайшей важности. До того их ходатайства в случае принятия часто подвергались изменениям или сокращениям в излагавших их статутах или постановлениях, или откладывались до окончания сессии; таким образом удавалось обходить или отвергать многие постановления парламента. Ввиду этого общины настояли на том, чтобы, по изъявлении королем согласия, их ходатайства без изменений обращались в законы королевства и получали бы силу закона через внесение их в протоколы парламента.
Политическая ответственность, которой избегали общины, была наконец навязана им военными неудачами. Несмотря на столкновения в Бретани и других местах, мир честно соблюдался в течение девяти лет, следовавших за договором в Бретиньи, но зоркий глаз Карла V, преемника Иоанна, высматривал случай возобновить борьбу. Он очистил свое королевство от разбойников, выслав их в Испанию, а Черный Принц вмешался в тамошние перевороты только для того, чтобы после бесплодной победы при Наварете вернуться назад с разбитым здоровьем и расстроенными средствами. Это обусловило повышение налогообложения, вызвавшее недовольство, которое Карл V раздул в восстание.
Вопреки договору, он принял апелляцию баронов Аквитании и вызвал Черного Принца к себе на суд1. «Я явлюсь, — отвечал тот, — но со шлемом на голове и с 60 тысячами человек за спиной». Едва, однако, была объявлена война, как обнаружился искусно составленный план Карла V: он захватил Понтье, и вся страна к югу от Гаронны восстала. Принесенный на носилках к стенам Лиможа, Черный Принц покорил город, переданный французам, и запятнал славу своих прежних подвигов беспощадной резней. Но болезнь заставила его вернуться домой, а война затянулась из-за осторожности Карла V, запретившего своим войскам вступать в сражение, и только истощала энергию и средства англичан.
Под конец обнаружилась ошибочность политики принца: испанский флот появился у берегов Франции и одержал решительную победу над английским при Ла-Рошели. Для Англии удар оказался роковым: он лишил Эдуарда III господства над морями и сообщения с Аквитанией. Карл V предпринял новые попытки. Пуату, Сентонж и Ангумуа покорились его полководцу Дюгеклену, Ла-Рошель сдали ее граждане. Большая армия под командой третьего сына Эдуарда III — Джона Гентского, герцога Ланкастера, углубилась, но безуспешно, на территорию Франции. Карл V запретил вступать в сражение. «Если над страной разражается буря, — сказал он хладнокровно, — она рассеивается сама собой; так будет и с англичанами». Действительно, зима застала герцога в горах Оверни, и только жалкие остатки его армии достигли Бордо. Эта неудача послужила сигналом к общему восстанию, и прежде чем окончилось лето 1374 года, за англичанами из всех их владений в Южной Франции остались всего два города — Бордо и Байонна.
Это было время невиданных Англией унижения и бедствий. Ее завоевания были утрачены, берега опустошены, флот истреблен, морская торговля подорвана; внутри страна была истощена долгой и разорительной войной, а также эпидемиями чумы. В годину бедствия взоры угнетенной знати и рыцарства с завистью обращались на богатства церкви. Никогда ее духовное или нравственное влияние на нацию не было слабее, а богатство — больше. При населении страны в каких-нибудь три миллиона духовные особы составляли от 20 до 30 тысяч. Об их богатстве ходили легенды. Говорили, что одни земельные владения церковников занимают больше трети страны, а в виде дохода взносов и приношений превосходят в два раза доход короля. Еще более раздражало феодальную знать, которая очень гордилась победами при Кресси и Пуатье, присутствие в Совете многих прелатов. При возобновлении войны (в 1371 г.) парламент потребовал, чтобы высшие государственные должности были предоставлены мирянам. Уильям Уайкгем, епископ Уинчестера, отказался от канцлерства, другой прелат от казначейства в пользу светских приверженцев знати, и паника духовенства выразилась в разрешении конвокацией крупных субсидий. Знать нашла себе вождя в Джоне Гентском; но даже надежда на ограбление церкви не могла обеспечить герцогу и его партии расположение мелкого дворянства и горожан.
Между тем беспорядки и крайняя неумелость нового управления, вместе с военными неудачами, поставили его в беспомощное положение перед парламентом 1376 года. Деятельность этого «доброго парламента» выявила новую особенность национальной оппозиции против злоупотреблений короны. До сих пор задача сопротивления падала на баронов и разрешалась восстаниями феодальных владельцев; но теперь беспорядочное управление было делом большинства знати, действовавшей в союзе с короной. Только общины имели возможность мирно провести преобразования.
Прежнее отвращение Нижней палаты от вмешательства в государственные дела сразу исчезло под давлением обстоятельств. Черный Принц, смертельно больной и желавший через устранение Джона Гентского обеспечить наследование своему сыну, прелаты с Уильямом Уайкгемом во главе, стремившиеся снова занять свои места в Совете короля и предотвратить планы ограбления церкви, видели в парламенте единственное оружие против администрации герцога. Опираясь на таких союзников, общины в своих действиях совсем не выказали прежней робости и неуверенности. Рыцари графств вместе с горожанами напали на Королевский совет. «Полагаясь на бога и явившись с товарищами перед вельможами, главой которых был герцог Джон Ланкастер, действовавший всегда неправильно», президент общин (спикер), сэр Петр де ла Мар, отметил неумелое ведение войны, тяжесть налогов и потребовал отчета в расходах. «Чего добиваются эти низкие и подлые депутаты? — воскликнул Джон Гентский. — Уж не считают ли они себя королями или князьями страны?»
Но обвинения, предъявленные правительству, заставили замолчать даже герцога, и парламент приступил к обвинению и осуждению двух министров, Латимера и Лайонса. Сам король впал в детство и был всецело во власти фаворитки Алисы Перрерс; ее изгнали, и удалили от двора нескольких слуг короля. Жалобы королевства были изложены в 140 ходатайствах. Общины требовали ежегодного созыва парламента, свободы выборов для рыцарей графств, на избрание которых тогда часто оказывала давление корона; они протестовали против самовольного налогообложения и ограничения папой Римским вольностей церкви; они просили о покровительстве для торговли, о соблюдении «рабочих законов» и об ограничении прав привилегированных ремесленников. После смерти Черного Принца его малолетний сын Ричард был принесен в парламент и признан наследником.
Но едва палаты были распущены, Ланкастер вернул себе власть. С присущей ему спесивостью он обошел все ограничения закона, устранил из Совета новых лордов и прелатов, вернул Алису Перрерс и опальных министров. Он объявил «Добрый парламент» незаконным и не допустил включения его ходатайств в свод законов. Он заключил в тюрьму Петра де ла Мара и конфисковал имущество Уильяма Уайкгема. Нападки на этого прелата считались нападками на все духовенство. Открыто обсуждались новые проекты секуляризации, и в числе их сторонников мы находим Джона Уиклифа.
Глава III ДЖОН УИКЛИФ
Чрезвычайно замечателен контраст между безвестностью прежних лет жизни Уиклифа и полнотой и яркостью наших сведений о двадцати годах, предшествовавших его смерти. Он родился в начале XIII века и уже пережил годы зрелости, когда был назначен главой коллегии Баллиола в Оксфордском университете и признан первым из современных ученых. Из всех представителей схоластики англичане всегда были самыми пылкими и смелыми в области философского мышления: неудержимая смелость и любовь к новизне были одинаково присущи Бэкону, Дунсу Скотту и Оккаму, в противоположность трезвой и более дисциплинированной учености парижских схоластов Альберта Beликого и Фомы Аквинского. Но упадок Парижского университета в эпоху Столетней войны перенес его духовное верховенство в Оксфорд, а в Оксфорде Уиклиф не имел соперников. Он продолжал дело своего предшественника Бредуордайна как преподавателя схоластики в спекулятивных, или умозрительных, трактатах, изданных в тот период, и унаследовал от него склонность к учению Августина о предопределении, послужившему основой для его позднейших богословских теорий.
Влияние Оккама сказалось на первых попытках Уиклифа преобразовать церковь. Не смущаясь громами и отлучениями пап, Оккам в своем увлечении империей не отступил перед нападками на основы папского верховенства и перед защитой прав светской власти. Худая, изможденная фигура Уиклифа, изнуренного занятиями и аскетизмом, едва ли обещала реформатора, который будет продолжать бурную работу Оккама; но в этой хрупкой оболочке таились живой неугомонный характер, огромная энергия, непоколебимое убеждение, неукротимая гордость. Личное обаяние, всегда сопровождающее действительное величие, только усиливало влияние, которое проистекало из безупречной чистоты его жизни. Сначала, однако, едва ли даже сам Уиклиф подозревал огромные размеры своей умственной мощи. Только начавшаяся борьба открыла в сухом, хитроумном схоласте основателя позднейшей английской прозы, мастера народного памфлета, иронии, убеждения, ловкого политика, смелого приверженца, организатора духовного строя, беспощадного противника злоупотреблений, смелого и неутомимого спорщика, первого реформатора, который, всеми покинутый, отважился отрицать верования окружавшего его общества, порвать с преданиями старины и до последнего вздоха защищать свободу религиозной мысли против догматов папства.
Выступления Уиклифа начались именно в то время, когда средневековая церковь дошла до низшей степени духовного падения. Переселение пап в Авиньон отняло половину благоговения, которое питали к ним англичане, так как папы не только стали креатурами французского короля, но их жадность и вымогательства вызвали почти всеобщее возмущение. Требование первых доходов и аннатов с прихода и епархии, присвоение права располагать всеми зависящими от церкви бенефициями, прямое обложение податями, занятие английских вакансий иностранцами, открытая торговля отпущениями, разрешениями и индульгенциями, поощрение апелляций к суду папы — все это вызвало в народе сильное раздражение, не утихавшее до Реформации. Народ глумился над «французским папой», а когда являлись его легаты, грозил побить их камнями. Насмешливый Чосер осмеивал сумку с «горячими отпущениями из Рима». Статутом «Praemunire» парламент защищал право государства запрещать пересмотр приговоров королевских судов или ведение тяжб в иноземных судах, в статуте «Provisores» — отрицал притязания пап распоряжаться церковными местами. Но на практике эти меры потерпели неудачу благодаря предательской дипломатии короны. Правда, папа Римский отказался от своего мнимого права назначать иностранцев; но благодаря соглашению, позволявшему папе и королю господствовать над церковью, зависевшие от нее епархии, аббатства и приходы продолжали замещаться папскими кандидатами, предварительно выбранными короной, так что от соглашения выигрывала казна и папы Римского, и короля.
Протест «Доброго парламента» доказывает неудачу попыток его предшественников. Он утверждал, что пошлины, взимаемые папой, в пять раз превосходят сборы, получаемые королем, и что обещая место при жизни их заместителям, папа Римский располагает одним епископством четыре-пять раз и каждый раз получает первые доходы. «Маклеры греховного города Рима за деньги выдвигают неученых и низких негодяев на места, дающие тысячу марок, а бедный и ученый человек с трудом получает место в двадцать фунтов. От этого падает настоящая ученость. Назначаются иностранцы, которые не видят своих прихожан и не заботятся о них, презирают службу Божью, вывозят сокровища из королевства и поступают хуже жидов или сарацинов. Доходы папы от одной Англии превышают доходы любого христианского государя. Дай Бог, чтобы его овец пасли, а не стригли и не обдирали». Эти жалобы не были шутками. В то время деканства Личфилда, Солсбери и Йорка, архидьяконство в Кентербери, считавшееся доходнейшим местом в Англии, вместе с массой других мест были заняты итальянскими кардиналами и священниками; к тому же сборщик папы Римского ежегодно посылал из своей конторы в Лондоне двадцать тысяч марок в папскую казну.
Такие вымогательства и притеснения оттолкнули от папства английское духовенство, а его собственный эгоизм разочаровал в нем массу народа. Как ни громадно было его богатство, духовенство старалось уклоняться от участия в общих тяготах страны. Оно все еще стремилось поддерживать свою независимость от общих судов королевства, а мягкие наказания церковных судов мало пугали крупных церковников. Свободное от всякого вмешательства мирской власти в свои дела, духовенство проникало в самую глубь общественной жизни своим контролем над завещаниями, контрактами, разводами, взимаемыми пошлинами, а также прямыми религиозными услугами. Не было человека, более знакомого или ненавистного народу, чем пристав, исполнявший решение церковных судов и взимавший в их пользу пошлины.
С другой стороны, нравственное влияние духовенства быстро исчезало. Богатейшие церковники с их завитыми волосами и висячими рукавами подражали костюму рыцарского общества, к которому они, в сущности, принадлежали. Мы уже знаем, какое впечатление светскости оставляет описание Чосером монаха-охотника и изящной игуменьи с любовным девизом на брошке. На нравственность высших классов они не оказывали никакого влияния. Король всему Лондону выставлял напоказ свою любовницу как царицу красоты; вельможи разглашали свой позор при дворе и на турнирах. «В это время, — говорил летописец, — в народе поднялись большой говор и шум, что где бы ни происходил турнир, туда стекалось много дам, самых пышных и красивых, но не лучших в королевстве, иногда в числе сорока или пятидесяти, как будто они принимали участие в турнире; они являлись в различных и странных мужских нарядах, в разноцветных туниках, с короткими шляпами и лентами, обернутыми вокруг головы наподобие веревок, с поясами, украшенными золотом и серебром, и с кинжалами в сумках поперек тела; затем на отборных скакунах они отправлялись на место турнира и так тратили и расточали имущество и терзали свое тело непристойным беспутством, что всюду слышался говор в народе, но они не боялись Бога и не стыдились скромного народного голоса».
Их не призывал устыдиться укоряющий голос церкви. В самом деле, духовенство раздирали свои раздоры. Высшие прелаты были заняты политическими делами; от низшего духовенства их отделяло скандальное неравенство доходов богатых церковников и бедных сельских священников. Жестокая ненависть отделяла белое духовенство от монашества, и горячая борьба между ними велась в университетах. Оксфордский канцлер Фиц-Ральф приписывал нищенствующим орденам уменьшение числа студентов, и университет особым статутом воспретил им принимать в свою среду детей. Старые монашеские ордена, в сущности, превратились в простых землевладельцев, а энтузиазм нищенствующих орденов в значительной степени исчез, оставив за собой толпу бесстыжих нищих. Вскоре при всеобщем одобрении Уиклиф мог объявить их бездельными нищими и провозгласить, что «человек, подающий милостыню нищенствующему монаху, тем самым отлучает себя от церкви».
Вне рядов духовенства было много серьезных людей, которые, подобно Петру-пахарю, обличали суетность и пороки церкви. Среди них были скептики вроде Чосера, смеявшегося над звоном колокольчиков охотников-аббатов, и грубые жадные бароны с Джоном Гентским во главе, стремившиеся отнять у прелатов должности и захватить их богатства. Хотя последняя партия и представляется нам недостойной, но в своем стремлении к реформе церкви Уиклиф вступил в союз именно с Джоном Гентским. Пока, впрочем, он критиковал не учение Рима, а его практику; с точки зрения теорий Оккама, он защищал негодующий отказ парламента в «подати», которой требовал папа Римский.
Но его трактат «О господстве Божьем» («De dominio Divino») показывает, насколько, в сущности, его стремления отличались от эгоистических поползновений, с которыми ему приходилось действовать. В этом знаменитом произведении Уиклиф положил в основу своей деятельности определенный общественный идеал. Всякая власть, по его собственному выражению, «основана на благодати». Господство в высшем смысле слова принадлежит одному Богу, который как сюзерен Вселенной раздает ее части в лен правителям различных ленов с условием повиновения Ему. Легко возразить, что в таком случае «господство» не возможно, так как смертный грех представляет нарушение указанного условия, а все люди грешат. Но Уиклиф настаивал на том, что его теория — чистый идеал. В действительной жизни он различает господство и власть; последнюю, с позволения Бога, могут иметь и порочные люди, которым христианин должен подчиняться из повиновения Богу. Согласно его схоластическому выражению, так странно извращенному впоследствии, здесь, на земле, «Бог должен повиноваться дьяволу». Но и с идеальной, и с практической точки зрения всякая власть или господство исходит от Бога, который дарует ее не одному лицу, — своему наместнику на земле, как утверждали папы, — а всем. Король — такой же наместник Бога, что и папа Римский. Королевская власть так же священна, как и церковная, и так захватывает все светские дела, даже церковное имущество, как и власть церкви — духовные дела. Поэтому в вопросе о церкви и государстве, различия между идеальным и практическим взглядом на «господство» имеют мало значения.
Гораздо более важное и широкое значение представляло приложение теории Уиклифа к делу личной совести. Каждый христианин обязан повиноваться королю или священнику, но сам он как обладатель «господства» зависит непосредственно от Бога, престол которого служит для человека высшим судом. Своей теорией «господства» Уиклиф стремился достичь того же, чего реформаторы XVI века добивались при помощи учения об оправдании верой. Устанавливая прямое отношение между человеком и Богом, теория Уиклифа уничтожала саму основу посредствующего священства, на котором была построена средневековая церковь; но сначала настоящее значение этой теории едва ли было по достоинству оценено.
Рис. Джон Уиклиф.
С большим вниманием отнеслось духовенство к теории Уиклифа об отношении церкви и государства, о подчинении церковного имущества королю, к его утверждению, что, подобно любой другой собственности, они могут быть отобраны и употреблены для общенародных целей, к выраженному им желанию, чтобы церковь добровольно отказалась от своего богатства и вернулась к первобытной бедности. Духовенство сильно возмутило то, что он выступил богословским защитником партии Ланкастера, к тому же его задели нападки баронов на Уайкгема, и церковь решила отплатить за удар ударом и привлечь Уиклифа к суду. В 1377 году он был вызван к лондонскому епископу Кертнэ для ответа по обвинению в еретических утверждениях относительно имущества церкви. Герцог Ланкастер принял это за вызов самому себе и явился вместе с Уиклифом на суд консистории в собор святого Павла, но разбирательство не состоялось. Бароны и епископ обменялись резкими выражениями; сам герцог, говорят, пригрозил вытащить Кертнэ из церкви за волосы; наконец, на выручку епископа в храм ворвалась лондонская чернь, ненавидевшая герцога, и жизнь Уиклифа с трудом спасли солдаты.
Но его мужество только возрастало вместе с опасностью. Папская булла, полученная епископами и предписывавшая университету осудить и арестовать его, вызвала его на смелый ответ. В оправдательном слове, широко распространившемся по стране и представленном парламенту, Уиклиф утверждал, что папа Римский не может никого отлучить от церкви, «если человек не отлучил себя сначала сам». Он отрицал право церкви добиваться мирских преимуществ или защищать их духовным оружием, объявлял, что король или светские лорды имеют право лишить ее собственности за неисполнение обязанностей, и выступал за подчинение церковников светским судам. Несмотря на всю смелость ответа, он встретил поддержку со стороны народа и короны. Когда в конце года Уиклиф, по вызову архиепископа, явился для ответа в Ламбетскую часовню, приказ двора воспретил примасу разбор дела, а лондонцы ворвались в суд и прервали его заседание.
Уиклиф еще шел рука об руку с Джоном Гентским, отстаивая его планы церковной реформы, когда под предводительством Уота Тайлера разразилось великое крестьянское восстание, которое нам скоро предстоит описывать. В несколько месяцев все, до сих пор сделанное Уиклифом, было уничтожено. Могущество ланкастерской партии, на которую он опирался, было утрачено; вражда между баронами и церковью, на которой до того основывалась его деятельность, прекратилась ввиду общей опасности. Его «бедных проповедников» стали считать апостолами социализма. Нищенствующие монахи называли его «сеятелем вражды, восстановившим своим змеиным внушением крестьян против помещиков», и хотя Уиклиф с презрением отверг это обвинение, но над ним продолжало тяготеть подозрение, оправдывавшееся деятельностью некоторых его последователей. Его приверженцем считался Джон Болл, игравший в восстании выдающуюся роль; говорили, будто перед смертью он выдал заговор «уиклифитов». Самый выдающийся из его учеников, Николай Герфорд, говорят, открыто одобрил жестокое убийство архиепископа Седбэри.
Как бы там ни было, несомненно то, что с этого момента общее озлобление, вызванное планами крестьянских вождей, распространилось и на все проекты преобразования церкви, и сразу исчезла всякая надежда на церковную реформу при помощи баронов и парламента. Но даже если бы восстание крестьян не лишило Уиклифа поддержки аристократии, их союз должен был распасться ввиду нового положения реформатора. За несколько месяцев до взрыва восстания он сделал замечательный шаг, превративший его из реформатора дисциплины и политических отношений церкви в противника ее основных верований. Главенство средневековой церкви основывалось главным образом на учении о пресуществлении. Исключительное право совершать чудо, происходящее во время литургии, высоко возносило самого последнего священника даже над князьями. Великое восстание, более чем через век приведшее к установлению религиозной свободы и к отчуждению массы германских народов от католической церкви, началось формальным отрицанием учения о пресуществлении, которое выдвинул Уиклиф весной 1381 года.
Этот поступок был тем смелее, что Уиклиф был совсем одинок. Университет, где до того его влияние было всемогущим, тотчас осудил его. Джон Гентский велел ему замолчать. Как доктор богословия Уиклиф руководил несколькими диспутами в аудиториях августинских каноников, когда публично было оглашено его осуждение университетом; на мгновение он смутился, но затем попросил канцлера или любого из докторов опровергнуть заключения, к которым он пришел. На запрет герцога Ланкастерского он отвечал открытой проповедью своего учения, кончавшейся словами, полными горделивого спокойствия: «Я верю, что в конце концов истина возьмет верх». Его мужество рассеяло страх окружающих. Университет принял его апелляцию, лишил его противников должностей, и те молча стали на его сторону.
Но Уиклиф уже не искал поддержки у образованных и богатых классов, на которые он раньше опирался. Он апеллировал ко всей Англии, и эта апелляция замечательна как первая в этом роде в нашей истории. С изумительным рвением он издавал трактат за трактатом на народном языке. Сухая логика латыни, темные и запутанные доводы, с которыми великий ученый обращался к своим слушателям в университете, внезапно исчезли, и, что доказывает его удивительный талант, схоласт вдруг превратился в горячего памфлетиста. Если Чосер — отец позднейшей английской поэзии, то Уиклиф — отец английской прозы. Грубый, ясный, простой язык его трактатов — речь современного пахаря и торговца, правда, украшенная живописными библейскими выражениями, — представляется в применении к литературе таким же созданием автора, как и слог, в котором он воплотил его, — изящные резкие сентенции, язвительный сарказм, резкие противопоставления, будившие, подобно хлысту, самый ленивый ум.
Освободившись от пут безусловной веры, ум Уиклифа шел все дальше по пути скептицизма, последовательно приходя к отрицанию прощений, индульгенций, отпущений, поклонения мощам святых, почитания их изображений и самих святых. Прямое обращение к Библии как к единой основе веры, наряду с провозглашением права всякого образованного человека самому исследовать ее, грозили гибелью самым основам старой догматики. Эти смелые отрицания не ограничивались тесным кругом еще примыкавших к нему учеников: с практической ловкостью, составлявшей особенность его характера, Уиклиф за несколько лет до того образовал общество бедных проповедников, «простых священников»; их простые проповеди и длинные деревенские облачения вызывали насмешки духовенства, но скоро они оказались неоценимым средством распространения идей их учителя. Как велики были их успехи, можно видеть из преувеличений их испуганных противников. Несколько лет спустя они жаловались на многочисленность последователей Уиклифа во всех классах общества: среди баронов, в городах, среди сельского населения, даже в монастырских кельях. «Половина всех встречных принадлежит к лоллардам».
Лоллард (вероятно, пустомеля) — насмешливое прозвище, которым правоверные церковники окрестили своих противников. Быстрое упрочение положения последних заставило духовенство перейти от насмешек к энергичным действиям. Кертнэ, ставший архиепископом, созвал в монастыре доминиканцев собор и прямо представил ему 24 положения, извлеченные из сочинений Уиклифа. Происшедшее во время совещаний землетрясение испугало всех прелатов, кроме одного, который объявил, что извержение дурных соков из земли служит хорошим предзнаменованием для извержения плохих соков из церкви, и собор вынес осуждение. Тогда архиепископ энергично выступил против Оксфорда как источника и очага новых ересей. В английской проповеди в церкви святой Фридесуайды Николай Герфорд доказывал истинность положений Уиклифа, и архиепископ велел канцлеру принудить его и его сторонников к молчанию, угрожая объявить его самого еретиком. Канцлер сослался на вольности университета и назначил проповедником другого «уиклифита», Рипингдона, который не побоялся назвать лоллардов «святыми священниками» и утверждал, что им покровительствует Джон Гентский.
Дух партии сильно сказывался и среди студентов; их большинство было на стороне вождей лоллардов. Кармелит Петр Стокс, получивший от архиепископа грамоту, дрожал от страха в своей комнате, когда канцлер под охраной сотни горожан одобрительно слушал резкости Рипингдона. «Я не смею идти дальше, писал бедный Стокс архиепископу, — из страха смерти»; но скоро он собрался с духом и спустился в аудиторию, где в это время Рипингдон доказывал, что духовное сословие было «лучше, когда ему было только девять лет, чем теперь, когда ему минула тысяча лет и более». Однако появление вооруженных студентов снова заставило Стокса с отчаянием бежать в Ламбет, в то время как новый еретик открыто защищал в конгрегации Уиклифово отрицание пресуществления. «Нет другого идолопоклонства, — воскликнул Уильям Джеймс, кроме таинства, совершаемого в алтаре»! «Вы говорите, как мудрец», ответил канцлер Роберт Райгг. Но Кертнэ был не такой человек, чтобы спокойно отнестись к вызову; приказ явиться в Ламбет принудил Райгга к покорности, принятой только при условии, что он подавит лоллардизм в университете. «Я не смею объявить его из страха смерти!» воскликнул канцлер, когда Кертнэ вручил ему обвинительный приговор. «Стало быть, ваш университет — явный покровитель еретиков, — возразил примас, если он не допускает провозглашения в своих стенах католической истины».
Королевский совет поддержал требование архиепископа, но объявление приговора сразу привело Оксфорд в волнение. Студенты грозили смертью монахам, «крича, что они хотят разрушить университет». Магистры запретили преподавание Генри Кремпу как нарушителю общественного покоя, за то, что он назвал лоллардов «еретиками». Наконец, чтобы помочь архиепископу, в спор резко вмешалась корона, и приказ короля предписал немедленно изгнать всех сторонников Уиклифа, захватить и уничтожить все книги лоллардов под страхом потери университетом его привилегий. Угроза подействовала: Герфорд и Рипингдон напрасно искали защиты у Джона Гентского; сам герцог признал их учение о таинстве алтаря еретическим, и после многих уверток они были вынуждены подчиниться. В самом Оксфорде лоллардизм был совершенно подавлен, но с устранением религиозной свободы внезапно исчезло всякое проявление умственной жизни. Век, следовавший за торжеством Кертнэ, представляется в летописях университета самым бесплодным, и эта спячка не прерывалась до того времени, пока появление новой науки не вернуло ему отчасти жизнь и свободу, которые были так грубо раздавлены примасом.
Лучшим доказательством высокого положения Уиклифа как последнего из великих схоластов служит нежелание такого смелого человека, как Кертнэ, даже после победы над Оксфордом, принимать крайние меры против главы лоллардов. На «собор землетрясения» Уиклиф хотя и был вызван, но не явился. «Понтий Пилат и Ирод стали теперь друзьями», — саркастически заметил он по поводу возобновления союза между прелатами и монашескими орденами, так долго враждовавшими; «если уж они из Христа сделали еретика, то для них нетрудно считать еретиками простых христиан». По-видимому, в то время он был болен, но объявление конечного приговора снова пробудило в нем жизнь. «Я не должен умирать, — говорят, сказал он еще раньше, переживая тяжелую опасность, — я должен жить и обличать деяния нищих монахов». Он обратился к королю и парламенту с просьбой, чтобы ему было позволено свободно доказывать высказанные им теории; затем, со свойственной ему энергией переходя к нападению на своих противников, он просил, чтобы все религиозные обеты были отменены, чтобы десятина была обращена на содержание бедных, а духовенство содержалось на добровольные подаяния своей паствы, чтобы соблюдались против папства статуты «Provisores» и «Praemunire», чтобы церковники были лишены права занимать светские должности, чтобы было отменено заточение для отлученных. Наконец, вопреки соборному осуждению, он требовал позволения свободно проповедовать защищавшееся им учение о евхаристии. В следующем году он явился перед конвокацией в Оксфорде и так поразил противников блеском своей схоластической логики, что смог уйти, совсем не отрекаясь от своего учения о таинствах.
На время его противники, по-видимому, удовлетворились его изгнанием из университета, но в своем уединении в Леттеруорте он в те бурные годы выковал великое оружие, которому суждено было в других руках нанести страшный удар по торжествующей иерархии. В то время он пересмотрел прежний перевод Священного писания (в котором ему отчасти помогал его ученик Герфорд), и к концу жизни он придал ему новую форму, более известную под названием «Уиклифовой Библии». На апелляцию епископов папа Римский наконец отвечал буллой, повелевавшей Уиклифу явиться к нему на суд. Последние силы реформатора вылились в холодном саркастическом ответе, объяснявшем, что он отказывается от исполнения приказания единственно по слабости здоровья. «Я всегда готов излагать свое мнение перед кем угодно, а всего более — перед епископом Рима, так как считаю, что если они окажутся правильными, то он утвердит их, а если ошибочными — исправит. Я полагаю также, что как главный наместник Христа на земле, епископ Рима, более всех смертных людей связан законом Христова Евангелия, так как среди учеников Христа большинство определяется не простым счетом голов, по мирскому обычаю, но по степени подражания Христу во всех отношениях. Христос же в течение своей земной жизни был беднейшим из всех людей и отказывался от всякой мирской власти. Из этих посылок я, в качестве простого совета с моей стороны, вывожу заключение, что папа Римский должен отказаться от всякой светской власти в пользу гражданских властей, и посоветовать духовенству сделать то же самое».
Смелость этих слов, быть может, проистекала из сознания того, что конец близок. Страшное напряжение сил, ослабленных возрастом и постоянным умственным трудом, наконец, привело к неизбежному концу, и 31 декабря 1384 года удар паралича поразил Уиклифа, когда он слушал обедню в своей приходской церкви, а на следующий день он скончался.
Глава IV КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ (1377—1381 гг.)
Только что описанный религиозный переворот дал новый толчок еще более важному перевороту, давно уже преобразовывавшему весь сельский быт Англии. Вотчинная система, на которой основывалось сельское хозяйство Англии, разделяла страну в целях поддержания внутреннего порядка на ряд крупных поместий; часть земли обычно удерживалась вотчинником в своем распоряжении, остальная распределялась между владельцами, которые обязаны были отбывать повинности у своего помещика. При королях из дома Альфреда число полных рабов, как и число свободных людей, одинаково уменьшилось. Класс рабов никогда не был многочисленным и теперь еще более сократился благодаря усилиям церкви и, может быть, общему потрясению, вызванному датскими войнами. Но эти же войны часто заставляли керла или фримена подчиняться тану, который обещал ему защиту за известные услуги.
Вероятно, эти зависимые керлы и стали вилланами нормандской эпохи; это были люди, лишившиеся, правда, полной свободы и прикрепленные к земле и владельцу, но еще сохранившие многие из своих прежних прав, свои земли и свободу по отношению ко всем людям, кроме своего владельца, и посылавшие представителей в собрание сотни и графства; они стояли, таким образом, много выше безземельных людей, которые даже при старом устройстве никогда не пользовались политическими правами, которых законы английских королей обязывали подчиняться лордам под угрозой лишения всех прав и которые были домашними слугами, батраками или, в лучшем случае, оброчными держателями чужой земли. Но нормандские рыцари и юристы плохо понимали различия между этими классами, и законодательство анжуйцев было направлено к слиянию их всех в один класс крепостных. Таким образом, настоящие рабы (theow) исчезли, а керлы или вилланы опускались все ниже по общественной лестнице. Но хотя сельское население и было сближено и слито в более однородный класс, его настоящее положение очень мало соответствовало взглядам юристов.
Все, правда, зависели от лорда. Господский дом стал центром всякой английской деревни. В его зале происходил вотчинный суд; здесь лорд или его приказчик принимали феодальную присягу, собирали штрафы, вели списки круговой поруки, записывали крестьян в десятинные списки. Здесь также, если лорду принадлежал уголовный суд, собиралось его судилище, а за воротами стояла виселица. Вокруг дома лежала господская земля, обработка которой возлагалась целиком и полностью на вилланов вотчины. Они наполняли большую житницу лорда снопами, стригли его овец, мололи зерно, рубили дрова для отопления его дома.
Эти работы составляли плату, за которую они пользовались своими землями; характер и размеры этих услуг отделяли один класс населения от другого. Виллан, в строгом смысле слова, был обязан только убирать поля лорда и помогать в пахоте и севе осенью и в Великий пост. Коттер, бордер и батрак обязаны были работать на господской земле в течение всего года. Но эти услуги и их сроки были строго определены обычаем не только для керла или виллана, но и для стоявшего первоначально ниже их безземельного человека.
Владение небольшой усадьбой и окружавшей ее землей, право выпускать свой скот на помещичий выгон тихо и незаметно из простых одолжений, даруемых или отбираемых назад по усмотрению лорда, превратились в права, которых можно было требовать по суду. Число телег, штрафы, взносы, работы, которых мог требовать помещик, определялись сначала устно, а потом записывались в протоколы вотчинного суда, копия которых сделалась для виллана главным доказательством его права. Этой копии он и был обязан именем копигольдера, которое впоследствии заменило его прежнее имя. Споры решались ссылкой на этот протокол или на устное показание касательно известного обычая, а мировая сделка, столь сильно характеризующая английский дух компромисса, обеспечивала вообще справедливое соглашение требований виллана и лорда. Требовать с вилланов причитающихся с них работ обязан был приказчик лорда, а его помощник по должности, вотчинный староста или старшина, избирался самими держателями и представлял их интересы и права.
Первым нарушением только что описанной системы владения было введение аренды. Вместо того чтобы обрабатывать свою землю при посредстве приказчика, помещик часто находил более удобным и выгодным отдавать имение в аренду за определенную плату, вносившуюся деньгами или натурой. Так, известно, что капитул святого Павла стал очень рано сдавать в аренду Сендонское имение за плату, в которую входила стоимость поставки зерна для производства хлеба и пива, милостыни для раздачи у дверей собора, дров для отопления пекарни и пивоварни, денег для уплаты жалованья. Этой системе аренды или, вернее, обозначению ее дохода (латинское firma) мы обязаны словами ферма (аренда), фермер (арендатор). Более частое их употребление выявляет первую ступень рассматриваемого переворота. Он немногое менял в вотчинной системе; несравненно важнее было его косвенное влияние, заключавшееся в уничтожении той связи, на которой основывался феодальный строй вотчины, те есть личной зависимости землевладельца от лорда, и в предоставлении возможности более богатым владельцам земли стать в почти равное с их прежними господами положение и образовать новый класс посредников между крупными собственниками и землевладельцами по обычному праву.
За этим первым шагом в преобразовании вотчинной системы скоро последовал другой, еще более важный. Какими бы правами не пользовался труд в других отношениях, он все еще был прикреплен к земле. Ни виллан, ни крепостной не могли выбирать ни господина, ни сферу труда. Их назначением было служить своему лорду и своей земле; они платили поголовщину за позволение покинуть поместье для поиска работы или найма, а отказ вернуться на зов помещика заканчивался преследованием их как самовольных беглецов. Но прогресс общества и естественный рост населения давно уже постепенно освобождали работника от этого прикрепления к месту. Влияние церкви поощряло такое освобождение как дело благочестия на всех землях, кроме ее собственных. Беглый крепостной находил прибежище в привилегированных городах, проживание в которых в течение года и дня давало ему свободу.
Новый шаг к свободе представляло усиливавшееся стремление к замене рабочих услуг денежными взносами. Население понемногу увеличивалось, а так как по закону (gavelkind), прилагавшемуся ко всем землям, не обязанным военной службой, наследство держателей делилось между его сыновьями поровну, то соответственно делили и их земли, и следовавшие с них повинности. Поэтому взимание оброка работой стало более затруднительным, тогда как рост состоятельности владельцев и возникновение у них духа независимости делали для них эти услуги более обременительными. По этой, вероятно, причине давно уже применявшаяся в каждом имении замена недоимочной работы денежным взносом постепенно развилась в общую замену работ деньгами. Мы уже отметили постепенный ход этой важной перемены в случае Сент-Эдмундсбери, но скоро это стало обычным, и в вотчинных списках «солодовый сбор», «дровяной сбор», «сбор за свинину» постепенно заменили прежние личные услуги. Процесс замены был ускорен нуждами самих лордов. Роскошь замковой залы, блеск и пышность рыцарства, издержки походов истощали кошельки рыцарей и баронов, а продажа свободы крепостным или освобождение от работ вилланам представлялись легким и соблазнительным способом их наполнения. В этом процессе принимали участие даже короли. Эдуард III рассылал комиссаров в королевские имения со специальной целью продавать отпущения крепостным короля, и мы еще знаем имена людей, освободившихся вместе со своими семьями уплатой крупных сумм в опустевшую казну.
Это полное освобождение крепостного от поземельной зависимости вносило в вотчинную систему еще большие изменения, чем даже превращение крепостного в копигольдера. Появление нового класса, в сущности, меняло весь общественный строй деревни. За появлением арендаторов последовали вольные рабочие, исчезло прикрепление труда к одному месту или владельцу: человек был волен наниматься к любому хозяину, выбирать себе любое поле деятельности. В то время владельцы поместьев в большей части Англии были, в сущности, низведены до положения современных лендлордов, получающих плату со своих арендаторов деньгами, а для обработки своих земель обращающихся к наемным рабочим. И вот землевладельцы, вынужденные этим освободительным движением обратиться к наемному труду, встретились со страшным затруднением. До того его запас был обилен и дешев, но вдруг это обилие исчезло.
В это время с Востока пришла ужаснейшая чума, когда-либо виданная миром; она опустошила Европу от берегов Средиземного моря до Балтийского и в конце 1348 года налетела на Англию. Легенды о ее опустошительности и полные ужаса выражения следовавших за ней статутов были более чем подтверждены новыми исследованиями. Из трех или четырех миллионов тогдашнего населения Англии повторные эпидемии чумы унесли более половины. Всего сильнее были ее опустошения в больших городах, грязные улицы которых служили постоянным прибежищем для проказы и горячки. На кладбище, купленном для граждан Лондона в 1349 году благочестивым сэром Уолтером Монэ, на месте, впоследствии занятом госпиталем, говорят, было погребено более пятидесяти тысяч горожан. Тысячи людей погибли в Норвиче; в Бристоле живые едва успевали хоронить умерших.
Почти так же сильно, как города, опустошала «черная смерть» и деревни. Известно, что в Йоркшире погибло более половины священников; в Норвичской епархии две трети приходов сменили своих настоятелей. Вся организация труда была приведена в бездействие. Недостаток рабочих рук затруднил для мелких землевладельцев отбывание следовавших с них повинностей, и только временное установление землевладельцами половинной ренты побудило фермеров не отказываться от аренды. На время обработка земли стала невозможной. «Овцы и скот бродили по полям и пашням, — говорил современник тех лет, — и некому было прогнать их». Даже когда прошел первый взрыв паники, правильной работе промышленных предприятий сильно мешало внезапное повышение заработной платы, следовавшее за громадным уменьшением числа рабочих рук, хотя оно и сопровождалось соответственным повышением цен на хлеб. Посевы гнили на корню, поля оставались невозделанными не только из недостатка рук, но и вследствие начавшейся борьбы капитала и труда.
Представлявшиеся современникам чрезмерными требования нового класса рабочих грозили разорением землевладельцам и даже более состоятельным ремесленникам городов. Страну раздирали смуты и беспорядки. Взрыв своеволия и распущенности, всюду следовавший за чумой, отразился по преимуществу на «безземельных людях», бродивших в поисках работы и впервые ставших господами рабочего рынка, а бродячий работник или ремесленник легко обращались в «бездельника-нищего» или лесного разбойника. Общие меры для устранения этих зол были тотчас указаны короной в постановлении, впоследствии внесенном в статут о рабочих. «Всякий мужчина или женщина, — гласило это знаменитое постановление 1349 года, за два года до начала чумы, — какого бы то ни было состояния, здоровый и моложе шестидесяти лет не имеющий собственности, за счет которой он мог бы жить, не служащий другому, обязан служить нанимателю, который того потребует, и должен получать только ту плату, которая обычно платилась в соседстве с тем местом, где он обязан служить». Отказ в повиновении наказывался заключением в тюрьму.
Но скоро потребовались более строгие меры. Статутом 1351 года парламент не только определил заработную плату, но и еще раз прикрепил рабочий класс к земле. Рабочему было запрещено покидать тот приход, где он жил, в поисках лучше оплачиваемой работы; в случае неповиновения он становился «бродягой», и мировые судьи подвергали его заключению в тюрьму. Проводить такой закон целиком было невозможно, так как хлеб настолько поднялся в цене, что при старой оплате дневная работа не давала бы количества пшеницы, достаточного для пропитания одного человека.
Но землевладельцы не отступили перед таким затруднением. Повторения подтверждения закона показывают, как трудно было применять его и как упорна была борьба, вызванная им. Пени и штрафы, взимавшиеся за нарушение его постановлений, составляли обильный источник королевского дохода, но назначенные первоначально наказания оказались столь недейственными, что наконец было предписано клеймить раскаленным железом лоб беглого рабочего, а укрывательство крепостных в городах было строго воспрещено. Это понятное движение не ограничивалось существовавшим классом свободных рабочих: возрастание их численности, благодаря замене рабочих услуг денежными взносами, внезапно остановилось, и изворотливые юристы, служившие обычно в вотчинах управляющими, изыскивали способы вернуть землевладельцам обычные работы, потеря которых теперь так сильно чувствовалась. Отпущения и льготы, прежде дававшиеся без спора, теперь отменялись на основании формальной ошибки, и от вилланов снова требовали рабочих услуг, от которых они считали себя освобожденными выкупом. Покушение было тем возмутительнее, что дело должно было разбираться в том же вотчинном суде и решаться тем самым управляющим, в интересах которого было вынести приговор в пользу лорда.
Рост грозного духа сопротивления мы видим в статутах, тщетно старавшихся подавить его. В городах, где система принудительного труда применялась еще строже, чем в деревнях, между мелкими ремесленниками участились стачки и соглашения. В деревнях свободные рабочие находили себе союзников в вилланах, у которых оспаривалась свобода от барщинной службы. Часто это были люди с положением и состоянием, и всюду в восточных графствах скопища «беглых крепостных» поддерживались организованным сопротивлением и крупными денежными взносами со стороны богатых землевладельцев. На их сопротивление проливает свет один из статутов позднейшего времени. Он говорит, что «вилланы и владельцы земель на тех же условиях отказывали своим господам в оброках и услугах и подчинялись другим лицам, которые их поддерживали и подстрекали. Эти лица, ссылаясь на копии с податных списков тех вотчин и деревень, где они проживали, доказывали свою свободу от всякого рода повинностей как личных, так и поземельных, и не допускали ареста или других судебных действий против них. Вилланы помогали своим защитникам, угрожая служителям лордов смертью и увечьем, а также устраивая явные сборища и уговариваясь поддерживать друг друга». Может показаться, что не только вилланы противились стремлениям вотчинников восстановить барщину, но что при общем ниспровержении общественных учреждений и копигольдер стремился стать фригольдером, а арендатор добивался признания своей собственностью той земли, которую он арендовал.
Страшный выход из общего бедствия выразился в восстании против всей системы общественного неравенства, которую до того считали безусловно Божественным установлением. Крик бедняка слышался в словах «сумасшедшего кентского священника», как его называл любезный Фруассар. В течение двадцати лет он, несмотря на интердикт и тюремное заключение, находил для своих проповедей слушателей — упрямых крестьян, собиравшихся на кладбищах Кента. Хотя землевладельцы и называли Джона Болла сумасшедшим, но в его проповеди Англия впервые услышала провозглашение естественного равенства и прав человека.
«Добрые люди, — восклицал проповедник, — дела в Англии никогда не будут идти хорошо, пока имущество не будет общим и пока будут вилланы и дворяне. По какому праву те, кого мы называем лордами, важнее нас? Чем они это заслужили, почему они держат нас в рабстве? Если мы все происходим от одного отца и матери, Адама и Евы, то как они могут говорить или доказывать, что они лучше нас? Разве тем, что они заставляют нас нашим трудом добывать для них то, что они расточают в своем высокомерии? Они одеты в бархат и согреваются в своих шубах и горностаях, а мы покрыты лохмотьями. У них есть вино, пряности и отличный хлеб, у нас — овсяная лепешка, солома и вода для питья. У них — досуг и прекрасные дома; у нас — горе и труд, дождь и ветер в полях. И однако эти люди пользуются своим положением, благодаря нам и нашему труду». В то время, как и всегда, деспотизм собственников вызывал ненависть социалистов. В народной песне, формулировавшей уравнительную теорию Джона Болла, сказывалось настроение, угрожавшее всей средневековой системе: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был тогда дворянином?»
Песня эта переходила из уст в уста, пока новый пример угнетения не раздул тлеющее недовольство в пожар. Эдуард III умер в бесславной старости; на его смертном одре низкая любовница, к которой он был так привязан, похитила с его пальцев перстни. Вступление на престол сына Черного Принца, Ричарда II, оживило надежды той части парламента, которую в политическом смысле мы все еще должны называть «народной партией». Парламент 1377 года взялся за дело реформы и смело присвоил себе контроль над новой субсидией, назначив двух своих членов для наблюдения за ее расходованием; парламент 1378 года потребовал и добился отчета в израсходовании субсидии.
Но его настоящая сила была, как известно, направлена на отчаянную борьбу, в которой самостоятельные классы, исключительно представленные в нем, стремились снова закрепостить рабочих. Между тем к внутренним бедствиям и распрям присоединилось поражение английской армии. Война с Францией шла очень неудачно: один английский флот был разбит испанцами, другой — потоплен бурей; поход внутрь Франции окончился, подобно предшествовавшим, разочарованием и неудачей. Для покрытия крупных издержек войны парламент 1380 года возобновил, как и три года назад, поголовный сбор с каждого жителя. Этот налог подчинял обложению, слой населения, прежде его избегавший, — таких людей, как сельские рабочие, деревенские кузнецы и кровельщики; он подтолкнул к действиям именно тот класс, в котором уже кипело недовольство, и взимание налога зажгло пожар по всей Англии, от моря до моря.
С наступлением весны странные песни разошлись по стране и послужили сигналом к восстанию, из восточных и центральных графств скоро распространившемуся по всей Англии к югу от Темзы. «Джон Болл, — гласила одна из них, — приветствует всех вас и извещает, что он прозвонил в ваш колокол. Теперь право и сила, воля и ум. Боже, поторопи всех ленивцев». «Помогите правде, — гласила другая, — и правда поможет вам! Теперь в мире царствует гордость, скупость считается мудростью, разврат не знает стыда, обжорство не вызывает осуждения. Зависть царит вместе с изменой, леность — в большом ходу. Боже, дай удачу: теперь время!»
Мы узнаем руку Болла и в еще более зажигательных посланиях — «Джека-мельника» и «Джека возчика». «Джек-мельник просит помощи, чтобы поставить как следует свою мельницу. Он стал молоть очень мало; сын царя Небесного заплатит за все. Смотри, чтобы твоя мельница шла с четырьмя крыльями правильно и чтобы столб стоял твердо. С правом и силой, с умом и волей: пусть сила помогает праву, и ум идет впереди воли, а право — впереди силы, тогда наша мельница пойдет правильно». «Джек-возчик, — гласило следующее послание, — просит всех вас окончить как следует то, что вы начали, и поступать хорошо и все лучше и лучше: ведь вечером люди оценивают день». «Лживость и коварство, — говорил Джек Праведный, — царили слишком долго, а правда была посажена под замок; ложь и коварство и теперь царят всюду. Никто не может дойти до правды, пока не запоет: «Если дам». Истинная любовь, что была таким благом, исчезла, и приказные за мзду причиняют зло. Боже, дай удачу, ибо настало время». Этими грубоватыми стихами началась в Англии литература политической полемики; это — первые предшественники памфлетов Мильтона и Бёрка. Как они ни грубы, но достаточно ясно отражают смешанные страсти, вызвавшие восстание крестьян: их стремление к справедливому управлению, ясному и простому суду, их презрение к распутству знати и гнусности придворных, их негодование в ответ на обращение закона в орудие угнетения.
Рис. Джон Болл.
Подобно пожару, восстание разлилось по стране; Норфолк и Суффолк, Кембридж и Гертфордшир подняли оружие; из Сассекса и Сэррея мятеж распространился до Девона. Но настоящее восстание началось в Кенте, где кровельщик убил сборщика налогов, отомстив за оскорбление дочери. Графство взялось за оружие. Кентербери, где «весь город разделял их настроение», открыл свои ворота мятежникам, которые разграбили дворец архиепископа и вызволили из тюрьмы Джона Болла; одновременно сто тысяч кентцев собрались вокруг Уота Тайлера из Эссекса и Джона Гелса из Меллинга. В восточных графствах взимание поголовного сбора вызвало появление скопищ крестьян, вооруженных дубинами, ржавыми мечами и луками; посланные туда для подавления смуты королевские комиссары были изгнаны.
В то время как жители Эссекса шли на Лондон по одному берегу реки, жители Кента двигались туда по другому. Их недовольство было чисто политическим, так как крепостное право в Кенте было неизвестно. Когда они накинулись на Блэкгит, то предали смерти всех юристов, попавшихся в их руки. «Пока все они не будут перебиты, до тех пор страна не будет снова пользоваться прежней свободой!» — кричали крестьяне, поджигая дома управляющих и кидая в огонь протоколы вотчинных судов. Все население присоединялось к ним по пути, а дворяне были охвачены страхом. Молодой король — ему было всего пятнадцать лет — обратился к ним с речью с лодки, стоявшей на реке; но когда Совет под руководством архиепископа Седбери не позволил ему пристать, это привело крестьян в бешенство, и огромная масса с криком «Измена!» кинулась к Лондону. 13 июня его ворота были открыты бедными ремесленниками, жившими в городе, и величественный дворец Джона Гентского, новое училище правоведения в Темпле, дома иноземных купцов скоро стали добычей пламени. Но мятежники, как они гордо заявляли, добивались истины и правды, а не были ворами и разбойниками, и потому грабитель, утащивший из дворца серебряное блюдо, был вместе со своей добычей брошен в пламя.
Общий ужас проявился довольно смешным образом на следующий день, когда смелый отряд крестьян под началом самого Уота Тайлера проложил себе путь в Тауэр и, с грубой шутливостью хватая пораженных ужасом рыцарей за бороды, обещал им впредь быть с ними наравне, подобно добрым товарищам. Но шутка превратилась в грозную действительность, когда они обнаружили, что король ускользнул от них, и когда они нашли в часовне архиепископа Седбери и приора святого Иоанна, примаса вытащили из часовни и обезглавили; та же участь постигла казначея и главного сборщика ненавистной поголовщины.
Между тем король выехал из Тауэра навстречу массе эссекских мятежников, расположившихся вне города на Майл-Энде, тогда как пришельцы из Гертфордшира и Сент-Олбанса заняли Гайбери. «Я ваш король и повелитель, — начал мальчик с бесстрашием, отличавшим его поведение в течение всего кризиса, — чего вы хотите?» «Мы хотим, чтобы вы освободили нас навсегда, — закричали крестьяне, — нас и наши земли, и чтобы нас никогда не называли и не считали крепостными». «Я вам жалую это», — ответил Ричард и приказал им вернуться домой, ручаясь за немедленное издание грамот о свободе и прощении. Радостный крик приветствовал это обещание. В течение всего дня более тридцати писцов были заняты подготовкой грамот о прощении и освобождении, и с ними жители Эссекса и Гертфордшира спокойно разошлись по домам.
С одной из таких грамот вернулся в Сент-Олбанс Уильям Грайндекобб и, ворвавшись во главе горожан в стены монастыря, потребовал у аббата выдачи грамот, ставивших город в зависимость от его обители. Но более наглядным доказательством зависимости служили мельничные жернова, после долгой тяжбы присужденные аббатству и положенные в монастыре как торжественное доказательство того, что никто из горожан не имеет права молоть зерно во владениях аббатства не иначе как с согласия аббата. Ворвавшись в монастырь, горожане подняли эти жернова с земли и разбили их на мелкие куски, «точно освященный хлеб в церкви», так что каждый мог сохранить нечто на память о том дне, когда они вернули себе свободу.
Многие из кентцев, узнав об обещании, данном королем жителям Эссекса, разошлись, но тридцать тысяч человек еще оставались с Уотом Тайлером, когда совершенно случайно король Ричард II встретил его на следующее утро, 15 июня, в Смитфилде. Между его свитой и вождем крестьян, подошедшим для переговоров с королем, произошла перебранка, и угроза Тайлера вызвала короткое столкновение, в котором лорд-мэр Лондона, Уильям Уолуорт, поразил его кинжалом. «Бей, бей, закричала толпа, — они убили нашего вождя!» «Что вам нужно, господа? — закричал молодой король, смело подъехав к толпе. — Я ваш вождь и ваш король! Следуйте за мной!» Крестьяне возложили свои надежды на молодого государя: одним из мотивов их восстания было желание освободить короля от дурных советников, которые, по их мнению, злоупотребляли его юностью; и вот они с трогательной преданностью и доверием последовали за ним, пока он не вступил в Тауэр. Мать приветствовала его со слезами радости. «Радуйтесь и хвалите Бога, — ответил мальчик, — сегодня я вернул себе потерянное наследство и королевство Англию». Но все-таки он вынужден был так же, как и на Майл-Энде, обещать свободу и, только получив от него грамоты о прощении и освобождении, кентцы разошлись по домам.
Рис. Смерть Уота Тайлера.
Однако восстание еще далеко не закончилось. К югу от Темзы оно распространилось до Девоншира; были взрывы на севере; бурным движением охватило восточные графства. Шайка крестьян заняла Сент-Олбанс, обезумевшая толпа ворвалась в ворота Сент-Эдмундсбери и заставила испуганных монахов подтвердить вольности города. Джон Литстер, красильщик из Норвича, с титулом короля общин возглавил массу крестьян и принуждал взятых в плен дворян играть роль лакеев и служить ему на коленях во время обеда. Но уход крестьянских армий с их освободительными грамотами вернул дворянам храбрость. Воинственный епископ Норвича во главе своего отряда с копьем в руке напал на лагерь Литстера и одним ударом рассеял крестьян Норфолка; в то же время король с армией в 40 тысяч человек прошел с торжеством по Кенту и Эссексу, всюду распространяя ужас беспощадностью своих казней. В Уолтгеме его встретили предъявлением недавно данных им грамот и заявлением, «что в деле свободы эссекские крестьяне стоят наравне со своими лордами». Но им пришлось узнать цену королевского слова. «Были вы вилланами, — отвечал Ричард II, — и остаетесь ими. Вы останетесь в зависимости, но не в прежней, а в худшей».
Настроение народа выразилось во встреченном королем упорном сопротивлении. Крестьяне Биллерика кинулись в леса и выдержали две жестокие битвы, прежде чем их удалось привести к покорности. Только угрожая смертью, можно было вынудить у присяжных Эссекса обвинительный приговор привлеченным к суду вождям восстания. Грайндекоббу предлагали пощаду, если он согласится убедить своих сторонников в Сент-Олбансе вернуть грамоты, отнятые им у монахов. Он обратился к своим согражданам и мужественно убеждал их не беспокоиться о его участи. «Если я умру, — сказал он, — я умру за приобретенную нами свободу и буду считать себя счастливым, кончая таким мученичеством. Действуйте сегодня так, как вы действовали бы, если бы я был убит вчера».
Но упорство побежденных встретилось с таким же упорством победителей. В течение лета и осени погибло, как говорили, семь тысяч человек — на виселицах или в битвах. Королевский совет показал, что он понимает опасность простой политики сопротивления, когда передал вопрос об освобождении на рассмотрение парламента, собравшегося после подавления восстания; его предложение наводило на мысль о компромиссе. «Если вы желаете освободить и отпустить на волю названных крепостных, — гласило послание короля, — с вашего общего согласия, а король осведомлен, что некоторые из вас этого желают, то он согласится на вашу просьбу». В ответе землевладельцев совсем не заметно каких-то мыслей о компромиссе. Пожалования и грамоты короля, как совершенно справедливо отвечал парламент, юридически не имеют силы и значения: крепостные составляют их собственность, которую король может взять у них не иначе как с их согласия; «а этого согласия, — заканчивал парламент, — мы никогда не давали и никогда не дадим, даже если бы всем нам пришлось умереть в один день».
Глава V РИЧАРД ВТОРОЙ (1381—1399 гг.)
Все темное и суровое в рассматриваемой эпохе: ее социальная борьба, нравственное и религиозное оживление, страдания бедных, протесты лоллардов изображены с чрезвычайной правдивостью в поэме Уильяма Ленглэнда. Ничто не рисует перед нами так живо ту пропасть, которая в XIV веке отделяла богача от бедняка, как контраст между «Видениями Петра-пахаря» и «Кентерберийскими рассказами». Мир богатства, раздолья и смеха, по которому учтивый Чосер шел с потупленными глазами, как будто в сладкой дремоте, представляется тощему поэту бедняков далеким миром неправды и нечестия. «Длинный Уил», как прозвали Ленглэнда за его высокий рост, родился, вероятно, в Шропшире, где был отдан в школу и принял посвящение в клирики; в молодые годы он переселился в Лондон и зарабатывал жалкие средства для жизни пением на пышных похоронах того времени. Люди принимали грустного клирика за помешанного; горькая бедность развила в нем вызывающую гордость, внушившую ему, как он говорил, отвращение к поклонам перед веселыми господами и дамами, которые разъезжали вдоль Чипсайда разодетые в серебро и меха, или к обмену приветствиями с судебными приставами при встрече у нового дома на Темпле. Мир Ленглэнда — мир бедняков: он описывал жизнь бедняка, его голод и работу, его грубый разгул и отчаяние с напряженным вниманием человека, который ничего, кроме этого, не видит.
Узость, бедность, однообразие такой жизни отражается и в его произведении. Только иногда любовь к природе и мрачная, гневная серьезность придают его поэме поэтичность; здесь нет и следа светлых гуманных симпатий Чосера, его свежего наслаждения весельем, нежностью, отвагой окружающего мира, его художественного понимания даже самых резких контрастов, его тонкой иронии и изящного остроумия. Тяжеловесные аллегории, утомительные монологи, рифмованные тексты Библии, составляющие основу поэмы Ленглэнда, только иногда прерываются проблесками здравого смысла, дикими взрывами страсти, картинами широкого хогартовского юмора. Особенно привлекает в поэме ее глубоко печальный тон: мир выбит из колеи, и тощий поэт, молчаливо шагающий по Стрэнду, не верит в возможность для себя направить его на путь истинный. В самом деле, его поэма охватывает период еще невиданных Англией бедствий и позора: если первый краткий очерк ее появился через два года после подписания мира в Бретиньи, то ее окончание может относиться к концу царствования Эдуарда III, а ее окончательное издание предшествовало крестьянскому восстанию всего на один год.
Хотя Ленглэнд и был лондонцем, но его фантазия улетала далеко от грехов и страданий большого города, к майскому утру на Малвернских холмах. «Я слишком много ходил и прилег отдохнуть внизу широкого берега ручья, и когда я лег и нагнулся и засмотрелся на воду, на меня напал сон, а вода журчала так весело». Как Чосер собирал типичные фигуры известных ему людей в поезд богомольцев, так и Ленглэнд собирал на широком поле войско торговцев и барышников, пустынников и отшельников, менестрелей, шутов и жонглеров, попрошаек и нищих, пахарей, «что очень сильно работают во время посадки и посева», богомольцев «с их девками позади», ткачей и земледельцев, горожан и крепостных, адвокатов и нотариусов, придворных завсегдатаев — епископов, нищих монахов и продавцов индульгенций, делящих деньги с приходским священником. Они отправляются на поклонение не в Кентербери, а к Истине; их проводником к Истине является не клирик и не священник, а «Петруша-пахарь», которого они застают пашущим свое поле. Он советует рыцарю не требовать больше даров от своего крестьянина и не обижать бедняка. «Хотя здесь он подвластен тебе, но на Небе может случиться так, что он будет поставлен выше тебя и удостоен большего блаженства, ибо по костям трудно будет узнать мужика или отличить рыцаря от плута».
Проповедь равенства сопровождается проповедью труда. Пахарь стремится работать и заставляет работать других. Он предостерегает рабочего, как и рыцаря. Голод — орудие Бога, принуждающее к труду крайнего ленивца; голод заставляет исполнять свою волю лентяя и мота. Накануне великой битвы между капиталом и трудом только Ленглэнд с его политическим и религиозным здравомыслием относился к обоим с одинаковой справедливостью. Вопреки той ненависти, которая накапливалась в народе против Джона Гентского, он в знаменитой басне изображал герцога котом, который, как он ни жаден, во всяком случае, удерживает благородных крыс от полного истребления мышиного народа. Хотя поэт и был предан церкви, но это не мешало ему говорить, что праведная жизнь лучше груды индульгенций, а Бог у него посылает Петру отпущение, в котором ему отказывает священник. Ленглэнд осознавал свое одиночество и не увлекался надеждами. Только во сне он видел, что корысть привлекается к суду и что проповедь разума приводит мир к раскаянию. В действительности разум не находит себе слушателей. На самого поэта — как он с горечью сообщал нам об этом — смотрели как на сумасшедшего. Страшное отчаяние слышится в конце его более поздней поэмы, где за торжеством Христа непосредственно следует царствование Антихриста, где раскаяние засыпает на пиру у смерти и греха, а совесть, сильно преследуемая гордостью и леностью, делает последнее усилие, чтобы подняться, и, схватив свой страннический посох, отправляется по миру на поиски Петра-пахаря.
Между тем борьба, которую Ленглэнд хотел предотвратить, после подавления крестьянского восстания разгоралась еще сильнее. Статуты о рабочих только посеяли ненависть между нанимателем и рабочим, между богачом и бедняком, но не достигли своих непосредственных целей — не понизили заработную плату и не привязали к определенному месту бродивших рабочих. В течение полутора веков, следовавших за восстанием крестьян, крепостное право вымерло в Англии так быстро, что стало явлением редким и устарелым. Через столетие после нашествия «черной смерти» заработок английского рабочего приносил вдвое больше жизненных благ, чем их можно было заработать при Эдуарде III. Это подтверждается случайными описаниями жизни рабочих, которые встречаются в трудах у Ленглэнда. «Рабочие, — писал он, — не имевшие земли и ничего для жизни, кроме своих рук, брезговали кормиться свининой и дешевым элем, а требовали рыбы или свежего мяса, жареного или печеного, и притом как можно более горячего, чтобы не простудить себе желудок». Несмотря на статуты, рынок все еще, в сущности, оставался в руках рабочих: «А если ему не дадут высокой платы, он будет роптать и оплакивать время, когда стал рабочим».
Поэт ясно понимал, что по мере возрастания численности населения до естественного уровня такие времена пройдут. «Пока голод был их властелином, никто из них не стал бы роптать или восставать против закона — такого строгого, и я советую вам, рабочие: работайте, пока можете, так как голод сюда торопится». Но даже тогда, когда он писал, бывали такие времена в году, когда толпам бродячих рабочих трудно было найти работу. В долгий промежуток между двумя жатвами работа и пища в средневековом жилище были одинаково скудны. «У меня нет ни копейки, — говорит в такую пору Петр-пахарь в стихах, изображающих тогдашнюю усадьбу, — чтобы купить пулярок, гусей или поросят, а есть только два зеленых сыра, немного творога и сливок, овсяный пирог и два хлеба из бобов и отрубей, испеченные для моих детей. У меня нет ни соленой ветчины, ни вареного мяса, чтобы приготовить битки, но у меня есть петрушка и порей и много капусты, а кроме того, корова и теленок и упряжная кобыла, чтобы возить в поле навоз, когда бывает засуха, и на все это мы должны существовать до Петра в веригах (1 августа), а к этому времени я надеюсь собрать жатву на моем участке». Не раньше Петра в веригах высокая плата и новый хлеб «отправляли голод в спячку», а в течение долгих весны и лета вольный рабочий и «разоритель, который желает не работать, а шататься, желает не хлеба, а лучшей пшеницы и желает пить только лучшее и темнейшее пиво», были источником общественной и политической опасности. «Он жалуется на Бога и ропщет против разума, а затем проклинает короля и весь его Совет за то, что они навязывают законы, которые угнетают рабочих».
Страх землевладельцев выразился в законодательстве, бывшем достойным продолжением статутов о рабочих. Было запрещено отдавать сыновей земледельцев учиться в города. Помещики просили Ричарда II повелеть, «чтобы ни крепостной, ни крепостная не помещали своих детей в школу, как это делалось раньше, а также не выдвигали своих детей, отдавая их в духовное звание». Новые коллегии, основанные тогда в обоих университетах, заперли свои двери перед вилланами. Неудача этих мер направила внимание крупных собственников в другую сторону и в конечном счете преобразила все сельское хозяйство страны. Разведение овец требовало меньше рук, чем обработка земли, а недостаток и дороговизна рабочих заставляли запускать все больше земель под пастбища. При сокращении личных услуг по мере вымирания крепостничества для помещиков стало выгодным уменьшать число собственников — арендаторов земель, как прежде их интерес требовал его сохранения, и они достигали этого, соединяя мелкие участки в более крупные наделы. Этот процесс обезземеливания чрезвычайно умножал численность класса вольных рабочих, одновременно сужая сферу применения их труда; эти бродяги и «бездельники-нищие» с каждым днем представляли для общества все большую опасность, пока она не привела к деспотизму Тюдоров.
К этой социальной опасности присоединялась еще более грозная опасность — религиозная, проистекавшая из насильственных стремлений позднейших лоллардов. Преследования Кертнэ лишили церковную реформу наиболее ученых приверженцев и поддержки университетов; смерть Уиклифа лишила ее руководителя в то время, когда, кроме разрушения, было сделано немного. С этого времени лоллардизм перестал быть сколько-нибудь организованным движением и превратился вообще в мятежный дух. К этому новому центру инстинктивно тяготело все религиозное и социальное недовольство эпохи. Социалистические мечтания крестьянства, новый смелый дух личной нравственности, ненависть к монашеству, зависть крупных вельмож прелатам, фанатизм ревнителей реформы, — все это слилось в общую враждебность к церкви, в общее стремление поставить на место ее догматической и иерархической системы личную веру.
Это отсутствие организации, эта смутность и разобщенность нового движения и позволили ему проникнуть во все классы общества. Женщины становились такими же проповедницами нового движения, как и мужчины. У лоллардизма были свои школы и свои книги; его памфлеты всюду передавались из рук в руки; во всех углах пелись грубые песни, воскрешавшие старые нападки «Голиафа» анжуйской эпохи на богатство и пышность духовенства. Вельможи вроде графа Солсбери и позже — сэра Джона Олдкестла открыто становились во главе движения и открывали двери своих жилищ как убежищ для его проповедников. Ненавидя духовенство, лондонцы стали ярыми лоллардами и выступили на защиту проповедника, отважившегося защищать новые теории с кафедры святого Павла. Влияние новой нравственности сказалось в той пуританской строгости, с которой один из мэров Лондона, Джон Нортгемптонский, относился к столичным нравам. Принужденный действовать, по его словам, нерадением духовенства, за деньги потакавшего всякого рода разврату, он арестовывал распутных женщин, обрезал им волосы и возил их по улицам, выставляя на общее посмешище.
Но нравственный дух нового движения, хотя и был самой важной его стороной, был менее опасен для церкви, чем открытое отрицание прежних учений христианства. Из неопределенной массы мнений, носившей название лоллардизма, постепенно выделилось одно основное убеждение — вера в авторитет Библии, как единственного источника религиозной истины. Перевод Уиклифа сделал свое дело. «Священное Писание, — жаловался лестерский каноник, — стало общедоступной вещью, более знакомой светским людям и женщинам, умеющим читать, чем раньше было знакомо самим церковникам». Ученики Уиклифа смело сделали те выводы, перед которыми, быть может, отступил бы он сам. Они провозгласили церковь отступницей от истинной веры, духовенство — утратившим свое значение, а таинства — идолослужением.
Напрасно духовенство старалось задушить новое движение своим старым средством —преследованием. Завистливое отношение вельмож и дворян ко всяким притязаниям церкви на светскую власть ослабляло ее попытки сделать преследование более действенным. В эпоху восстания крестьян Кертнэ добился издания статута, предписывавшего шерифам задерживать всех лиц, изобличенных епископами в проповедовании ереси. Но в следующую сессию статут был отменен, и общины еще увеличили горечь удара заявлением, что они «вовсе не считают для себя выгодным в большей степени подчиняться суду прелатов, как это было с их предками в прежние времена». Однако ересь еще считалась преступлением по общему праву, и если мы не встречаем случаев наказания еретиков сожжением, то только потому, что угроза такой казни обычно сопровождалась отречением лолларда. Ограничение власти каждого епископа пределами его епархии делало арест странствующих проповедников нового учения почти невозможным, а гражданское наказание, даже если оно и одобрялось общественным мнением, по-видимому, давно вышло из употребления. Опыт показывал прелатам, что немногие из шерифов согласятся на арест по одному требованию церковного чиновника, и что ни один королевский суд не издаст по требованию епископа приказа «о сожжении еретика».
Как ни безуспешны были усилия церкви в преследовании, они привели к тому, что возбудили среди лоллардов крайний фанатизм. Сильнейшие их выпады задевали богатство и суетность крупных церковников. В петиции, представленной парламенту в 1395 году, они с указаниями на богатство духовенства соединяли отрицание пресуществления, священства, богомолья и почитания икон, а также требование, характеризующее странное смешение мнений, сталкивавшихся в новом движении, — чтобы война была объявлена делом нехристианским и чтобы промыслы, противоречащие апостольской бедности, вроде мастеров золотых дел или оружейных, были изгнаны из королевства. Они утверждали, — и замечательно, что один из парламентов следующего царствования принял это утверждение, — что, если бы излишки доходов церкви были употреблены на общеполезные цели, то король мог бы содержать на них пятнадцать графов, 1500 рыцарей и 6 тысяч оруженосцев, кроме сотни богаделен для призрения бедных.
Бедствия землевладельцев, общее расстройство деревенского быта, где шайки грабителей явно издевались над законом, паника, охватывавшая церковь и общество в целом, по мере того как планы лоллардов получали все более смелый и боевой характер, — все это еще более обостряло народное недовольство вялым и безуспешным ходом войны. Соединение флотов Франции и Испании сделало их хозяевами морей; остававшиеся еще за англичанами части Гиени были во власти союзников, а союз с Шотландией открывал французам северную границу самой Англии.
Высадка французского войска в Форте вызвала отчаянные усилия всей Англии, и ее многочисленная и хорошо снаряженная армия дошла до самого Эдинбурга, тщетно пытаясь принудить неприятеля к битве. Более тяжелым ударом было покорение французами Гента и утрата последнего рынка английской торговли; между тем, средства, которые следовало бы употребить на его спасение и на защиту берегов Англии от грозившего ей вторжения, были растрачены Джоном Гентским на испанской границе в погоне за призрачной короной, которой он требовал от имени своей жены, дочери короля Педро Жестокого. Этот замысел свидетельствовал о том, что герцог отказался от мысли руководить делами Англии. После подавления восстания во главе Королевского совета стали Роберт де Вер и Михаил де ла Поль, граф Суффолк, постоянной целью которых было лишение герцога Ланкастерского власти.
Но удаление Джона Гентского только позволило выдвинуться вперед его брату, герцогу Глостеру и его сыну и графу Дерби, а между тем вялое ведение войны, расточительность двора и больше всего очевидное стремление короля освободиться от контроля парламента вызвали отчуждение Нижней палаты. Парламент обвинил Суффолка в подкупе и назначил на год комиссию регентства, которой руководил Глостер. Попытка молодого короля отменить эти меры после закрытия сессии была расстроена появлением Глостера и его вооруженных друзей; в «Беспощадном парламенте» 1388 года. Суффолк и его сторонники были приговорены за государственную измену к изгнанию или смерти; пятеро судей, объявивших комиссию незаконной, подверглись изгнанию, а четверо чинов королевского двора были отправлены на плаху. Но едва прошел год, как Ричард нашел в себе достаточно сил, чтобы одним словом низвергнуть правительство, против которого он так безуспешно боролся раньше. Войдя в Совет, он вдруг попросил дядю сказать, сколько ему, королю, лет. «Вашему величеству, — отвечал Глостер, — идет двадцать четвертый год». «В таком случае, я достаточно стар, чтобы руководить своими делами, — холодно сказал Ричард II. — Я был под опекой дольше любого сироты в моем королевстве. Благодарю вас, лорды, за вашу прежнюю службу, но больше я в вас не нуждаюсь».
Рис. Ричард II.
В течение восьми лет (1389—1397) король с чрезвычайным благоразумием и большой удачей пользовался властью, перешедшей, таким образом, спокойно в его руки. С одной стороны, его мирная политика нашла себе выражение в переговорах с Францией, которые привели к перемирию, возобновлявшемуся год за годом, пока в 1397 году оно не было продолжено на четыре года, а последующее соглашение насчет брака его с Изабеллой, дочерью Карла VI, удлинило этот период спокойствия до 24 лет. С другой стороны, он выразил намерение управлять в согласии с парламентом, подчинился его контролю и советовался с ним обо всех важных делах. Короткий поход умиротворил Ирландию, а начавшиеся в отсутствие короля волнения лоллардов прекратились с его возвращением.
Но блестящие таланты, которые Ричард II разделял с прочими Плантагенетами, совмещались в нем со страшным непостоянством, безумной гордостью и жаждой неограниченной власти. Во главе оппозиции остался дядя короля, герцог Глостер; между тем Ричард II обеспечил себе дружбу Джона Гентского и его сына Генриха, графа Дерби. Поспешность, с которой Ричард II ухватился за возможность возобновить спор, показывает, как настойчиво хранил он в душе планы мщения в течение многих лет, прошедших со времени бегства Суффолка. Герцог Глостер и графы Эрендел и Уорвик были арестованы по обвинению в заговоре. Орудием для сокрушения противников Ричарда II послужил парламент, заполненный его приверженцами. Прощение, дарованное девять лет назад, было отнято, комиссия регентства объявлена незаконной, а ее учредители обвинены в измене. Удар был нанесен без всякой жалости. Герцога избавила от суда внезапная смерть в тюрьме Кале; его главный сторонник, Эрендел, архиепископ Кентерберийский, был обвинен и изгнан, а вельможи его партии осуждены на смерть и заточение. Меры, предпринятые в парламенте следующего (1398) года, показывают, что кроме планов мщения Ричард II руководствовался еще определенной мыслью об установлении неограниченной власти. Постановления парламента 1388 года были объявлены не имеющими силы, а дарованные королю пожизненно пошлины с шерсти и кож избавили его от парламентского контроля.
Следующий шаг освободил его от самого парламента. Последний назначил комитет из 12 пэров и шести коммонеров с правом продолжать заседание и после его роспуска рассматривать и решать все дела и вопросы, которые будут подняты в присутствии короля, со всеми вытекающими последствиями. Ричард II хотел этим постоянным комитетом заменить создавшее его учреждение: он тотчас стал пользоваться им для решения дел и проведения своей воли и вынудил всех вассалов короны принести присягу в том, что они признают силу его актов и выступают против всякой попытки изменить или отменить их. Имея в своем распоряжении такое оружие, король был полновластен, и с появлением этого полновластия характер его царствования вдруг изменился. Система принудительных займов, продажа прощений сторонникам Глостера, объявление вне закона сразу семи графств под предлогом, что они поддерживали его противников и должны купить себе прощение, безрассудное вмешательство в течение правосудия возбудили новую волну общественного и политического недовольства, грозившего самому существованию короны.
Как хорошим, так и плохим правлением Ричард II успел одинаково вооружить против себя все классы общества. Вельмож он раздражал своей мирной политикой, землевладельцев — отказом в утверждении безумных мер, предназначавшихся для устрашения рабочих, торговый класс — незаконными вымогательствами, а церковь равнодушием к преследованию лоллардов. Последним Ричард II тоже не симпатизировал и как людей, опасных для общества, держал в страхе. Но чиновники короля выказывали мало усердия в деле ареста и наказания проповедников ереси. Лолларды нашли себе покровителей в самых стенах дворца; благодаря поддержке первой жены Ричарда II, Анны Богемской, сочинения и «Библия» Уиклифа попали на ее родину и там положили начало замечательному движению, первыми руководителями которого явились Ян Гус и Иероним Пражский.
В сущности, Ричард II в своем королевстве почти не имел союзников, но даже и этой накопившейся против него ненависти едва ли удалось бы низвергнуть его, если бы не один поступок, внушенный ему завистью и произволом, который поставил во главе народного недовольства ловкого и беззастенчивого вождя. Генрих (граф Дерби и герцог Герфорд), старший сын Джона Гентского, в смутах начала царствования выступавший против короля, усердно поддерживал его потом в мерах против Глостера. Но как только они увенчались успехом, Ричард II с новыми силами выступил против более опасного Ланкастерского дома и, воспользовавшись ссорой между герцогами Герфордом и Норфолком, обвинявшими друг друга в измене, изгнал их обоих из королевства. За изгнанием скоро последовала отмена данного Генриху разрешения принять наследство по смерти Джона Гентского, и король сам захватил владение Ланкастеров. Доведя таким образом Генриха до отчаяния, Ричард II переправился в Ирландию с целью закончить начатое им дело завоевания и организации.
В это время архиепископ Эрендел, тоже находившийся в изгнании, побудил герцога воспользоваться отсутствием короля для возвращения себе прав. Обманув бдительность французского двора, при котором он искал убежище, Генрих с горсточкой людей высадился на берегу Йоркшира, где к нему тотчас присоединились графы Нортумберленд и Уэстморленд, главы знатных фамилий Перси и Невиллей, и с армией, выросшей по мере движения, он торжественно вступил в Лондон. Герцог Йорк, которого король оставил регентом, покорился, его войска пристали к Генриху, и когда Ричард II высадился в гавани Милфорда, то нашел королевство утраченным. Армия его после высадки разорялась, и всеми покинутый король переодетым бежал в Северный Уэльс, где нашел и второе войско, собранное ему в помощь графом Солсбери, уже распущенным. Приглашенный герцогом Ланкастером на совещание во Флинте, он был окружен войсками мятежников.
«Меня обманули, воскликнул он, когда с горы перед ним открылся вид на врагов, — в долине знамена и значки!» Но отступать было слишком поздно. Ричарда II схватили и привели к кузену. «Я пришел раньше времени, сказал Ланкастер, — но я вам объясню причину. Ваш народ, государь, жалуется на то, что в течение двадцати лет вы управляли им сурово; поэтому, если Богу так угодно, я помогу вам управлять им лучше». «Любезный кузен, — отвечал король, — если вам так угодно, то и я на это согласен». Но замыслы Генриха шли гораздо дальше участия в управлении королевством. Парламент, собравшийся в 1399 году в Вестминстерском зале, встретил криками одобрения грамоту, в которой Ричард II отказывался от престола ввиду того, что он не способен к управлению и по своим великим проступкам заслуживает низложения.
Отречение было подтверждено торжественным актом низложения. Были прочитаны коронационная присяга и длинный список обвинений, доказывавших нарушение заключавшихся в ней обещаний; за ними следовало торжественное заявление обеих палат, отнимавшее у Ричарда II государство и королевскую власть. Согласно строгим правилам престолонаследия, выведенным феодальными юристами по аналогии с наследованием обычных имений, корона должна была перейти теперь к дому, игравшему центральную роль в переворотах эпохи Эдуардов. Правнук того Мортимера, который содействовал низложению Эдуарда II, женился на дочери и наследнице третьего сына Эдуарда III, Лайонела Кларенса. Бездетность Ричарда II и смерть второго сына Эдуарда, не имевшего потомства, делали Эдмунда, его правнука от этого брака, первым претендентом на престол; но ему было всего шесть лет, строгое правило наследования никогда не было признано формально по отношению к короне, а прецедент доказывал право парламента выбирать в таком случае преемника среди других членов королевского дома. В сущности возможен был только один преемник.
Поднявшись со своего места и перекрестившись, Генрих Ланкастер торжественно потребовал себе короны, «так как я происхожу по прямой линии от доброго короля Генриха III, и по тому праву, которое Бог в своей милости позволил мне восстановить при помощи моих родных и друзей, в то время как королевство готово было разрушиться с отсутствием управления и несоблюдением добрых законов». Какие бы недостатки ни содержало это притязание, они более чем покрывались признанием парламента. Два архиепископа взяли нового государя за руку, посадили его на престол, и Генрих IV в торжественных выражениях подтвердил свой договор с народом. «Господа, — сказал он собравшимся вокруг него прелатам, лордам, рыцарям и горожанам, — я благодарю Бога и вас, духовных и светских людей, и я вам объявляю: нет моего желания, чтобы кто-нибудь думал, что путем завоевания я буду лишать кого-либо его наследства, вольностей или других прав, которыми он должен пользоваться, или лишать его имущества, которым он владеет и владел по добрым законам и обычаям королевства, — исключая тех лиц, которые были против доброй воли и общей пользы королевства».
Глава VI ЛАНКАСТЕРСКИЙ ДОМ (1399—1422 гг.)
Возведенный на престол парламентским переворотом и основывая свои притязания на признании парламента, Ланкастерский дом самим своим положением был лишен возможности возобновить старую борьбу за независимость короны, доведенную до высшей степени смелой попыткой Ричарда II. Ни в один период нашей ранней истории полномочия обеих палат так прямо не признавались. В тоне Генриха IV до самого конца его царствования слышалось смиренное подчинение просьбам парламента, и даже его деспотичный преемник отступал почти с робостью перед всяким столкновением с ним. Но корона была куплена другими обещаниями, менее благородными, чем конституционное управление. Знать оказала новому королю поддержку отчасти в надежде на возобновление роковой войны с Францией. Помощь церкви была куплена обещанием более строгого преследования еретиков, и это обещание было выполнено. На первом церковном соборе своего царствования Генрих IV объявил себя защитником церкви и приказал прелатам принять меры для подавления ереси и странствующих проповедников. Его декларация была только подступом к статуту о ереси, проведенному в начале 1401 года.
Постановления этого позорного закона устраняли препятствия, парализовавшие усилия епископов. Согласно закону было дозволено арестовывать всех проповедников, всех учителей, зараженных еретическим учением, всех владельцев и составителей еретических книг и заключать их по воле короля в тюрьмы, даже если они отрекались от ереси; но отказ в отречении или возвращение после него к ереси давали епископам право передавать еретика гражданским властям, а эти последние, — так гласило первое юридическое утверждение религиозного кровопролития, запятнавшее собрание наших статутов, — должны были сжечь его на возвышенном месте перед народом. Едва статут был проведен, как первой жертвой его стал Уильям Сотр, приходский священник в Линне. Девять лет спустя в присутствии принца Уэльского был предан пламени мирянин Джон Бедби — за отрицание пресуществления. Стоны страдальца были приняты за отречение, и принц приказал убрать огонь, но предложения пощады и пенсии не сломили упорства лолларда, и он был предоставлен своей участи.
Рис. Генрих IV.
Враждебность Франции и страшное недовольство реформаторов усиливали опасность постоянных восстаний, угрожавших престолу Генриха IV. Уже одно сохранение власти в эти бурные годы его царствования служит лучшим доказательством ловкости короля. Заговор родственников Ричарда II, графов Гентингдона и Кента, был подавлен, и за ним тотчас последовала смерть Ричарда II в тюрьме. Затем поднял восстание Перси, и Готспур (Горячка), сын графа Нортумберленда, вступил в союз с шотландцами и мятежниками Уэльса. Его войска были разбиты и сам он убит в упорной битве близ Шрусбери; но два года спустя его отец поднял новое восстание, и хотя арест и казнь его сообщника Скропа, архиепископа Йоркского, принудили его бежать за границу, но до самой своей смерти он оставался угрозой для престола.
Между тем ободренный слабостью Англии Уэльс после долгого спокойствия сбросил с себя иго завоевателей, и вся страна восстала на призыв Оуэна Глендауэра, потомка туземных князей. Как и прежде, Оуэн предоставил пришельцам право бороться с голодом и горными грозами, не успели они уйти, как он кинулся на них из своих неприступных твердынь и одержал победу, за которой последовало присоединение всего Северного Уэльса и большей части Южного, причем на помощь ему был прислан из Франции отряд вспомогательного войска. Только восстановление мира в Англии позволило Генриху IV остановить Глендауэра. Четыре года подряд, осторожно и обдуманно повторяя нашествие, принц Уэльский отнял у него юг; его подданные на севере, приведенные в уныние рядом поражений, постепенно покидали его знамя, а отражение нашествия повстанцев на Шропшир принудило Оуэна в конце концов искать убежища в горах Снодона, где он, по-видимому, продолжал борьбу в одиночку до своей смерти в 1410 году.
С подавлением восстания в Уэльсе престол Ланкастеров освободился от внешней опасности, но внутри оставалась угроза со стороны лоллардов. Новый статут и его ужасные казни не внушали страха. Смерть графа Солсбери в первом восстании против Генриха IV, хотя его окровавленная голова и была внесена в Лондон процессией аббатов и епископов, с пением благодарственных псалмов вышедших к ней навстречу, только передала руководство партией одному из лучших воинов эпохи. Сэр Джон Олдкастл, которому брак доставил титул лорда Кобгема, сделал свой замок Каулинг главной квартирой лоллардов и укрывал их проповедников, не обращая внимания на запреты и выговоры епископов. Когда Генрих IV, изнуренный смутами своего царствования, умер в 1413 году, его преемнику пришлось заняться этим сложным вопросом. Епископы потребовали привлечения Кобгема к суду, и хотя король просил отсрочки в деле, касавшемся столь близкого ему человека, но вызывающее поведение Кобгема заставило его действовать. Отряд королевских войск арестовал лорда Кобгема и отвел его в Тауэр. Его бегство оттуда послужило сигналом к широкому восстанию. Тайный приказ созвал собрание лоллардов на полях Сент-Джилса близ Лондона. Мы знакомимся если не с настоящими целями восстания, то по крайней мере с вызванным им страхом из утверждения Генриха V, будто его целью было «погубить короля, его братьев и некоторых из лордов, духовных и светских». Но бдительность молодого короля предупредила соединение лоллардов Лондона с их сельскими братьями, а те, кто явился на место собрания, были рассеяны королевскими войсками. Неудача восстания только усилила строгость закона: чиновникам было приказано арестовывать всех лоллардов и передавать их епископам; изобличение в ереси приводило к казни и конфискации имущества; тридцать девять выдающихся лоллардов были преданы казни. Кобгем бежал и в течение четырех лет поднимал восстание за восстанием; наконец он был схвачен на границе Уэльса и сожжен как еретик в 1418 году.
Со смертью Олдкастла политическая деятельность лоллардов пришла к концу; между тем упорные преследования епископов, хотя им и не удалось истребить лоллардизм как религиозное движение, сумели ослабить силу и энергию, которые он выказал вначале. Но пока Ланкастерский дом только отчасти исполнил обещания, данные им при вступлении на престол. В глазах вельмож мирная политика Ричарда II была одним из его преступлений, и они оказали содействие перевороту в надежде на возобновление войны. Энергия военной партии находила себе поддержку в настроении целой нации, уже забывшей о бедствиях прошлой войны и мечтавшей только смыть ее позор. Внутренние бедствия Франции представляли в это время удобный повод к нападению: ее король Карл VI был сумасшедшим, а принцы и вельможи разделились на две большие партии; одна из них имела главой герцога Бургундского и носила его имя, а другая — герцога Орлеанского и носила название Арманьяков. Генрих IV ревностно следил за их борьбой, но его попытка поддержать ее посылкой во Францию английского отряда сразу примирила противников. Однако их распри возобновились сильнее прежнего, когда при вступлении на престол Генрих V заявил притязания на французскую корону и тем выразил свое намерение возобновить войну.
Не было притязаний более неосновательных, так как согласие парламента, отдавшее Англию Ланкастерскому дому, не могло дать ему прав на Францию, а на строгие правила наследования, выдвинутые Эдуардом III, мог ссылаться, в лучшем случае, только дом Мортимеров. Фактически не только притязания, но и сам характер войны совершенно отличались от войны Эдуарда III. Эдуард III был втянут в войну против своего желания беспрестанными нападениями Франции, а требование им ее короны было только средством для обеспечения союза с Фландрией. С другой стороны, война Генриха IV только по форме была возобновлением прежней борьбы после истечения срока перемирия, заключенного Ричардом II, а в сущности это было беспричинное нападение народа, увлеченного беспомощностью противника и раздраженного воспоминанием о прежнем поражении. Единственным оправданием для войны служили нападки, которые Франция в течение пятнадцати лет направляла на трон Ланкастеров, и поддержка ею всех внешних врагов и внутренних предателей.
Летом 1415 года король отплыл к берегам Нормандии, и первым его подвигом было взятие Гарфлера. Дизентерия опустошила ряды его войска во время осады, и с горстью людей он решился, подобно Эдуарду III, предпринять на виду неприятеля смелый поход в Кале. Однако внутренние несогласия, на которые он, вероятно, рассчитывал, исчезли при появлении пришельцев в самом сердце Франции, и когда его истомленное и полуголодное войско перешло Сомму, оно нашло на своем пути 60 тысяч французов, расположившихся лагерем на Азенкурском поле. Их позиция, прикрытая с обеих сторон лесами, имела такой узкий фронт, что густые массы были построены в тридцать рядов; она годилась для целей защиты, но была мало пригодна для атаки, и вожди французов, наученные опытом Кресси и Пуатье, решили ожидать приближения англичан.
Рис. Генрих V.
С другой стороны, Генриху V не оставалось иного выбора кроме нападения или безусловной сдачи: его войска голодали, а путь в Кале шел через армию французов. Но мужество короля росло вместе с опасностью. Один из рыцарей его свиты выразил желание, чтобы тысячи сильных воинов, спокойно проводивших эту ночь в Англии, находились в рядах его войска. Генрих V отвечал ему презрительно: «Я не хотел бы иметь ни одним человеком больше: если Бог даст нам победу, то будет ясно, что мы обязаны ею Его милости; если нет — чем нас меньше, тем меньше будут потери для Англии». Голодная и истомленная кучка людей под его началом разделяла настроение своего вождя. Когда прошла холодная дождливая ночь 28 октября 1415 года, его стрелки обнажили свои руки и груди, чтобы дать простор «изогнутой палке и серому гусиному перу», без которого, как гласила поговорка, «Англия вызывала бы только смех», и с громким криком кинулись вперед в атаку. Вид их приближения возбудил горделивый пыл французов, мудрое решение их вождей было забыто, и густая масса конницы кинулась всей тяжестью в болотистую местность, навстречу англичанам.
В самом начале их движения Генрих V остановил свое войско, и его стрелки, воткнув в землю заостренные палки, которыми был снабжен каждый, пустили тучи своих роковых стрел в ряды неприятеля. Кровопролитие было страшным, но отчаянные атаки французских рыцарей отогнали, наконец, английских стрелков к соседним лесам, из которых они все еще могли обстреливать фланги неприятеля. Между тем Генрих V с окружавшей его конницей кинулся на ряды французов; последовала отчаянная битва, в которой пальму первенства в храбрости заслужил король: один раз он был сброшен с коня ударом палицы, а корона на его шлеме была отрублена мечом герцога Алансонского; но наконец неприятель был сломлен, а за поражением главной массы французов тотчас последовало расстройство их резерва. Торжество было еще полнее, чем при Кресси, так как неравенство было больше: 11 тысяч французов погибли на поле битвы; среди погибших было более сотни принцев и крупных вельмож.
Непосредственные результаты битвы при Азенкуре были незначительны, так как английская армия была слишком утомлена для преследования и добралась до Кале только затем, чтобы переправиться в Англию. Война ограничилась борьбой за господство над Ла-Маншем, пока усилившиеся распри между бургундцами и Арманьяками не побудили Генриха V возобновить попытку завоевания Нормандии. Какова бы ни была его цель в этом походе, — был ли он внушен, как предполагали, желанием обрести убежище для своего дома, если бы его власть была свергнута в Англии, или просто стремлением завоевать господство над морями, — но терпение и искусство, с которыми он осуществил свой план, высоко вознесли его в ряду полководцев. Высадившись с сорокатысячной армией близ устья Туки, он взял приступом Кан, добился сдачи Байе, подчинил Алансон и Фалез и, отправив своего брата, герцога Глостерского, для занятия Котантена, сам захватил Авранш и Домфрон. Подчинив Нижнюю Нормандию, он двинулся на Эвре, захватил Лувье и, взяв Понделарш, переправил свои войска через Сену.
Теперь открылась цель его мастерских передвижений. В это время самым крупным и богатым городом Франции был Руан; стены его защищала сильная артиллерия; Алан Бланшар, храбрый и решительный патриот, сообщил свой собственный пыл его многочисленному населению, а и без того сильный гарнизон поддерживали 15 тысяч вооруженных горожан. Но гений Генриха V был выше затруднений, с которыми ему приходилось иметь дело. От нападения с тыла он уберег себя покорением Нижней Нормандии; еще прежде занятие Гарфлера отрезало город от моря, а завоевание Понделарша — от помощи со стороны Парижа. Медленно, но неуклонно проводил король свои осадные линии вокруг обреченного города: из Гарфлера был приведен караван судов, выше города через Сену был устроен лодочный мост, глубокие траншеи осаждавших были защищены столбами, а отчаянные вылазки гарнизона упорно отражались. Шесть месяцев Руан стойко держался, хотя голод производил сильные опустошения в огромной массе сельского люда, искавшей убежища в его стенах. 12 тысяч крестьян были наконец изгнаны за ворота города, но победитель холодно отказал им в пропуске, и они погибли между траншеями и стенами. В часы агонии женщины производили на свет детей, и их в корзинах поднимали для принятия крещения, а потом опять опускали умирать на груди матерей. Немногим лучше было в самом городе. Когда наступила зима, половина населения вымерла. «Войне, — грозно сказал король, — постоянно сопутствуют три служанки — огонь, кровь и голод, и я выбрал самую кроткую из трех». Требование им безусловной сдачи вызвало у горожан отчаянное решение: они решили зажечь город и броситься всей массой на линии англичан; тогда Генрих V, боясь, что в самом конце добыча выскользнет у него из рук, вынужден был предложить им свои условия. Тем, кто не выносил иноземного ига, было позволено покинуть город, но месть Генриха V выбрала себе жертвой Алана Бланшара, и храбрый патриот по приказу короля был предан смерти.
Несколько осад закончили подчинение Нормандии. Пока намерения короля не шли дальше приобретения этой провинции, и, прервав свои завоевательные действия, он постарался завоевать ее расположение снижением налогов и удовлетворением жалоб и закрепить обладание ею формальным миром с французской короной. Однако переговоры, начатые с этой целью в Понтуазе, не удались из-за временного примирения французских партий, а между тем продолжительность и расходы войны начали вызывать в Англии протесты и недовольство. Неприятности короля достигли высшей степени, когда умерщвление герцога Бургундского в Монтеро в присутствии самого дофина, с которым он явился на совещание, снова зажгло пламя междоусобиц. Вся бургундская партия с новым герцогом Филиппом Добрым во главе в дикой жажде мести кинулась в объятия Генриха V; сумасшедший король Карл VI вместе с королевой и дочерьми находился во власти Филиппа; желая лишить дофина престола, герцог унизился до того, что купил себе помощь Англии, выдав за Генриха V старшую из принцесс Екатерину, передав ему регентство на время жизни Карла VI и признав его наследником короны после смерти этого государя.
Договор был торжественно подтвержден самим Карлом V на свидании в Труа (1420 г.), и Генрих V, в качестве регента предпринявший от имени своего тестя завоевание земель, захваченных дофином, подчинил города по Верхней Сене и с торжеством вступил в Париж бок о бок с королем. В столице торжественно собрались Генеральные Штаты, и хотя постановления в Труа не могли не показаться им странными, тем не менее они были утверждены безропотно, и Генрих V был признан будущим государем Франции. Поражение его брата Кларенса в Анжу снова вызвало его на войну. Его участие в военных действиях ознаменовалось взятием Дре, а неудача под Орлеаном была сглажена успехом долгой и упорной осады Мо (1422 г.). Никогда успехи Генриха V не достигали такой высоты, как в тот момент, когда он почувствовал прикосновение смерти. Искусство врачей не могло остановить быстрого хода его болезни, и великий завоеватель скончался, выразив странное, но характерное сожаление, что не дожил до завоевания Иерусалима.
Глава VII ЖАННА Д'АРК (1422—1451 гг.)
В то время как смерть так внезапно остановила деятельность Генриха V, его могущество достигло высшей степени. Своей религиозностью он привлек к себе церковь, военным искусством — знать, восстановлением славы Кресси и Пуатье — весь народ. Во Франции холодная политика Генриха V превратила его из чужеземного завоевателя в законного наследника престола, его права на регентство и наследование были признаны сословиями королевства, а его успехи до момента смерти обещали скорое подчинение всей страны.2 Но слава Азенкура и гений Генриха V едва скрывали в конце его царствования слабость и унижение короны, когда престол перешел к младенцу, его сыну. Долгое малолетство Генриха VI, который в момент смерти отца был девятимесячным ребенком, а также личная слабость, отличавшая его последующее управление, поставили дом Ланкастеров в зависимость от парламента, а парламент быстро превращался в простое представительство баронов и крупных землевладельцев. Общины, правда, сохраняли права разрешения субсидий и контроля над ними, участия в издании всех законов и обвинения министров, но Нижняя палата перестала быть настоящим представителем тех общин, имя которых носила. Избирательное право городов подчинилось общему стремлению к ограничениям и привилегиям и вскоре в большинстве городов свелось к простой формальности. До того времени все фримены, жившие в городе и платившие в его казну налоги, становились его гражданами, но с царствования Генриха VI эта широта городской жизни была сильно урезана.
Ремесленные цехи, прежде защищавшие гражданскую свободу от тирании старых купеческих гильдий, сами теперь стремились стать узкой и исключительной олигархией. В это время большая часть городов приобрела себе собственность; желая защитить пользование ею от всяких притязаний «чужаков», граждане добывали себе, большей частью у короля, корпоративные грамоты, обращавшие их в замкнутое целое и исключавшие из их числа всех тех, кто не был гражданином по происхождению и не успел приобрести себе право на вступление в их число долгим ученичеством. Дополнительно к этому ограничению состава граждан, внутреннее управление городов со времени неудачи коммунального движения XIII века перешло почти всюду от свободного собрания горожан на вече в руки Общих советов, члены которых выбирались ими самими или богатейшими гражданами. Общим советам или еще более ограниченному числу принадлежавших к ним «выборных людей» и предоставляли обычно постановления новых хартий право избрания представителей городов в парламент. Этим ограничением начался долгий процесс упадка, который окончился сведением представительства наших городов к простой комедии.
Крупные вельможи, соседние землевладельцы, сама корона набросились на города как на свою добычу и предписывали им выбор представителей. Подкуп доканчивал то, чего не удавалось сделать силой. Поэтому с войны Роз до времени Питта мнение народа представляли не делегаты от городов, а рыцари графств. С другой стороны, ограничение избирательного права в графствах было делом самого парламента. Изменения в экономическом строе его достаточно сильно расширяли. Число фригольдеров под влиянием рассмотренных уже нами земельного дробления и социальных перемен возрастало, а укрепление независимости сказывалось в «сходках и ссорах между дворянами и прочими людьми», которые тогдашние политики приписывали чрезмерному числу голосовавших. Во многих графствах влияние крупных вельмож, без сомнения, позволяло им благодаря многочисленности их вассалов контролировать выборы. Во время восстания Кэда кентцы жаловались на то, что «жителям графства не позволяют свободно принимать участия в выборе рыцарей от графства, но различные сословия посылают письма крупным вельможам области, и те силой принуждают своих вассалов и прочий народ выбирать других лиц, а не по общей воле».
Собственно, для устранения этого злоупотребления в царствование Генриха VI статут 1430 года ограничивал в графствах право подачи голоса фригольдерами, владевшими землей с доходом не менее сорока шиллингов в год, — суммы, равной на теперешние деньги, по меньшей мере, двадцати фунтам и представляющей в настоящее время гораздо более высокий доход. Этот «великий ограничительный статут», как его справедливо назвали, был, согласно его статьям, направлен против избирателей «без земли, из которых каждый хотел иметь равный голос с более достойными рыцарями и дворянами, проживавшими в тех же графствах». Но в применении статут толковался в гораздо более негативном смысле, чем тот, который был заложен в его словах. До того рыцарей графства выбирали все, без различия, присутствовавшие на суде шерифа; по смыслу нового статута, права голоса лишалось большинство тогдашних избирателей: все арендаторы и все копигольдеры. В позднейшем статуте (правда, видимо, не приводившемся в исполнение) аристократическая тенденция и социальные перемены, против которых она боролась, сказались в требовании, что каждый рыцарь графства должен быть «природным дворянином».
Смерть Генриха V вскрыла в неприглядной действительности тайну власти. Вся королевская власть перешла без борьбы к Совету, состоявшему из крупных вельмож и церковников как представителей баронов. Во главе прелатов стоял Генрих Бофор, епископ Уинчестерский, узаконенный сын Джона Гентского от его любовницы Екатерины Суинфорд. Перед лицом лоллардизма и социализма церковь тогда перестала представлять крупную политическую силу и являлась просто особым разрядом поземельной аристократии. Ее единственной целью было сохранение огромного богатства, которому грозили и ненависть еретиков, и жадность вельмож. Несмотря на упорное преследование, лоллардизм, в котором проявлялся дух религиозного и нравственного протеста, все еще был жив: через девять лет после вступления на престол юного короля состоялся объезд Англии герцогом Глостерским с отрядом конницы для подавления восстании лоллардов и запрета обращения их памфлетов против духовенства.
Склонность к насилию и анархии, всегда позорившая дворянство, обрела новые возможности под влиянием войны с Францией. Задолго до ее окончания она оказала роковое влияние на настроение английской знати, стремления которой свелись почти целиком к жажде золота, грабежей, разорения сел и городов, выкупа за пленных. Жажда добычи была так сильна, что только угроза смертью могла удержать в рядах воинов, и результаты ряда побед были уничтожены стремлением победителей отвезти добычу и пленников на хранение домой. Когда опустилась тяжелая рука таких вождей, как Генрих V или Бедфорд, война превратилась в простую резню и разбой. «Если бы Бог был теперь вождем, — воскликнул один французский полководец, — он сделался бы мародером!»
Как за границей вельможи были жадны и жестоки, так и на родине они отличались своеволием и распущенностью. Парламенты, ставшие простыми собраниями их вассалов и сторонников, походили на военные лагеря, куда крупные вельможи являлись в сопровождении больших отрядов. Парламент 1426 года получил название «дубинного парламента» ввиду того, что когда было запрещено ношение оружия, вассалы баронов явились с дубинами на плечах. Когда были запрещены дубины, они стали прятать под платьем камни и свинцовые шары. Распутство, против которого прежде возвышали свой негодующий голос лолларды, царило теперь без удержу. Луч духовного света пронизывал мрак эпохи, но только затем, чтобы обнаруживать отвратительное соединение умственной энергии с нравственной низостью.
Герцог Глостерский доказал свою любовь к литературе собиранием прекрасной библиотеки, но в то же время он был самым эгоистичным и распутным принцем эпохи. Граф Уорчестер, покровитель Кэкстона и один из самых ранних представителей возрождения литературы, заслужил прозвище Мясника жестокостью, которая принесла ему позорное первенство среди обагренных кровью вождей войны Роз. Казалось, с истреблением лоллардов была подавлена всякая духовная жизнь. Никогда английская литература не падала так низко. Несколько скучных моралистов только и сохраняли имя поэтов. История превратилась в самые сухие и большей частью ничего не стоящие отрывки и летописи. Даже религиозный энтузиазм народа, казалось, иссяк или был задушен епископскими судами. В то время только и верили, что в колдовство и чародейство. Элеонора Кобгем, жена герцога Глостерского, была изобличена в том, что вместе с одним священником покушалась, при помощи чародейства, на жизнь короля, и была присуждена к публичному покаянию на улицах Лондона. Туман, окутавший поле битвы при Вернете, приписывали заклинаниям монаха Бенге. Единственная чистая личность, возвышающаяся над жадностью, развратом, эгоизмом и неверием эпохи, это Жанна д’Арк, на которую судившие ее доктора и духовные особы смотрели как на колдунью.
Жанна д’Арк была дочерью крестьянина из Домреми, небольшой деревни на границе Лотарингии и Шампани, поблизости Вокулера. Как раз возле хижины, где она родилась, начинались большие Вогезские леса, где дети Домреми знакомились с поэтичными легендами о хороводе фей, часто навещали священные деревья, вешали на них венки из цветов и пели песни о «добрых людях», которым их грехи не позволяли пить из источника. Жанна любила лес; его птички и животные доверчиво откликались на ее детский призыв. Но дома люди не видели в ней ничего, кроме «доброй девушки, простой и приветливой в обращении»; она пряла и шила вместе с матерью, тогда как другие девушки уходили в поле, выказывала сострадание к бедным и больным, любила церковь и слушала церковный звон с чувством мечтательного восторга, никогда ее не покидавшим.
Спокойная жизнь была прервана громом войны, дошедшей до Домреми. Смерть короля Карла VI, тотчас за Генрихом V, принесла мало нового. Дофин сразу провозгласил себя Карлом VII, но Генрих VI был признан государем всех земель, которыми в действительности правил Карл VII. Приверженцы Карла VII, подкрепленные ломбардскими наемниками и 4 тысячами шотландцев под командой графа Дугласа, стали снова нападать на земли за Луарой, но их легко отражал герцог Джон Бедфорд, брат покойного короля, который в завещании был назначен регентом Франции.
Как военными, так и политическими талантами Джон едва ли уступал самому Генриху V. Закрепив путем браков и терпеливой дипломатии свои союзы с герцогами Бургундии и Бретани, он окончил завоевание Северной Франции, взятием Мелана обеспечил себе сообщение с Нормандией, благодаря победе близ Оксера овладел линией Ионы и продвинулся вперед, в область Макона. Чтобы остановить его продвижение, коннетабль Бюшан от берегов Луары смело подошел к самым границам Нормандии и напал на английскую армию при Вернейле, но потерпел поражение, едва ли менее тяжелое, чем при Азенкуре: треть французских рыцарей осталась на поле битвы (1424 г.). Регент уже готовился перейти Луару, когда его задержали интриги его брата, герцога Глостерского. Назначение последнего по воле покойного короля регентом Англии было отменено Советом; недовольный номинальным протекторатом, которым его облекли, герцог стал искать нового поля деятельности для своего беспокойного честолюбия в Нидерландах.
Там он выступил на защиту притязаний Жакелины, владетельной графини Голландии и Геннегау, на которой женился после ее развода с герцогом Брабанта. Его планы возбудили зависть герцога Бургундского, который считал себя наследником Брабанта, и усилия Бедфорда были парализованы отсутствием его бургундских союзников, отправившихся на север воевать против его брата. Хотя Глостер скоро вернулся в Англию, но пагубная борьба продолжалась три года; в течение этих лет Бедфорд вынужден был ограничиваться обороной, пока прекращение войны не вернуло ему помощь Бургундии. Еще более роковой была распря в Англии между Глостером и Бофором, так как она прекратила доставку людей и средств, нужных для войны во Франции; но когда в Голландии воцарился мир, а в Англии — временное спокойствие, Бедфорд еще раз получил возможность обратиться к завоеванию юга (1428 г.).
Отсрочка, однако, мало помогла Франции, и когда 10 тысяч союзников осадили Орлеан, у Карла VII не оказалось средств, чтобы идти к нему на выручку. Война давно уже дошла до границ Лотарингии. Север Франции в действительности скоро был превращен в пустыню. Поселяне искали себе убежища в городах, пока их жители, боясь голода, не заперли перед ними городские ворота. Тогда крестьяне в отчаянии бросились в леса и, в свою очередь, стали разбойниками. Опустошение было таким страшным, что два враждебных войска не могли даже найти друг друга в опустошенной Босе.
Города едва ли были в лучшем положении, так как в одном Париже нищета и болезни унесли сто тысяч человек. Когда изгнанники и раненые проходили через Домреми, Жанна уступала им свою постель и облегчала их страдания. Всю ее охватила одна поглощающая страсть: ей стало жаль, если употребить не сходившее с ее губ выражение, «прекрасного королевства Франции». Когда страсть эта усилилась, она вспомнила старое предсказание, гласившее, что страну спасет девушка с границы Лотарингии. Ей стали являться видения: в потоке ослепительного света ей явился святой Михаил и велел прийти на помощь королю и вернуть ему его королевство.
«Господин, — возразила Жанна, — я только бедная девушка, я не умею ездить на войну или командовать рыцарями». Архангел явился снова, ободрил ее и сказал, что на небесах жалеют прекрасное королевство Францию. Девушка плакала и просила, чтобы являвшиеся к ней ангелы взяли ее с собой, но ее назначение выяснилось. Напрасно отец, услышав о ее намерении, клялся, что скорее утопит ее, чем отпустит на войну с рыцарями. Напрасно священник, деревенские мудрецы и комендант Вокулера сомневались в ней и отказывали ей в помощи. «Я должна идти к королю, — настаивала она, — даже если я сотру себе ноги до самых колен». «Я гораздо охотнее осталась бы прясть рядом с матерью, — жаловалась она с трогательным пафосом, — так как я не сама выбрала себе дело, но я должна идти и совершить его, ибо так угодно моему господину». «А кто твой господин?» — спрашивали ее. «Это Бог», — отвечала она.
Такие слова наконец тронули грубого коменданта; он взял Жанну за руку и поклялся отвести ее к королю. Когда она достигла Шинона, ее начали одолевать колебания и сомнения. Богословы доказывали по своим книгам, что ей не следует верить. «В книге Господа сказано больше, чем в ваших», — ответила просто Жанна. Наконец Карл VII принял ее, окруженный толпой баронов и солдат. «Благородный дофин, — сказала она, — мое имя Жанна Дева. Царь Небесный посылает меня сказать Вам, что Вы будете помазаны и коронованы в городе Реймсе и будете наместником Царя Небесного, которым является король Франции».
Голод уже заставил Орлеан начать переговоры о сдаче, когда Жанна явилась при французском дворе. Для выручки города Карл VII ничего не сделал, а заперся в Шиноне и беспомощно плакал. Английские победы до того напугали французских солдат, что отряд стрелков под командой сэра Джона Фастольфа в так называемой «битве сельдей» отразил целую армию и с торжеством доставил в лагерь под Орлеаном обоз с припасами, которому битва была обязана своим названием. После повторного ухода бургундских союзников в окопах осталось всего 3 тысячи англичан, но хотя город кишел рыцарями, они в течение шести месяцев осады ни разу не отважились на вылазку.
Однако успех кучки английских завоевателей зависел от наведенного ими на Францию ужаса, а появление Жанны сразу разрушило эти чары. Ей шел тогда восемнадцатый год, она была высокого роста и прекрасного сложения, крестьянское воспитание развило в ней силу и деятельность: она могла оставаться на лошади без еды и питья от зари до вечера. Когда она садилась на своего боевого коня, с головы до ног одетая в белые доспехи, с украшенным лилиями белым знаменем над головой, она казалась «по виду и по разговору совсем божественным существом». Десять тысяч всадников, последовавшие за ней из Блуа, — грубые грабители, знавшие только молитву Лагира: «Господи Боже, прошу тебя, сделай Лагиру то, что он сделал бы для тебя, если бы ты был полководцем, а он —Богом»,— отказались по слову ее от проклятий и распутства и во время похода стали посещать богослужение. Ее крестьянский здравый смысл помогал ей управляться с грубыми солдатами, и ее спутники смеялись за лагерными кострами над старым воином, который был так смущен запретом божбы, что она позволила ему клясться его палкой.
При всем ее энтузиазме здравый смысл никогда не покидал ее. Всюду, где она проезжала, вокруг нее собирался народ, прося у нее чудес и принося кресты и четки, чтобы она освятила их своим прикосновением. «Прикоснитесь к ним сами, — сказала она одной старухе, — Ваше прикосновение будет так же действенно, как и мое». Но ее вера в свое предназначение осталась по-прежнему твердой. «Дева просит и умоляет Вас, — писала она Бедфорду, — не тревожить более Франции, но идти вместе с ней на освобождение Святого города от турок». «Я приношу Вам, — сказала она Дюнуа, когда он вышел из Орлеана к ней навстречу, лучшую помощь, когда-либо посланную человеку, — помощь Царя Небесного».
Осаждающие со страхом смотрели на ее въезд в Орлеан и на объезд ею стен, причем она убеждала народ смотреть без боязни на окружавшие его грозные форты. Ее энтузиазм увлек колебавшихся вождей, они напали на горсть победителей, и огромное неравенство сил тотчас обнаружилось. Французы брали один форт за другим, пока не остался один, сильнейший, и тогда военный совет решил отсрочить нападение. «Вы приняли ваше решение, — возразила Жанна, — а я принимаю свое». Став во главе конницы, она приказала отворить ворота и повела ее на врага. Хотя англичан было мало, но они бились отчаянно; Жанна упала раненной, пытаясь взойти на стену, и была отнесена в виноградник, а Дюнуа велел бить отбой. «Подождите немного! — сказала повелительно Дева. — Поешьте и попейте! Как только мое знамя коснется стены, вы войдете в форт». Знамя поднесли, и осаждающие ворвались. На другой день осада была снята, и ведшее ее войско отступило в полном порядке на север.
Рис. Жанна д’Арк.
Во время своего триумфа Жанна оставалась все той же чистой, нежной и любящей девой Вогезов. Первым делом ее по вступлении в Орлеан было посещение собора, и там, преклонив колени во время обедни, она отдалась порыву набожности и так заплакала, что «с ней заплакал весь народ». Слезы снова вырвались у нее при первом взгляде на кровопролитие и на трупы, разбросанные по полю битвы. Она сильно испугалась первой раны и только тогда освободилась от порыва женского страха, когда услышала сигнал к отступлению. Еще более женственной была чистота, которую она сохраняла среди грубых воинов средневекового лагеря. Забота о своей чести и побудила ее одеться в солдатское платье. Она плакала горькими слезами, когда ей сказали о грязных насмешках англичан, и горячо просила Бога засвидетельствовать ее чистоту. «Сдавайся, сдавайся, Глесдель, — закричала она английскому воину, всего наглее оскорблявшему ее, когда он раненным упал к ее ногам, — ты называл меня распутницей, а я сильно жалею о твоей душе».
Но всякая мысль о себе исчезала у нее перед мыслью о ее предназначении. Напрасно вожди французов хотели оставаться на Луаре. Жанна стремилась закончить свое дело, и в то время как пораженные страхом англичане оставались около Парижа, она повела за собой войско, все возраставшее по пути, пока оно не дошло до ворот Реймса. С коронацией Карла VII Жанна почувствовала, что ее дело сделано. «Благородный король, воля Божья свершилась!» — воскликнула она, бросаясь к ногам Карла VII и прося позволения вернуться домой. «О, если бы Ему было угодно, — говорила она архиепископу, уговаривавшему ее остаться, — чтобы я могла уйти и снова стеречь овец с моими сестрами и братьями; им было бы так приятно увидеть меня снова!»
Политика французского двора удерживала Жанну, пока города Северной Франции открывали свои ворота перед вновь коронованным королем. Между тем Бэдфорд, все время остававшийся без денег и подкреплений, вдруг получил помощь, и Карл VII, отброшенный от стен Парижа, отступил за Луару, а города по Уазе снова покорились герцогу Бургундскому. В этой новой войне Жанна сражалась с ее обычной храбростью, но и с удручающим сознанием того, что ее предназначение выполнено. Во время защиты Компьеня она попала во власть незаконного Вандома, который продал ее герцогу Бургундскому, а тот — англичанам. Для англичан ее победы были торжеством колдовства, и после годичного заключения ее по обвинению в ереси привлекли к суду церкви с епископом Бове во главе.
В течение долгого процесса употребляли все уловки, чтобы запутать ее в показаниях, но здравая простота крестьянской девушки расстраивала все старания судей. «Веришь ли ты, —спрашивали ее, — что ты находишься в состоянии благодати?» «Если нет, — ответила она, — Бог приведет меня к нему; если да, то Он сохранит меня в нем». Ее плен, доказывали ей, показал, что Бог покинул ее. «Если Богу было угодно, чтобы меня взяли, — кротко отвечала она, — то это к лучшему». «Подчинишься ты, — спросили у нее, наконец, — приговору воинствующей церкви?» «Я пришла к королю Франции, — ответила Жанна, — по велению Бога и церкви, торжествующей на Небе; ей я и покоряюсь». «Я скорее умру, — воскликнула она с увлечением, чем откажусь от того, что сделала по приказу моего Господа!» Ей запретили посещать обедню. «Господь может позволить мне слушать ее без вашей помощи», — сказала она со слезами. «Не запрещают ли тебе твои голоса, — спросили судьи, — подчиняться церкви и папе?» «О, нет! Наш Господь первый служил».
Неудивительно, что когда процесс затянулся и за допросом следовал допрос, мужество больной и лишенной всякого религиозного утешения Жанны, наконец, поколебалось. На обвинение в колдовстве и сношении с дьяволом она еще твердо отвечала апелляцией к Богу. «Я обращаюсь к моему судье, — сказала она, когда ее земные судьи осудили ее, к Царю Неба и земли. Бог был всегда моим руководителем во всем, что я совершила. Дьявол никогда не имел власти надо мной». Она согласилась на формальное отречение от ереси только для того, чтобы ее освободили из военной тюрьмы и перевели в церковную. Действительно, среди английских наемников она опасалась покушений на свою честь, для предотвращения которых она с самого начала надела мужское платье. В глазах церкви ее одеяние было преступлением, и она сменила его, но новые оскорбления вынудили ее вернуться к этому единственному остававшемуся у нее средству, и это было объявлено возвращением к ереси, обрекавшим ее на смерть.
На рыночной площади Руана, где теперь стоит ее статуя, был сложен большой костер. Даже грубые солдаты, вырвавшие ненавистную «ведьму» из рук духовенства и ведшие ее на смерть, замолкли, когда она дошла до костра. Один из них даже передал ей грубый крест, сделанный из палки, которая была у него в руках, и она прижала его к своей груди. «О, Руан, Руан! — воскликнула она, с высоты эшафота окидывая взглядом город. — Я очень боюсь, что ты пострадаешь за мою смерть». «Да! Мои голоса были от Бога! — внезапно воскликнула она, когда наступила последняя минута. — Они никогда не обманывали меня!» Скоро пламя дошло до нее, голова ее опустилась на грудь, раздался крик: «Иисусе!» «Мы погибли, — пробормотал один воин, когда толпа стала расходиться, — мы сожгли святую».
Действительно, дело англичан было безвозвратно проиграно. Несмотря на пышную коронацию малолетнего Генриха VI в Париже, Бедфорд с присущим ему благоразумием оставил, по-видимому, всякую надежду надолго удержать за собой Францию и вернулся к первоначальному плану своего брата — обеспечить за собой Нормандию. В течение года двор Генриха VI оставался в Руане, в Кане был основан университет, и какие бы грабежи и беспорядки ни допускались в других местностях, в излюбленных областях постоянно поддерживались правосудие, хорошее управление и безопасность сношений. В Англии Бедфорда решительно поддерживал епископ Уинчестерский, возведенный в сан кардинала и в это время снова управлявший страной при посредстве Королевского совета, несмотря на бесплодное сопротивление герцога Глостерского.
Даже когда интриги Глостера вынудили его покинуть Совет, его огромное богатство лилось без остановки в истощенную казну, пока его займы короне не дошли до полумиллиона; а после освобождения Орлеана он без стеснения направил на помощь Бедфорду армию, набранную им за свой счет для похода против гуситов Богемии. Дипломатическое искусство кардинала выявилось в вымоленном им у Шотландии перемирии и в его личных стараниях предотвратить примирение Бургундии и Франции. Однако в 1435 году герцог Бургундский заключил формальный договор с королем; еще более тяжелым ударом для англичан была смерть Бедфорда. Париж внезапно восстал против английского гарнизона и высказался в пользу Карла VII. Владения Генриха VI сразу ограничились Нормандией и дальними крепостями Пикардии и Мена.
Но имея перед собой целую вооруженную нацию, горсть английских воинов боролась с такой же отчаянной храбростью, как и в дни побед. Самый смелый из их вождей, лорд Тальбот, перешел Сомму вброд, по горло в воде, чтобы освободить Кротуа, и переправил свой отряд через Уазу для спасения Понтуаза на глазах у французской армии. Преемник Бедфорда по регентству, герцог Йоркский, своими талантами остановил на время поток неудач, но зависть к нему советников короля оказала роковое влияние на ход войны. Новая попытка заключить мир была предпринята графом Суффолком, который после отправки престарелого Бофора в Уинчестер руководил Советом и вел переговоры о браке Генриха VI с Маргаритой, дочерью Рене, или герцога Анжу. Не только Анжу, вовсе не принадлежавшее Англии, но и Мен, оплот Нормандии, были отданы герцогу Рене как плата за брак, который граф Суффолк считал прелюдией к миру.
Однако его условия и отсрочки, еще оттянувшие заключение окончательного мира, позволили собраться с силами военной партии с Глостером во главе. Опасность встретила резкий отпор. Глостера арестовали на пути в парламент по обвинению в тайном заговоре, а через несколько дней его нашли мертвым в его доме. Но вызванные действиями Глостера затруднения остановили графа Суффолка в переговорах, и хотя угрожая войной, Карл VII добился сдачи Леманса, но в основном условия договора остались невыполненными. Ситуация стала безнадежной. Через два месяца после возобновления войны половина Нормандии была в руках Дюнуа; Руан восстал против слабого гарнизона и отворил ворота Карлу VII, а поражение англичан при Фурминьи послужило сигналом к восстанию всей остальной провинции. Сдача Шербура в 1450 году отняла у Генриха VI последний населенный пункт Нормандии, а через год был утрачен остаток Гиени. Гасконь, впрочем, еще раз подчинилась Англии, когда на ее берега высадилось войско под командой Тальбота, графа Шрусбери; но прежде чем ему на помощь смогли перебраться через Ла-Манш двадцать тысяч человек, набор которых был разрешен парламентом, граф Шрусбери вдруг очутился лицом к лицу со всей французской армией. Его отряд был истреблен огнем неприятеля, а сам граф пал на месте.
Сдача одной крепости за другой обеспечила окончательное изгнание англичан из Франции. Таким образом, Столетняя война закончилась не только потерей для Англии всех завоеваний, совершенных со времен Эдуарда III, за исключением Кале, но и потерей большой южной области, постоянно остававшейся в руках англичан со времени брака ее герцогини Элеоноры с Генрихом II, а также превращением Франции в гораздо более сильную державу, чем она была раньше.
РАЗДЕЛ VI НОВАЯ МОНАРХИЯ (1450—1471 гг.)
Глава I ВОЙНЫ РОЗ (1450—1471 гг.)
Неудачный исход великой борьбы с Францией вызвал в Англии взрыв ярости против жалкого правительства, слабости и легковерию которого она приписывала свои несчастья. Граф Суффолк был привлечен к ответу и убит, когда отправлялся за море в изгнание. Когда епископ Чичестерский был прислан для уплаты жалованья матросам в Портсмуте и попытался отделаться от них меньшей, чем следовало, суммой, они напали на него и убили. В Кенте недовольство перешло в открытый мятеж. Кент служил главным фабричным округом эпохи и был переполнен рабочим населением; столкновения с Францией особенно задевали его из-за морского разбоя «Пяти портов», где в каждом доме встречалась добыча. Из Кента мятеж распространился по Сэррею и Сассексу. Крестьяне трех графств собрали войско; к мятежникам присоединилось более ста помещиков и дворян; их делу открыто благоприятствовали два крупных землевладельца Сассекса, аббат монастыря Битвы и приор Льюиса. Джон Кэд, солдат, приобретший некоторый опыт в войне с Францией, под многозначительным именем Мортимера и стал во главе их, и армия в 20 тысяч человек двинулась к Блэкгизсу.
«Жалоба общин Кента», представленная ими Королевскому совету, очень ценна тем, что она проливает свет на положение народа. Ни одно требование не затрагивает религиозной реформы. Вопрос о крепостном состоянии и рабстве тоже не встречается в «Жалобе» 1450 г. За семьдесят лет, прошедших со времени последнего крестьянского восстания, ход социального развития сам собой устранил крепостное состояние. Законы об одежде, загромождающие с этого времени Книгу статутов, с их стремлением упрощать одеяние рабочих и арендаторов указывают на возрастание комфорта и благосостояния этих классов. Сами выражения этих законов показывают, что, несмотря на постановление, направленное против роскоши, арендатор и рабочий начали одеваться лучше. За исключением требования отменить Статут о рабочих, программа общин носила теперь не социальный, а политический характер.
«Жалоба» требовала административных и финансовых реформ, смены министров, более бережливого расходования королевских доходов и восстановления свободы выборов, нарушавшейся вмешательством как короны, так и крупных землевладельцев. За отказом Совета принять «Жалобу» последовала победа кентцев над войсками короля при Севеноке, а вступление мятежников в Лондон, наряду с умерщвлением лорда Сэя, наиболее ненавистного из министров короля, сломило упорство его товарищей. «Жалоба» была принята, всем участникам восстания даровано прощение, и мятежники разошлись по домам. Кэд, напрасно старавшийся удержать их оружием, пытался образовать новое войско, выпустив из тюрем преступников, но его люди перессорились, и он был убит шерифом Кента во время бегства в Сассекс. «Жалоба» была оставлена без внимания. Никто не пытался устранить указанных в ней злоупотреблений, и наиболее ненавистный народу человек, герцог Сомерсет, занял место во главе Королевского совета.
Бофор, или герцог Сомерсет, как внук Джона Гентского и его любовницы Катарины Суинфорд был представителем младшей линии дома Ланкастеров; в акте, узаконивавшем ее, Генрих IV поместил оговорку, лишавшую ее прав на престол, но бездетность Генриха VI пробудила в ней надежды на корону. Соперником Сомерсета являлся герцог Йорк, наследник домов Йорка, Кларенса и Мортимера, хвалившийся происхождением от Эдуарда III по обеим линиям. Кроме других притязаний, от предъявления которых Йорк пока воздерживался, он требовал признания своего права на наследование престола в качестве потомка пятого сына Эдуарда III — Эдмунда Лэнгли. Расположение народа было, по-видимому, на его стороне, но рождение в 1453 году у короля сына обещало избавить корону от враждующих партий. Однако Генрих VI впал в состояние безумия, лишавшее его возможности управлять, и регентом королевства был назначен Йорк. Когда Генрих VI оправился, власть вернул себе Сомерсет, который был обвинен Йорком и заточен в Тауэр и которого королева поддерживала с чрезвычайными энергией и смелостью.
Йорк тотчас поднял оружие и, поддерживаемый графами Солсбери и Уорвика, главами сильного рода Невилей, с отрядом в 3 тысячи человек приблизился к Сент-Олбансу, где расположился лагерем Генрих VI. Успешное нападение на город сопровождалось смертью Сомерсета, а возврат болезни короля привел к возобновлению протектората Йорка. Выздоровление Генриха VI снова восстановило преобладание дома Бофоров, и после временного примирения обеих партий война началась опять: Йорк с двумя графами подняли свое знамя при Ледлоу. Король быстро двинулся на мятежников, и решительная битва была предотвращена только бегством части войска Йорка и роспуском остальной. Сам герцог бежал в Ирландию, графы — в Кале, а королева созвала парламент в Ковентри и настаивала на их осуждении. Но война была прервана только на время. На следующее лето графы снова высадились в Кенте и, опираясь на общее восстание этого графства, вступили в Лондон под громкие приветствия его граждан. Королевская армия была разбита в упорном сражении при Нортгемптоне (1460 г.), Маргарита бежала в Шотландию, а Генрих VI остался пленником в руках герцога Йорка.
Рис. Генрих VI.
Рождение сына Генриха VI устранило притязания Йорка на наследование престола. Но едва победа предоставила ему высшее руководство делами, как он решился выставить гораздо более опасные притязания, которые давно лелеял в тайне и сознанию которых он был обязан постоянной враждой Генриха VI и Маргариты. Как потомок Эдмунда Лэнгли он был ближайшим наследником только после дома Ланкастеров, но как потомок Лайонела, старшего брата Джона Гентского, он имел преимущество по строгому праву наследования. Нам уже известно, как права Лайонела перешли к дому Мортимеров; через Анну, наследницу Мортимеров, вышедшую замуж за отца герцога, они перешли на последнего. Однако у парламента не было законных оснований ограничивать права старшей линии в пользу младшей, и в постановлении парламента, предоставившем престол дому Ланкастеров, право дома Мортимеров было намеренно обойдено. Принадлежность короны Ланкастерам также свидетельствовала против притязаний Йорка. На наш взгляд, лучшим ответом на них служили слова, произнесенные впоследствии самим Генрихом VI: «Мой отец был королем; его отец также был королем; сам я сорок лет, с колыбели, носил корону; все вы клялись мне в верности как своему государю, и то же делали ваши отцы относительно моего. Так как же можно оспаривать мое право?»
В пользу дома Ланкастеров говорили долгое и спокойное обладание короной, а также чисто юридическое право, данное свободным решением парламента. Но преследование лоллардов, давление на избирателей, военные неудачи, постоянные злоупотребления администрации возмущали народ против слабого и малодушного короля, царствование которого сопровождалось непрерывной борьбой враждующих партий. Насколько беспорядочным было правление, показывало настроение городского населения. Победа при Нортгемптоне была обусловлена восстанием Кента, главного промышленного округа страны. В течение всей последовавшей затем борьбы Лондон и крупные торговые города постоянно стояли за дом Йорков. Преданность Ланкастерам сказывалась только в Уэльсе, на севере Англии и в юго-западных графствах. Нелепо было бы предполагать, что смышленые купцы Чипсайда руководствовались отвлеченным вопросом о престолонаследии или что дикие уэльсцы считали себя защитниками права парламента определять престолонаследие.
Влияние, приобретенное парламентом, подтверждается тем, что герцог Йорк счел нужным созвать обе палаты и предъявить лордам свои притязания в виде прошения о праве наследования. Он утверждал, что его наследственное право не может быть уничтожено ни присягами, ни рядом актов, устанавливавших и подтверждавших право дома Ланкастеров на корону. Бароны приняли прошение с плохо скрытым неудовольствием и надеялись решить вопрос при помощи компромисса. Они отказались низложить короля, но не принесли присяги его сыну и обещали после смерти Генриха VI признать его преемником герцога. Открытое заявление притязаний Йорка тотчас подняло всех сторонников королевского дома, и началась ужасная борьба, получившая название войны Роз, — Белой розы, служившей эмблемой дома Йорков, и Алой розы, бывшей знаком дома Ланкастеров; началась она восстанием на севере, под руководством лорда Клиффорда и на западе во главе с новым герцогом Сомерсетом. Йорк поспешил навстречу северянам с небольшими силами, но отряд его был разбит и сам он убит при Уэкфилде (1460 г.).
Ожесточение междоусобной борьбы выплеснулось на поле битвы: граф Солсбери был повешен, а голова герцога Ричарда, в насмешку увенчанная бумажной короной, говорят, была выставлена на стенах Йорка. Его второй сын, лорд Ретлэнд, на коленях просил пощады у Клиффорда, но отец последнего был первой жертвой битвы при Сент-Олбансе, которой началась борьба. «Твой отец убил моего, — воскликнул свирепый барон, погружая кинжал в грудь юноши, — а я убью тебя!» За этой жестокостью должно было последовать мщение. Старший сын герцога Ричарда Эдуард, граф Марч, поспешил с запада и, разбив отряд ланкастерцев, смело бросился на Лондон. Отряд кентцев под командой графа Уорвика преградил ланкастерской армии путь к столице, но после отчаянной битвы при Сент-Олбансе отступил под прикрытием ночи. Немедленное наступление победителей могло бы решить исход борьбы, но королева Маргарита остановила его, чтобы запятнать свою победу рядом кровавых казней, а грубые северяне, составлявшие ядро ее войска, бросились грабить страну. В это время Эдуард появился под Лондоном. Граждане собрались на его призыв и криками: «Да здравствует король Эдуард!» встретили прекрасного юношу, ехавшего по улицам города. Поспешно было созвано собрание преданных Йоркам лордов, и оно постановило, что принятое парламентом соглашение утратило силу и Генрих VI Ланкастер лишился престола. Но конечный исход борьбы зависел теперь уже не от парламента, а от меча. Прогадав в расчете на Лондон, ланкастерская армия стала быстро отступать к северу, а Эдуард Йоркский так же поспешно бросился ее преследовать.
Обе армии встретились при Таутоне 29 марта 1461 года. Со времен битвы при Сенлаке в Англии не было такого сражения как по числу участников, так и по страшному упорству борьбы. Обе армии насчитывали около 120 тысяч человек. На рассвете, при сильной снежной метели, войска Йорка двинулись вперед, и сражение продолжалось шесть часов, причем обе стороны выказали отчаянную храбрость. В критическую минуту отряд Уорвика поколебался; тогда он на глазах у всех убил своего коня и поклялся крестом своего меча — победить или умереть на поле битвы. Прибытие Норфолка со свежими силами определило исход боя. Ланкастерцы, наконец, начали отступать, река в их тылу превратила отступление в бегство, а бегство и резня продолжались всю ночь и весь следующий день, так как ни одна из сторон не уступала другой. Герольд Эдуарда насчитал на поле битвы более 20 тысяч павших ланкастерцев, и едва ли меньше были потери победителей. Зато их торжество было полным. Граф Нортумберленд был убит, графы Девоншира и Уилтшира взяты в плен и обезглавлены, герцог Сомерсет уехал в изгнание. Сам Генрих с королевой были вынуждены пересечь границу и искать убежищав Шотландии.
Дело дома Ланкастеров было проиграно: с победой при Таутоне корона Англии перешла к Эдуарду IV Йоркскому. Подробный закон об опале (attainder) конфисковал имения и разорил вельмож и дворян, все еще стоявших за дом Ланкастеров. Дальнейшая борьба Маргариты только навлекла новые несчастья на ее приверженцев. Новое восстание на севере было подавлено графом Уорвиком. Легенда, освещающая поэтическим блеском сумрак эпохи, рассказывает о том, как беглая королева, с трудом избежав шайки разбойников, встретилась в глуши леса с новым бродягой; со смелостью отчаяния она вверила ему свое дитя. «Я вверяю твоей верности, — сказала она, — сына твоего короля». Маргарита и ее сын перешли границу под покровительством разбойника; но при подавлении нового восстания Генрих, после беспомощных блужданий, был предан в руки своих врагов. Его ноги были привязаны к стременам, он был трижды обведен вокруг позорного столба и затем в качестве пленника отведен в Тауэр.
Хотя в действительности феодализм был сильно подорван упадком аристократии, все продолжавшимся вымиранием знатных семейств и дроблением крупных владений, но он никогда не представлялся таким могущественным, как в годы, последовавшие за Таутоном. Среди общего крушения аристократии беспримерного величия достигла фамилия, всегда выделявшаяся среди ей подобных. Лорд Уорвик был по рождению графом Солсбери, сыном крупного вельможи, поддержка которого главным образом и помогла дому Йорков занять престол. Он удвоил свое богатство и влияние, благодаря приобретению графства Уорвик через брак с наследницей Бошанов. Его услуги делу Йорков были щедро вознаграждены пожалованием крупных имений из конфискованных у ланкастерцев земель и назначением на высшие должности государственной службы. Он был губернатором Кале, адмиралом Ла-Маншского флота и правителем западных окраин. Его личное могущество находило себе опору в могуществе дома Невиллей, главой которого он был. Правление на северной границе было в руках его брата, лорда Монтегю, который в счет своей доли получил конфискованное графство Нортумберленд и земли своих наследственных врагов Перси. Младший брат Уорвика был назначен архиепископом Йоркским и лордом-канцлером. Меньше наград досталось его дядям.
Граф чрезвычайно искусно пользовался огромным влиянием, которое приносило ему подобное скопление богатств и должностей в его роду. По внешнему виду Уорвик был настоящим типом феодального барона. При желании он мог набрать в своих графствах целые армии. Отряд из 600 дружинников сопровождал его в парламент. Тысячи вассалов пировали во дворе его замка. Но в действительности немногие так сильно отличались от феодального идеала. Он был деятельным и жестоким воином, но враги отрицали его личную храбрость. На войне он был скорее полководцем, чем солдатом. В сущности, он обладал не столько военным, сколько дипломатическим талантом; особенно ловок был он в интригах и изменах, в придумывании заговоров и во внезапных переходах на другую сторону. В юном короле, которого он посадил на престол, он встретил не только прекрасного полководца, но и проницательного и находчивого политика, которому суждено было оставить глубокий и прочный след в характере самой монархии.
Рис. Эдуард IV.
При вступлении на престол Эдуарду IV было всего девятнадцать лет, и как родство, так и недавние услуги сделали Уорвика в первые три года нового царствования всемогущим человеком в государстве. Но окончательная неудача Генриха в 1464 году подала сигнал к скрытой борьбе между графом и его молодым государем. Первым шагом Эдуарда IV было объявить о своем браке со вдовой убитого ланкастерца Елизаветой Грей в то самое время, как Уорвик вел переговоры о браке с французской принцессой. Семья Елизаветы — Удвилли — была выдвинута в противовес Невиллям: ее отец, лорд Риверс, был назначен казначеем и констеблем; ее сын от первого брака был помолвлен с наследницей герцога Эксетера, которой Уорвик добивался для своего племянника. Политика Уорвика предусматривала тесный союз с Францией; потерпев неудачу в своем первом проекте, теперь он настаивал на браке сестры короля Маргариты с французским принцем, но когда он отправился во Францию для переговоров с Людовиком XI, Эдуард IV воспользовался его отсутствием, отнял у его брата канцлерство и подготовил брак Маргариты с заклятым врагом Людовика и Уорвика Карлом Смелым, герцогом Бургундии.
Уорвик отвечал на вызов Эдуарда IV заговором, имевшим целью объединить недовольных йоркцев вокруг брата короля, герцога Кларенса. Тайные переговоры окончились браком его дочери с Кларенсом, и немедленно вспыхнувшее восстание отдало Эдуарда IV в руки его могучего подданного. Но смелый план потерпел неудачу: Йоркские вельможи потребовали освобождения короля. Уорвик мог искать поддержки только у ланкастерцев, но в отплату за нее последние потребовали восстановления Генриха. Такое требование разрушило план посадить Кларенса на престол, и Уорвик был вынужден формально примириться с королем. Следующей весной вспыхнуло новое восстание в Линкольншире, но теперь король был готов к борьбе. Быстрое продвижение на север закончилось бегством мятежников, и король обратился против виновников восстания. Но ни Кларенс, ни Уорвик не могли собрать войска для борьбы с ним: и йоркцы, и ланкастерцы держались в стороне от них, и они вынуждены были бежать. Кале, хотя им правил наместник Уорвика, не допустил их в свои стены, и флот графа должен был искать убежища во Франции, где бургундские связи Эдуарда IV обеспечивали его врагам поддержку Людовика XI.
Бессовестность графа обнаружилась в союзе, который он тотчас заключил со сторонниками дома Ланкастеров. Королева Маргарита обещала женить своего сына на его дочери, а Уорвик обязался вернуть корону царственному пленнику, которого сам он вверг в Тауэр. Он выбрал время, когда Эдуард IV был занят восстанием на севере, а бургундский флот, охранявший Ла-Манш, — рассеян бурей, и смело кинулся на берега Англии. По мере движения к северу его войско все возрастало, а отступничество лорда Монтегю, все еще пользовавшегося доверием Эдуарда IV, принудило короля, в свою очередь, искать убежища за морем. В то время как Эдуард IV с горстью своих приверженцев отправился просить помощи у Карла Смелого, Генрих Ланкастер из тюрьмы был снова возведен на престол, но это не вызвало благодарности к «делателю королей» в партии, так беспощадно им сокрушенной. Когда весной 1471 года Эдуард IV снова высадился при Рэвенспере, поведение Уорвика и его партии указывало на их отвращение к новому союзу; это отвращение, быть может, еще усиливал страх перед Маргаритой, возвращения которой в Англию ожидали с часу на час. Эдуард IV прошел по ланкастерским округам севера, объявляя, что отказывается от всяких прав на корону и добивается только своего наследственного герцогства; войско, собранное Монтегю, пропустило его, и на марше к нему присоединился его брат Кларенс, все время действовавший по соглашению с Уорвиком.
Сам граф, расположившись лагерем при Ковентри, готовил такую же измену, но прибытие двух ланкастерских вождей положило конец переговорам. Когда Монтегю соединился со своим братом, Эдуард IV, сопровождаемый армией Уорвика, направился на Лондон, ворота которого были открыты вследствие измены брата графа, архиепископа Невилля, и Генрих Ланкастер снова Переселился в Тayэр. Битва при Бэрнете 14 апреля 1471 года — смешение резни и предательства закончилась гибелью Уорвика, которого упрекали в позорном бегстве. Маргарита явилась слишком поздно, чтобы помочь своему могучему стороннику, а воинское торжество Эдуарда IV было увенчано мастерской стратегией, с которой он принудил к битве и разбил наголову ее войско при Тьюксбери. Сама королева была взята в плен, а ее сын пал на поле битвы (как говорили, зарезанный Йоркскими лордами), когда Эдуард IV ударом железной перчатки ответил на его просьбу о пощаде. Смерть Генриха Ланкастера в Тауэре 4 мая сокрушила последние надежды дома Ланкастеров.
Глава II НОВАЯ МОНАРХИЯ (1471—1509 гг.)
Немного периодов в нашей истории, которые возбуждали бы такую скуку и отвращение, как эпоха войны Роз. Голый эгоизм целей, из-за которых шла борьба, полное отсутствие в ней всякого благородства и рыцарства, а также значительных последствий в результате придает еще более ужасный характер ее кровавым битвам, жестоким казням и бессовестным изменам. Но даже в самый разгар борьбы спокойный взгляд проницательного политика мог найти в ней предмет для других чувств, кроме простого отвращения. Для Филиппа де Коммина Англия представляла редкое зрелище, где, несмотря на ожесточенные междоусобицы, «нет разрушенных или разграбленных зданий и где бедствия войны падают на тех, кто в ней участвует». Действительно, разорение и кровопролитие ограничивалось поместьями крупных баронов и их вассалов. Раз или два — например, при Таутоне — в борьбу вмешивались города, но в основном городские и сельские классы держались от нее в стороне. Медленно, но постоянно в руки англичан переходила внешняя торговля страны, которую до того вели итальянские и ганзейские купцы или торговцы Каталонии и Южной Франции. Английские купцы селились во Флоренции и Венеции. Английские торговые суда появлялись в Балтийском море. Масса покровительственных законов, составляющих важную особенность законодательства Эдуарда IV, отмечает первые робкие шаги фабричной промышленности.
Общее спокойствие всей страны, несмотря на ожесточенные междоусобицы среди аристократии, доказывается тем замечательным фактом, что суды продолжали действовать в полном порядке. Судебные палаты заседали в Вестминстере, судьи по-прежнему совершали свои объезды. Благодаря обособлению присяжных от свидетелей, суд присяжных все больше приближался к современной форме. Но если ложен обычный взгляд, представляющий Англию во время войны Роз чистым хаосом измены и кровопролития, то еще более неправильно было бы считать маловажными последствия междоусобиц. Война Роз не только погубила одну династию и возвела на престол другую. Она, если и не уничтожила совсем, то более чем на столетие остановила развитие английской свободы. В начале ее Англия, по словам Коммина, «из всех известных мне государств мира была страной с наилучшим устройством, где народ менее всего подвергался притеснениям». Король Англии, замечал проницательный наблюдатель, не может предпринять ничего важного, не созвав своего парламента, что считается самым мудрым и святым делом, и поэтому здесь королям служат усерднее и лучше, чем деспотичным государям материка. Писавший в это время судья, сэр Джон Фортескью, мог хвалиться тем, что власть английского короля — не абсолютная, а ограниченная монархия; в Англии законом служила не воля государя, и он не мог издавать законы или налагать подати не иначе как с согласия своих подданных.
Никогда еще парламент не принимал такого постоянного и сильного участия в управлении страной. Никогда еще начала конституционной свободы не казались столь понятными и дорогими всему народу. Долгий спор между короной и обеими палатами со времени Эдуарда I прочно установил великие гарантии народной свободы от произвольного обложения, произвольного издания законов, произвольного ареста и ответственность даже высших слуг короны перед парламентом и законом. Но с окончанием борьбы за престолонаследие эта свобода внезапно исчезла. Начался период конституционной реакции, быстро разрушавший медленные созидания предшествовавшего века. Деятельность парламента почти прекратилась или вследствие подавляющего влияния короны стала чистой формальностью. Законодательные права обеих палат были захвачены Королевским советом. Произвольное налогообложение появилось снова — в виде добровольных приношений или принудительных займов. Личная свобода была почти уничтожена широкой системой шпионажа и применением произвольных арестов. Правосудие было унижено щедрым использованием биллей об опале, расширением судебной власти Королевского совета, давлением на присяжных, раболепством судей.
Перемены были столь разительны и всеобъемлющи, что поверхностным наблюдателям позднейшего времени представлялось, будто конституционная монархия Эдуардов и Генрихов при Тюдорах внезапно превратилась в деспотизм, ничем не отличавшийся от турецкого. Взгляд этот, без сомнения, преувеличен и не совсем справедлив. Каким бы ограничениям и искажениям ни подвергался закон, всегда даже самовластные короли Англии признавали его ограничение, а повиновение самого раболепного подданного ограничивалось в области религии и политики пределами, перешагнуть которые его не мог заставить никакой культ государя. Но даже при таких оговорках характерные черты монархии со времени Эдуарда IV до эпохи Елизаветы остаются в нашей истории чем-то чуждым и обособленным. Власть старых английских и нормандских королей, анжуйцев или Плантагенетов, трудно сравнивать с властью королей дома Йорков или Тюдоров.
Отыскивая причину такого внезапного и полного переворота, мы находим ее в исчезновении общественного строя, при котором наша политическая свобода находила защиту. Свобода была приобретена мечами баронов, за сохранением ее ревниво следила церковь. Новый класс общин, образовавшийся из союза сельского дворянства с городским купечеством, по мере своего роста расширял область политической деятельности. Но в конце войны Роз эти старые путы уже переставали ограничивать действия короны. Аристократия все больше приходила в упадок. Церковь томилась в тоске и беспомощности, пока ее не поразил Томас Кромвель. Торговцы и мелкие собственники впали в политическую бездеятельность. С другой стороны, корона, всего пятьдесят лет назад служившая игрушкой для всех партий, приобрела всеобъемлющее значение. Старая королевская власть, ограниченная силами феодализма, духовным оружием церкви и завоеваниями политической свободы, внезапно исчезла, и на ее месте возник всепоглощающий и неограниченный деспотизм новой монархии.
Хотя, конечно, переворот имел глубокий характер, но он был подготовлен постепенным появлением объективных причин. Социальная организация, из которой развился и на которой основывался политический строй, была постепенно подорвана развитием промышленности, ростом церковного и светского просвещения, изменениями в военном деле. Ее падение было ускорено новым отношением людей к церкви, ограничением выборного права общин, упадком знати. Из крупных фамилий одни вымерли, другие прозябали в младших линиях, сохранявших только тень своего прежнего величия. За исключением Полей, Стэнли и Говардов, — фамилий тоже недавнего происхождения, — едва ли какая-нибудь ветвь старой аристократии принимала участие в делах управления. Ни церковь, ни мелкие землевладельцы, вместе с купечеством составлявшие общины, не желали занимать место разоренных баронов.
По воспоминаниям о прошлом, огромному богатству и политической опытности духовенство все еще представлялось внушительной корпорацией, но его влияние подрывалось отсутствием духовного подъема, нравственной косностью, враждебностью по отношению к глубочайшим религиозным убеждениям, слепой неприязнью к умственному развитию, начинавшему волновать мир. Кое-что из прежней самостоятельности, правда, сохранилось еще среди низшего духовенства и монашеских орденов; но свое политическое влияние церковь оказывала через прелатов, а их настроение было совсем не то, что у остального духовенства. Крайняя нужда, вызванная нападками баронов на их светские владения и лоллардов — на их духовную власть, поставила церковников в зависимость от короны, и они отдали свое влияние в распоряжение короля с единственной целью — при помощи монархии предупредить ограбление церкви. Но в широком политическом смысле значение духовенства было ничтожным.
Менее понятно, на первый взгляд, почему должны были, подобно церкви и лордам, утратить свое политическое влияние общины: численность и богатство мелких землевладельцев быстро возрастали, в то время как городской класс богател благодаря развитию торговли. На политическом бессилии Нижней палаты сказались ограничение свободы выборов и давление на них. Это поставило Палату Общин в полную зависимость от аристократии, и она пала вместе с классом, ею руководившим и оказывавшим ей поддержку. Соперничавшие силы исчезли, и монархия готова была занять их место. Духовенство, дворяне и горожане не только не имели сил защищать свободу от короны, но просто интересы самосохранения побуждали их повергнуть свободу к ее ногам. Церковь все еще опасалась нападок ереси. Замкнутые городские корпорации нуждались в защите своих привилегий. Помещик разделял с купцом глубокий страх перед войной и беспорядком, свидетелями которых они были, и желал только одного — снабдить корону такой властью, которая предупредила бы возвращение анархии.
Но, что важнее всего, имущие классы были страстно привязаны к монархии как к единственной большой силе, которая могла спасти их от социального переворота. Восстание общин Кента показывало, что статуты о рабочих, против которых были направлены беспорядки, все еще оставались грозным источником недовольства. Великий земледельческий переворот, раньше описанный нами, — соединение мелких участков в более крупные, уменьшение пахотной земли и расширение пастбищ, — очень содействовал увеличению численности и буйства бродячих рабочих. Во время Генриха VI впервые вспыхнули бунты против «огораживания» общинных земель — бунты, составлявшие отличительную особенность эпохи Тюдоров; они указывали не только на постоянную и повсеместную борьбу между помещиками и мелкими крестьянами, но и на массу социального недовольства, постоянно искавшего выход в насилии и перевороте.
Роспуск свит военной знати и возвращение с войны израненных и увечных солдат внесли в кипящую массу новые порывы насилия и беспорядка. В сущности, в основе деспотизма Тюдоров и лежала эта боязнь социального переворота. Для имущих классов обуздание бедноты было вопросом жизни и смерти. Предприниматели и собственники готовы были отдать свободу в руки единственной власти, которая могла защитить их от социальной анархии. Статутом о рабочих и его страшным наследием — пауперизмом — Англия была обязана эгоистичным опасениям землевладельцев. Своекорыстным страхам землевладельцев и купцов она была обязана деспотизмом монархии.
Основателем новой монархии был Эдуард IV. Еще в юности он показал себя одним из самых способных и жестоких деятелей междоусобной войны. В первом расцвете мужества он с холодной жестокостью смотрел на казни седовласых вельмож. В позднейшей погоне за властью он выказал еще больше тонкости в предательстве, чем сам Уорвик. Едва одержав победу, молодой король, казалось, беспечно отдался сластолюбию, пирам с купчихами Лондона и ласкам любовниц, вроде Джейн Шор. Он отличался высоким ростом и необыкновенной красотой; любезные манеры и беззаботная веселость принесли ему популярность, которой не пользовались и более достойные короли. Но его беспечность и веселость служили только прикрытием для глубокого политического таланта.
По внешнему виду он представлял полную противоположность хитрым государям своего времени, Людовику XI или Фердинанду Арагонскому, но преследовал те же цели, что и они, и так же успешно. Любезничая с эльдорменами, дурачась с любовницами или проводя время в Вестминстере за новыми типографскими листами, Эдуард IV незаметно закладывал основы абсолютной власти. Уже почти полное прекращение деятельности парламента само по себе было переворотом. До этого времени участие парламента в управлении страной все более активизировалось. При первых двух королях Ланкастерского дома он созывался почти каждый год. Общинам были не только предоставлены права самообложения и законодательной инициативы; наряду с этим они принимали участие в управлении государством, руководили расходованием средств и при помощи повторных обвинений привлекали к ответу министров короля.
При Генрихе VI был сделан важный конституционный шаг: была отброшена старая форма представления ходатайств парламента в виде петиций, которые затем Королевский совет превращал в законы; теперь статут представлялся на усмотрение короля в окончательной форме, и корона лишилась права изменять его. Но с царствованием Эдуарда IV прекратилось не только это развитие, но и почти прервалась деятельность парламента. Впервые со времен короля Иоанна не было предложено ни одного закона, развивавшего свободу или исключавшего злоупотребления власти. Нужда в созыве палат отпала вследствие притока в королевскую казну огромных богатств от конфискаций во время междоусобиц. По одному только «Биллю об опале», принятому после победы при Таутоне, король получил имения 12 крупных баронов и более сотни средних и мелких дворян. В какой-то период междоусобиц во владение короля, как говорили, перешла почти пятая часть всех земель. Пошлины были отданы королю пожизненно.
Свои средства Эдуард IV увеличил благодаря активной торговле. Его корабли, груженные оловом, шерстью и сукном, прославили имя царственного купца в гаванях Италии и Греции. Новым источником доходов послужили для него задуманные им предприятия против Франции; хотя они и не удались из-за отказа Карла Смелого в содействии, но средства, предназначенные для так и не начатой войны, только обогатили королевскую казну. Эта предполагаемая война позволила Эдуарду IV не только увеличить его средства, но и нанести смертельный удар по правам, приобретенным общинами. Пренебрегши обычаем заключать займы с разрешения парламента, Эдуард IV призвал к себе в 1474 году лондонских купцов и потребовал от каждого из них «добровольного подарка» (benevolence), соразмерного королевским нуждам. Это требование возбудило сильное недовольство даже тех слоев общества, которые больше всего почитали короля, но сопротивление не принесло пользы, и система «одолжений» скоро развилась в принудительные займы Уолси и Карла I. Эдуарду IV Тюдоры были обязаны введением широкой системы шпионства, применением пыток, привычкой вмешиваться в отправление суда. Более светлый отпечаток носит его царствование только в истории умственного развития: основатель новой монархии может претендовать на наше уважение как покровитель Кэкстона.
Литература находилась, по-видимому, в это время в таком же мертвенном состоянии, как и свобода. Гений Чосера и нескольких его продолжателей еще противодействовал некоторое время педантизму, манерности и бесплодию их века; но внезапное прекращение этого поэтического творчества оставило Англию за толпой рифмоплетов, компиляторов, составителей бесконечных духовных драм и стихотворных хроник, переводчиков устаревших французских романов. В тяжеловесной пошлости Гауэра мелькали еще иногда слабые проблески жизненности и красоты старых образцов; в детских поучениях и прозаических общих местах Окклева и Лидгэта даже и их не заметно. Вместе со средними веками вымирала и их литература: в литературе и жизни их стремление к знанию исчерпало себя в бесплодной путанице схоластической философии, их идеал воинственного благородства был заслонен блестящей мишурой поддельного рыцарства, а мистический энтузиазм набожности под влиянием преследования перешел в узкое правоверие и поверхностную нравственность.
Духовенство, в прежние времена служившее средоточием умственной деятельности, перестало быть просвещенным классом вообще. Монастыри уже не были прибежищами учености. «Я нашел в них, — говорил через 20 лет после смерти Чосера итальянский путешественник Поджио, — много людей, преданных чувственности, но очень мало любителей учености, да и те, по варварскому обычаю, были искуснее в игре словами и софизмах, чем сведущи в литературе». Начавшееся в это время учреждение колледжей не могло остановить в университетах быстрого сокращения числа слушателей и уровня их знаний. В Оксфорде их было до 1/5 числа студентов XIV века, а «оксфордская латынь» стала обычным обозначением наречия, утратившего всякое понятие о грамматике. Исчезла почти всякая литературная деятельность. Историография, впрочем, прозябала еще в компиляции извлечений из прежних писателей, вроде так называемых произведений Уолсингэма, в тощих монастырских летописях или ничтожных популярных изложениях. Единственным живым проявлением умственной деятельности служат многочисленные трактаты об алхимии и магии, эликсире жизни и «философском камне»; развитие этой «плесени» яснее всего доказывает упадок умственного труда.
С другой стороны, параллельно с вымиранием прежнего просвещенного класса отмечается появление интереса к знанию в народных массах. Переписка семейства Пастон, к счастью, сохранившаяся, обнаруживает такие плавность и живость изложения, грамматическую правильность, которые раньше были бы невозможными в частных письмах; она же изображает захолустных помещиков, рассуждающих о книгах и собирающих библиотеки. Сам характер литературы эпохи, ее любовь к сокращенным изложениям научного и исторического знания, драматические представления, или мистерии, банальная мораль поэтов, популярность стихотворных хроник — все это служит доказательством того, что она переставала быть достоянием одного образованного класса и начинала распространяться на весь народ. Этому содействовало употребление тряпичной бумаги вместо более дорогого пергамента. Никогда прежде не изготавливались лучшие рукописи, никогда не переписывалось столько книг. Огромный спрос заставил перенести переписку и разрисовку рукописей из келий монастырей в ремесленные цехи, вроде цеха святого Иоанна в Брюгге или «братьев пера» в Брюсселе.
В сущности, именно это возрастание спроса на книги, памфлеты или «летучие листки», по преимуществу грамматического или религиозного содержания, и вызвало в середине XV века изобретение книгопечатания. Сначала появились листы, грубо отпечатанные с деревянных досок, позже книги печатались с помощью отдельных подвижных букв. Начало книгопечатания было положено в Майнце тремя знаменитыми печатниками — Гутенбергом, Фустом и Шеффером; затем оно было перенесено на юг — в Страсбург, перешло за Альпы, в Венецию, где при посредстве Альдов содействовало распространению в Европе греческой литературы, а потом пустилось по Рейну в города Фландрии. В мастерской Коларда Мансиона, маленьком помещении над папертью церкви святого Доната в Брюгге, и научился, вероятно, Кэкстон тому искусству, которое ему первому довелось ввести в Англию.
Уильям Кэкстон был родом из Кента, но служил посыльным у одного лондонского лавочника и провел 30 лет зрелого возраста во Фландрии, в качестве руководителя гильдии заморских купцов Англии; затем он служил переписчиком у сестры Эдуарда IV, герцогини Маргариты Бургундской. Но скучная работа переписчика была вскоре упразднена новым искусством, принесенным в Брюгге Колардом Мансионом. В предисловии к первой напечатанной им книге, «Троянским рассказам», Кэкстон говорил: «Переписывая одно и то же, мое перо исписалось, моя рука устала и ослабела, мои глаза, долго смотревшие на белую бумагу, потускнели, а мое мужество не так быстро и склонно к работе, как прежде, потому что с каждым днем ко мне подкрадывается старость и ослабляет все тело, а между тем я обещал различным господам и моим друзьям доставить им, как можно скорее, названную книгу; поэтому я с большими трудом и расходами занялся книгопечатанием и изучил его, чтобы отдать названную книгу в печать по тому способу и виду, которые вы можете видеть; она не написана пером и чернилами, как другие книги, так что каждый может получать их только один раз, но все экземпляры этой истории были в один день начаты и в один же день закончены».
Драгоценным грузом, который Кэкстон привез в Англию после 35-летнего отсутствия, был печатный станок. В ближайшие 15 лет, находясь уже в том возрасте, когда другие люди ищут покоя и уединения, он с замечательной энергией погрузился в новое занятие. Его «красный столб», то есть геральдический щит с красной полосой посередине, приглашал покупателей в типографию, помещавшуюся в Вестминстерской богадельне на небольшом дворе, где размещались часовня и несколько принадлежавших богадельне домов возле западного фасада церкви, где бедным раздавалась монастырская милостыня. «Если кому, духовному или мирянину, — гласило его объявление, — угодно купить требник двух или трех Солсберийских поминаний, напечатанный в виде настоящего письма вполне хорошо и верно, тот пусть придет в Вестминстер, в богадельню под красным столбом; там он получит их за дешевую цену». Как показывает это объявление, печатник был практичным, деловым человеком: он не думал соперничать с Альдами Венеции или классическими типографами Рима, а решил своим ремеслом добывать себе средства к существованию, снабжая священников служебниками, а проповедников — проповедями, доставляя ученому «Золотую легенду», а рыцарю и барону — «веселые и забавные рыцарские рассказы».
Но, заботясь о «хлебе насущном», он находил время делать многое для популяризации имевшихся тогда произведений художественной литературы. Он напечатал все, что было в тогдашней английской поэзии сколько-нибудь значительного. О его уважении к «этому почтенному человеку, Джеффри Чосеру, заслуживающему вечной памяти», свидетельствуют не только издание «Кентерберийских рассказов», но и их перепечатка, когда у него в руках оказался лучший текст поэмы. К произведениям Чосера были присоединены поэмы Лидгэта и Гауэра. Из произведений исторического характера, существовавших тогда на английском языке, имели значение только «Хроника» Брута и «Всеобщая летопись» Гигдена, и Кэкстон не только напечатал их, но и сам продолжил последнюю до своего времени. Перевод Боэция, а также «Энеиды» с французского и один или два трактата Цицерона были случайными первенцами классической печати в Англии.
Еще энергичнее, чем в качестве типографа, работал Кэкстон как переводчик. Переведенные им сочинения занимают более 4 тысяч печатных страниц. Потребность в таких переводах свидетельствует о популярности литературы в ту эпоху; но как ни велик, по видимому, был спрос, в отношении к нему Кэкстона нет ничего механического. В его любопытных предисловиях сказывался простой естественный литературный вкус, особенно по отношению к стилю и формам языка. «Не имея работы в руках, — говорил он в предисловии к своей «Энеиде», — я сидел в своем кабинете, где лежало много различных брошюр и книг; и вот случайно попалась мне в руки французская книжка, недавно переведенная неким благородным французским ученым с латинского; называется она «Энеидой» и нанисана по-латыни благородным поэтом и великим ученым Вергилием. Эта книга доставила мне большое удовольствие изящными и учтивыми выражениями и словами на французском языке; подобных им, столь поучительных и благочинных, я никогда не читал. И показалась мне эта книга очень пригодной для благородных людей, как ради красноречия, так и ради историй; я рассмотрел ее и решил перевести на английский язык, взял тотчас перо и чернила и написал один или два листа».
Но работа над переводом обусловливала выбор английского наречия, и это придало значение деятельности Кэкстона в истории нашего языка. Он выбирал между двумя школами — французской изысканности и английского педантизма. Это было время, когда устанавливался характер литературного языка, и любопытно наблюдать в словах самого Кэкстона происходившую из-за этого борьбу. «Некоторые почтенные и великие ученые были у меня и выражали желание, чтобы я писал самыми изысканными выражениями, какие только могу найти»; с другой стороны, «некоторые господа недавно порицали меня, говоря, что в моих переводах встречается много изысканных выражений, недоступных пониманию простого народа, и просили меня употреблять выражения старые и безыскусные». «Очень бы я желал угодить всем», — замечал добродушный типограф, но его здравый смысл охранял его и от придворных, и от школьных искушений. Его собственный вкус склонялся к английскому языку, но скорее «к употребляемым всеми повседневно выражениям», чем к языку его старозаветных советников. «Взял я старую книгу и стал читать ее и, право, ее английский язык оказался таким грубым и простым, что я с трудом мог понимать его»; а староанглийские хартии, извлеченные Вестминстерским аббатом в качестве образцов из архивов его монастыря, казались «более похожими на голландские, чем на английские».
С другой стороны, принять за основу ходячий говор было вовсе нелегко в то время, когда даже разговорная речь подвергалась быстрым изменениям. «Употребляемый теперь разговорный язык сильно отличается от употреблявшегося во время моего детства». Но это не все: даже у каждого графства было свое особое наречие, едва понятное жителям другой области. «Разговорный язык одного графства сильно отличается от языка другого. Случилось в мое время, что несколько купцов плыли на корабле по Темзе, чтобы морем отправиться в Зеландию. За отсутствием ветра они остановились в Фортленде и вышли на берег прогуляться. Один из них, галантерейщик по имени Шеффилд, вошел в дом и попросил у хозяев мяса, и особенно яиц, но хозяйка ответила, что она не умеет говорить по-французски. Купец рассердился, так как он тоже не умел говорить по-французски и хотел достать яиц (eggs), а она его не понимала. Тогда, наконец, другой сказал, что хочет достать еyrеn (яиц), и хозяйка сказала, что поняла его». «Ну что же нам теперь писать, — прибавлял смущенный типограф, — eggs или еyrеn? Право, ввиду различия и перемен в языке трудно угодить каждому». Притом его родным языком было наречие лесного Кента, «где, без сомнения, говорят таким же простым и грубым языком, как и в любой части Англии». Если к этому прибавить его долгое пребывание во Фландрии, то едва ли нас может удивить его признание насчет первых переводов; «когда все это представилось мне, то, переведя уже пять или шесть листов, я пришел в отчаяние от этой работы и решил никогда не продолжать ее, отложил листы в сторону и после того два года не занимался ею».
Однако до самой смерти Кэкстон деятельно занимался переводами. Всеобщий интерес, возбужденный его работами, облегчал все трудности. Когда обширность «Золотой легенды» почти лишила его надежды окончить ее и породила желание «отложить ее в сторону», граф Арэндел убедил его ни в коем случае не оставлять ее и пообещал, если она будет напечатана, дарить ему каждое лето — оленя и каждую зиму — лань. «Много благородных и знатных людей этого королевства приходили и часто спрашивали меня, отчего я не перевел и не напечатал прекрасную историю о святом Граале».
Нам известно, что посетители остроумного печатника обсуждали с ним вопрос об историческом существовании Артура. Герцогиня Сомерсет ссудила его «Бланшардином и Эглантиной»; архидьякон Колчестера принес ему свой перевод сочинения, озаглавленного «Катон»; галантерейщик из Лондона уговорил его взяться за «Царственную книгу» Филиппа Красивого. Брат королевы, граф Риверс, обсуждал с ним свой перевод «Изречений философов». Даже короли относились с интересом к его работе: его «Юлий V» был напечатан под покровительством Эдуарда IV, его «Рыцарское звание» посвящено Ричарду III, «Военные подвиги» изданы по желанию Генриха VII. Обычай собирать большие и роскошные библиотеки от французских принцев того времени перешел к английским: ценное собрание книг было у Генриха VI; Луврская библиотека была захвачена герцогом Хэмфри Глостером и послужила основой прекрасного собрания, подаренного им Оксфордскому университету.
Крупные вельможи лично принимали деятельное личное участие в возрождении литературы. Воинственный сэр Джон Фастолф был известным любителем книг. Граф Риверс сам принадлежал к числу писателей; в промежутках между богомольями и занятиями политикой он нашел время перевести для типографии Кэкстона «Изречения философов» и несколько религиозных трактатов. В умственном отношении гораздо более талантливым другом оказался Джон Типтофт, граф Уорчестер. В царствование Генриха VI он в поисках науки отправился в Италию, учился в ее университетах, стал профессором в Падуе, где его изящная латынь растрогала до слез ученейшего из пап Пия II, более известного под именем Энея Сильвия. Кэкстон не мог найти достаточно теплых слов для выражения своего восхищения человеком, который в свое время блистал доблестью и знанием, с которым, на его взгляд, по учености и нравственной доблести не мог сравниться ни один из светских вельмож. Наряду с умом в Типтофте проявлялась отличавшая эпоху Возрождения жестокость, и потому гибель человека, своей беспощадностью даже среди ужасов междоусобиц стяжавшего себе прозвище Мясника, вызвало сожаление только у типографа. «Какой великой утратой, — говорил он в предисловии, написанном через много лет после смерти графа, — была гибель этого благородного, доблестного и талантливого вельможи! Когда я вспоминаю его жизнь, ученость и доблесть, его положение и таланты, потеря такого человека (да не прогневается Господь!) представляется мне слишком тяжелой».
Среди вельмож, поощрявших деятельность Кэкстона, как известно, был младший брат короля Ричард, герцог Глостер. Столь же жестокий и хитрый, как сам Эдуард IV, герцог выступил со смелым честолюбивым планом, как только вступление на престол 13-летнего мальчика снова вызвало сильное соперничество при дворе. После смерти короля Ричард поспешил завладеть своим племянником, Эдуардом V, исключить влияние семейства королевы и получить от Совета звание протектора королевства. Прошло немногим больше месяца, как вдруг он появился в зале Совета и стал обвинять лорда Гастингса, главного советника покойного короля и верного защитника его сыновей, в колдовстве и покушении на свою жизнь. Затем он ударил рукой по столу, и зал наполнился солдатами. «Я не буду обедать, — сказал герцог, обращаясь к Гастингсу, — пока мне не принесут твоей головы»; и влиятельный министр немедленно был обезглавлен во дворе Тауэра. Архиепископ Йоркский и епископ Илийский были посажены в тюрьму, и это устранило все препятствия, мешавшие выполнению планов Ричарда. Оставалось сделать только один шаг, и через два месяца после смерти брата герцог, притворно выказав некоторое сопротивление, согласился принять ходатайство, предоставленное от имени трех сословий группой лордов и других лиц; это ходатайство отвергало права сыновей Эдуарда IV, ввиду их происхождения от незаконного брака, и сыновей Кларенса, ввиду осуждения их отца, и предлагало герцогу принять обязанности и титул короля Ричарда III.3
Его малолетние племянники, Эдуард V и его брат, герцог Йоркский, были заключены в Тауэр и там убиты, говорят, по приказу дяди; в то же время были преданы казни брат и сын королевы. Сосланный в Уэльс под надзор Бекингэма Мортон, епископ Илийский, воспользовался гибелью сыновей Эдуарда IV, чтобы при помощи недовольных йоркцев и остатков ланкастерской партии организовать широкий заговор. Потомство Генриха V пресеклось, но поколение Джона Гентского еще уцелело. Леди Маргарита Бофор, последняя представительница дома Сомерсетов, вышла замуж за графа Ричмонда, Эдмунда Тюдора, и стала матерью Генриха Тюдора. В акт, узаконивший Бофоров, Генрих IV внес незаконное постановление, которое лишало их права престолонаследия; но права Генриха Тюдора как последнего представителя ланкастерской линии были признаны сторонниками его дома, а ревнивая вражда Йоркских государей заставила его искать убежища в Бретани. Мортон намеревался женить Генриха Тюдора на Елизавете, дочери и наследнице Эдуарда IV; с помощью Бекингэма он подготовил грозное восстание, которое, однако, вскоре было подавлено.4
Как ни смел был по характеру Ричард III, но при захвате престола он полагался не только на насилие. В царствование брата он внимательно следил за тем, как росло общественное недовольство по мере выяснения новой политики короны, и он обратился за помощью к народу в качестве восстановителя его старых вольностей. «Мы решились, — говорили граждане Лондона в прошении к королю, — скорее рисковать жизнью и страхом смерти, чем жить в такой рабской зависимости, которую мы долго переносили до сих пор, когда нас притесняли и обременяли вымогательствами и новыми налогами, вопреки законам Божеским и человеческим, и вопреки унаследованным всяким англичанином вольности и правам».
На прошение Ричард III отвечал созывом нового парламента, который, как известно, совсем не собирался при Эдуарде IV, и проведением преобразовательных мер. В единственной сессии его короткого царствования обычай вымогать деньги путем добровольных приношений был объявлен незаконным, а дарование амнистии и прощение штрафов до некоторой степени упразднили то деспотичное управление, при помощи которого Эдуард IV одновременно держал в страхе страну и пополнял свою казну. Масса статутов нарушила дремоту парламентского законодательства. Ряд торговых законов имел целью охрану интересов расширяющейся торговли. Любовь короля к литературе сказалась в постановлении, воспрещавшем проведение таких статутов, которые «мешали иностранному художнику или купцу, из какой бы нации или страны он ни был, ввозить в королевство и продавать — в розницу или иным образом — всякого рода книги, писаные или печатные».
Рис. Ричард III.
Запрещение неправильного захвата имущества до изобличения собственника в преступлении, как это часто практиковалось в царствование Эдуарда IV, отпуск на волю еще остававшихся несвободными крестьян на королевских землях, основание религиозных учреждений — все это указывает на сильное стремление Ричарда III добиться популярности, которая заставила бы забыть кровавое начало его царствования. Но по мере распространения молвы об убийстве сыновей Эдуарда IV это ужасное злодейство возмущало даже самых безжалостных людей. Стремление править согласно Конституции было вскоре забыто, а взимание приношений, вопреки только что проведенному закону, вызвало общее неудовольствие.
Король чувствовал себя в безопасности; ему даже удалось добиться согласия королевы-матери на его брак с Елизаветой; Генрих Тюдор, одинокий изгнанник, казался неопасным соперником. Но как только он высадился в Милфорде и двинулся через Уэльс, тотчас выявился серьезный заговор. Едва он встретился с армией короля при Босуорте в Лестершире (1485 г.), как измена решила исход столкновения. До начала битвы короля покинул один отряд его войска, под командой лорда Стэнли (который был женат на матери Генриха Тюдора и примкнул к войску своего пасынка), а затем и другой, под начальством графа Нортумберленда; тогда с криком: «Измена, измена!» Ричард III бросился в гущу сечи. В пылу отчаяния он уже поверг наземь ланкастерское знамя и прорубил себе дорогу к своему сопернику, но тут он пал, подавленный массой врагов. Его корону по окончании сражения нашли лежащей возле куста шиповника и возложили на голову победителя.
Со вступлением на престол Генриха VII закончился длинный период кровавых междоусобиц. Брак его с Елизаветой объединил две враждующие линии, а единственных опасных соперников, племянников Эдуарда IV, унесла смерть. Однако двум замечательным самозванцам удалось поднять сильные восстания; это были мнимые граф Уорвик и герцог Йоркский, младший из сыновей Эдуарда IV. Первого поражение превратило в поваренка королевской кухни; второй (Перкин Уорбек), после ряда странных приключений и признания его притязаний королями Шотландии и Англии, а также его названной теткой герцогиней Бургундской, был взят в плен и спустя четыре года повешен в Тайборне. Восстание только яснее доказало силу, какую придал новой монархии произошедший в военном искусстве переворот. Изобретение пороха разрушило феодализм. Рыцарь на коне и в тяжелом вооружении уступил место простому пехотинцу. Крепости, недоступные осадным орудиям средневековья, рушились под огнем новой артиллерии. Хотя порох был в употреблении уже со времени битвы при Кресси, но, в сущности, он стал успешно применяться в военном деле не раньше вступления на престол дома Ланкастеров.
Это немедленно изменило способ ведения войны. Войны Генриха V состояли из осад. «Последний барон», как живописно называли Уорвика, полагался главным образом на свой артиллерийский парк. Артиллерия же решила дело при Бэрнете и Тьюксбери и принесла Генриху VII победу над окружавшими его грозными опасностями. Действительно, эта перемена придала короне почти непреодолимую мощь. В средние века достаточно было крупному барону бросить клич, как сразу же поднималось грозное восстание. Крестьяне и вассалы вынимали свои луки из углов, рыцари пристегивали свое оружие, и через несколько дней трону уже грозила целая армия. Но теперь без артиллерии она была беспомощна, а единственный артиллерийский парк страны был в распоряжении короля. Сознание своей силы и позволило новому государю спокойно вернуться к политике Эдуарда IV. Однако происхождение заставило его обосновать свои права на престол в парламенте. Не ссылаясь ни на право наследования, ни на завоевания, палаты просто постановили, «что корона должна принадлежать царственной особе их государя, короля Генриха VII, и от него переходить к его законным наследникам». Впрочем, он настойчиво следовал политике Эдуарда IV, так что в течение последних 13 лет его царствования парламент созывался только два раза.
Рис. Генрих VII.
Главным стремлением короля было собрать такую казну, которая избавила бы его от необходимости обращаться за помощью к парламенту. Основу королевской казны составляли субсидии, назначенные для ведения войн, от которых Генрих VII уклонялся; затем она пополнялась возобновлением забытых претензий короны, взысканием штрафов за владение забытыми ленами и массой мелких вымогательств. Любимый министр короля придумал такой прием, получивший название «вил Мортона»: от людей, живших прилично, он требовал взносов в казну на том основании, что их богатство несомненно, а от живших скромно под тем предлогом, что бережливость их обогатила. Еще большие суммы были взяты с тех, кто принимал участие в восстаниях, прерывавших царствование короля. Все эти старания были так успешны, что Генрих VII мог оставить своему преемнику казну в два миллиона.
То же подражание политике Эдуарда IV заметно и в гражданском правлении Генриха VII. Хотя сила аристократии и была сломлена, но все еще оставались лорды, за которыми он следил с ревностным вниманием. Их сила состояла в толпах буйных слуг, кишевших вокруг их замков и готовых, в случае восстания, образовать войско, тогда как в мирное время они являлись виновниками насилия и нарушений закона. Особым законом Эдуард IV предписал роспуск подобных военных свит, и Генрих VII с чрезвычайной строгостью настаивал на исполнении этого. При посещении графа Оксфорда, одного из преданнейших сторонников ланкастерского дома, король нашел выстроенными для приема два длинных ряда ливрейных слуг. «Благодарю Вас, лорд, за Ваш радушный прием, сказал Генрих VII при прощании, — но я не могу допустить нарушения моих законов на моих глазах. Мой прокурор побеседует с Вами». Граф был очень доволен, что отделался штрафом в 10 тысяч фунтов.
С целью устранения этой опасности Генрих VII особенно часто прибегал к уголовной юрисдикции Королевского совета. Из состава Совета он выделил постоянную судебную комиссию, по месту своего обычного пребывания получившую название суда Звездной палаты. Вероятно, король просто имел в виду восстановить порядок в стране, привлекая крупных баронов к своему суду; но учреждение Звездной палаты уже не как чрезвычайного, а как постоянного судилища, традиционные полномочия которого были подтверждены парламентским статутом и в котором отсутствие присяжных лишало подсудимого права быть судимым своими пэрами, доставило сыну Генриха VII послушнейшее орудие деспотизма.
Но хотя политика первого Тюдора постоянно склонялась в сторону деспотизма, его характер, казалось, обещал скорее царствование поэтического мечтателя, чем государственного человека. Его худощавая фигура, бледное лицо, живые глаза, застенчивый и замкнутый характер, со взрывами шутливости и врожденной насмешливости, говорили о внутренней сосредоточенности и восторженности. У него были литературные и артистические наклонности: он был покровителем нового печатного станка, любителем книг и искусства. Но жизнь оставляла Генриху VII мало времени для мечтаний или духовной работы. Поглощенный интригами внешней политики, борясь с опасностями внутри страны, он не мог принимать большого участия в единственном движении, волновавшем Англию в его царствование, — в великом духовном перевороте, носящем название Возрождения наук и искусств.
Глава III ГУМАНИЗМ (1509—1520 гг.)
Как ни серьезны были следствия политики Генриха VII, они представляются нам мелкими, когда от них мы обращаемся к великим движениям, волновавшим тогда умы людей. В мире происходили перемены, невиданные со времени победы христианства и падения Римской империи. Его физические пределы внезапно расширились. Открытия Николая Коперника раскрыли людям тайны Вселенной. Португальские моряки обогнули мыс Доброй Надежды и на своих купеческих судах достигли гаваней Индии. Колумб первый переплыл океан и к Старому Свету присоединил Новый. Себастьян Кабот, выйдя из Бристольской гавани, пробился сквозь ледяные горы к Лабрадору. Это внезапное столкновение с новыми странами, новыми верованиями, новыми племенами пробудило в дремавших умах европейцев страстную жажду знаний. Первая книга, описывавшая западный мир, — «Путешествия» Америго Веспуччи — скоро оказалась у всех в руках. «Утопия» Мора, с ее широким наблюдением всех предметов человеческой мысли и действия, показывает нам, как сразу и полностью с человеческой жизни были сброшены тесные рамки средневековья.
Взятие Константинополя турками и бегство греческих ученых на берега Италии снова открыли науку и литературу Древнего мира, как раз в то время, когда пришла в упадок духовная энергия средних веков. Изгнанные греческие ученые были радушно приняты в Италии. Флоренция, так долго служившая родиной свободы и искусства, стала центром духовного возрождения. Поэмы Гомера, трагедии Софокла, философские трактаты Аристотеля и Платона снова вернулись к жизни под сенью величественного купола, которым Брунеллески только что увенчал город на Арно. Всю неутомимую энергию, которую Флоренция так долго тратила на дело свободы, она теперь, лишившись свободы, обратила на дело просвещения. Галеры ее купцов, как самый драгоценный груз, привозили с Востока рукописи. В дворцах ее вельмож, под фресками Гирландайо, размещались изящные обломки классических скульптур. Группа политиков и артистов, собиравшихся в садах Ручеллаи, с трепетом восторга в пыли монастырской библиотеки находила трактаты Цицерона или Саллюстия.
Скоро из-за Альп нахлынули студенты — учиться у флорентийских наставников греческому языку, ключу к новой науке. Гросин, член Нового колледжа в Оксфорде, был, может быть, первым англичанином, учившимся у греческого изгнанника Халкондила, а лекции по греческому языку, читанные им по возвращении в Оксфорд, отмечают начало нового периода нашей истории. С открытием греческой литературы и науки в Англии пробудилась научная и литературная деятельность, и началом непрерывного развития английской науки можно считать возвращение другого оксфордского студента, Линэкра, слушавшего флорентийца Полициана и своим переводом трудов Галена, оживившего предания древней медицины.
Но с самого начала было очевидно, что в Англии возрождение наук будет иметь совсем другой характер, чем в Италии, — менее литературный, менее общечеловеческий, но более нравственный, религиозный, более практический в общественном и политическом отношении. Возрождение рационального христианства как в Англии, так и в германском мире вообще, началось научными занятиями Джона Колета в Италии, а его энергия и серьезность служили лучшим доказательством того влияния, которое новое движение должно было оказать на религиозную жизнь Англии. Колет вернулся в Оксфорд, совсем не затронутый платоновским мистицизмом или же полусерьезным неверием, которое отличало группу ученых, окружавших Лоренцо Медичи. Едва ли сильнее повлиял на него их литературный энтузиазм. Изучение греческого языка интересовало его почти исключительно в одном отношении — в отношении религиозном. Греческий язык был тем ключом, которым он мог отпереть Евангелие и Новый Завет, а в них он думал найти новую основу для религии. Это стремление Колета — отбросить традиционные догматы своего времени и найти в самих Евангелиях разумную и практичную религию, наложило свою особую печать на богословие Возрождения. Его вера основывалась просто на живом представлении личности Христа. Выдающееся значение нравственной жизни, свободная критика древнейших Писаний, стремление к простым формам учения и исповедания — все это стало основными особенностями религиозного воззрения, резко отличавшегося от взглядов как позднейшей Реформации, так и самого католицизма.
Аллегорическое и мистическое богословие, на создание которого средние века так бесплодно тратили свою духовную энергию, сразу пало, когда Колет отверг все, кроме исторического и грамматического смысла библейского текста. Величественное учение веры, созданное учеными средних веков, представлялось ему просто «схоластическим искажением». В жизни и изречениях основателя христианства он нашел простое и разумное учение, для которого лучшим выражением служил апостольский символ веры. «О прочем, говорил он с характерным неудовольствием, — пусть спорят, как им угодно, богословы». О его отношении к более грубым сторонам тогдашней религии ясно говорит его поведение перед знаменитой ракой святого Фомы в Кентербери. Когда он увидел блеск ее драгоценных камней, дорогие изваяния, изящные работы из металла, он с едкой иронией заметил, что святой, столь щедрый при жизни по отношению к бедным, наверное, предпочел бы, чтобы они владели богатством, окружавшим его после смерти. С гневным отвращением он оттолкнул от себя предложенные ему для поклонения одежды и обувь мученика. Серьезность, религиозный пыл, нетерпеливое и враждебное отношение к прошлому заметны у него в каждом слове и действии; то же выразилось и в лекциях о посланиях святого Павла, прочитанных им в Оксфорде. Даже самому критичному из его слушателей он представлялся «похожим на вдохновенного: голос его был громче, глаза блистали, вся его фигура и лицо изменялись, он казался вне себя». Внешне его жизнь отличалась суровостью: она сказывалась в его простом черном платье и скромном столе, которые он сохранил и впоследствии, достигнув высокого положения. Тем не менее его живая беседа, искренняя простота, чистота и благородство его жизни, даже резкие проявления его раздражительности привязали к нему группу ученых, среди которых прежде всего Эразм Роттердамский и Томас Мор.
«Греция перешла за Альпы!» — воскликнул изгнанник Аргиропул, услышав, как немец Рейхлин переводил Фукидида; но скоро слава Эразма затмила известность Рейхлина и его последователей из немецких ученых. Огромное трудолюбие и приобретенный запас классических знаний Эразм разделял с современными ему учеными. По знакомству с творениями отцов церкви он, пожалуй, уступал Лютеру, а по оригинальности и глубине мысли, несомненно, уступал Мору. Его богословские воззрения оказали на мир более сильное влияние, чем даже его ученость, но они почти без изменений были заимствованы у Колета. Оригинальным было в нем соединение широких знаний с тонкой наблюдательностью, проницательной критики с живой фантазией, врожденного остроумия со здравым смыслом, единство свойственных Колету искреннего благочестия и страстного стремления к разумной религии со спокойным беспристрастием к прежним учениям, сильной жаждой светского образования и гениальной свободой и игрой ума.
Эта особенность и сделала Эразма для германских народов представителем животворного влияния гуманизма в течение его долгой ученой жизни, начавшейся в Париже и окончившейся в уединении и печали в Базеле. Во время возвращения Колета из Италии Эразм был еще сравнительно безвестным юношей, но рыцарское воодушевление новой наукой заметно в его письмах из Парижа, куда он пришел учиться. «Я всей душой предался изучению греческого языка, — писал он, и как только достану немного денег, куплю греческих книг, а затем кое что из платья». Отчаявшись добраться до Италии, молодой студент отправился в Оксфорд как в единственное место за Альпами, где наставления Гросина могли содействовать его знакомству с греческой литературой. Но едва он прибыл туда, как всякое чувство сожаления исчезло. «Я нашел в Оксфорде, — писал он, — столько утонченности и учености, что совсем почти и не думаю о поездке в Италию, разве для того только, чтобы побывать там. Когда я слушаю моего друга Колета, мне кажется, я слушаю самого Платона. Кто не удивляется широкой учености Гросина? Кто может судить проницательнее, глубже и тоньше Линэкра? Когда природа производила более благородный, нужный и счастливый характер, чем у Томаса Мора?»
Новое движение далеко не ограничивалось стенами Оксфорда. В его пользу медленно, но верно работало время. Печатный станок сделал литературу собственностью всех. В последние 30 лет XV века в Европе, говорят, было выпущено 10 тысяч изданий книг и брошюр, из них наиболее важная часть, конечно, в Италии; до конца века любому студенту стали доступными все латинские авторы. В первые 20 лет следующего века были изданы почти все труды виднейших греческих писателей. Глубокое влияние, оказанное на мир этим приливом двух великих классических литератур, сразу дало себя почувствовать. «В первый раз, как живописно выразился Тэн, — люди открыли глаза и посмотрели вокруг».
Человеческий дух, казалось, почерпнул новую энергию из обозрения открывшихся перед ним возможностей. Он набросился на все области знания и все их преобразовал. Точные науки, филология, политика, критическое исследование религиозной истины — все они ведут свое начало от Ренессанса, этого «Возрождения» мира. Искусство утратило значительную часть чистоты и оригинальности, зато выиграло в деле свободы и бесстрашной преданности природе. Литература, на время подавленная сильным притяжением великих образцов Греции и Рима, скоро расцвела с никогда невиданным до того богатством форм и широким духом гуманности. В Англии влияние нового движения распространилось далеко за пределы той маленькой группы, в которой оно несколько лет назад, по видимому, сосредоточивалось. Его покровителями стали виднейшие прелаты.
Лангтон, епископ Уинчестерский, находил удовольствие в том, что каждый вечер экзаменовал молодых студентов своей свиты и наиболее многообещавших из них отправлял учиться в Италию. Еще более преданного друга нашла себе наука в архиепископе Кентерберийском Уорхеме. Хотя ему приходилось много заниматься государственными делами, но он был не просто политиком. Похвалы, расточавшиеся ему при его жизни Эразмом, — восхваление учености примаса, его искусства в делах, веселого характера, скромности, верности друзьям, — все это можно считать тем же, чем обычно бывает восхваление людей при жизни. Но трудно сомневаться в искренности горячей характеристики, написанной Эразмом тогда, когда смерть исключила всякое основание для лести. Суждение всех здравомыслящих современников подтверждается перепиской крупного прелата со странствующим ученым, сохранением в литературной дружбе полного равенства, несмотря на ряд проявлений щедрости с одной стороны, обращением к просвещенному благочестию примаса, которое Эразм высказал в своем предисловии к «Святому Иерониму».
В простоте своей жизни Уорхем представлял поразительную противоположность роскоши вельмож того времени. Он совсем не заботился о пышности, чувственных удовольствиях, охоте и игре в кости, чем так часто они увлекались. Час приятного чтения и спокойной беседы с ученым пришельцем только и прерывал бесконечный ряд светских и церковных дел. Немногие люди осуществляли с такой полнотой, как Уорхем, новое понимание умственного и нравственного равенства, перед которым должны были исчезнуть старые социальные различия. Его любимым развлечением было ужинать с кучкой ученых посетителей, забавляясь их шутками и отвечая на них шутками со своей стороны.
Но люди ученого мира находили за столом у примаса не только ужин и веселье. Его кошелек был всегда открыт для помощи им. «Если бы в юности я нашел себе такого покровителя, — писал Эразм много времени спустя, — меня тоже можно было бы относить к числу счастливцев». Во время второго посещения Англии (1510 г.) Эразм с Гросином поднялись вверх по реке до резиденции Уорхема в Ламбете, и, несмотря на неудачное начало, знакомство оказалось чрезвычайно удачным. Эразм писал домой, что примас полюбил его, как сына или брата, а его щедрость превосходит щедрость всех его друзей. Уорхем предложил ему доходное место, а когда Эразм от него отказался, назначил ему ежегодную пенсию в сто крон. Когда Эразм переселился в Париж, призыв Уорхема вернул его в Англию. Прочие покровители оставляли его голодать на кислом кембриджском пиве, а Уорхем прислал ему 50 золотых с изображением ангела. «Я хотел бы, чтобы их было 30 легионов», — добродушно пошутил примас.
Как ни существенно было развитие науки, но группа ученых, представлявшая в Англии гуманизм, оставалась в царствование Генриха VII немногочисленной. С восшествием на престол его сына для них, употребляя их собственное восторженное выражение, взошла заря «нового порядка вещей». При своем вступлении на престол Генрих VIII едва достиг 18 лет, но его красота, сила, искусство владеть оружием, казалось, соответствовали его откровенному и великодушному характеру и благородству его политических устремлений. Он сразу прекратил вымогательства, практиковавшиеся под предлогом исполнения забытых законов, и привлек к суду финансовых помощников своего отца по обвинению в измене, чем подал надежду на более популярное управление.
Никогда вступление нового государя на престол не возбуждало больших ожиданий в народе. Злейший враг Генриха VIII, Поль, признавал впоследствии, что характер короля в начале его царствования «давал право ожидать всего лучшего». Уже своими ростом и силой он превосходил окружающих; он был сильным борцом, смелым охотником, прекрасным стрелком, на турнирах побеждал одного противника за другим. С этим физическим превосходством молодой монарх соединял широту и гибкость ума, которые должны были составлять отличительную черту начавшегося века. К гуманизму он относился с несомненным и сердечным расположением; Генрих VIII не только сам был прекрасным ученым, но даже в детстве своим остроумием и познаниями удивлял Эразма. Великий ученый поспешил назад в Англию, чтобы выразить свой восторг в «Похвале Глупости» гимне торжества над старым миром невежества и ханжества, которому предстояло исчезнуть перед светом и знанием нового царствования. В этой забавной книжке Глупость в дурацком колпаке восходит на кафедру и своей сатирой бичует нелепости окружающего мира — суеверие монаха, педантизм грамматика, догматизм школьных ученых, эгоизм и тиранию королей.
Иронию Эразма поддержал серьезный гуманист Колет. За четыре года до того он был вызван из Оксфорда и назначен настоятелем собора святого Павла, где стал великим проповедником своего времени, предшественником Латимера по простоте, прямоте и силе. Он воспользовался этим, чтобы начать реформу обучения, и основал собственную латинскую школу (1510 г.) рядом с собором святого Павла. О стремлениях ее основателя свидетельствует то, что над кафедрой учителя располагалось изображение младенца Иисуса с начертанными над ним словами: «Его послушайте», «Поднимите ваши белые ручки за меня, молящего Бога о вас», — писал своим ученикам Колет, выказывая нежность, таившуюся под его суровой внешностью. В новой школе были осуществлены все педагогические планы реформаторов. Старые приемы обучения заменили новые грамматики, составленные для школы Эразмом и другими учеными. Во главе ее был поставлен Лилли, оксфордский студент, изучивший греческий язык на Востоке. Предписания Колета предусматривали соединение разумной религиозности со здравой ученостью, упразднение схоластической логики и широкое распространение обеих классических литератур.
Более фанатичная часть духовенства тотчас подняла тревогу. «Неудивительно, — писал Мор Колету, — что ваша школа вызывает бурю: она походит на деревянного коня, в котором, на гибель варварской Трое, были скрыты вооруженные греки». Но призыв духовенства остался без ответа. Изучение греческого языка не только постепенно проникало в существовавшие школы, но примеру Колета последовала и масса подражателей. Говорят, в последние годы царствования Генриха VIII было основано больше латинских школ, чем за три предыдущих века. Стремление к этому только усиливалось, по мере того как ослабевало прямое влияние гуманизма. Латинские школы Эдуарда VI и Елизаветы — одним словом, та система воспитания средних классов, которая в конце XVI века изменила внешний вид Англии, — это следствие школы святого Павла, основанной Колетом. Но «вооруженные греки» Мора нашли себе еще более широкое поле деятельности в реформе высшего образования.
Влияние гуманизма на университеты как будто воззвало их от смерти к жизни. Эразм описывал перемену, произошедшую в Кембридже, где он сам некоторое время был преподавателем греческого языка: «Всего 30 лет назад здесь преподавались только «Parva Logicaliae» Александра, устарелые упражнения по Аристотелю и «Quaestiones» Скотта. С течением времени к этому присоединились новые лучшие науки, математика, новый или несколько обновленный Аристотель и греческая литература. Что же из этого вышло? Университет теперь так процветает, что может соперничать с лучшими современными университетами». Латимер и Крок вернулись из Италии и продолжали дело Эразма в Кембридже, где им оказывал сильную поддержку Фишер, епископ Рочестерский, сам бывший одним из лучших представителей нового направления.
В Оксфорде гуманизм встретил большее сопротивление. Спор принял вид мальчишеских драк, в которых юные сторонники и противники гуманизма выступали греками и троянцами. Сам король должен был вызвать к себе одного из злейших противников нового течения и положить конец нападкам, раздававшимся с университетской кафедры. Проповедник ссылался на то, что им руководит Дух. «Да, — возразил король, — дух, но не мудрости, а безумия». Но даже и в Оксфорде спор скоро подошел к концу. Первый греческий курс учредил там в своем новом колледже Тела Христова Фокс, епископ Уинчестерский, а позднее кафедра греческого языка была учреждена короной. «Студенты, — писал очевидец, — просто набрасываются на греческую литературу; при изучении ее им приходится переносить бодрствование, пост, труд и даже голод». Венцом всего дела было основание великолепного колледжа Кардинала, на кафедры которого Уолси приглашал самых выдающихся современных европейских ученых и для библиотеки которого обещал достать копии всех рукописей Ватикана.
Гуманизм требовал преобразования не только школы, но и церкви. Уорхем все еще оказывал ему постоянное содействие; по его поручению Колет обратился к собранию духовенства с речью, с беспощадной строгостью излагавшей религиозный идеал гуманизма. «О, если бы хоть раз, — разразился пылкий оратор, — вы вспомнили ваше имя и звание и подумали о преобразовании церкви. Никогда не было оно более необходимым, никогда ее состояние не требовало боль усилий». «Нас тревожат еретики, — продолжал он, — но никакая их ересь не опасна для нас и для всего народа так, как порочная и распутная жизнь духовенства. Это худшая из всех ересей». Реформа епископата должна была предшествовать реформе духовенства, а преобразование жизни духовенства должно было привести к оживлению религиозного чувства во всем народе. Духовенство должно было отказаться от скопления должностей, от роскоши и светской жизни. Епископы должны были стать деятельными проповедниками, покинуть двор, трудиться в своих епархиях. Нужно было заботиться о посвящении и возвышении более достойных служителей, требовать присутствия их на местах, поднимать уровень нравственности духовенства.
Очевидно, что представители гуманизма стремились не к преобразованию учения, а к реформе образа жизни, не к перевороту, который устранил бы презираемые ими старые суеверия, а к возрождению религиозного чувства, перед которым суеверия должны были неизбежно исчезнуть. Вскоре епископ Лондонский обвинил Колета в ереси, но Уорхем защитил его, а Генрих VII, которому был подан донос, велел ему смело идти вперед. «Каждый может иметь своего наставника, — сказал молодой король после длинного разговора, — и каждый может ему покровительствовать, а это мой наставник».
Но для успеха новой реформы, которую можно было осуществить только при спокойном распространении знаний и постепенном просвещении человеческой совести, необходим был мир; между тем молодой король, на помощь которого рассчитывала группа ученых, уже мечтал о войне. Хотя между обеими враждовавшими сторонами давно уже был заключен мир, но короли Англии, в сущности, никогда не отказывались от своих видов на французскую корону, и Генрих VIII с гордостью вспоминал о старых притязаниях Англии на Нормандию и Гиень. Эдуард IV и Генрих VII следовали мирной политике, прерванной только тщетными усилиями спасти Бретань от французского нашествия. Но благодаря политике Людовика XI расширение владений и укрепление власти французских королей, присоединение крупных уделов и введение административной централизации сильно возвысили Францию над ее соперниками.
В сущности, противовесом ее могуществу служила только мощь Испании: благодаря союзу Кастилии и Арагона она образовала великую державу, которую холодный и осторожный Фердинанд еще более упрочил, выдав свою дочь и наследницу за эрцгерцога Филиппа, сына императора Максимилиана. Считая Англию слишком слабой для борьбы с Францией один на один, Генрих VII в союзе с Испанией видел гарантию против «наследственного врага»; союз был скреплен браком его старшего сына Артура с дочерью Фердинанда Екатериной. Этот брак был разорван смертью молодого новобрачного, но Фердинанду удалось выхлопотать у папы для Екатерины разрешение выйти замуж за брата ее покойного супруга. В борьбе Франции с Испанией Генрих VII старался поддержать равновесие между ними и потому отказывался от союза; но едва Генрих VIII наследовал своему отцу в 1509 году, как брак был заключен. В первые годы его царствования всю его энергию, казалось, поглощали турниры и пиры; но в действительности Генрих VIII ожидал для возобновления старой борьбы только повода, который должно было предоставить ему честолюбие Франции.
При преемниках Людовика XI усилия французских королей были направлены на завоевание Италии. Поход Карла VIII за Альпы и приобретенное им с одного удара господство над Италией сразу поставили Францию выше окружавших ее государств. Два раза французы были изгнаны, но при преемнике Карла VIII Людовике XII они сохранили господство над Миланом и большей частью Северной Италии; а разгром Венеции Камбрейской лигой сокрушил последнее государство, которое могло противодействовать их видам на весь полуостров. Для изгнания французов из Италии Фердинанду, при посредстве его родства с императором, помощи Венеции и папы Юлия II, а также воинственного Генриха VIII, удалось создать «Священную лигу», названную так от присоединения к ней папы. Говоря словами Юлия II, «варвары были изгнаны за Альпы»; но Фердинанд, со своей бессовестной хитростью, воспользовался английским войском, высадившимся при Фонтарабии с целью нападения на Гиень, только для прикрытия завоевания Наварры. Войско взбунтовалось и отплыло домой; все смеялись над неловкостью англичан в войне.
Рис. Генрих VIII.
Но мужество Генриха VIII возрастало вместе с нуждой. Он лично высадился на севере Франции, и внезапное бегство французской конницы в схватке близ Гинегэта, от ее бескровного характера получившей название «битвы шпор» (1514 г.), подарило ему крепости Теруан и Турнэ. Молодой победитель уже мечтал о завоевании своего «французского наследства», как вдруг отказ Фердинанда и распад союза оставили его в одиночестве. Однако он многого достиг. Могущество Франции было сломлено, папству была возвращена свобода, Англия снова выступила перед Европой в качестве великой державы. Зато миллионы, оставленные Генрихом VII, были истрачены, а подданные обременены тяжелыми налогами, и потому, как бы ни был Генрих VIII раздражен изменой Фердинанда, ему все таки пришлось заключить мир.
Для надежд гуманистов этот внезапный порыв воинского духа, это превращение монарха, от которого они ожидали «нового порядка», в простого завоевателя было горьким разочарованием. Колет с кафедры собора святого Павла провозгласил, что «несправедливый мир лучше справедливейшей войны» и что «когда люди из ненависти и честолюбия сражаются и губят один другого, они борются под знаменем не Христа, а дьявола». Эразм покинул Кембридж со злой сатирой на окружавшее его «безумие». «Народ, — сказал он, строит города, а безумие государей разрушает их», и его слова должны были поразить современников. Государи его времени представлялись ему похожими на хищных птиц, клювом и когтями истребляющих с трудом добытые богатства и знания человечества. «Божественными называют королей, — восклицал он с горькой иронией, — которые едва заслуживают называться людьми; они остаются непобедимыми, хотя убегают с поля каждой битвы; светлейшими, хотя в буре войны поворачивают мир вверх дном; славными, хотя пребывают в неведении всего высокого; католическими, хотя следуют всему, чему угодно, только не учению Христа. Изо всех птиц мудрые люди сочли представителем царской власти одного орла, а между тем он не отличается ни красотой, ни музыкальностью и непригоден в пищу; это птица жестокая, жадная, ненавистная для всех, всеми проклинаемая; ее страшную способность причинять зло превосходит только ее стремление творить его».
В первый раз в новой истории религия обособлялась от честолюбия государей и ужасов войны; в первый раз дух критики отваживался не только сомневаться, но и прямо отрицать то, что прежде представлялось основными истинами политического порядка. Мы скоро увидим, какое значение придал новым взглядам более глубокий мыслитель; в данный момент внезапный мир обратил негодование гуманистов на более практические цели. Хотя Генрих VIII и обманул их надежды, но он все еще оставался их другом. При всех поворотах в его бурной жизни его двор постоянно оставался прибежищем для науки. Малолетний сын Генриха VIII Эдуард IV отлично знал оба классических языка, его дочь Мария писала прекрасные письма на латыни. Елизавета начинала каждый день чтением в течение часа греческого Евангелия, трагедий Софокла или речей Демосфена. Придворные дамы переняли привычки семьи короля и принялись усердно изучать диалоги Платона.
Как сильно ни отличались министры Генриха VIII один от другого, все они сходились в том, что разделяли и поощряли новое просвещение. Поэтому опасения ученого кружка скоро исчезли. Избрание папой Римским Льва X, товарища Линэкра и друга Эразма, считалось, обещало гуманизму влияние на всю церковь. Времена беспокойного честолюбивого Юлия II, казалось, прошли безвозвратно, и новый папа высказался за всеобщий мир. «Лев, — писал английский агент при его дворе, — желает покровительствовать литературе и искусствам, заниматься постройками и вступать в войну не иначе как по принуждению». Этим словам последующие события придали особенное значение. При новом министре Уолси Англия воздерживалась от всякого активного вмешательства в дела материка и так же, как и Лев X, поддерживала мир. Колет был занят своей учебной реформой; Эразм отправлял в Англию работы, которые английская щедрость позволяла ему выполнять за границей. Уорхем так же великодушно помогал ему, как защищал Колета. При поддержке Уорхема Эразм во время своего пребывания в Кембридже начал издание творений блаженного Иеронима, и оно вышло с посвящением архиепископу на заглавном листе.
Полное сочувствие примаса высшим стремлениям гуманизма проявилось в том, что Эразм мог искать в его имени защиту для произведения, смело призывавшего христианство на путь здравой библейской критики, что он мог обращаться к нему с такими ясными словами, как в его предисловии. Нигде дух исследования не восставал с такой твердостью против притязаний авторитета. «Синоды и декреты, и даже соборы, — писал Эразм, — по моему суждению, вовсе не самые подходящие средства для устранения ошибок, если только истина зависит не просто от авторитета. Напротив, чем больше догматов, тем обильнее почва для ереси. Никогда христианская вера не была чище или незапятнаннее, чем когда мир довольствовался простым исповеданием, и притом кратчайшим из известных нам».
Даже теперь трогательно слышать такое обращение к разуму и образованию от той волны догматизма, которая скоро должна была наводнить христианство «Аугсбургскими исповеданиями», символами папы Пия IV, Вестминстерскими катехизисами и 39 статьями. Те начала, на которых Эразм настаивал в своем предисловии к Иерониму Пражскому, были выдвинуты с еще большими ясностью и силой в произведении, послужившем основой для Реформации; это было издание греческого текста Нового Завета, над которым он начал работать в Кембридже и которое обязано было своим завершением почти исключительно ободрению и помощи английских ученых.
Само по себе это издание было смелым нарушением богословского предания. Оно оставляло в стороне латинский перевод Вульгаты, заслуживший всеобщее признание церкви. Эразмов способ толкования основывался не на установленных догматах, а на буквальном смысле текста. Его настоящей целью было то, что имел в виду Колет в своих «Оксфордских лекциях». Эразм желал на место церкви поставить самого Христа, от учений богословов вернуть людей к учениям основателя христианства. Для него все значение Евангелия заключалось в той живости, с которой оно передает впечатление от личности самого Христа. «Если бы мы видели его нашими собственными глазами, мы не имели бы о нем такого ясного понятия, какое нам дает Евангелие: он говорит, исцеляет, умирает и воскресает как будто в нашем присутствии».
Все суеверия средневекового богослужения исчезали при свете этого почитания личности Христа. «Если нам где-нибудь показывают следы ног Христа, мы преклоняем колена и поклоняемся им. Почему мы не преклоняемся скорее перед полным жизни изображением Его в этих книгах? Из любви ко Христу мы украшаем золотом и драгоценными камнями деревянные и каменные статуи; но ведь они представляют нам только внешний Его вид, а эти книги дают нам живое изображение Его Святого Духа». Таким же образом настоящее учение Христа должно было заменить таинственные догматы древнейшего церковного учения. «Как будто Христос учил таким тонкостям, — восклицал Эразм, — тонкостям, которые едва могут понимать немногие богословы, или как будто сила христианской религии состоит в том, чтобы люди ее не знали! Может быть, благоразумнее, — продолжал он с присущей ему иронией, — скрывать политические тайны королей, но Христос желал, чтобы Его таинства распространялись всюду возможно больше». Эразм утверждал, что нужно еще положить основание преобразованному христианству распространением в массе знакомства с учением Христа.
Со времени Уиклифа английская церковь считала перевод и чтение Библии на народном языке ересью и преступлением, влекущим за собой сожжение; теперь, при молчаливом одобрении примаса, Эразм смело выражал желание сделать Библию доступной и понятной для всех. «Я желаю, чтобы даже слабые женщины читали Евангелия и Послание святого Павла. Я хочу, чтобы они были переведены на все языки, чтобы их могли читать и понимать не только шотландцы и ирландцы, но даже и сарацины и турки. Но первый шаг к тому, чтобы их читали, — это сделать их понятными читателю. Я жду того времени, когда пахарь будет петь стихи Писания, следуя за плугом, когда ткач будет напевать их под стук своего челнока, а путник евангельскими рассказами будет коротать скуку своего путешествия».
Новый Завет Эразма (1516 г.) стал предметом всеобщих разговоров: его читали и обсуждали двор, университеты, все семьи, куда проникло новое направление. Но как ни смел казался его язык, Уорхем не только выразил свое одобрение, но и рекомендовал издание, по словам его письма к Эразму, одному епископу за другим. Самый влиятельный из его викариев, Фокс, епископ Уинчестерский, объявил, что один перевод стоит десяти комментариев; а один из виднейших ученых, Фишер Рочестерский, принимал Эразма у себя в доме.
Как ни смелы и многообещающи были эти усилия гуманизма в области учебной и церковной реформ, еще большее значение имели его политические и социальные взгляды, выразившиеся в «Утопии» Томаса Мора. Уже при дворе кардинала Мортона, где он провел свое детство, его способности рано породили большие надежды. «Кто доживет, — говорил обычно седовласый политик, — тот увидит, что из этого мальчика, теперь прислуживающего за столом, выйдет необыкновенный человек». Мы знаем, как в Оксфорде Колета и Эразма очаровывали его удивительная ученость и любезный характер; едва он покинул университет, как уже был известен в Европе как один из самых выдающихся представителей нового движения.
Резкое неправильное лицо, серые беспокойные глаза, тонкие подвижные губы, спутанные темные волосы, небрежные походка и одежда, изображенные на полотне Гольбейна, отражают внутреннюю сущность человека, его живость, неутомимый и всепоглощающий ум, едкое и даже беспощадное остроумие, его добродушный полупечальный юмор, смехом и слезами прикрывавший глубокие и нежные чувства. Мор лучше Колета представлял в Англии религиозное направление гуманизма, так как он подавал его в более мягкой и задушевной форме. Молодой юрист смеялся над суеверием и аскетизмом современных монахов и в то же время носил на теле волосяную рубашку и налагал на себя епитимьи, желая подготовиться к поступлению в орден картезианцев. Для Мора характерно, что из всех веселых и распутных ученых итальянского Возрождения он выбрал себе предметом подражания ученика Савонаролы Пико делла Мирандолу.
Хотя ханжи, слушавшие его смелые речи, и называли его свободным мыслителем, но когда он говорил с друзьями о Небе и будущей жизни, его глаза загорались, а голос начинал дрожать. Принимая должность, он прямо поставил условием «слушаться сначала Бога, и затем уже короля». Но в его внешности не было ничего монашеского или отшельнического. Молодой ученый с его веселой беседой, приятным общением, беспощадными эпиграммами, страстной любовью к музыке, всепоглощающим чтением, оригинальными взглядами, насмешками над монахами, юношеской страстью к свободе казался воплощением блеска и свободы гуманизма.
Но события скоро должны были показать, что под этим веселым характером скрывалась суровая непреклонность сознательного решения. Флорентийские ученые писали декламации против тиранов и в то же время своей лестью прикрывали тиранию дома Медичи. Едва Мор вошел в парламент, как вескость его доводов и строгое чувство справедливости привели к отклонению ходатайства короля о тяжелых налогах. «Безбородый юноша, — говорили придворные (а Мору было только 26 лет), — расстроил план короля». В остальные годы царствования Генриха VII молодой юрист счел более благоразумным держаться в стороне от общественной жизни, но это мало повлияло на его неутомимую деятельность. Он сразу выдвинулся в адвокатуре. Он написал «Жизнь Эдуарда V», первое произведение, в котором представлена новая английская проза, отличающаяся чистотой и ясностью стиля, свободная от устаревших форм выражения и классического педантизма. Место аскетических мечтаний заняли семейные привязанности.
Представляя себе Томаса Мора в его доме в Челси, мы начинаем понимать нежные эпитеты, которыми осыпал его Эразм. Любимым делом молодого супруга было развивать в девушке, которую он выбрал себе в жены, интерес к литературе и музыке. Из отношений Мора к его детям была исключена сдержанность, какой требовал от родителей тогдашний обычай. Он любил учить их и привлекал их к более усердным занятиям монетами и редкостями, собранными в его кабинете. Наравне с детьми он интересовался их любимцами и играми и мог приводить в сад серьезных ученых и политиков смотреть на клетку для кроликов его дочери или любоваться прыжками ее любимой обезьяны. «Я довольно вас целовал, — писал он в шутливых стихах своим детям, увлеченный делами, — но едва ли когда бил».
Вступление на престол Генриха VIII вернуло его к политической деятельности. В его доме Эразм написал «Похвалу Глупости», и в латинском названии произведения — «Moriae encomium» — отразилось в виде забавной шутки пристрастие автора к безграничному юмору Мора. «Мор, — говорил один из его потомков, так же сильно старался оставаться вдали от двора, как большинство людей стремится туда попасть. Прелесть его беседы доставляла молодому государю столько удовольствия, что он даже раз в месяц не мог получить позволения повидаться с женой и детьми, общество которых очень любил; тогда он начал скрывать свою природную веселость и так, мало-помалу, от нее отвыкать». Мор вполне разделял разочарование, вызванное в его друзьях внезапным проявлением воинственности Генриха VIII, но мир снова привлек его на сторону короля, и он скоро приобрел его доверие в качестве советника и дипломата.
В одной из таких дипломатических поездок Мор, по его словам, услышал о королевстве Утопия (место, которого нет, или бласловенная страна). «Однажды я слушал обедню в храме Богоматери, красивейшей, великолепнейшей и замечательнейшей из всех церквей города Антверпена, а потому и наиболее посещаемой народом. Когда служба окончилась, я уже готовился идти домой, как вдруг заметил моего друга Петра Гилса разговаривающим с каким-то пожилым иностранцем; это был человек с загорелым лицом, широкой бородой и в плаще, красиво наброшенном на плечи, — которого, по лицу и одежде, я тотчас счел моряком». Моряк оказался спутником Америго Веспуччи в путешествиях в Новый Свет, «описание которых теперь напечатано и находится у всех в руках». По приглашению Мора моряк проводил его домой, и там, в моем саду, мы уселись на скамье, покрытой зеленым дерном, и стали беседовать о чудесных приключениях моряка, как он был оставлен Веспуччи в Америке, странствовал по стране, расположенной под полуденным кругом и, наконец, прибыл в царство «Утопии». Его историю Мор и рассказывал в удивительной книге, открывающей нам сущность нового движения.
До сих пор оно было движением ученых и духовных лиц. Его преобразовательные планы носили почти исключительно характер научный и религиозный. У Мора свободная игра ума, которая отказалась от старых форм образования и веры, обратилась к исследованию старых форм общественных и политических. От мира, в котором 15-вековая проповедь христианства породила социальную несправедливость, религиозную нетерпимость и политический деспотизм, философ-юморист обратился к «Утопии», где простым усилием чисто человеческой доблести удалось осуществить безопасность, равенство, братство и свободу, для которых, по видимому, и создано было само общество. Как бы странствуя по этой фантастической стране, Мор затронул великие вопросы, глубоко волновавшие новый мир, — вопросы о труде, преступлении, совести, управлении.
Проницательность его ума доказывается уже тем, что он подметил и подверг разбору такие вопросы, но еще сильнее заметна его оригинальность в предложенных им решениях. Среди массы того, что представляется просто игрой пылкой фантазии или воспоминанием о грезах прежних мечтателей, мы постоянно встречаем предвосхищение гением Томаса Мора важнейших социальных и политических открытий последующего времени. В некоторых пунктах, например, в рассмотрении рабочего вопроса, он все еще далеко впереди господствовавшего мнения. Весь окружавший его общественный строй представлялся ему «просто заговором богачей против бедняков». Экономическое законодательство было, по его мнению, простым осуществлением такого заговора при помощи закона.
«Богачи постоянно стараются, посредством частного обмана или общественного закона, урезать еще что-нибудь из дневного заработка бедняка, так что зло уже существующее (зло состоит в том, что люди, всего более полезные для государства, получают наименьшее вознаграждение) еще усиливается при помощи государственного закона». «Богачи придумывают всевозможные способы, чтобы прежде всего обеспечить за собой собранное неправдой, а затем воспользоваться за более низкую плату для своей выгоды трудом бедняка. Потом богачи придают этим способам общественный характер, и они становятся законами». В результате этого рабочий класс был обречен на «столь жалкое существование, что в сравнении с ним завидной представляется даже жизнь зверей». Со времени Петра-пахаря не было такого выражения сострадания к бедняку, такого протеста против земельной и промышленной тирании, нашедшей выражение в собрании статутов.
От христианства Мор с улыбкой обращается к «Утопии», где целью законодательства служит обеспечение благосостояния всего общества — благосостояния социального, промышленного, духовного, религиозного. Рабочие законы в «Утопии» предусматривают просто благосостояние рабочего класса как настоящую основу благоустроенного общества. Имущество находится там в общем владении, но труд обязателен для всех. Продолжительность его сокращена до 9 часов, которых добивались рабочие во время Т. Мора с целью поднятия своего духовного развития. «При установлении государственного устройства главным образом имелось ввиду сберечь возможно больше времени от необходимых занятий и общественных дел, чтобы граждане, освободившись от физического труда, могли пользоваться досугом для свободной деятельности ума и его украшения. В этом полагают они блаженство земной жизни».
Система общественного образования позволяла жителям «Утопии» пользоваться их досугом: в Англии половина населения не умела читать, а в «Утопии» был хорошо обучен всякий ребенок. Физические нужды общества рассматривались так же внимательно, как и нравственные. Дома в «Утопии» «сначала были очень низкие, похожие на простые избы или бедные пастушеские хижины, построенные как попало, из первых попавшихся под руку бревен, с глиняными стенами и остроконечными соломенными крышами». В сущности, таков был вид обыкновенного английского города во времена Мора — вместилище грязи и заразы. Однако в «Утопии» удалось, наконец, установить связь между общественной нравственностью и здоровьем, основывающуюся на свете, воздухе, удобствах и чистоте.
«Улицы были шириной в 20 футов; за домами, построенными великолепно и изящно, в несколько этажей, один над другим, находились просторные сады. Наружная сторона стен была сделана из камня или кирпича и оштукатурена, а внутренняя — украшена деревянной резьбой. Простые плоские крыши были покрыты штукатуркой, смешанной так, что огонь не мог повредить ее или испортить; влиянию погоды она противостояла лучше любого свинца. Ветра они не допускали в окна при помощи стекла, употреблявшегося, а иногда также — тонкого полотна, вымоченного в масле или амбре, и это ради двух удобств: такой способ дает больше света и лучше широко защищает от ветра».
Еще более заметна проницательность, с которой Мор рассматривал вопросы труда и общественного здоровья при обсуждении вопроса о преступлении. Он первый высказал мысль, что его устранение достигается не столько наказанием, сколько предупреждением. «Если вы допускаете плохое обучение народа, допускаете извращение его морали с детства и затем, когда люди вырастут, наказываете их за те преступления, к которым они приучались в детстве, — что это, как не воспитание, а затем наказание воров?» Он первый потребовал соответствия между преступлением и наказанием и указал на бессмысленность жестоких казней. «Простое воровство — не такое крупное преступление, чтобы его следовало наказывать смертью». Он говорил, что если вору и убийце грозит одна и та же казнь, то закон просто искушает вора обеспечить себе безнаказанность, совершив убийство. «Стремясь устрашить воров, мы на деле только вызываем их на убийство добрых людей». Целью всякого наказания он считал исправление — «одно только устранение порока и спасение людей».
Он советовал ставить преступников в такое положение, чтобы у них не было другого выбора, кроме как быть честными; какое бы зло они ни совершили раньше, остаток их жизни должен загладить его. Больше всего он настаивал на том, что для действенности наказания оно должно быть основано на труде и надежде: «Никто не должен отчаиваться в возможности вернуть себе прежнее свободное положение, предоставив веские ручательства за то, что впредь он намерен жить честным и надежным человеком». Можно без преувеличения сказать, что в изложенных им великих началах Мор предвосхитил в нашем уголовном праве все реформы, ознаменовавшие собой последние сто лет.
Решением религиозного вопроса он еще больше опередил свой век. Если дома Утопии представляли странную противоположность жилищам Англии, где кости от всякого обеда гнили на грязной соломе, покрывавшей пол, где дым вился вокруг стропил, а ветер свистал в окна без стекол; если ее уголовные законы имели мало сходного с виселицами, так часто встречавшимися в Англии, то еще сильнее было отличие религии «Утопии» от веры европейцев. Ее основой служили просто природа и разум. Целью Бога она считала счастье людей, а аскетическое отречение от человеческих радостей было в ее глазах неблагодарностью по отношению к их подателю. Правда, христианство уже проникло в Утопию, но у него было мало жрецов: центром для религии служила скорее семья, чем община, и члены каждой семьи исповедовали свои грехи ее естественному главе.
Еще более странной особенностью было мирное сосуществование новой веры бок о бок со старыми. Более чем за столетие до Вильгельма Оранского Мор установил и провозгласил великое начало религиозной терпимости. В «Утопии» всякий мог исповедовать какую угодно веру. Единственное отклонение от полного религиозного безразличия составляло лишение отрицателей Божественного существа или бессмертия души, права занимать общественные должности; но это ограничение обуславливалось не религиозными мнениями, а тем, что эти мнения считались унизительными для человечества, а их обладатели — неспособными достойно руководить. Но даже и они не подвергались наказаниям, так как жители «Утопии» были «убеждены, что не во власти человека верить, во что ему угодно».
Человек мог распространять свою веру при помощи убеждения, но не силой и не нападками на мнения других. Каждая секта отправляла свое служение отдельно, но все они собирались для общественного служения в обширном храме; там огромная толпа, одетая в белое, группировалась вокруг жреца, облаченного в чудесное платье из птичьих перьев, и вместе распевала гимны и молитвы, составленные так, что они были удобоприемлемы для всех. Важность этого общественного богослужения заключалась в доказательстве того, что свобода совести может примиряться с религиозным единством.
Глава IV УОЛСИ (1515—1531 ГГ.)
«В царстве «Утопии» много такого, принятия чего у нас я скорее желаю, чем на него надеюсь». Этим характерным ироническим замечанием закончил Мор первое произведение, выражавшее мечтания гуманизма. Его планам реформ — социальной, религиозной, политической — суждено было осуществляться в течение ряда веков, но они беспомощно разбились о дух его времени. В то самое время, как Мор защищал дело справедливости в отношениях богача и бедняка, социальное недовольство под влиянием притеснений превратилось в яркое пламя. Он метал сарказм за сарказмом в преклонение перед государями, а в действительности деспотизм был приведен в систему. Наконец, его защита великих начал религиозной терпимости и мира всех христиан почти совпала с началом борьбы между Реформацией и папством.
«У этого Лютера тонкий ум», — насмешливо заметил папа Лев X, услышав, что некий немецкий профессор прибил к дверям церкви в Виттенберге ряд положений, доказывавших злоупотребление индульгенциями или властью папы, отпускать известные наказания, связанные с совершением грехов. Но «ссора монахов», как презрительно называли спор в Риме, скоро приняла более широкие размеры. Сначала Лютер «повергался к стопам» папы Римского и признавал его голос за голос Христа, но едва Лев X своим постановлением формально подтвердил учение об индульгенциях, как его противник апеллировал к будущему церковному собору. Два года спустя (в 1520 г.) произошел окончательный разрыв. Папская булла формально осудила заблуждение реформатора, но Лютер встретил осуждение презрительно и публично предал буллу пламени. Второе осуждение извергло его из лона церкви, а к отлучению папскому скоро присоединилась и имперская опала.
«На этом я стою, иначе я не могу», — ответил Лютер молодому императору Карлу V, когда тот на сейме в Вормсе принуждал его к отречению. Из своего убежища в Тюрингенском лесу, где его спрятал курфюрст Саксонский, он стал изобличать не только злоупотребления папства, но и само папство. Ожили ереси Уиклифа; непогрешимость и авторитет римского престола, истинность его учения, действительность его служения отрицались и высмеивались в острых памфлетах, высылавшихся из убежища Лютера и при помощи печатного станка распространявшихся по всему миру. Давнее недовольство Германии притеснениями пап, нравственное возмущение более религиозных умов мирской жизнью и безнравственностью духовенства, отвращение гуманизма к суеверию, которое папство теперь формально защищало, — все это принесло Лютеру широкую популярность и покровительство князей Северной Германии.
Однако в Англии его протест сначала не встретил сочувствия. Трудности политического положения принуждали ее к тесному союзу с Римом. Сам молодой король, гордившийся своей богословской ученостью, выступил против Лютера с «защитой семи таинств», за что Лев X наградил его титулом «защитника веры». Дерзкий тон ответа Лютера вовлек в спор Мора и Фишера. До сих пор гуманизм, хотя и пугался невоздержанного языка Лютера, но постоянно поддерживал его в борьбе. Эразм ходатайствовал за него перед императором Карлом V, Ульрих фон Гуттен нападал на монахов в столь же резких сатирах и памфлетах.
Но идеи Возрождения расходились с лютеровскими еще сильнее, чем римские. Виттенбергский реформатор с ужасом отвращался от смелой мечты о новом веке, осуществляемой мирно и исключительно постепенным развитием разума, науки, человеческой доблести. К новому образованию он питал мало симпатии или совсем не питал ее. Разум он презирал так же искренне, как и любой католический богослов. Сама мысль о терпимости или вероисповедном мире была ему ненавистна. Мотивы нравственного и умственного характера побудили его провозгласить римскую систему ложной, но только для того, чтобы заменить ее другим учением, столь же выработанным и заявлявшим притязания на такую же непогрешимость. Унижать достоинство человеческой природы значило потрясать самые основы гуманизма; но едва Эразм выступил на его защиту, как Лютер объявил, что природа человека в корне извращена первородным грехом, и потому он не в состоянии своими усилиями постигать истину или делать добро.
Такое учение не только отвергало благочестие и мудрость классической древности, из которой гуманизм заимствовал свои более широкие взгляды на мир и жизнь; оно втоптало в грязь сам человеческий разум, с помощью которого Мор и Эразм надеялись возродить науку и религию. Мор особенно ясно понимал важное значение этого поворота, а потому для него такое внезапное чисто богословское и догматическое возрождение духа, разделившее христианство на два враждующих лагеря и унесшее все надежды на единство и терпимость, было особенно ненавистно. Его характер, раньше представлявшийся столь «нежным, мягким и веселым», внезапно изменился. Его ответ на памфлет Лютера против короля по грубости не уступал оригиналу. Ответ Фишера носил характер более спокойный и доказательный; но тем не менее разрыв Гуманизма и Реформации был полным.
И политическим надеждам «Утопии» не суждено было найти осуществления в деятельности министра, который при окончании первой войны Генриха VIII с Францией быстро приобрел влияние. Томас Уолси (Wolsey) был сыном богатого горожанина из Ипсича; его таланты выдвинули его в конце царствования Генриха VII, и епископ Фокс взял его на королевскую службу. Пожалуй, только его необыкновенные способности могли расположить к нему молодого государя, помимо снисходительности к песням, танцам и пирам, в которой его упрекали враги. Из любимца он скоро сделался министром. Недовольство Генриха VIII вероломством Фердинанда позволило Уолси совершенно изменить политику своих предшественников. Война избавила Англию от страха перед Францией. Уолси хотел освободить ее от влияния Фердинанда и видел в союзе с Францией лучший залог независимости Англии. В 1514 году с Людовиком XII был заключен договор. Дружба продолжалась и с его преемником Франциском I. В надежде на то, что в продолжение войны Англии нечего будет бояться какого бы то ни было нападения и что сам Франциск I, быть может, найдет в ней гибель, Генрих VIII и Уолси содействовали его походу за Альпы с целью нового завоевания Ломбардии. Надежды эти были разрушены блестящей победой Франциска I при Мариньяно, но в момент торжества он вдруг увидел перед собой другого соперника.
Новый испанский король Карл I, властитель Кастилии и Арагона, Неаполя и Нидерландов, оказался для Франциска I таким сильным противником, какого никогда не могла создать политика Генриха VIII или Уолси. Обе стороны усердно добивались союза с Англией, и Уолси удалось путем бесконечных переговоров семь лет держать Англию в стороне от войны. Мир снова оживил надежды гуманистов; он позволил Колету реформировать обучение, Эразму — начать преобразование церкви, Мору — поставить на ноги новую науку, политику. Но тот же мир в руках Уолси оказался роковым для свободы Англии. В политических намеках, рассеянных по «Утопии», Мор с едкой иронией обличал развитие нового деспотизма. Только в «Утопии» можно было «низложить государя, заподозренного в намерении поработить свой народ».
В Англии, по словам великого правоведа, процесс порабощения совершался спокойно, под прикрытием закона. «Там всегда находится предлог для решения дела в пользу короля: на его стороне оказываются то справедливость, то буквальный смысл закона, то натянутое толкование его; а если нет ничего такого, то говорят, что добросовестные судьи власть короля должны ставить выше всех других соображений». Нас поражает та определенность, с какой Мор описывал приемы, применявшиеся потом судами в пользу деспотизма, вплоть до коронного приговора в деле корабельной подати. Но за этими судейскими уловками скрывались великие начала абсолютизма, постепенно проникавшие в общественное сознание, частью по примеру иноземных монархий, частью от ощущения неустойчивости общественного и политического строя, но еще более — под влиянием изолированного положения короны. «Эти представления, — смело продолжал он, — поддерживаются положением, что король не может поступать несправедливо, как бы он этого ни желал, что ему принадлежат не только имущество, но и личность его подданного и что человек имеет право только на то, что благость короля сочтет за нужное не отнимать у него».
В руках Уолси эти правила стали основными началами управления. Ограничения, которые налагало на деятельность короля присутствие в его Совете главных прелатов и вельмож, фактически были устранены. Вся власть сосредоточилась в руках одного министра. Генрих VIII щедро наградил Уолси за его услуги короне. Он был сделан епископом Линкольнским, а затем архиепископом Йоркским. Генрих VIII добился возведения его в кардиналы и назначил его канцлером. В его руки попали доходы двух епархий, занятых иностранцами; он владел епископством Уинчестерским и аббатством Сент-Олбанским; он получал пенсии от Франции и Испании, а его официальное содержание было громадным. Его пышность почти не уступала королевской. Куда бы он ни отправлялся, его сопровождала свита из прелатов и вельмож; его двор состоял из 500 лиц благородного происхождения, а главные места в нем занимали рыцари и бароны королевства.
Свое огромное богатство он тратил с княжеским тщеславием. Два его дворца — Хемптен Корт и позднейший Уайт холл — были настолько великолепными, что после его падения стали резиденциями короля. Его школу в Ипсиче затмила слава основанного им же в Оксфорде колледжа Кардинала, впоследствии получившего название колледжа Церкви Христовой. Это великолепие было не просто демонстрацией власти. Руководство всеми внутренними и внешними делами было в руках одного Уолси; как канцлер он стоял во главе правосудия; назначение его папским легатом сделало его всемогущим в церковных делах. Несмотря на громадность взятого им на себя труда, он прекрасно выполнял его: его заведование королевской казной отличалось экономностью; число его депеш едва ли менее замечательно, чем тщательность обработки каждой из них; даже Мор, его враг, признавал, что как канцлер он оказался выше всех ожиданий.
Суд канцлера, благодаря приобретенной им под управлением Уолси репутации быстроты и беспристрастия, оказался настолько обремененным массой дел, что для облегчения его пришлось учредить второстепенные суды. Такое сосредоточение всей светской и церковной власти в одних руках приучило Англию к личному правлению, начавшемуся с Генриха VIII; а долгая принадлежность Уолси всей папской власти в пределах Англии и последовательное устранение апелляций в Рим привели позднее к примирению народа с притязаниями Генриха VIII на церковное главенство. Как ни велика была надменность Уолси и как ни высоки его природные дарования, но для Англии он был просто созданием короля. По его собственному признанию, своими возвышением, богатством и властью он был обязан единственно воле Генриха VIII. Поставив своего худородного любимца во главе церкви и государства, король, в сущности, сосредоточил всю церковную и светскую власть в своих руках. Народ, дрожавший перед Уолси, научился дрожать и перед королем, который одним словом мог низвергнуть Уолси.
Возвышение Карла V Габсбургского сообщило политике Уолси новый поворот. Карл V уже владел Нидерландами, Франш-Контэ, Испанией, когда смерть его деда Максимилиана I в 1519 году присоединила к его владениям родовые земли Габсбургов в Швабии и на Дунае, и открыла путь к избранию его в императоры. Франция со всех сторон была окружена владениями еще более крупной державы, и потому Уолси и его королю показалось, что наступило время для более смелой игры. Расчеты на получение императорской короны после смерти Максимилиана обманули Генриха VIII, и он обратился к старой мечте о «возвращении своего французского наследства» — мечте, от которой он в действительности никогда не отказывался и которую в нем заботливо поддерживал племянник его жены Екатерины Арагонской — Карл V. При этом не был забыт и Уолси. Если Генрих домогался Франции, то его министр имел в виду ни больше ни меньше, как папство, и молодой император охотно обещал свою поддержку на выборах.
Влияние этих соблазнов скоро сказалось. В мае 1520 года Карл V прибыл в Дувр повидаться с Генрихом VIII, и оба они ездили без свиты в Кентербери. Напрасно старался Франциск I сохранить дружбу Генриха VIII свиданием близ Гина, которому расточительная роскошь обоих монархов подарила название «Поле золотого сукна». Второе свидание Карла V с дядей, когда он вернулся из Франции, закончилось тайным договором и обещанием императора жениться на единственной дочери Генриха VIII Марии Тюдор. Ее право на престол было подтверждено фактом, показавшим, что знать находилась тогда в полной зависимости от короля. Среди английских вельмож первое место по происхождению и могуществу занимал герцог Бекингэм, который был потомком младшего сына Эдуарда III и в случае отрицания прав Марии на престол считался ближайшим наследником. Его надежды поддерживались пророками и астрологами; ходили слухи о его намерении после смерти Генриха VIII, несмотря ни на что, захватить престол.
Король два года следил за его речами и действиями; наконец, в 1521 году герцог был схвачен, осужден пэрами за измену и обезглавлен на Тауэр Хилле. Союз с Францией был разорван, и когда началась ее война с Испанией, папа Римский, император и Генрих VIII заключили тайный договор в Кале. Влияние новой военной политики на внутренние дела скоро обнаружилось. Бережливость Уолси могла покрывать расходы короны только в мирные годы. Когда же Генрих VIII пообещал выставить для предстоящего похода 40 тысяч человек, средств казны оказалось совсем недостаточно. Деспотический инстинкт не позволял Уолси созывать, по обычаю, парламент. Хотя Генрих VIII для покрытия расходов первой войны с Францией и созывал палаты три раза, но Уолси управлял в течение семи лет мира, ни разу не обращаясь к ним. Война сделала созыв парламента неизбежным; но сначала кардинал старался отсрочить его, широко пользуясь приемом, изобретенным Эдуардом IV, — собирать деньги путем принудительных займов или «одолжений», возвращавшихся из первой субсидии ближайшего парламента. На каждое графство были наложены крупные суммы платежей. С Лондона было взято 20 тысяч фунтов; его богатейшие граждане вызывались к кардиналу, и он требовал от них указания стоимости их имущества. Для подготовки обложения в каждое графство посылались комиссары, и по их докладам издавались приказы, требовавшие в одних случаях поставки солдат, в других — десятой части дохода в казну короля.
Однако результат был настолько ничтожным, что в следующем, 1523, году Уолси был вынужден созвать парламент и обратиться к нему с беспримерным требованием налога на имущество — в соотношении двадцати к ста. Требование было предъявлено кардиналом лично, но было встречено упорным молчанием. Напрасно Уолси приглашал высказаться членов парламента; когда он обратился к Мору, выбранному спикером Палаты Общин, тот стал на колени и заявил, что он не может ничего сказать, пока не получит инструкций от Палаты. Попытка запугать Общины не удалась, и едва Уолси удалился, как начались бурные прения. Он снова явился, чтобы ответить на возражения, но Общины опять расстроили попытку министра повлиять на их совещания, отказавшись обсуждать вопрос в его присутствии.
Борьба продолжалась две недели; партии двора удалось, правда, добиться субсидии, но в то же время пришлось довольствоваться суммой меньше половины той, что требовал Уолси. Такую же независимость выказало и собрание духовенства (конвокация). Когда через два года снова понадобились деньги, кардинал еще раз вынужден был прибегнуть к системе «одолжений». В каждом графстве королевские комиссары требовали десятины у мирян и четверти — у духовных. Уорхем писал двору, что «в народе заметны сильное недовольство и ропот». «Если людей обяжут отдавать свое имущество по приказу, — заявили кентские помещики, — то это будет хуже французских налогов, и Англия окажется не свободной, а рабской страной”.
Народ политическим инстинктом понял, как и прежде, что от вопроса о самообложении зависит само существование свободы. Духовенство стало во главе сопротивления и проповедовало со всех кафедр, что приказ противоречит вольностям королевства и что король не может ни у кого отбирать имущество не иначе как законным порядком. Раздражение в народе было настолько сильным, что Уолси отступил перед ним и предложил ограничиться добровольными займами. Тут появилось напоминание о статуте Ричарда III, объявлявшем незаконным всякое требование «одолжений». Лондон уклонился от него; из Кента прогнали комиссаров. В Суффолке поднялось восстание; мятежом же грозило и население Кембриджа и Норвича. Все предприниматели прекратили работу. Суконщики отпустили своих рабочих, арендаторы — батраков. «Они говорят, что король требует с них столько, что они не в состоянии заниматься прежним делом». Только безусловная отмена королевского приказа предупредила восстание крестьян, подобное бушевавшему тогда в Германии.
Неудача Уолси спасла на время свободу Англии; но кардинал отступил не только перед стремлением народа к свободе. Ропот кентских помещиков просто усилил нараставшее общественное недовольство. Земельный вопрос, с одной стороны, укреплял положение короны, возлагая на нее охрану общественного спокойствия; но, с другой стороны, при каждом столкновении монархии с землевладельцами он становился грозной опасностью. Постоянный рост цен на шерсть давал новый толчок к переменам в сельском хозяйстве, начавшимся на полтора века раньше и состоявшим в объединении мелких хозяйств в крупные и в широком распространении овцеводства.
Этому движению содействовало обогащение промышленных классов. Они вкладывали в землю огромные капиталы. У «земледельческих дворян и рыцарей пера», как их насмешливо называл Латимер, было мало привычек и воспоминаний, мешавших им изгонять мелких арендаторов. К тому же прежде земля отдавалась в аренду за очень низкую плату, но по мере возрастания цен на нее стремление повышать оброки становилось непреодолимым. «Участок, прежде ходивший за 20 или 40 фунтов в год, — узнаем мы из того же источника, — теперь сдается за 50 или 100». А между тем только низкий размер ренты и позволял существовать мелким крестьянам.
«Мой отец, — говорил Латимер, — был вольным крестьянином и не имел своей земли; у него была только аренда, самое большее за 3 — 4 фунта в год, и на ней он зарабатывал пропитание для полудюжины людей. У него было пастбище для сотни овец, а моя мать доила 30 коров. Отец был в состоянии при службе королю достать панцирь для себя и для своего коня и отправиться за получением королевского жалованья. Я припоминаю, что когда он отправлялся в Блэкгиз, то я сам застегивал ему панцирь. Он посылал меня в школу; он выдал замуж моих сестер, дав каждой по пять фунтов и воспитав их в благочестии и страхе божьем. Он оказывал гостеприимство своим бедным соседям, подавал кое-какую милостыню нищим. Все это он делал на доход с того участка, теперешний арендатор которого платит в год 16 фунтов или более, и потому он не в состоянии сделать что-либо для своего государя, для себя и своих детей или хотя бы дать выпить бедняку».
Повышение арендной платы в конце концов заставляло таких арендаторов покидать свои участки, но горечь изгнания усиливалась применением несправедливых средств. Если верить Мору, арендаторов «устраняли обманом или силой или доводили их рядом несправедливостей до того, что они расставались со своими участками». «Так и случается, что эти жалкие бедняки, мужчины, женщины, супруги, сироты, вдовы, родители с маленькими детьми, семьи больше людные, чем богатые, так как пахотный участок требует множества рук, а для пастбища достаточно одного овчара или пастуха, — ведь они покидают свои родные поля, не зная, куда им идти». Продажа их скудной домашней утвари заставляла их бродить без пристанища, попадать, как бродяга, в тюрьму, нищенствовать и воровать. Но при этом зрелище мы все еще встречаем жалобы на недостаток рабочих и старое средство против этого — определение законом размера заработной платы.
Социальные неурядицы издевались над остроумием английских политиков, которые не могли найти против них лучших средств, чем издавать законы против дальнейшего расширения пастбищ и увеличивать число публичных казней. Но ни то, ни другое не приносили пользы. Огораживание и изгнание продолжались. «Если вы не устраните зол, порождающих воровство, — едко, но справедливо замечал Мор, — тщетным будет строгое применение правосудия к наказанию воров». Но даже Мор мог указать только одно средство, применения которого пришлось ждать еще столетие, хотя впоследствии оно оказалось очень действенным. «Устройте шерстяные фабрики, чтобы дать честный заработок тем, кого нужда сделала или скоро сделает ворами». Общественные неурядицы все усиливались; а между тем роспуск военных свит аристократии, все еще продолжавшийся, и возвращение с войны раненных и увечных солдат вводили новые элементы насилия и преступления.
Это общественное недовольство, а также истощение казны только усиливали горечь неудачного исхода войны. Правда, для Франции борьба закончилась поражением: потеря Милана и пленение Франциска I в битве при Павии отдали ее во власть императора. Но Карл V и не думал выполнять обещания, которыми он вовлек Англию в войну. Уолси пришлось быть свидетелем вступления на папский престол, одного за другим, двух сторонников императора. Надежды на завоевание «нашего французского наследства» окончились полной неудачей; как и прежде, Англия ничего не выиграла от двух бесплодных походов, и было очевидно, что Карл V и не думает ничего давать ей. Он заключил перемирие со своим пленником, отклонил все проекты совместного нашествия, нарушил свое обещание жениться на Марии Тюдор и женился на португальской принцессе; а также настаивал на мире с Францией, который должен был отдать ему Бургундию.
Пора было Генриху VIII и его советнику изменить направление своей политики. Они решили отказаться от деятельного участия в соперничестве двух держав и тайно заключили договор с Францией. Но Генрих VIII остался в хороших отношениях с императором и не принял участия в новой войне, разгоревшейся из-за отказа Франциска I выполнить условия, которыми он купил свое освобождение. Не отвлекаясь больше ожиданием великих событий, король перестал интересоваться внешней политикой и предался охоте и спорту. Среди самых красивых и веселых дам его двора выделялась Анна Болейн. Ее веселость и остроумие скоро снискали ей расположение Генриха VIII, а ее влияние сказалось в пожаловании почестей ее отцу.
В 1524 году решение короля разорвать свой брак с королевой придало этой связи новую окраску. Смерть всех детей, кроме Марии, могла возбудить сомнения в законности брака, над которым, казалось, тяготело проклятие; отсутствие сына-наследника могло усилить это впечатление. Каковы бы ни были мотивы поведения Генриха VIII, но с того времени он стал просить у папы Римского разрешения на развод. Для Климента VII согласиться на это — значило открыто порвать с императором, племянником Екатерины; а папа был тогда во власти императора. Пока английский посол обсуждал вопрос о разводе, захват Рима войсками Карла V показал полную беспомощность Климента VII; в сущности, он оказался пленником в руках Карла V.
Между тем тайный разбор дела, начатый Уолси в качестве легата папы Римского, внезапно прекратился; так как Екатерина отрицала факты, на которые ссылался Генрих VIII, то ее апелляция могла передать дело на суд папы, а решение Климента VII едва ли оказалось бы благоприятным. Затруднительность развода была очевидна. Один из ученейших епископов Англии, Фишер Рочестерский, открыто высказался против него. Английские богословы, запрошенные о значении данного папой Генриху VIII разрешения вступить в брак, посоветовали королю обратиться за решением вопроса к папе. Торговые классы боялись шага, который неизбежно должен был повлечь за собой разрыв с императором, властителем их главного рынка во Фландрии. Но больше всего возмущала общественное мнение несправедливость задуманного дела. Ни опасность, ни позор не могли сломить упорства и страсти короля.
К тому же для поддержки Анны образовалась большая партия. Ее дядя, герцог Норфолк, и отец, впоследствии граф Уилтшир, решительно настаивали на разводе; блестящая группа молодых придворных, к которой принадлежал брат Анны, в ее успехе видела свое возвышение; герцог Сеффолк и масса знати надеялись при ее помощи добиться падения министра, перед которым дрожали. Кардиналу было необходимо найти какие-нибудь средства для выполнения воли короля; но все его планы один за другим разбивались о противодействие папского двора. Папе Римскому хотелось удовлетворить желание Генриха VIII, но он сомневался в правильности предложенного ему пути и опасался Карла V, влияние которого было теперь в Италии преобладающим; поэтому он даже порицал Уолси за то, что он помешал королю решить это дело в Англии и вступить в брак на основании приговора ее судов.
Генрих VIII настойчиво требовал у папы Римского прямого согласия на развод, а Климент VII упорно от этого уклонялся. Наконец он согласился на разбор дела в Англии через посредство легатов. Кроме Уолси в комиссию вошел еще кардинал Кампеджо. Месяцы проходили в бесплодных переговорах. Кардиналы предлагали Екатерине удалиться в монастырь, а Генрих VIII требовал от папы решения дела в виде формального объявления брака незаконным. Наконец, в 1529 году кардиналы начали разбор дела в большой зале доминиканцев. Генрих VIII письменно объявил, что не намерен жить больше в смертном грехе. Королева выразила желание апеллировать к папе Римскому, и когда легаты отказали ей в этом, она кинулась к ногам Генриха VIII.
«Государь, — сказала она, — я умоляю Вас сжалиться надо мной: я женщина и чужестранка, у меня нет ни верного друга, ни надежного советника. Я призываю Бога в свидетели того, что я всегда была для Вас верной и преданной женой, что я считала всегда своей обязанностью угождать Вам, что я любила всех, кого любили Вы, все равно, имела ли я для этого основания или нет, были ли они для меня друзьями или врагами. Много лет я была Вашей женой и принесла Вам много детей. Богу известно, что когда я вышла за Вас, я была девицей, и за подтверждением или отрицанием этого я обращаюсь к Вашей совести. Если меня можно изобличить в каком-либо проступке, Я согласна удалиться с позором; если же нельзя, тогда я прошу Вас отнестись ко мне по справедливости». Эти трогательные слова были обращены к королю, во дворце которого, окруженная царской пышностью, уже жила Анна Болейн. Дело продолжалось, и суд собрался для вынесения приговора. Надежды Генриха VIII достигли высшей степени и вдруг внезапно рухнули. При открытии заседания поднялся Кампеджо и объявил отсрочку суда. Отсрочка была простой уловкой. Настояния императора Карла V заставили, наконец, Климента VII вытребовать дело на суд в Рим, и это прекратило деятельность легатов.
«Теперь я вижу, воскликнул герцог Суффолк, ударив рукой по столу, — справедливость старой поговорки, что никогда ни легаты, ни кардиналы не делали добра Англии!» «Из всех людей на свете, смело возразил Уолси, — Вы, господин герцог, имеете меньше всего оснований поносить кардиналов: не будь меня, бедного кардинала, у Вас не было бы теперь головы на плечах, чтобы так хвастливо порицать нас». Но и кардинал, и его враги знали, что участь министра решена. В течение двадцати лет своего царствования Генрих VIII не знал никакого противодействия своей воле. Он с его деспотичным характером, был раздражен медленным ходом переговоров, уловками и вероломством папы Римского. Его гнев сразу обрушился на Уолси, который сначала отсоветовал ему действовать независимо, вести дела в своих судах и поступать по приговору своих судей, потом тот же Уолси убедил его требовать развода у папы и обещал ему успех в этом деле.
Рис. Генрих VIII и кардинал Уолси.
С закрытием суда легатов Генрих VIII не хотел его больше видеть. Если какое-то время Уолси еще оставался министром, то только потому, что нельзя было сразу обрывать нити сложных внешних отношений. Но и здесь его постигла неудача: он оказался обманутым заключением нового договора между Франциском I и Карлом V в Камбре. Его французская политика становилась дальше невозможной; необходимо было, во чтобы то ни стало, примириться с Карлом V, а такого примирения можно было достичь только низвержением Уолси. Его тотчас привлекли к суду за принятие булл из Рима, вопреки статуту «Praemunire». Несколько дней спустя у него отняли печати. Удар поразил его. Он предложил пожертвовать все свое имущество, чтобы только король перестал на него гневаться.
«Его лицо, — писал французский посол, — сократилось до половины своей естественной величины. Действительно, горе его таково, что даже его враги, хоть они и англичане, не могут удержаться от сожаления». В отчаянии он поверг к стопам короля свои почести и богатства, и на время Генрих VIII, казалось, ограничился немилостью. Тысяча лодок, заполненных лондонцами, покрыли Темзу, чтобы наблюдать проезд катера кардинала к Тауэру, но ему позволили удалиться в Эшер. Под условием передачи короне его обширных владений ему было даровано прощение и позволено удалиться в Йоркскую епархию, — единственная должность, которую ему позволили сохранить. Но едва прошел год, как сожаление короля о падении министра возбудило опасения политических соперников Уолси, и накануне праздника его прославления он был арестован по обвинению в государственной измене и увезен комендантом Тауэра в Лондон.
Уже надломленный чрезмерными трудами, внутренней болезнью и сознанием своего падения, Уолси принял арест за смертный приговор. Приступ дизентерии заставил его остановиться в Лестерском аббатстве и, приблизившись к его воротам, он слабым голосом сказал встретившим его монахам: «Я пришел сложить среди вас мои кости». На смертном одре его мысли все еще были обращены к государю, которому он служил. «Это государь с чисто царственным мужеством, — говорил он, умирая, коменданту Тауэра; скорее, чем отказаться от какого-нибудь желания, он рискнет половиной своего королевства. Уверяю вас, что мне часто приходилось, иногда по три часа кряду, стоять перед ним на коленях, отговаривая его от прихоти, и все безуспешно. Да, господин Найгон, если бы я служил Богу так же усердно, как служил королю, Он не покинул бы меня в старости. Это достойная награда за мои труды и старания — не столько служить Богу, сколько исполнять свой долг перед государем».
Ничто не может с такой ужасной наглядностью изобразить дух новой монархии, выработке которой Уолси содействовал больше, чем кто либо из его предшественников. Исчезло целиком всякое чувство преданности Англии, ее свободе, ее учреждениям. Политический деятель признавал за собой обязанности только по отношению к своему «государю»; личная воля и желание государя стоят выше важнейших интересов государства, пренебрегают мудрейшими советами, сокрушают со слепой неблагодарностью противящихся им слуг. Но, отступая перед представившимся ему чудовищным образом, даже Уолси едва ли мог вообразить, какие опустошения должны были произвести в ближайшие годы царственное мужество и еще более царственная прихоть его государя.
Глава V ТОМАС КРОМВЕЛЬ (1530—1540 гг.)
Десять лет, последовавшие за падением Уолси, принадлежали к числу самых знаменательных эпох в истории Англии. Новая монархия проявила, наконец, свое могущество, и задача, намеченная Уолси, была разрешена с ужасной последовательностью. Единственное крупное учреждение, еще бывшее в состоянии оказывать сопротивление воле короля, было ниспровергнуто. Церковь стала простым орудием королевского деспотизма. Легкое подавление и беспощадная расправа с восстаниями доказали народу его беспомощность. Организованный с чрезвычайным искусством и беспощадностью террор поразил Англию страхом и поверг ее к стопам Генриха VIII. Благороднейшие люди гибли на плахе. Добродетель и ученость не смогли спасти Томаса Мора, царственное происхождение — леди Солсбери. Устранение одной королевы и казнь другой показали Англии, что для «мужества» Генриха VIII нет ничего высокого, а для его прихоти — святого. Парламент собирался только для того, чтобы освящать проявления бессовестного деспотизма или своими собственными статутами содействовать выработке деспотического управления. Все конституционные гарантии английской свободы были уничтожены. Произвольное обложение, произвольное законодательство, произвольные аресты — все эти полномочия без возражений присваивала себе и беспощадно применяла корона.
История этого крупного переворота, — иначе его нельзя назвать, — связана с историей одного человека. Среди всех государственных деятелей Англии нет такого как Томас Кромвель, о котором нам хотелось бы знать как можно больше, о котором мы, в сущности, знаем так мало. Он уже прожил полжизни, когда появился на службе у Генриха VIII; что касается более раннего времени, то здесь можно только выделить несколько отрывочных фактов из массы сказок, облепивших их. Его юность была наполнена приключениями. Говорили, будто он был сыном бедного кузнеца в Петни. Вероятно, еще мальчиком он поступил на службу к маркизе Дорсет, а юношей он в качестве простого солдата участвовал в итальянских войнах, был «разбойником», как он сам впоследствии признавался Кранмеру, в бессовестнейшей школе мира. В этой же школе он обучился еще более опасным вещам. Он не только овладел итальянским языком, но и усвоил обычаи и тон тогдашней Италии — Италии Борджиа и Медичи. С гибкостью итальянца он из лагеря перешел в контору; он, несомненно, служил торговым агентом у одного из венецианских купцов; предание находит его конторщиком в Антверпене; наконец, в 1512 году история застает его богатым торговцем в Миделбурге в Зеландии.
По возвращении в Англию Кромвель продолжал богатеть, присоединив к прочим своим занятиям место нотариуса нечто среднее между банкиром и адвокатом, а также ссужая деньги обедневшим аристократам. В начале второй войны с Францией мы находим его деятельным и влиятельным членом Нижней палаты. Через пять лет он поступил на службу к Уолси, выказав тем самым свои честолюбивые замыслы. Кардиналу понадобился деловой человек для упразднения нескольких мелких монастырей и передачи их доходов учреждениям, основанным им в Оксфорде и Ипсиче. Задача популярностью не пользовалась и была выполнена с грубым равнодушием к возбуждаемым этим чувствам, что перенесло на Кромвеля долю ненависти, которую вызывал Уолси. Его удивительная самоуверенность и понимание положения выявились только при падении кардинала.
Из сотен сторонников, ожидавших мановения руки министра, одни только Кромвель остался верен ему до конца. Во время своего уединения в Эшере Уолси изливал перед ним свои сетования, а он ободрял его, как только мог, и попросил у него позволения отправиться в Лондон, «чтобы там помочь или повредить ему, по его всегдашней поговорке». Его чрезвычайная ловкость проявилась в плане убедить Уолси откупиться от вражды придворных подтверждением пожалований, данных им из его доходов, причем Т. Кромвель был посредником в этих переговорах. Благодаря его же усилиям парламент отверг билль, лишавший Уолси права занимать впредь всякие должности; он же добивался позволения павшему министру удалиться в Йорк.
Наградой за эту редкую преданность павшему покровителю было, по-видимому, общее уважение. «За его честное отношение к интересам своего господина его, как вернейшего слугу, все сильно почитали и восхваляли». Но покровительство Генриха VIII имело другие основания. Поездка в Лондон окончилась частным свиданием с королем, причем Т. Кромвель смело советовал ему решить дело о разводе просто при помощи своего верховенства. Совет показал главную особенность позднейшей политики, позволившей смелому советнику совершенно изменить отношения церкви и государства; но Генрих VIII все еще разделял надежды новых министров и, быть может, еще пугался голого абсолютизма, к которому побуждал его Т. Кромвель. Во всяком случае, Совет остался в тайне, и хотя король высоко ставил нового слугу, но ему пришлось терпеливо ожидать дальнейшего хода событий.
Для успешного получения развода герцог Норфолк, выдвинувшийся после падения Уолси, рассчитывал не только на союз и помощь императора, но и на поддержку парламента. Новый созыв обеих палат явился доказательством отказа от системы Уолси. Вместо того чтобы считать парламент опасным, монархия чувствовала себя теперь достаточно сильной, чтобы пользоваться им как орудием, и Генрих VIII в своем споре с Римом прямо рассчитывал на крепкую поддержку с его стороны. Не менее знаменательным было отношение гуманистов. Для них, как и для чисто политических противников кардинала, его падение открывало надежды на лучшее будущее. Принимая должность канцлера, Томас Мор, насколько можно судить об этом по фактам его короткого министерства, мечтал провести преобразование церкви, которого требовали Колет и Эразм, но задержать восстание против единства церкви. Его строгости против протестантов, правда, преувеличенные полемическим задором, остаются единственным пятном на его, вообще-то, незапятнанной репутации.
Но только при строгом отделении дела реформ от того, что представлялось ему переворотом, Мор мог надеяться на успешное осуществление планов, предложенных Советом парламенту. Петиция общин казалась как бы эхом знаменитого обращения Колета к собранию духовенства. Она приписывала усиление ереси не столько «неистовым и мятежным книгам, изданным на английском языке, вопреки истинной католической и христианской вере», сколько «неприличному и бессердечному поведению различных духовных особ». Она восставала против законов, издаваемых духовенством на его собраниях без согласия короля или его подданных, против притеснений церковных судов, злоупотреблений церковным патронатом, чрезмерного числа праздников. Генрих VIII передал петицию епископам, но они не могли назвать средства к исправлению зол. Министерство настаивало на проведении своих проектов церковного преобразования через палаты. Вопросы о собраниях и судах духовенства были отложены для дальнейшего рассмотрения, но судебные пошлины были понижены, духовенству воспрещено занятие светских должностей, ограничено совместительство, предписано пребывание на месте.
Несмотря на упорное сопротивление епископов, предложения эти были приняты Палатой Лордов «к великой радости народа и великому неудовольствию духовных особ». Важное значение этим новым мерам придавало участие в них парламента. Это свидетельствовало о том, что церковное преобразование теперь должно проводиться не духовенством, а всем народом. С другой стороны, было ясно, что оно будет проведено в духе не враждебности, а преданности церкви. Общины принудили епископа Фишера оправдываться в словах, принятых за сомнение в их правоверии. Генрих VIII запретил обращение Тиндалева перевода Библии как исполненного в протестантском духе, обещая более точный перевод.
Но стремлениям гуманистов помешала неудача министерства в переговорах о разводе. Ни отказ от союза с Францией, ни достижение власти партией, стоявшей за союз с императором, не могли изменить отношения Карла V к делу его тетки. Министры приняли совет кембриджского ученого, Томаса Кранмера, — спросить мнение университетов Европы; но обращение к мнению ученого мира окончилось полной неудачей. Без вмешательства самого Франциска I английские агенты не смогли бы ничего добиться от Парижского университета, даже при помощи щедрых подкупов. Потребовалось столь же бессовестное давление королевской власти, чтобы получить одобрение развода от Оксфорда и Кембриджа. В Германии сами протестанты, увлеченные стремлением к нравственному возрождению, были решительно против короля. Насколько можно судить по свидетельству Кранмера, все ученые Европы, не поддавшиеся подкупу или угрозам, осуждали намерение Генриха VIII.
В тот момент, когда Норфолк и его товарищи по министерству истощили все средства, Т. Кромвель снова оказался на высоте. Неудача других средств все ближе подводила Генриха VIII к смелому плану, перед которым он отступил при падении Уолси. Т. Кромвель снова готов был советовать королю отвергнуть судебную власть папы Римского, объявить себя главой английской церкви и добиться развода от своих церковных судов. Но для Кромвеля развод был только прелюдией к ряду перемен, которые он намерен был провести. Из всей бурной жизни нового министра самое сильное впечатление оставило у него пребывание в Италии. С ним в английскую политику проникло политическое искусство итальянцев; это заметно не только в быстроте и беспощадности его планов, но и в большей широте, большей определенности целей и в их удивительном сочетании.
Действительно, это первый английский министр, у которого за все время его управления можно наблюдать упорное преследование определенной крупной цели. Эта цель заключалась в предоставлении королю абсолютной власти и в устранении всех соперничавших властей королевства. Это не значит, что Т. Кромвель был просто рабом деспотизма. Вопрос еще, был ли он в юности во Флоренции, как говорит предание; но несомненно, что его политика строго сообразовалась с идеалом флорентийского мыслителя, книга которого постоянно была у него в руках. Еще служа Уолси, он удивил будущего кардинала Реджиналда Поля советом взять за руководство в политике «Государя» Маккиавелли. Маккиавелли надеялся найти в Цезаре Борджиа или в позднейшем Лоренцо Медичи такого тирана, который сокрушит все соперничающие тирании и затем объединит и возродит Италию. В политике Томаса Кромвеля можно видеть стремление обеспечить Англии просвещение и порядок, сосредоточив всю власть в руках короля. Последнее ограничение королевского полновластия, пережившее войны Роз, заключалось в богатстве, независимости собраний и судов и религиозных притязаний церкви.
Превратить великую церковную корпорацию в простое ведомство, в котором вся власть должна исходить от одного государя, его воля — служить единственным законом, а его решение — единственным доказательством истины, — такой переворот едва ли можно было совершить без борьбы, и поводом к такой борьбе послужил Кромвелю развод. Его первый шаг показал, насколько беззастенчивой должна быть борьба. Прошел год с тех пор, как Уолси был изобличен в нарушении статута «Praemnire». Педантичные судьи объявили, что вся нация, признававшая над собой его власть, виновна в том же проступке. Юридическая нелепость позже была снята общей амнистией, но в нее не было включено духовенство. Ему было объявлено, что прощение может быть куплено не иначе как уплатой пени, доходившей до миллиона на теперешние английские деньги, и признанием короля «главным покровителем, единственным и высшим господином и главой церкви и духовенства Англии».
На первое требование духовенство сразу согласилось; против второго оно упорно боролось, но на его обращения к Генриху VIII и Кромвелю те отвечали только требованием немедленного подчинения. Наконец, благодаря внесению ограничительных слов «насколько это позволяет закон Христа», соглашение состоялось, и с таким уточнением Уорхем предъявил требование конвокации. Воцарилось общее молчание. «Молчание представляется знаком согласия», — сказал архиепископ. «В таком случае мы все молчим», — отвечал голос из толпы.
Нет оснований полагать, что «главенство над церковью», которого требовал Генрих VIII, было более чем предостережением для независимости духовенства или что оно уже имело значение, какое ему было придано впоследствии. Оно, несомненно, не было отчуждением от Рима, но ясно показывало папе Римскому, что в случае возникновения какого-либо спора духовенство будет в руках короля. Предостережение было подкреплено требованием решить дело, обращенным к Клименту VII со стороны лордов и части общин. Пэров заставили заявить: «Дело его величества — дело каждого из нас». Если папа Римский не захочет утвердить приписанного университетам мнения в пользу развода, «наше положение будет не совсем безвыходным. Всегда тяжело применять крайние средства, но больной стремится всеми способами избавиться от своей болезни». Это требование было подкреплено изгнанием Екатерины из дворца.
Неудача второго посольства к папе Римскому позволила Томасу Кромвелю сделать более решительные шаги в принятом направлении. С развитием его политики Томас Мор покинул пост канцлера, но испугавший его переворот был неизбежен. Со времени царствования Эдуардов людей занимала задача примирения духовных и светских интересов страны. С самого начала парламент стал органом национального недовольства как папским судом вне Англии, так и отдельной юрисдикцией духовенства внутри ее. Религиозная реакция и междоусобицы надолго задержали это движение, но оно снова ожило под влиянием нового взлета национального величия и единства; наконец, последним толчком послужил вопрос о разводе и подчинении английских интересов иностранному суду. Под влиянием этого национальное движение ускорилось. Наступило время, когда Англии предстояло потребовать всей власти, как церковной, так и светской, в своих пределах; а так как в политическом отношении эпоха характеризовалась сосредоточением всей власти в руках государя, то требовать власти для нации — значило требовать ее для короля. Значение главенства над церковью выразилось в одном из предложений, внесенных в конвокацию 1532 года. «Его величеству королю, гласит это замечательное заключение, — принадлежит попечение как о душах его подданных, так и об их телах, и потому он может, по закону Божьему, издавать при помощи парламента законы для тех и других».
Сильное давление заставило конвокацию просить упразднения права независимого законодательства, до того принадлежавшего церкви. С Римом поступили так же беспощадно. Парламент статутом запретил дальнейшие апелляции к суду папы; а на основании ходатайства собрание духовенства Палаты предоставило королю право прекратить уплату аннатов, или годичного дохода, который каждый епископ выплачивал Риму при назначении на кафедру. Эти два закона разорвали судебные и финансовые связи с папством. Т. Кромвель вернулся к политике Уолси. Он отказался от надежды на помощь Карла V и попытался надавить на папский двор новым союзом с Францией, но давление, как и прежде, оказалось безуспешным. Папа Климент VII грозил королю отлучением, если он не вернет Екатерине положения королевы и не прекратит, до решения дела, всяких сношений с Анной Болейн. Генрих VIII все еще отказывался подчиниться приговору какого-либо заграничного суда, а папа не решался согласиться на разбор дела в Англии. Наконец, Генрих VIII закончил долгий спор тайным браком с Анной Болейн. Уорхем умер, и на его место был назначен Кранмер, деятельный сторонник развода. Тотчас в его суде было начато дело, и новый примас объявил брак с Екатериной незаконным. Неделю спустя Кранмер возложил на голову Анны Болейн корону, которой она так долго добивалась.
До сих пор связь с делом о разводе скрывала настоящий характер церковной политики Кромвеля. Но, хотя формально, до окончательного приговора Климента VII в пользу Екатерины, переговоры между Англией и Римом продолжались, они не оказывали уже никакого влияния на события, которые, быстро сменяя друг друга, полностью изменили положение английской церкви. Духовенство скоро убедилось, что признание Генриха VIII его покровителем и главой не было далеко простой формальностью. Это был первый шаг в политике, имевшей целью подчинить церковь короне. В споре с Римом парламент выразил согласие с волей короля. Шаг за шагом была расчищена почва для великого статута, определявшего новое положение церкви.
«Акт о верховенстве» (1534 г.) постановлял, что король «должен быть считаемым, принимаемым и признаваемым за единственного верховного главу английской церкви на земле и должен, вместе с императорской короной страны, пользоваться также титулом и положением такового, а равно всеми почестями, судебными правами, полномочиями, льготами, выгодами и удобствами, принадлежащими названному сану, с полным правом исследовать, подавлять, исправлять и преобразовывать все заблуждения, ереси, злоупотребления, упущения и преступления, которые каким-либо образом могут быть законно исправлены духовной властью или судом». Во всех церковных и светских делах власть была предоставлена исключительно короне. «Духовные суды» стали такими же королевскими судами, как и светские суды в Вестминстере.
Но действительное значение «Акта о верховенстве» выяснилось только в следующем году, когда Генрих VIII формально принял титул «верховного главы английской церкви на земле», а несколько месяцев спустя Кромвель был назначен генеральным викарием, или наместником короля во всех церковных делах. Его титул, подобно его должности, напоминал систему Уолси, но то, что теперь эти полномочия были соединены в руках не духовного лица, а мирянина, указывало на новое направление политики короля. Положение Кромвеля позволяло ему проводить эту политику с чрезвычайной прямолинейностью. Первый крупный шаг к ее осуществлению уже был сделан статутом, уничтожавшим свободу законодательной деятельности собраний духовенства.
Другим шагом в том же направлении явился акт, превращавший всех прелатов в ставленников короля под предлогом восстановления свободного избрания епископов. Избрание их капитулами кафедральных церквей давно превратилось в формальность, а на деле со времени Эдуардов их назначение производилось папами Римскими по предложению короля. Теперь, со злой насмешкой, право свободного избрания было возвращено капитулам, но под страхом наказания они были вынуждены выбирать кандидатов, указанных королем. Этот странный прием уцелел до настоящего времени, но с развитием конституционного управления его характер совершенно изменился. С начала XVIII века назначение епископов перешло от короля к министру — представителю воли народа. Поэтому, в сущности, английский прелат, единственный из всех епископов мира, получает свое достоинство путем такого же народного избрания, какое принесло Амвросию Миланскую кафедру. Но в то время мера Кромвеля поставила английских епископов в почти полную зависимость от короны.
Эта зависимость стала бы полной, если бы политика Кромвеля была проведена до конца и королю было предоставлено такое же право смещать епископов, как и назначать их. Но и при этих условиях Генрих VIII мог грозить архиепископу Дублинскому, что если он будет упорствовать в своей «безумной гордости, то мы можем снова удалить вас и поставить на ваше место другого человека, более добродетельного и честного». Даже Елизавета в порыве гнева грозила «разоблачить» епископа Илийского. Более ревностные сторонники Реформации всецело признавали эту зависимость епископов от короны. После смерти Генриха VIII Кранмер обратился к Эдуарду VI за новыми полномочиями для отправления своей должности. Латимер, когда политика короля разошлась с его убеждением, счел себя обязанным отказаться от Уорчестерской кафедры. Впоследствии право низложения было отменено, но не столько из уважения к религиозным чувствам народа, сколько потому, что постоянная покорность епископов делала ненужным его применение.
Подчинив себе конвокацию, господствуя над епископами, Генрих VIII стал господином и над монашескими орденами; для этого он воспользовался правом надзора за ними, перенесенным с папы Римского на короля «Актом о верховенстве». Монастыри навлекли на себя ненависть одновременно и гуманистов, и монархии. В начале Возрождения папы Римские и епископы вместе с государями и учеными приветствовали распространение образования и надежды на церковную реформу. Но хотя среди защитников нового движения и можно было найти кое-где аббатов или приоров, в целом монашеские ордена с неуклонным упорством отвергали его. С течением времени вражда становилась все более ожесточенной. На «темных людей» и монастыри сыпались едкие сарказмы Эразма и дерзкие насмешки Гуттена. В Англии Колет и Мор сдержанно повторяли насмешки и нападки своих друзей.
Действительно, как проявление религиозного энтузиазма монашество уже перестало существовать. Нищенствующие монахи теперь, когда исчезли их пылкая набожность и духовная энергия, превратились в обычных нищих. Прочие монахи стали просто землевладельцами. Большинство монастырей стремилось только увеличить свои доходы и уменьшить число участников в них. По общему равнодушию к исполнению возложенных на них духовных обязанностей, по расточительному пользованию их средствами, по бездеятельности и самодовольству, отличавшим большинство из них, монастыри страдали недостатками всех корпораций, переживших задачи, для выполнения которых они были созданы. Но они были не более непопулярны, чем вообще такие корпорации. Требование лоллардов упразднить их заглохло. На севере, где были расположены некоторые из самых крупных аббатств, монахи были в хороших отношениях с местным дворянством, и их монастыри служили для детей дворян школами; да и в других местах не было признаков иного отношения.
Но в системе Кромвеля не было места ни для доблестей или пороков монашества, ни для его бездеятельности и суеверия, ни для его независимости от короны. Поэтому для общей ревизии монастырей были посланы два королевских комиссара, и их донесения составили «Черную книгу», по возвращении представленную парламенту. Было признано, что около трети монастырей, в том числе большинство крупных аббатств, вели правильную и приличную жизнь; монахи прочих обвинялись в пьянстве, симонии и самых низких и возмутительных пороках. Характер ревизоров, их беглого отчета и последовавшие за его выслушиванием долгие прения заставляют думать, что обвинения были сильно преувеличены. Но на нравственность монахов, даже в таких монастырях, как Сент-Олбанский, оказывало роковое влияние отсутствие настоящей дисциплины, проистекавшее от освобождения их от всякого надзора, кроме папского. Признание Уорхема, а также начатое Уолси частичное упразднение вполне доказывают, что по крайней мере в мелких монастырях безделье нередко вело к преступлению. Но несмотря на крик: «Долой их!» раздававшийся среди общин при чтении отчета, страна была далека от желания полной отмены монашества. За долгими и ожесточенными прениями последовал компромисс: все монастыри с доходом ниже 200 фунтов в год были упразднены, а их доходы предоставлены короне; крупные аббатства остались пока нетронутыми.
Оставалось одно приходское духовенство, и внушения генерального викария показали ректорам и викариям, что они должны считать себя простыми выразителями воли короля. Инстинктом гения Кромвель понял, какую роль в предстоявшей борьбе, религиозной и политической, должна была играть церковная кафедра как единственный существовавший тогда способ обращения к массе народа, и он решил воспользоваться ею в пользу монархии. Ограничение права проповеди священниками, которые получили на это разрешение от короны, заглушило проявления оппозиции. Но даже и получившим такие разрешения было запрещено разбирать спорные вопросы богословия.
Этот способ «настраивания кафедр» объяснением предмета и характера каждой отдельной проповеди делал проповедников при каждом кризисе простыми орудиями исполнения воли короля. Как первый шаг в этом направлении каждому епископу, аббату и приходскому священнику было предписано проповедовать против захватов папства и провозглашать короля верховным главой церкви на английской земле. Даже основные пункты проповеди были заботливо указаны; епископы считались ответственными за исполнение этих приказов духовенством, а шерифы — за повиновение епископов. Только когда всякая возможность сопротивления была устранена, когда церковь была связана по рукам и ногам, а ее кафедры превращены в простые отголоски воли Генриха VIII, — только тогда Кромвель решился на последнее и важнейшее преобразование: он потребовал для короны права по своему усмотрению определять форму веры и учения, принимаемых и проповедуемых по всей стране.
Теперь религией Англии должен был стать очищенный католицизм, о котором мечтали Эразм и Колет. Но мечту гуманизма должны были осуществить не успехи образования и благочестия, а грубая сила монархии. Собрание духовенства, не отваживаясь на протест, приняло «религиозные статьи» (1536 г.), составленные самим Генрихом VIII. В основу веры были положены Библия и три символа. Число таинств с семи было сведено до трех: наряду с крещением и причащением было оставлено только покаяние. Учения о пресуществлении и исповеди были сохранены, как и в лютеранских церквях. Дух Эразма сказался в признании оправдания верой, за которое в самом Риме боролись друзья нового направления, вроде Поля и Контарини, — в отвержении чистилища, индульгенций, служб за умерших, в допущении молитв за них и в сохранении церковных обрядов без существенных изменений.
Как ни громаден был переворот в учении, конвокация не выказала ропота, и «статьи» были разосланы генеральным викарием по всем графствам для исполнения под страхом наказания. Преобразование проводилось постепенно, рядом дальнейших предписаний короля. Хождение на богомолья было запрещено, огромное число праздников сокращено, почитание икон и мощей порицалось в словах, представляющих почти копию протеста Эразма. Его горячий призыв к переводу Библии, стихи которой ткач мог бы повторять за своим челноком, а пахарь — петь за плугом, был, наконец, услышан. В начале министерства Норфолка и Мора, король, запрещая обращение лютеранского перевода Тиндаля, обещал новый английский перевод Священного Писания; но в руках епископов работа затянулась.
Как предварительная мера на английский язык были переведены символ веры, молитва Господня и десять заповедей; каждый учитель и отец семьи должен был учить им своих учеников и детей. Но перевод епископов все еще не был готов; тогда, отчаявшись в его появлении, другу архиепископа Кранмера Майлсу Ковердэлу поручили пересмотреть и исправить перевод Тиндаля; изданная им Библия вышла в 1538 году под покровительством самого Генриха VIII. Уже на ее заглавном листе была изображена история королевского верховенства. Вся Англия должна была считать новое обоснование религиозной истины даром не церкви, а короля. Генрих VIII на троне передал Священную книгу Кранмеру, прежде чем Кранмер и Кромвель смогли раздавать ее толпе священников и мирян.
Прения об упразднении монастырей были первым случаем сопротивления, с которым встретился Кромвель, и некоторое время оставался единственным. Англия молча следила за ходом великого переворота, ниспровергавшего церковь. При всех предшествующих реформах, при споре о папских вымогательствах и суде, при преобразовании церковных судов, даже при ограничении законодательной независимости духовенства народ в целом стоял на стороне короля. Подчинению духовенства, ущемлению церковной проповеди, упразднению монастырей масса народа не сочувствовала. Только из отдельных показаний королевских шпионов создается понятие о злобе и ненависти, скрывавшихся за этим молчанием. Это было молчание, вызванное террором.
До возвышения Томаса Кромвеля и после его падения царствование Генриха VIII отличалось не большими деспотизмом и жестокостью, чем вообще его время. Но годы управления Кромвеля представляют единственный период в нашей истории, который заслуживает названия, данного людьми управлению Робеспьера. Это был английский террор, при помощи которого Кромвель влиял на короля. Кранмер впоследствии выставлял его перед Генрихом VIII «человеком, который был предан только Вашему величеству, который, на мой взгляд, любил Ваше величество не меньше, чем Бога». Но отношение Кромвеля к королю было не только полной зависимостью и безусловной преданностью. «Он был так бдителен, — прибавлял примас, — что охранял Ваше величество от всех измен; немногие из них были так тайно задуманы, чтобы он не открывал их с самого начала». Подобно всем Тюдорам, Генрих VIII не боялся открытой опасности, но был страшно чувствителен к малейшему дуновению скрытой измены. На этом внутреннем страхе Кромвель и основывал свое влияние.
Рис. Томас Кромвель.
Едва он стал министром, как по всей стране рассыпалась масса шпионов. Уши его были открыты для тайных доносов. Рассказы о происках и заговорах носились в воздухе, а раскрытие и подавление каждого из них усиливали влияние Кромвеля на короля. При помощи террора господствовал он над королем, при помощи того же террора властвовал над народом. В Англии, согласно отзыву Эразма о том времени, людям казалось, «будто под каждым камнем скрывается скорпион». Исповедь не имела тайн для Кромвеля. До его уха доходили беседы людей с их ближайшими друзьями. «Праздные слова», ропот сердитого аббата, бред лунатичной монахини, по яростному замечанию вельмож при его падении, истолковывались как измена. Безопасность была возможна только при условии молчания. «Друзья, привыкшие писать и присылать мне подарки, — говорил Эразм, не шлют мне теперь ни писем, ни подарков и ни от кого ничего не принимают из страха». Но даже это прибежище было запрещено законом, наиболее позорным из всех, когда-либо запятнавших книгу статутов Англии. Не только мысль считалась изменой, но людей заставляли раскрывать их мысли под страхом того, что само их молчание будет наказано как измена. Смелая и бессовестная политика Томаса Кромвеля разрушила всякое доверие к прежним основам свободы. Благороднейшие учреждения были обращены в орудия террора. Уолси до крайности искажал закон, но он не нападал открыто на свободу суда. Если он уклонялся от созыва парламента, то делал это потому, что считал его оплотом свободы. При Кромвеле давление на судей и присяжных сделало суды простыми выразителями воли короля; а когда даже эта тень правосудия оказывалась препятствием для кровопролития, в дело пускали парламент, проводивший один закон об опале за другим. «Его нужно судить по написанным им самим кровавым законам», потребовал Совет при его падении, и по странной случайности последняя несправедливость, которую он старался ввести для применения опалы, — осуждение человека без позволения ему оправдаться, — была совершена над ним самим.
Но как ни жесток был террор Томаса Кромвеля, он носил более благородный характер, чем террор во Франции. Он никогда не поражал бесцельно или по капризу и не унижался до мелких жертв гильотины. Его удары были действенны, потому что он выбирал жертвами благороднейших и лучших людей. Чтобы поразить церковь, он брал картезианцев, самых благочестивых и славных из английских духовных особ. Поражая знать, он обращался против Кертнэ и Полей, в жилах которых текла королевская кровь. Поражая гуманизм, он казнил сэра Томаса Мора. Но к его казням не примешивалась личная мстительность. Насколько можно судить по немногим рассказам, ходившим среди его друзей, он был великодушным и добросердечным человеком с приятными, мягкими манерами, сглаживавшими некоторую личную неуклюжесть, и постоянным в дружбе, что снискало ему много преданных сторонников. Но ни любовь, ни ненависть не могли совлечь его с пути. Ученик Маккиавелли не напрасно изучал «Государя».
Он возвел кровопролитие в систему. Отрывки из его бумаг показывают, с какой деловой краткостью он отмечал человеческие жизни среди прочих дневных заметок. «Далее, аббата Ридингского отослать на суд и казнь в Ридинг». «Далее, узнать волю короля касательно магистра Мора». «Далее, когда магистр Фишер и другой должны идти на казнь». Это полное отсутствие всякой страсти, всякого личного чувства и делает Кромвеля самой страшной фигурой в нашей английской истории. Он вполне верил в преследуемую им цель и просто прорубал себе путь к ней, как дровосек прорубает себе дорогу сквозь лес с топором в руке.
Выбор его первой жертвы доказал беспощадную последовательность, с какой он намерен был действовать. По общему мнению Европы, самым выдающимся англичанином его времени был сэр Томас Мор. Когда дело о разводе закончилось открытым разрывом с Римом, он молча удалился из министерства, но его молчаливое порицание значило больше, чем оппозиция менее известных противников. Для Кромвеля в сдержанном отношении Мора должно было заключаться нечто особенно оскорбительное. Религиозные реформы гуманизма были быстро проведены, но оказалось, что человек, олицетворявший новое просвещение, считал пожертвование свободой и справедливостью слишком дорогой ценой за церковную реформу. Притом Мор считал развод и новый брак с церковной точки зрения неправильными, хотя убеждение в праве парламента определять престолонаследие заставило его считать законными наследниками короны детей Анны Болейн. Закон о престолонаследии (1534 г.) требовал принесения всеми присяги, не только признававшей наследников престола, но и заключавшей в себе признание незаконности и недействительности с самого начала брака с Екатериной.
Генрих VIII давно знал мнение Томаса Мора по этому вопросу, и приглашение принести клятву было просто смертным приговором. Мор находился дома в Челси, когда получил приглашение явиться в Ламбет, в тот самый дом, где он обменивался шутками с Уорхемом и Эразмом или наклонялся над мольбертом Гольбейна. На минуту у него могло появиться стремление уступить, но оно скоро исчезло. «Благодарение Господу, — сказал он с внезапным порывом, когда лодка ранним утром медленно отплыла от ступеней его сада вниз по реке, — благодарение Господу за одержанную победу». Кранмер и другие комиссары предложили ему новую присягу, которую, как они и ожидали, он отверг. Они пригласили его прогуляться по саду, чтобы еще раз обдумать свой ответ.
День был жаркий, и Томас Мор уселся на окне, откуда мог видеть заполненный людьми двор. Даже в виду смерти его живая натура могла наслаждаться весельем и жизнью этой толпы. «Во дворе я увидел магистра Латимера, — говорил он впоследствии, — в большом веселье: он обнимал одного или двух человек так нежно, что, будь это женщины, я счел бы его легкомысленным». Толпа состояла главным образом из священников, торопившихся принести присягу, которая для Мора была тяжелее смерти; но он на них за это не сердился. Когда он услышал голос человека, незадолго перед тем, как было известно, очень не желавшего присягать, услышал, как он громко и хвастливо требовал пить, он только указал на него со свойственным ему юмором. «Он пил, — сказал Мор, — от жажды или от радости, или чтобы показать, что он известен архиепископу». Наконец его снова позвали, но он только повторил свой отказ. Напрасно Кранмер приставал к нему с доводами, поразившими даже тонкий ум бывшего канцлера; он остался непоколебимым и был отправлен в Тауэр. За ним последовал туда Фишер, епископ Рочестерский, обвиненный в содействии измене за то, что слушался предсказаний фанатичной женщины, называвшейся «кентской монахиней».
На время даже Кромвель отказался от их казни. Они остались в заключении, пока не появилось новое, более страшное средство уничтожения скрытого, но широко распространенного сопротивления церковным преобразованиям. Статут, изданный в конце 1534 года, объявил изменой отрицание титулов короля, а в начале 1535 года Генрих VIII, как известно, принял титул «Верховного главы английской церкви на земле». Среди общего упадка религиозной жизни милосердие и благочестие картезианцев принесли им уважение даже тех, кто осуждал монашество. После упорного сопротивления они признали верховенство короля и принесли требуемую законом присягу. Но из-за предательского толкования статута, объявлявшего отрицание верховенства изменой, отказ в удовлетворительных ответах на официальные вопросы касательно полной веры в верховенство был признан равносильным открытому его отрицанию.
Цель новой меры была ясна, и братья картезианцы приготовились умереть. В тревоге ожидания энтузиазм давал им воображаемое утешение: «Когда возносилась жертва и мы преклоняли колена, казалось, наши лица ощущали дуновение воздуха и раздавались приятные и мягкие звуки музыки». Но долго ждать им не пришлось: их отказ послужил знаком к их гибели. Трое из братьев были повешены; прочие были заключены в зловонную темницу Ньюгейта, где их приковали к столбам, так что они не могли подняться, и оставили гибнуть от лихорадки и голода. За две недели пятеро из них умерли, а остальные были при смерти, «почти убитые, писал Кромвелю его посланец, десницей Бога, о чем я, ввиду их поведения, не жалею».
Заточению не удалось сломить решимость Мора, и нового статута было достаточно, чтобы возвести его на эшафот. Вместе с Фишером он был изобличен в отрицании титула короля как «единого верховного главы церкви». Старый епископ подошел к плахе с книгой Нового Завета в руке. Он открыл ее наудачу, прежде чем стать на колени, и прочел: «Это есть жизнь вечная — познавать Тебя, единого истинного Бога». За епископом Фишером скоро последовал и Томас Мор. Перед роковым ударом он заботливо отвел бороду от плахи. «Жаль было бы отрубить ее, — сказал он вполголоса со своей обычной едкой иронией, — она никогда не предавала».
Но Кромвель хорошо понимал, что нужны еще более суровые меры, для того чтобы сломить упорное сопротивление англичан его преобразовательным планам, и он воспользовался для этого восстанием севера. На севере монахи пользовались популярностью, а несправедливости, которыми сопровождалось упразднение монастырей, только усилили мятежное настроение, господствовавшее в крае. Вельмож возмущало правление человека, которого они считали худородным выскочкой. «Положение не изменится к лучшему, — во всеуслышание заявил лорд Гессэ, — пока не вступимся мы». Аграрное недовольство и привязанность к старой вере вызвали восстание в Линкольншире; едва оно было подавлено, как поднял оружие Йоркшир. Из всех приходов крестьяне с приходскими священниками во главе направились на Йорк, и сдача его увлекла колебавшихся.
Через несколько дней единственным пунктом к северу от Гембера, остававшимся верным королю, оказался замок, где с кучкой людей держался граф Кемберленд. Дергем поднялся по призыву лордов Латимера и Уэстморленда. Хотя граф Нортумберленд притворился больным, но Перси присоединились к восстанию. Лорд Дэкр сдал Помфрет, и тотчас мятежники признали его своим главой. Теперь за оружие взялась вся знать севера, и 30 тысяч «рослых людей на отличных конях» двинулись к Дону и потребовали изменения политики короля, воссоединения с Римом, возвращения дочери Екатерины Арагонской — Марии — прав наследницы престола, возмездия за обиды, причиненные церкви, но прежде всего — изгнания худородных советников, другими словами, падения Кромвеля.
Хотя их движение было задержано переговорами, но мятеж продолжался непрерывно всю зиму, и в Помфрете собрался парламент севера, формально принявший требования мятежников. Только 6 тысяч человек под командой Норфолка преграждали им путь к югу, а между тем известно было о недовольстве центральных графств. Однако опасность не испугала Томаса Кромвеля. Он позволил Норфолку вести переговоры, а Генриху VIII — обещать, под давлением Совета, прощение и свободный парламент в Йорке. И Норфолк, и Дэкр поняли это обещание как принятие требований, предъявленных мятежниками. Вожди последних тотчас сняли с себя знаки «Пяти ран» с криком: «Мы не хотим носить иных значков, кроме герба нашего государя, короля!» Аристократы и крестьяне с торжеством рассеялись по домам. Но едва города севера были заняты гарнизонами, а армия Норфолка проникла в сердце Йоркшира, как маска была сброшена. Несколько отдельных взрывов дали предлог для отнятия всех уступок. За арестом вождей восстания последовали беспощадные строгости. Страна покрылась виселицами, целые округа подверглись военной экзекуции.
Всего тяжелее рука Т. Кромвеля обрушилась на вождей восстания. Он воспользовался случаем, чтобы нанести роковой удар по знати севера. «Кромвель, заявил один из главных аристократов, явившись в Совет, — ты самая главная причина всего этого восстания и беззакония; ты стараешься постоянно довести нас до гибели и отрубить нам головы. Я надеюсь, что хотя ты постараешься отрубить головы всей знати королевства, но останется до твоей смерти хоть одна голова, которая и отрубит твою». Но предостережение было оставлено без внимания. Лорд Дарси, глава знати Йоркшира, и лорд Гессэ, вождь знати Линкольншира, были возведены на эшафот. Аббат Берлингский, въехавший в Линкольн со своими канониками в полном вооружении, был повешен вместе с тремя другими аббатами. Аббаты Фаунтенский и Жервосский были повешены в Тиберне, бок о бок с представителем великого дома Перси. Леди Бусемер сожгли на костре, сэра Роберта Констэбля повесили в цепях перед воротами Гелла.
Едва нанесен был удар северу Англии, как Кромвель обратился на запад. Здесь оппозиция против его системы сосредоточивалась преимущественно вокруг двух фамилий, представлявших отголоски йоркской традиции, — Кертнэ и Полей. Маргарита, графиня Солсбери, дочь герцога Кларенса и наследницы графа Уорвика, была представительницей Невиллей и племянницей Эдуарда IV. Ее третий сын, Реджинальд Поль, отказался одобрить развод Генриха VIII, несмотря на предложенные ему за это высокие награды, и искал себе убежища в Риме, откуда жестоко критиковал короля в книге о «единстве церкви». Тогда Кромвель написал ему многозначительные слова: «В Италии можно найти достаточно средств, чтобы избавиться от изменившего подданного. Если нельзя добиться справедливости дома но закону, то иногда она бывает вынуждена искать другие средства за границей».
Но Поль оставил в руках Генриха VIII заложников. «Жаль, что безумие безрассудного глупца может погубить такую знатную фамилию. Пусть только он последует внушениям своего честолюбия; в таком случае, не будь только великой милости и кротости государя, даже люди, мало его оскорбившие (кроме того, что безумец принадлежит к их родне), должны будут испытать, что значит иметь предателя своим родственником». В ответ на это Поль попросил императора скорее исполнить изданную папой Римским буллу об отлучении и низложении Генриха VIII. Кромвель не заставил долго ждать (он понимал, что Генрих VIII был не прочь отделаться от родни,которая претендовала на трон, и исполнял монаршью волю). Родственником Полей был Кертпэ, маркиз Эксетер, через свою мать тоже приходившийся внуком Эдуарду IV. Было известно, что он горько жаловался на «окружавших короля мошенников», а его обещания «надавать им когда-нибудь пощечин» являли грозный смысл в устах человека, имевшего в западных графствах огромное влияние. Его тотчас арестовали вместе с лордом Монтегю, старшим братом Поля, по обвинению в измене, и оба они были обезглавлены на Тауэрхилле, а графиня Солсбери была осуждена на заключение в Тауэр.
Никогда Томас Кромвель не выказывал такого величия, как в своей последней борьбе против судьбы. Когда король понял все значение церковных реформ, он перестал доверять ему и стал называть его «мошенником»; по мере уменьшения своего влияния он встречал все больше сопротивления в Совете, но характер его оставался по прежнему неукротимым. Он был совсем одинок. Уолси ненавидела знать, но поддерживала церковь; Кромвеля духовенство ненавидело еще сильнее, чем знать. Его единственными друзьями были протестанты, но их дружба была для него еще гибельнее ненависти его врагов. Однако он не выказывал ни страха, ни отказа от раз избранного направления. Его деятельность была, как и всегда, беспредельной.
Подобно Уолси, он сосредоточил в своих руках всё управление государством: он был в одно и то же время министром иностранных и внутренних дел, генеральным викарием церкви, создателем нового флота, устроителем армий, председателем грозной Звездной палаты. Его итальянское равнодушие к простой демонстрации власти очень отличалось от пышности кардинала. Его личные привычки были простыми и скромными. Если он дорожил деньгами, то для содержания за свой счет большой массы шпионов, за деятельностью которых следил с неусыпным вниманием. От огромной массы его переписки еще остается более 50 томов. Тысячи писем от «несчастных бедняков», оскорбленных женщин, обиженных рабочих, преследуемых еретиков стекались ко всемогущему министру, превращенному его системой личного управления во всеобщую апелляционную инстанцию. Пока Генрих VIII поддерживал его, хотя и неохотно, он успешно боролся со своими врагами. У него хватило сил удалить из Королевского совета своего главного противника Гардинера, епископа Уинчестерского. На вражду знати он отвечал угрозой, доказывавшей его могущество. «Если лорды будут так относиться к нему, он устроит им такой завтрак, какого еще никогда не бывало в Англии, и это испытают самые надменные из них». Единственно его воля навязала план внешней политики, целью которого было привязать Англию к делу Реформации, а Генриха VIII — поставить в зависимость от его министра.
Дерзкая похвальба, которую впоследствии ставили ему в вину его враги, все равно, была она выявлена или нет, служит только выражением его системы. «В короткое время он хотел привести дела к тому, чтобы при всем своем могуществе король не был в состоянии мешать ему». Подобно плану, оказавшемуся роковым для Уолси, его замыслы основывались на новом браке Генриха VIII. Короткое торжество Анны Болейн закончилось обвинением в неверности и измене, и ее казнью в 1536 году. Ее соперница и наследница привязанности Генриха VIII, Джен Сеймур, умерла в следующем году после родов, и Кромвель заменил ее немкой Анной Клевской, свояченицей лютеранского курфюрста Саксонии.
Он осмелился даже воспротивиться Генриху VIII, когда тот при первом свидании возмутился грубыми чертами и неуклюжей фигурой своей новой невесты. На время Кромвелю удалось поставить дело так, что отступать перед браком стало невозможно. Но этот брак был только первым шагом в политике, которая, в случае полного осуществления, предвосхитила бы триумфы Ришелье. Карл V и Габсбургский дом могли создать католическую реакцию, достаточно сильную для того, чтобы задержать и оттеснить Реформацию; едва Кромвель сошелся с князьями Северной Германии, как стал склонять их к союзу с Францией для ослабления власти императора. Если бы план его удался, изменилось бы общее положение Европы: Южная Германия осталась бы протестантской, Тридцатилетняя война была бы предупреждена. Но Кромвель потерпел неудачу, как люди, опережающие свой век. Немецкие князья отступили перед столкновением с императором, а Франция — перед борьбой, которая могла бы стать гибельной для католицизма, и Генрих VIII, прикованный к ненавистной жене, остался один, принесенный в жертву Австрийскому дому; тогда его гнев обрушился на Кромвеля.
Вельможи набросились на него с яростью, которая говорила о долго накоплявшейся ненависти. Когда герцог Норфолк, которому было поручено арестовать министра, сорвал с его шеи орден Подвязки, лорды за светским столом разразились оскорблениями и проклятиями. Услышав обвинения в измене, Кромвель с криком отчаяния кинул на пол свою шляпу. «Так вот, — воскликнул он, — награда за оказанные мной услуги! Скажите по совести, прошу вас, неужели я изменник?» Затем, вдруг поняв, что все кончено, он попросил своих врагов поторопиться и не томить его в тюрьме. Дело было скоро закончено, и народ приветствовал казнь Томаса Кромвеля еще более громким одобрением, чем его обвинение (июнь—июль 1540 г.).
РАЗДЕЛ VII РЕФОРМАЦИЯ
Глава I ПРОТЕСТАНТЫ (1540—1553 гг.)
Ко времени смерти Томаса Кромвеля успех его политики был полным. Монархия достигла высшего могущества. Старые вольности Англии были повержены к стопам короля. Лорды были запуганы и подавлены, Палата общин наполнена креатурами двора и превращена в орудие тирании. Королевские распоряжения имели значение парламентских законов; «одолжения» все более нарушали право парламента назначать налоги. Правосудие в обычных судах было подчинено воле короля, а безграничные и произвольные полномочия Королевского совета постепенно вытесняли более медленную процедуру общего права. Новые церковные реформы придали почти религиозный характер «величию» короля. Генрих VIII был главой церкви.
От примаса до последнего служителя все ее представители только от короля получали право пользоваться своими духовными полномочиями. Голос проповедников был отголоском его воли. Он один мог устанавливать, что — правоверное учение, а что — ересь. Формы ее служения и веры изменялись по капризу короля. Половина ее богатств пополнила королевскую казну, другая их половина была во власти короля. Это беспримерное сосредоточение всей власти в руках одного человека поразило воображение подданных Генриха VIII. Его стали считать выше законов, управляющих обычными людьми. Политики и духовные особы выставляли его мудрость нечеловеческой. При упоминании его имени члены парламента поднимались и преклонялись перед пустым троном. Полная преданность его особе заменила прежнюю верность закону. Отмечая главное достоинство Кромвеля, примас английской церкви утверждал, что он любил короля «не меньше Бога».
Как известно, Кромвель больше всех содействовал выработке культа короля; но едва он был выработан, как начал разрушаться. Именно успех Кромвеля привел к гибели его политики. Одной из самых замечательных особенностей его системы было оживление деятельности парламента. Великое собрание, которого с Эдуарда IV до Уолси опасалась монархия, было снова вызвано к жизни Кромвелем, обратившим его в страшнейшее орудие деспотизма. Он не видел ничего опасного в Палате Лордов, светские члены которой бессильно преклонялись пред могуществом короны, а духовные превращались его политикой в простое орудие королевской воли. Ничего страшного он не находил и в Палате Общин, состоявшей из членов, которые прямо или косвенно назначались Королевским советом. С таким парламентом Кромвель мог рассчитывать на то, что в лице представителей нации он сделает ее саму участницей создания абсолютизма. Статуты парламента повергли церковь к стопам монархии. Билли об опале (attainder) возвели на эшафот крупнейших вельмож. Вновь изобретенные измены, присяги, следствия ограничили свободу с соблюдением законных форм.
Но жизнеспособность такой системы зависела целиком от полного подчинения парламента воле короны, а между тем способ действий Кромвеля сделал невозможным длительность такой подчиненности. Роль, которую пришлось в последующие годы играть парламенту, доказывала важность сохранения конституционных форм, даже если они почти утратили значение. При неизбежной реакции против тирании они являются центрами оживления энергии народа, а возвратному потоку свободы их сохранение позволяет течь спокойно и естественно, по его обычным каналам. В управление самого Кромвеля один случай — «великий спор» об упразднении мелких монастырей, показал, что элементы сопротивления еще сохранились, и они быстро развились, когда могущество короны упало вследствие малолетства Эдуарда и непопулярности Марии.
Этому возрождению духа независимости очень содействовало отнятие церковного имущества. Отчасти по необходимости, отчасти из желания создать партию, заинтересованную в продолжении их церковной политики, Кромвель и король раздавали с беспечной расточительностью огромную массу богатств, стекавшуюся в казну. Таким путем от церкви к аристократии и дворянству перешло около одной пятой всех земель королевства. Это не только обогатило старые фамилии, но и создало новую знать — из креатур двора. Наиболее известными примерами фамилий, возвысившихся из ничтожества благодаря огромным пожалованиям церковной земли придворным Генриха VIII, служат Расселы и Кэвендиши. Едва была сокрушена старая знать, как ее место заняла новая аристократия. По замечанию Галлама, «фамилии, считающиеся теперь наиболее значительными, выдвинулись впервые, за немногими исключениями, при королях из дома Тюдоров, а если проследить происхождение их состояний, то окажется, что немалую часть их они приобрели от монастырей и других церковных учреждений». Руководящее участие этих пэров в событиях, следовавших за смертью Генриха VIII, придало всему сословию новую силу и свежесть. В общем обогащении землевладельцев участвовало и простое дворянство, и потому вслед за энергией лордов скоро обнаружили обусловленную самостоятельность и общины.
Но особенная опасность политики Кромвеля для монархии заключалась в воодушевлении, которое религиозно настроенные массы народа почерпнули из проведенных им церковных реформ. Лоллардизм как крупное общественное и народное движение прекратил существование, и, кроме случайных волнений и недовольства устроением церкви, немного осталось от чисто религиозного импульса, данного Уиклифом. Но хотя жизнь лоллардизма отличалась слабостью и неустойчивостью, тем не менее преследованиям, упоминания о которых рассеяны в протоколах епископских судов, не удалось совсем уничтожить его. Там и сям собирались кучки людей — читать «целую ночь в большой еретической книге известные главы евангелистов по-английски»; из рук в руки переходили списки трактатов Уиклифа.
Чтобы раздуть тлеющие угли в пламя, нужно было только дуновение воздуха, и это дуновение исходило от Уильяма Тиндаля. Из Оксфорда он перешел в Кембридж и был сильно поражен появлением Нового Завета в переводе Эразма. С этого момента у него в сердце была одна мысль. «Если Бог сохранит мне жизнь, — сказал он ученому противнику, — я постараюсь, чтобы через несколько лет малый, ходящий за плугом, больше тебя был знаком с Писанием». Но прежде чем его мечта осуществилась, он достиг 40 лет. Известие о протесте Лютера в Виттенберге вырвало его из уединения; на время он нашел себе приют в Лондоне, а потом в Гамбурге, откуда отправился в небольшой городок, ставший вдруг священным городом Реформации. Студенты всех наций стекались туда с энтузиазмом, напоминавшим крестовые походы. «Когда перед ними показывался город, — рассказывал современник тех событий, — они воздавали благодарение Богу, так как теперь свет евангельской истины распространялся в отдаленнейшие части земли из Виттенберга, как прежде из Иерусалима».
В 1525 году Тиндалов перевод Нового Завета был закончен. Изгнанный из Кельна, Тиндал со своими листами должен был бежать в Вормс, и оттуда 6 тысяч экземпляров Нового Завета были посланы к берегам Англии. Но Тиндалева Библия была для Англии не просто переводом, а отголоском лютеранского движения: она носила на себе отпечаток Лютера в передаче церковных выражений и сопровождалась с жестокими нападками Лютера и перепечатками трактатов Уиклифа. Поэтому она была объявлена еретической, и груда книг была сожжена перед Уолси во дворе церкви святого Павла. Однако общество «христианских братьев», состоявшее по преимуществу из лондонских торговцев и граждан, но рассылавшее агентов по всей стране, продолжало тайно ввозить в Англию и распространять среди торговых и низших классов Библию и памфлеты. Они тотчас нашли доступ в университеты, где духовный толчок, данный гуманизмом, пробудил религиозную мысль. Кембридж уже стал известен ересью, и его ученые, которых Уолси ввел в основанный им колледж Кардинала, распространили заразу и на Оксфорд.
Скоро наиболее талантливые и трудолюбивые студенты вошли в состав группы «братьев», образовавшейся в колледже Кардинала для тайного чтения и обсуждения посланий. Напрасно Клэрк, глава группы, старался отговорить новых членов от вступления в нее, предупреждая о возможных опасностях. «Я упал перед ним на колени, — говорил один из них, — и со слезами и рыданиями умолял его, ради милосердия Божьего, не отвергать меня; я выражал твердую веру в то, что тот, кто вывел меня на этот путь, не покинет меня, но будет так милостив, что доведет меня до его конца». Когда он услышал эти слова, он подошел ко мне, обнял и поцеловал меня, говоря: «Да дарует тебе это Господь Бог всемогущий; с этих пор считай меня всегда твоим отцом, а я буду считать тебя своим сыном во Христе». Возбуждение, вызванное быстрым распространением работы Тиндаля, заставило Уолси действовать энергичнее: многие из «оксфордских» братьев были посажены в тюрьму, а их книги конфискованы. Но несмотря на панику протестантов, иные из которых бежали за море, в сущности, было проявлено мало строгости. Уолси оставался равнодушным ко всему, кроме политических вопросов.
Всего больше король беспокоился о том, как бы преследование ереси не повредило интересам гуманизма. Это сказалось в покровительстве, оказанном им человеку, которому суждено было затмить даже славу Колета как народного проповедника. Хью Латимер был сыном лестерского крестьянина; мальчиком он застегивал на отце вооружение, когда тот отправлялся в Блэкгизс, навстречу мятежникам Корнуолла. Он сам описал свое военное воспитание в юности: «Мой отец с удовольствием учил меня стрельбе из лука. Он учил меня натягивать его — налегать телом на лук, и натягивать его не силой руки, а тяжестью всего тела». На протяжении 14 лет он находился в Кембридже и с таким усердием погрузился в гуманизм, проникший туда, что это, наконец, сказалось на его физическом здоровье. Его усердные занятия ослабили его здоровье и довели его до болезненности, от которой он, несмотря на крепкое телосложение, никогда не смог освободиться.
Но ему суждено было прославиться не как ученому, а как проповеднику. Здравый смысл помог ему отрешиться в своих проповедях от школьного педантизма и богословских тонкостей. У него было мало склонности к умозрению, и во всех преобразованиях он постоянно следовал за своими собратьями по реформе. Но ему была присуща нравственная строгость еврейского пророка, и его изобличения отличались пророческой прямотой и пылом. «Пожалейте о Вашей душе, — говорил он Генриху VIII, — и подумайте, что близок день, когда Вы дадите отчет в Ваших делах и в крови, пролитой Вашим мечом». Его ирония действовала еще сильнее, чем нападки.
«Я предложу вам странный вопрос, — сказал он однажды собранию епископов, — кто самый усердный прелат во всей Англии, превосходящий всех остальных в исполнении своих обязанностей? Я скажу вам: это — дьявол! Из всей массы тех, кому вверена паства, плату от меня получит дьявол, так как он исполняет свое дело как следует. Поэтому вы, ленивые прелаты, научитесь от дьявола исполнять свои обязанности. Если вы не хотите следовать Богу, постыдитесь хоть дьявола». Но он далеко не ограничивался порицанием. Его грубый юмор пробивается в рассказах и притчах; его серьезность постоянно умеряется здравым смыслом; его простой, безыскусный язык оживляется замечательным природным остроумием.
Он беседовал со своими слушателями, как человек разговаривает со своими друзьями, рассказывал им истории вроде тех, которые мы передавали о его жизни в родительском доме, или говорил о переменах и событиях дня, говорил так просто и правдиво, что это придавало значение даже его болтовне. Темы давал ему всегда окружавший его мир, и в своих простых уроках верности, деятельности, сострадания к бедняку он затрагивал всевозможные сюжеты — от плуга до престола. До него такой проповеди не слыхали в Англии, а с распространением его славы росла и опасность преследования. Бывали минуты, когда, несмотря на всю его смелость, его мужество слабело. «Если бы я не был уверен, что Бог поможет мне, — писал он однажды, — я желал бы, чтобы теперь океан отделял меня от моего лондонского повелителя». Наконец беда разразилась — в виде обвинения в ереси. «Я намерен, — писал он со свойственным ему смешением юмора и пафоса, — несмотря на свою скорбь, весело провести Рождество с моими прихожанами, так как возможно, что я никогда не вернусь к ним». Но его спасла постоянная поддержка двора. Уолси защитил его от угроз епископа Илийского, Генрих VIII назначил его придворным священником, и вмешательство короля в этот критический момент заставило судей Латимера довольствоваться неопределенным выражением покорности.
Ссора Генриха VIII с Римом избавила протестантов от более настойчивого преследования, беспокоившего их после падения Уолси. Развод, отречение от папства, унижение духовенства, упразднение монастырей, церковные реформы падали на духовенство, подобно тяжелым ударам. Из преследователя оно превратилось в группу людей, опасавшихся за свою жизнь. Во главе его были люди, которым оно раньше угрожало. Кранмер стал примасом, Шекстон, сторонник новых реформ, — епископом Солсберийским, Барлоу, человек еще более крайних взглядов, — епископом Сент-Давидским, Гилси — Рочестерским, Гудрич — Илийским, Фокс — Герфордским. Сам Латимер стал епископом Уорчестерским и в суровом обращении к собранию духовенства порицал его за корыстолюбие и суеверия в прошлом и за бездеятельность в настоящем, когда король и его парламент работают над возрождением церкви.
Кромвель вполне разделял стремления гуманизма: он желал скорее церковного преобразования, чем переворота, скорее упрощения, чем перемены учения, скорее очищения обрядов, чем введения новых. Но наносить церкви удар за ударом было невозможно, не опираясь инстинктивно на партию, сочувствовавшую немецкой Реформации и стремившуюся к более радикальным преобразованиям на родине. Как ни мало было этих «лютеран» или «протестантов», но их новые надежды придавали им страшную силу, а в школе преследования они научились горячности, находившей удовольствие в поругании той веры, которая так долго преследовала их.
В самом начале преобразований Кромвеля четверо юношей в Суффолке ворвались в церковь, сорвали чудотворный крест и сожгли его в поле. Упразднение мелких монастырей послужило знаком к новому взрыву поругания старой веры. Грубость, наглость и насилие комиссаров, посланных для его проведения, приводили в отчаяние всех монахов. Их слуги ездили по дорогам в стихарях вместо камзолов и подрясниках вместо чепраков, и наводили страх на уцелевшие, более крупные монастыри. Некоторые обители продавали свои бриллианты и мощи святых, чтобы собрать средства на черный день, а иные добровольно просили о своем упразднении.
Еще хуже стало, когда новые распоряжения генерального викария предписали удаление предметов, пользовавшихся суеверным почитанием. Уже само по себе удаление образов или мощей оскорбляло людей, веривших в их святость; но эту горечь еще усиливало их поругание. Чудесное распятие в Боксли, опускавшее голову и двигавшее глазами, выставлялось напоказ на ярмарках и, как игрушка, показывалось при дворе. С изображений Богородицы снимали драгоценные облачения, а сами образа отсылали на публичное сожжение в Лондон. Латимер отправил в столицу изображение Богородицы, с грубовато-насмешливыми словами удаленное им из кафедрального собора в Уорчестере: «Со своей старшей сестрой в Уолсингеме, младшей — в Ипсиче и двумя другими сестрами, в Донкастере и Пенрайсе, она составила бы в Смитфилде прекрасную выставку».
Затем был отдан приказ выбросить все мощи из рак и сравнять последние с землей. Кости святого Фомы Бекета были выброшены из красивого ковчега, служившего украшением митрополитовой церкви, а имя его как изменника было вычеркнуто из служебников. Введение английской Библии в церкви дало новый толчок рвению протестантов. Вопреки наставлениям короля — читать ее пристойно и без объяснений, молодые ревнители гордились чтением ее во время обедни кружку возбужденных слушателей и прибавлением к чтению своих неистовых толкований. Протестантские девушки брали с собой в церковь новый английский молитвенник и хвастливо читали его во время заутрени. Насмешки перешли в открытое насилие, когда толпы протестантов стали проникать в епископские суды и разгонять их. И закон, и общественное мнение были одинаково оскорблены, когда священники, державшиеся новых учений, стали открыто вводить в свои дома жен.
Возмещением молчания церковной кафедры служил дикий взрыв народных споров. Новое Писание, как горько жаловался Генрих VIII, «обсуждалось, перелагалось в стихи, распевалось и вызывало споры во всех винных и пивных лавках». Статьи, предписывавшие английской церкви учение веры, вызвали яростный спор. Невероятной грубостью и неуважением особенно отличались нападки на таинство мессы (обедни) — средоточие католического учения и богослужения, все еще остававшееся священным для массы англичан. Учение о пресуществлении, все еще признававшееся законом, предавалось осмеянию в балладах и мистериях. В одной церкви протестантский адвокат поднял на руках собаку, в то время как священник возносил жертву. Священнейшие слова старого богослужения (Hoc est corpus) были перефразированы в обозначение плутовства (фокус-покус).
Эти нападки на мессу больше других оскорблений вызвали глубокое недовольство Генриха VIII и народа; первые признаки реакции проявились в акте о «шести статьях», с общего согласия принятом в 1539 году парламентом. Насчет учения о пресуществлении, подтвержденного первой «статьей», между гуманистами и старокатоликами не было разногласий. Но пять других статей, подтверждавших причащение под одним видом, безбрачие духовенства, монашеские обеты, частные обедни и тайную исповедь, казалось, преграждали путь к продолжению даже умеренной реформы. Более грозной особенностью реакции было возобновление преследований. За отрицание пресуществления было назначено сожжение; оно же стало наказанием за нарушение прочих пяти статей во второй раз. Отказ от исповеди или от посещения обедни был объявлен уголовным преступлением.
Напрасно Кранмер, вместе с пятью епископами, отчасти сочувствовавшими протестантам, восставал против закона в Палате Лордов. Общины были единодушны, и сам Генрих VIII выступил защитником закона. Только в Лондоне на его основании было привлечено к суду 500 протестантов. Латимер и Шекстон были посажены в тюрьму, и первый был вынужден отречься от сана. Самого Кранмера спасло только личное расположение Генриха VIII. Но едва прошел первый порыв торжества, как снова дала себя почувствовать сильная рука Кромвеля. Хотя его взгляды оставались гуманистическими и мало отличались от всеобщего мнения, выраженного в законе, но он инстинктивно склонялся к единственной партии, не желавшей его падения. Он хотел ограничить увлечение протестантов, но не имел в виду губить их.
Епископы были освобождены, а обвинения лондонцев — кассированы. Чиновникам запретили настаивать на исполнении закона, а всеобщая амнистия освободила тюрьмы от еретиков, арестованных на основании его постановлений. Через несколько месяцев после издания шести статей один из протестантов писал в своем письме, что преследование совсем прекратилось, что «слово Божье энергично проповедуется и что всякого рода книги можно спокойно выставлять на продажу».
Казалось, с падением Кромвеля его планы были совсем забыты. Брак с Анной Клевской был расторгнут и найдена новая королева в лице Екатерины Говард, племянницы герцога Норфолка. Сам Норфолк вернулся к власти и политике, прерванной Кромвелем. Подобно королю, он искал союза скорее с императором Карлом V, чем с Франциском I и лютеранами. Он все еще держался за мечту гуманистов о преобразовании церкви Вселенским собором и о примирении Англии с «очищенным» католицизмом. Для этой цели необходимо было поддерживать в Англии правоверие и сблизить ее с императором, влияние которого только и могло привести к созыву подобного собора. Но для ревностных католиков, как и для ревностных протестантов, годы, следовавшие за падением Кромвеля, представлялись временем постепенного возвращения к католицизму.
Преследование протестантов несколько усилилось; на чтение английской Библии были наложены ограничения. Но ни Норфолк, ни Генрих VIII не желали строгих реакционных мер. Они и не думали восстанавливать старые суеверия или переделывать сделанное, а хотели просто охранять преобразованную веру от лютеранской ереси. Чтобы дать возможность совершать богослужения на народном языке, были изданы по английски литургия и молитвы, послужившие зерном позднейшего молитвослова. Крупные аббатства, спасенные в 1536 году энергичным сопротивлением парламента, разделили в 1539 году участь мелких. Но, несмотря на конфискацию, казна опять была пуста, и закон 1545 года упразднил в пользу короны более 2 тысяч соборов и часовен вместе со 110 больницами. Когда снова вспыхнула борьба между Францией и Австрийским домом, Генрих VIII предложил Карлу V союз Англии, так как видел в этом лучшую поруку преобразования церкви и восстановления единства.
Но, как и предвидел Кромвель, время для мирной реформы и воссоединения христианства прошло. Долгожданный собор, состоявшийся в Триденте имел целью не примирение, а подтверждение суеверий и заблуждений, против которых восставал гуманизм и от которых отказались Англия и Германия. Долгая вражда Франции и Австрийского дома перешла в более серьезную борьбу, начинавшуюся между католицизмом и Реформацией. Император окончательно вступил в союз с папой Римским. Когда надежды католических вельмож на среднее решение исчезли, они незаметно втянулись в поток реакции. Анна Эскью с тремя подругами подверглась пытке и сожжению на костре за отрицание пресуществления; Латимера допрашивали в Совете; сам Кранмер, при общем разложении умеренной партии склонявшийся к протестантизму, как Норфолк склонялся к Риму, был какое-то время в опасности.
Но в последние часы своей жизни Генрих VIII доказал свою верность начатому им делу. Решение не подчиняться освященным в Триденте притязаниям папства заставило его, хотел он этого или нет, вернуться к политике великого министра, возведенного им на эшафот. Он предложил немецким князьям создать «христианский союз». Он согласился на предложенную Кранмером замену мессы причастной службой. Он заключил герцога Норфолка как предателя в Тауэр и казнил его сына, графа Серри. Среди придворных выделился граф Гертфорд, глава «новых людей», известный как покровитель протестантов; он был назначен членом Совета регентства, учрежденного Генрихом VIII перед смертью (январь 1547 года).
Подобно Анне Болейн, Екатерина Говард за измену супругу поплатилась жизнью; ее преемница на престоле, Екатерина Парр, имела счастье пережить короля. От многих браков Генриха VIII осталось только трое детей: Мария и Елизавета, дочери Екатерины Арагонской и Анны Болейн, и малолетний Эдуард, вступивший теперь па престол под именем Эдуарда VI, сын Джейн Сеймур. Так как Эдуарду было только девять лет, то Генрих VIII учредил тщательно уравновешенный Совет регентства; но его завещание попало на хранение к брату Сеймур, которого он наградил званием лорда Гертфорда и который впоследствии принял титул герцога Сомерсета. Когда список регентов был, наконец, обнародован, из него был исключен Гардинер, бывший до того руководящим министром, и Гертфорд захватил себе всю королевскую власть с титулом протектора.
Личная слабость заставила его тотчас добиваться поддержки народа такими мерами, которые выявили первое отступление монархии от чистого абсолютизма, достигнутого при Генрихе VIII. Был отменен статут, приписывавший распоряжениям короля силу закона, а из свода законов были вычеркнуты некоторые новые преступления, изобретенные Кромвелем и применявшиеся им с таким страшным успехом. Надежда на поддержку протестантов вместе с личными симпатиями Гертфорда, заставила его поддерживать нововведения, против которых до конца боролся Генрих VIII. Кранмер стал теперь чистым протестантом и вскоре после возвышения Гертфорда открыто порвал со старым строем. «В этом году, говорит современник тех лет, — архиепископ Кентерберийский в Великий пост открыто ел мясо в Ламбетском зале, подобного чему не было видано со времени обращения Англии в христианство». За этим знаменательным актом быстро последовал ряд важных мер. Были отменены юридические запрещения лоллардизма, а также шесть статей; приказ короля удалил из церквей все картины и образа; священникам позволено было вступать в брак; новое причащение, заменившее мессу, приказано было совершать в обоих видах и на английском языке; английский всеобщий молитвенник, — литургия с небольшими изменениями, доселе совершаемая в английской церкви, — заменил служебник и требник, из которых преимущественно взято его содержание.
Эти крупные церковные преобразования проводились с деспотизмом, если не с энергией Кромвеля. Гардинер понимал верховенство короля чисто лично и объявлял незаконными и ничтожными все церковные преобразования, проведенные в малолетство Эдуарда VI, за что и был посажен в Тауэр. Свобода проповеди была ограничена раздачей позволений только сторонникам примаса. Масса протестантских памфлетистов наводняла страну жестокими нападками на мессу и ее суеверные принадлежности, а доказывать противное строго запрещалось. Согласие вельмож и землевладельцев было куплено упразднением благотворительных учреждений и церковных братств и удовлетворением их жадности последним достоянием церкви.
Для подавления широкого народного недовольства, обнаружившегося на востоке, западе и в центральных графствах Англии, были введены немецкие и итальянские наемники. Жители Корнуолла отказались принять новое богослужение, «так как оно походит на святочную потеху». Девоншир открыто восстал, требуя восстановления мессы и шести статей (1549 г.). Снова разразилось аграрное недовольство, вызванное общими беспорядками и усиленное экономическими переменами. 20 тысяч человек собрались вокруг «дуба Реформации» близ Норвича, в отчаянной схватке отразили королевские войска и возобновили старые требования: изгнание злых советников, запрещение огораживаний, удовлетворение жалоб бедняков.
Восстание было подавлено в крови; но слабость, проявленная протектором в виду опасности, его снисхождение к народным требованиям, намерение выполнить законы против огораживаний и выселений ожесточили баронов и привели к его падению. Совет заставил Гертфорда отказаться от власти, и она перешла к графу Уорвику, беспощадная суровость которого более всего способствовала подавлению восстания. Но смена правителей не привела к перемене системы. Правление вновь выдвинувшейся знати, составлявшей Совет регентства, носило характер простого террора. «Большая часть народа, — признавался Сесиль, одна из креатур, — расположена не защищать дело знати, а помогать ее противникам; на стороне последних стоят большая часть знати, отдалившейся от двора, все епископы, кроме трех или четырех, почти все судьи и адвокаты, почти все мировые судьи, священники, которые могут направить свое стадо куда угодно, так как весь народ находится в таком раздраженном состоянии, что легко последует за первым движением к перемене».
Но не обращая внимания на внешние и внутренние опасности, Кранмер и его товарищи шли еще смелее по пути нововведений. Четыре прелата, державшиеся старого учения, были лишены сана и под пустыми предлогами посажены в Тауэр. Учение реформаторов было изложено в новом катехизисе; в церквях было предписано читать книгу проповедей, развивавшую основы протестантизма. Последним вызовом учению о мессе явился приказ разрушить каменные алтари и заменить их деревянными столами, которые большей частью ставились посередине церкви. Был издан пересмотренный молитвенник, и все сделанные в нем изменения склонялись в сторону крайнего протестантизма, в то время нашедшего себе прибежище в Женеве. В 1552 году были введены 42 религиозные статьи, и хотя с тех пор опущения свели их число до 39, но они и до сего дня остаются формальным образцом учения английской церкви.
Страдания не научили протестантов ценить религиозную свободу. Взамен канонического права католической церкви особой комиссии было поручено составить новый свод церковных законов; среди наказаний в нем не встречалась, правда, смертная казнь, но назначались вечное заключение или изгнание за ересь, богохульство и прелюбодеяние, а отлучение влекло за собой лишение преступника благодати Божьей и предоставление его во власть дьявола. Завершение этого свода затянулось, и это помешало введению его в царствование Эдуарда VI; но пользование новой литургией и присутствие при новой службе наказывались тюремным заключением, а от всех духовных, церковных старост и школьных учителей королевский приказ требовал подписи под религиозными статьями. Недовольство переменами, столь поспешно и насильственно проводившимися, еще повышалось смелостью взглядов крайних протестантов. Настоящее значение религиозного переворота XVI века для человечества заключалось не в замене одного символа другим, а в пробуждении нового духа исследования, свободы мысли и обсуждения.
Но как ни привычна нам эта истина, она была совершенно неизвестна Англии того времени. Люди с ужасом слушали, как подвергали обсуждению основы веры и нравственности, оправдывали многоженство, доказывали незаконность клятв, ставили священной обязанностью общность имущества, отрицали Божественность Христа. Отмена закона о еретиках оставила неприкосновенными постановления общего права, и Кранмер пользовался ими, чтобы без пощады осуждать на сожжение еретиков последнего класса; но внутри самой церкви более рьяные члены партии примаса активно восставали против его стремления к единообразию. Гупер, назначенный епископом Глостерским, отказался носить епископские одежды и объявил их ливреей «блудницы вавилонской» — название, отысканное для папства его противниками в Апокалипсисе.
Церковный порядок почти исчез. Священники бросали стихари как проявление суеверия. Патроны приходов назначали на зависимые должности своих охотников или смотрителей за дичью и присваивали их доходы. В университетах прекратилось преподавание богословия; число студентов упало, библиотеки были частью растеряны или сожжены, духовный толчок, данный гуманизмом, исчез. Впрочем, одной благородной мере — основанию 18 грамматических школ — суждено было прославить имя Эдуарда VI, но она не имела времени принести плоды в его царствование. Люди видели перед собой только церковный и политический хаос, в котором церковный порядок исчез, а политика превратилась в соперничество кучки вельмож из-за эксплуатации церкви и короны.
Ограбление благотворительных учреждений и братств не удовлетворило аппетита шайки грабителей. Напрасно им была отдана половина земель всех кафедр; для удовлетворения их жадности была упразднена богатая Дергемская кафедра; конфискация грозила всем доходам церкви. Придворные проглатывали поместья, а казна становилась все беднее. Ценность монеты была снова понижена. Друзьям Сомерсета и Уорвика были пожалованы коронные земли стоимостью в пять миллионов на теперешние английские деньги. Расходы двора за 17 лет возросли в четыре раза. Ясно, что Англия должна была скоро восстать против регентства, если бы оно не пало само, благодаря ссорам грабителей между собой.
Глава II МУЧЕНИКИ (1553—1558 гг.)
Ухудшение здоровья Эдуарда VI напомнило Уорвику, ставшему теперь герцогом Нортумберлендом, о непредвиденной опасности. Акт о наследовании назначил преемницей Эдуарда VI Марию, дочь Екатерины Арагонской, среди всех превратностей эпохи оставшуюся верной старой вере; вступление ее на престол грозило стать сигналом возвращения к Риму. Благочестивого Эдуарда VI легко удалось склонить к смелому плану, исключавшему ее права. Нортумберленд внушил ему «план», уничтожавший как акт о наследовании, так и завещание Генриха VIII, которому парламент предоставил право располагать короной после смерти своих детей. «План» устранял как Марию, так и следовавшую непосредственно за ней Елизавету. За исключением прямого потомства Генриха VIII, престол, в случае соблюдения правил наследственности, перешел бы к потомкам его старшей сестры Маргариты, в первом браке с Яковом IV Шотландским ставшей бабкой молодой королевы Шотландии Марии Стюарт, а во втором браке, с графом Энгусом, — бабкой Генриха Стюарта, лорда Дарили.
Рис. Эдуард VI.
Но в завещании Генрих VIII обошел детей Маргариты и за Елизаветой поставил, в порядке наследования, детей его младшей сестры Марии, жены герцога Суффолка. Франциска, дочь Марии от этого брака, была еще жива и имела трех дочерей от брака с Греем, лордом Дорсетом, ревностным сторонником церковных преобразований, получившим при протекторате герцогство Суффолк. Однако Франциску тоже обошли, и «план» Эдуарда VI назначил ему преемницей ее старшую дочь Анну. Брак ее с Гилдфордом Дадли, четвертым сыном Нортумберленда, увенчал бессовестный заговор. У судей и Совета согласие на ее наследование было выпрошено именем умирающего короля, и после смерти Эдуарда VI в 1553 году она была провозглашена государыней.
Против такого беззаконного захвата восстал весь народ. Восточные графства поднялись как один человек на защиту прав Марии, и когда Нортумберленд во главе 10 тысяч человек, отправлялся из Лондона для подавления восстания, лондонцы, несмотря на свой протестантизм, выразили свое недовольство в виде упорного молчания. «Народ собирается посмотреть на нас, — заметил мрачно герцог, — но никто не кричит: Бог да поможет вам!» Едва Совет заметил настроение народа, как провозгласил королевой Марию Тюдор; флот и ополчение графств высказались в ее пользу. Нортумберленд вдруг пал духом, и его отступление к Кембриджу послужило сигналом к общему отступлению. Сам герцог кинул свою шляпу в воздух и приветствовал королеву Марию I. Но покорность не смогла предотвратить его гибели, а его смерть повлекла за собой заключение в Тауэр несчастной девушки, которую он сделал орудием своего честолюбия.
Система, проводившаяся в царствование Эдуарда VI, сразу рухнула. Лондон сохранил, правда, многое из своих протестантских симпатий, но остальной частью страны порыв реакции завладел без сопротивления. Женатые священники были изгнаны из церквей, иконы были восстановлены. Во многих приходах была устранена новая литургия и восстановлена месса. Парламент, собравшийся в октябре, отменил все церковные законы, изданные в царствование Эдуарда VI. Гардинера выпустили из Тауэра. Боннер и низложенные епископы были восстановлены на своих кафедрах. Ридли с товарищами, их сместившие, были снова низложены, а Латимер и Кранмер — отправлены в Тауэр. Восстановление системы Генриха VIII удовлетворило желание народа, так же мало сочувствовавшего склонности Марии I к католицизму, как и насилиям протестантов. Парламент с трудом согласился на отмену нового молитвенника и упорно держался за церковные земли и верховенство короля.
Не более симпатизировала Англия и браку, которого, по мотивам политическим и религиозным, сердечно желала Мария I. Император перестал подавать надежду или уверенность, что он сразу и очистит церковь от злоупотреблений, и восстановит единство христианства: он стал окончательно на сторону папы Римского и Тридентского собора; а жестокости инквизиции, введенной им в Нидерландах, представляли грозный образец благочестия, какое он намерен был передать своему дому. Брак с его сыном Филиппом II, руку которого он предложил своей кузине Марии I, означал полное подчинение папству и отмену не только протестантской Реформации, но и более умеренной реформы гуманизма. С другой стороны, он представлял политическую выгоду тем, что защищал трон Марии I от притязаний молодой королевы шотландской Марии Стюарт, получивших большой вес благодаря ее браку с наследником французской короны; ее приверженцы уже ссылались на незаконное, ввиду уничтожения брака их матерей, происхождение и Марии I, и Елизаветы, как на основание для отрицания их прав на престол.
Потомству предложенного брака император Карл V обещал наследование Нидерландов; в то же время он принял требование, предъявленное ему Советом и министром Марии I Гардинером, епископом Уинчестерским, о сохранении за Англией, в случае брака, полной свободы действий и политики. Искушение было сильным, и решительность Марии I преодолела все помехи. Но несмотря на обещанную и пока еще соблюдавшуюся ею терпимость, известие о ее намерении довело протестантов до страшного отчаяния. Восстания, поднявшиеся на западе и в центре, были скоро подавлены, а герцог Суффолк, с оружием вступивший в Лестер, был отправлен в Тауэр. Угроза стала более очевидной, когда опасение, что испанцы идут «завоевать королевство», вызвало восстание в Кенте, под начальством сэра Томаса Уайета. Мятежники захватили корабли на Темзе. Отряд лондонской милиции, выступивший против них под командой герцога Норфолка, целиком перешел на их сторону при возгласах: «Уайет! Уайет! Мы все — англичане!»
Если бы мятежники быстро двинулись к столице, ее ворота тотчас были бы открыты и успех обеспечен. Но в критическую минуту Марию I спасло ее царственное мужество. Она смело выехала в Гилдхолл и с мужественным голосом обратилась к верности граждан; когда Уайет показался на берегу Саутуорка, мост оказался занятым. Исход зависел от того, на чью сторону станет Лондон, и вождь мятежников в отчаянии бросился вверх по берегу Темзы, захватил мост в Кингстоне, переправил свое войско через реку и быстро двинулся назад к столице. Ночной марш по грязным дорогам утомил и расстроил его людей; масса их была отрезана от вождя отрядом войска на полях, где теперь Гайд — Парк-Корнер, но сам Уайет с кучкой сторонников с трудом добрался до Темпльбара. «Я сдержал свое слово!» — воскликнул он, в изнеможении падая у ворот, но они оказались запертыми: его сторонники в городе были не в силах совершить обещанную ему диверсию, и смелый вождь был схвачен и отправлен в Тауэр.
Мужеству королевы, отказавшейся от бегства, даже когда мятежники стояли под стенами дворца, равнялось только ее ужасное мщение. Наступил час, когда протестанты оказались у ее ног, и она безжалостно поразила их. Леди Анна, ее отец, муж и дядя поплатились смертью предателей за честолюбие дома Суффолков. Вслед за ними были казнены Уайет и его главные приверженцы; тела прочих мятежников качались на виселицах вокруг Лондона. С некоторым основанием в сношениях с мятежниками заподозрили Елизавету; она была посажена в Тауэр, и только вмешательство Совета спасло ее от смерти. Неудача восстания не только нанесла удар по партии протестантов, но и обеспечила брак, на котором настаивала Мария I. Она воспользовалась восстанием, чтобы, вопреки желанию парламента, вынудить у него согласие, затем встретилась с Филиппом II в Уинчестере и стала его женой.
Теперь можно было спокойно отказаться от уступок, навязанных королеве ее сомнительным положением в начале царствования. Мария решилась добиться подчинения Риму, и когда исчезли надежды умеренной партии, поддерживавшей политику Генриха VIII, и она окончательно стала на сторону единства, которое можно было теперь восстановить только примирением с папством, министр Марии I Стивен Гардинер вернулся к прежнему церковному строю. Едва заключен был брак с Филиппом II, как завершились переговоры с Римом. Для принятия покорности королевства папа Римский назначил Реджинальда Поля, с которого была снята опала, и легат прибыл в Лондон на барке, с кормы которой сверкал его крест, и был торжественно встречен угодливым парламентом. Обе палаты постановили вернуться к подчинению папскому престолу и на коленях приняли отпущение греха, заключавшегося в расколе и ереси.
Рис. Мария I (королева Англии).
Но даже в момент торжества настроение парламента и народа показало королеве неудачу ее попытки навязать Англии чисто католическую политику. Растущая независимость парламента сказалась в отказе от ряда мер, предложенных короной. Вопрос о лишении Елизаветы права наследования нельзя было даже внести в палаты; невозможно было добиться предпочтения права Филиппа II ее праву. Хотя статуты, исключавшие юрисдикцию папы Римского в Англии, и были отменены, но палаты отвергли все предложения вернуть духовенству церковные земли. Предложение восстановить законы против ереси, даже после неудачного восстания Уайета, было отвергнуто лордами, и статут Генриха V был восстановлен в позднейшем парламенте только благодаря влиянию Филиппа II. Не менее решительным было настроение всего народа. Угрюмое недовольство Лондона заставило его епископа Боннера взять назад инквизиционные правила, при помощи которых он надеялся очистить свою епархию от ереси. Даже в Совете обнаружилось разногласие по вопросу о преследовании; сам император Карл V в интересах католицизма советовал не спешить и соблюдать благоразумие. То же говорил и Филипп II. Но и внешние, и внутренние предостережения разбились о горячую набожность королевы.
Положение партии реформы представлялось совсем безнадежным. Испания открыто стала во главе великого католического движения, и Англия, против своей воли, была вовлечена в поток реакции. Противники последней были расстроены неудачей своего восстания и не пользовались популярностью из-за воспоминаний об их насилии и жадности. С восстановлением законов против ереси Мария I стала настаивать на их выполнении; наконец в 1555 году она преодолела сопротивление своих советников, и казни начались. Но дело, загубленное благополучием, ожило в тяжелые дни гонений. Если протестанты не сумели управлять, то они умели умирать.
История Рауленда Тайлора, викария в Гэдли, лучше длинного исторического исследования показала как начавшиеся преследования, так и последствия, каких можно было ожидать. Как человек выдающийся, Тайлор был выбран одной из первых жертв гонений, схвачен в Лондоне и осужден на казнь в своем собственном приходе. Его жена, «подозревая, что ее супруг будет увезен в эту ночь», ожидала его с детьми на паперти церкви святого Ботулфа близ Олдгета. И вот когда шериф со спутниками приблизились к церкви, Елизавета закричала: «Дорогой отец! Мать! Мать! Вот ведут отца!» Тогда жена его закричала: «Рауленд, Рауленд, где ты?» — утро было очень темным, и ничего не было видно. Доктор Тайлор остановился и отвечал: «Я здесь, дорогая жена». Люди шерифа хотели вести его дальше, но шериф сказал: «Постойте немного, господа, прошу вас, и дайте ему поговорить с женой».
Тогда она подошла к нему, он взял на руки свою дочь Марию и он, жена и Елизавета стали на колени и прочитали молитву Господню. При виде этого шериф и несколько человек из его свиты горько заплакали. Помолившись, он встал, поцеловал жену, пожал ей руку и сказал: «Прощай, дорогая жена, утешься: моя совесть спокойна! Бог будет покровителем для моих детей». Затем жена сказала: «Бог с тобой, дорогой Рауленд! Бог милостив, я встречу тебя в Гэдли». Всю дорогу доктор Тайлор был весел и радостен, как человек, рассчитывающий попасть на самый веселый пир или свадьбу… Подойдя на две мили к Гэдли, он пожелал сойти с лошади, и сделав это, он прыгнул и сделал один или два скачка, как обычно делают люди в танцах. «Ну, господин доктор, — сказал шериф, — как вы себя чувствуете?» «Хвала Богу, прекрасно, — ответил он, — лучше, чем когда-либо, так как я чувствую себя почти дома. Мне нужно пройти только два поворота, и я буду как раз в доме Отца нашего!»
С обеих сторон улицы Гэдли были усеяны мужчинами и женщинами, городскими и сельскими, желавшими видеть его; а когда они увидели его идущим на смерть, они стали плакать и кричать жалобными голосами: «Боже милостивый! Вот от нас уходит наш добрый пастырь!» Наконец путешествие закончилось. «Что это за место, — спросил он, — и что означает большое сборище народа?» Ему отвечали: «Это Олдгэмский луг, место, где вы должны пострадать, а народ пришел посмотреть на вас». Тогда он сказал: «Благодарение Богу, я как раз дома!» Но когда народ увидел его почтенное старческое лицо с длинной белой бородой, он разразился слезными рыданиями и криками: «Бог да спасет тебя, добрый доктор Тайлор; Бог да подкрепит тебя и да поможет тебе; Дух Святой да подкрепит тебя!»
Он пожелал говорить, но ему не позволили. Помолившись, он подошел к столбу, поцеловал его и стал в смоляной бочонок, поставленный вместо подножия; затем он прислонился спиной к столбу, скрестил руки, поднял глаза к небу и так был сожжен. Один из палачей грубо кинул в него полено, оно ударило его в голову и поранило ему лицо, так что по нему потекла кровь. Тогда доктор Тайлор сказал: «Друг, мне достаточно страданий, к чему еще это?» Новое проявление жестокости положило конец его мукам. «Так стоял он, не крича и не двигаясь, со скрещенными руками, пока Сойс не поразил его алебардой в голову, так что выпал мозг и мертвое тело упало в огонь».
Страх смерти не имел власти над подобными людьми. Обычно жертвы отдавались на казнь Боннеру, епископу Лондонскому, в епархии которого заседал осуждавший их совет. Хотя официальное участие в гонениях наградило его насмешливым прозвищем и всеобщей ненавистью, но от природы он, по-видимому, был человеком благодушным и сострадательным. Когда к нему привели мальчика, он спросил его, надеется ли он вынести сожжение. Мальчик тотчас, без трепета, протянул руку в пламя стоявшего рядом факела. Роджерс, сотрудник Тиндаля в переводе Библии и один из выдающихся протестантских проповедников, умер, окуная свои руки в пламя, «как будто это была холодная вода». На костре даже самых обычных людей на мгновение озарял поэтический блеск. «Молитесь за меня», — просил окружающих один мальчик, Уильям Гентер, приведенный на казнь домой, в Брентвуд. «3а тебя я буду молиться не больше, чем за собаку», — ответил один из них. «Тогда, Сын Божий, — сказал Уильям, — посвети на меня!» «И мгновенно солнце из темной тучи так ярко осветило его лицо, что он был вынужден отвести глаза; это удивило народ, так как только что было очень темно».
Своей тяжестью преследования обрушились на Лондон, затем на Кент, Суссекс и восточные графства — центры горнодобывающей и других отраслей промышленности; масса протестантов была изгнана за море и искала убежища в Страсбурге или в Женеве. Но террор вовсе не достиг целей, ради которых совершался. Под влиянием преследований снова проснулся дух вызывающей смелости и неистового насилия. Один протестант вместо четок повесил священнику на шею связку колбас. Восстановленные иконы подвергались грубому поруганию. На улицах снова стали слышны старые насмешливые баллады. Один жалкий субъект, доведенный до безумия, поразил в церкви священника, когда тот стоял с чашей в руке.
Более угрожающим признаком времени было то, что подобное насилие уже не вызывало в народе прежнего негодования. Отвращение к гонениям не оставляло места для других чувств. Каждая смерть на костре приносила его жертвам сотни сторонников. «3а эти 12 месяцев вы потеряли сердца 20 тысяч ревностных католиков», — писал Боннеру один протестант. Боннер никогда не был особенно рьяным преследователем и скоро почувствовал отвращение к казням; энергия прочих епископов тоже ослабела. Но Мария I и не думала уклоняться от выбранного направления. Порицания Совета подпитывали усталых прелатов новой энергией, и казни продолжались. Погибли уже два епископа: Гупер, епископ Глостерский, был сожжен в своем кафедральном городе; Феррар, епископ Сент Давидский, пострадал в Кермартене. В октябре 1555 года были выведены из тюрьмы в Оксфорде Латимер и Ридли, епископ Лондонский. «Будь мужествен, магистр Ридли! — воскликнул старый проповедник Реформации, когда пламя окружило его. — Сегодня мы, с помощью Божьей, зажжем такой свет, какой, я убежден, никогда не удастся потушить».
Оставалась одна жертва, далеко уступавшая многим из своих предшественников по характеру, но стоявшая высоко над ними по своему положению в английской церкви. Прочие пострадавшие прелаты были назначены после отделения от Рима, и вряд ли противники считали их епископами. Но Кранмер, каким бы ни было его участие в расколе, получил свое посвящение от папы Римского. В глазах всех он был архиепископом Кентерберийским, преемником Августина и Фомы на второй кафедре Западной церкви. Сжечь за ересь примаса английской церкви — значило лишить всякой надежды на спасение людей более мелких. Но и жажда мести, и религиозное рвение одинаково побуждали Марию I возвести Кранмера на костер. Среди массы постановлений, в которых архиепископ принес в жертву капризу Генриха VIII справедливость, первым стояло уничтожение брака короля с Екатериной и объявление Марии I незаконнорожденной. Последним из его политических актов было добровольное или вынужденное содействие бессовестному плану лишить Марию I престола.
Притом высокое положение делало его больше, чем кого либо другого, представителем произошедшего в стране церковного переворота. Его изображение, вместе с фигурами Генриха VIII и Кромвеля, стояло на заглавном листе английской Библии. Он был главным виновником решительной перемены, произведенной при Эдуарде VI в характере Реформации. Его голос слышался и до сих пор слышится народу в звуках английской литургии. Как архиепископ Кранмер подлежал только суду папы Римского, и казнь по необходимости пришлось отложить до получения приговора из Рима. Когда ему объявили об осуждении, его покинуло мужество, которое он выказывал со вступления Марии I на престол. Нравственная трусость, обнаружившаяся в низком угождении капризам и деспотизму Генриха VIII, сказалась снова в шести последовательных отречениях, которыми он надеялся купить себе прощение. Но помилование было невозможно, и когда на пути к костру Кранмера привели в церковь святой Марии в Оксфорде, чтобы он повторил там свое отречение, его характер, представлявший странное смешение, в самой слабости почерпнул силу.
«Теперь, — окончил он свою речь к молчаливому собранию, — теперь я перехожу к важной вещи, более смущающей мою совесть, чем что другое, когда-либо сказанное или сделанное мною в течение жизни, это распространение писаний, противных истине; теперь я отвергаю их и отказываюсь от них, так как они написаны моей рукой вопреки моему глубокому убеждению, написаны из страха смерти и для спасения, если это возможно, жизни. И так как моя рука погрешила, написав противное моему сердцу, то она будет первой за это наказана; когда я взойду на костер, она будет сожжена первой». «Эта рука написала отречение! — воскликнул он снова на костре, — поэтому она первая понесет наказание»; держа ее все время в пламени без единого движения или крика, он испустил дух.
Среди массы более героических страдальцев безошибочный инстинкт народного движения побудил протестантов считать казнь Кранмера смертельным ударом для католицизма в Англии. На одного человека, ощущавшего в себе радость Рауленда Тайлора при виде костра, приходились тысячи, испытывавшие смертельный ужас Кранмера. Торжествующий возглас Латимера был доступен для сердец столь же смелых, как и его собственное; печальный пафос унижения и раскаяния примаса затрагивал струны симпатии и жалости в сердцах всех. До этого момента можно проследить горькое воспоминание о крови, пролитой ради Рима; наблюдательному историку оно может представляться односторонним и несправедливым, но оно все еще глубоко запечатлено в характере английского народа.
Неудача расчетов на постоянное подчинение Англии Австрийскому дому отравила Филиппу II жизнь в королевстве, и, утратив всякую надежду на потомство, он, несмотря на страстные просьбы Марии I, покинул страну. Королева продолжала отчаянно бороться. Она сделала все возможное для удовлетворения непреклонности папы Римского. Ввиду многозначительного отказа парламента вернуть церкви хотя бы аннаты, она восстановила все, какие могла, ранее упраздненные монастыри; самый крупный из них, Вестминстерский, был восстановлен в 1556 году. Но более всего она настаивала на преследовании. От епископов и священников оно распространилось теперь на весь народ. Страдальцы толпами возводились на костры. В Стратфорде (le Bow) в один день было сожжено тринадцать человек, из них две женщины. Семьдесят три протестанта из Колчестера были прогнаны по улицам Лондона, связанные одним канатом. Королевский указ освободил новую комиссию для подавления ереси от всех юридических ограничений, стеснявших ее деятельность. Были обревизованы университеты, вынуты из гробов и обращены в пепел тела иностранных профессоров, нашедших там место упокоения при Эдуарде VI. Казни военного времени угрожали владельцам еретических книг, вышедших из Женевы; впрочем, их преступное содержание и постоянные призывы к мятежу и междоусобицам оправдывали строгость репрессий.
Но преследование не достигло своих целей благодаря молчаливому сопротивлению всего народа. Началось открытое выражение симпатий к страдальцам за веру. За три с половиной года гонений на кострах погибло около трехсот человек. Народ почувствовал отвращение к казням. Толпа, окружавшая костер в Смитфилде, сопровождала словом «аминь» молитву осужденных Боннером семи мучеников и молилась с ними, чтобы Бог укрепил их. Когда, несмотря на обещания, данные при заключении брака, Мария I впутала Англию в борьбу с Францией, чтобы поддержать Филиппа II, который после отречения Карла V наследовал его владения в Испании, Фландрии и Новом Свете, это вызвало общее неудовольствие. Война закончилась поражением. С отличавшими его быстротой и энергией герцог Гиз кинулся на Кале и, прежде чем могла подоспеть помощь, принудил его к сдаче. «Драгоценнейший алмаз английской короны», как называла его сама Мария I, вдруг был отнят, а последовавший вскоре захват Гина лишил Англию последних владений на материке. Как ни тяжел был удар, но, несмотря на страстные настояния королевы, Совет не мог найти ни средств, ни людей для попытки вернуть город. Прибегли к принудительному займу, но он поступал медленно. Набранные войска бунтовали и расходились. Только смерть Марии I в 1558 году предупредила общее восстание, и взрыв восторженной радости приветствовал вступление на престол королевы Елизаветы.
Глава III ЕЛИЗАВЕТА (1558—1560 гг.)
Никогда положение Англии не было хуже, чем в момент вступления Елизаветы на престол. Страна была унижена поражением и доведена до восстания казнями и неумелым правлением Марии I. Социальное недовольство, на время подавленное кавалерией Сомерсета, продолжало угрожать общественному спокойствию. Теперь, когда костры Смитфилда обособили протестантов от их противников, а партия гуманистов почти исчезла, религиозная борьба приобрела непримиримый характер. У более серьезных католиков образовалась неразрывная связь с Римом. Настроение протестантов, сжигаемых на родине или изгоняемых на чужбину, стало более воинственным, и кальвинистские изгнанники возвращались из Женевы, мечтая о насильственном перевороте в церкви и государстве. У Англии, вовлеченной по следам Филиппа II в бесплодную и разорительную войну, не осталось союзников, кроме Испании, а Франция, владея Кале, стала властительницей Ла-Манша. Благодаря браку королевы Шотландии Марии Стюарт с королем Франции и подчинению Шотландии французской политике, у Англии появилась постоянная угроза на севере, а Мария Стюарт и ее супруг присвоили титул и герб государей Англии и грозили поднять против Елизаветы всех католиков королевства. Ввиду этих опасностей страна оказалась беспомощной, без армии и флота и без средств для их снаряжения, так как казна, уже истощенная расточительным правлением Эдуарда VI, совсем опустела, вследствие возвращения захваченных короной церковных земель, а также расходов на войну с Францией.
Единственная надежда Англии заключалась в характере ее королевы. В это время Елизавете шел 25-й год. Внешне она больше чем унаследовала красоту матери: у нее была величавая фигура, длинное, но царственное и интеллигентное лицо, живые красивые глаза. Она выросла в свободной атмосфере двора Генриха VIII, смело ездила верхом, хорошо стреляла, грациозно танцевала, отлично играла, обладала обширными знаниями. Каждое утро она читала греческое Евангелие, сопровождая его трагедиями Софокла и речами Демосфена, и могла при необходимости «освежить свои заржавевшие познания по-гречески», чтобы поспорить ученостью с вице-канцлером. Но она далеко не была простым педантом. При ее дворе всегда находила себе дружеский прием возникавшая в это время новая литература. По-итальянски и по-французски она говорила так же бегло, как и на родном языке. Она была знакома с Ариосто и Тассо. Несмотря на присущие в дальнейшем жеманство и любовь к анаграммам и тому подобным пустякам, она с восхищением слушала «Царицу фей» и улыбалась Спенсеру, когда он появлялся в ее присутствии.
Рис. Королева Елизавета I (1558 г.).
Ее нравственность своими странными противоречиями напоминала о том, что в жилах ее текла смешанная кровь. В одно и то же время она была дочерью и Генриха VII, и Анны Болейн. От отца она унаследовала простое и сердечное обращение, стремление к популярности и свободным отношениям с народом, неустрашимое мужество и удивительную самоуверенность. Грубый мужской голос, непреклонная воля и гордость, яростные взрывы гнева достались ей с кровью Тюдоров. Она бранила крупных вельмож, как школьников; на дерзость Эссекса она ответила пощечиной; случалось, она прерывала серьезнейшие совещания, ругая своих министров, как рыночная торговка. Странный контраст с этими бурными чертами ее тюдоровского характера представляли унаследованные ею от Анны Болейн чувственность и любовь к наслаждениям.
Блеск и удовольствие были для Елизаветы настоящим воздухом. Она любила постоянно переезжать из замка в замок среди пышных зрелищ, роскошью и фантастичностью напоминавших сон халифа. Она любила веселье, смех, остроумие. Удачный ответ или тонкий комплимент всегда обеспечивали ее расположение. У нее было множество драгоценных камней и платьев. Она до старости сохраняла тщеславие начинающей кокетки. Ей не претила никакая лесть, не казалось грубым никакое восхваление ее красоты. «Видеть ее — райское блаженство, — говорил ей Хэттон, — ее отсутствие — адские муки». Она готова была играть кольцами, чтобы придворные могли видеть изящество ее рук, могла танцевать курант, чтобы спрятанный за занавесом французский посол мог донести своему государю о ее веселости. Ее легкомыслие, суетный смех, неженские шутки вызывали тысячи скандалов.
Действительно, ее характер, как и ее портреты, был без тени. Она не имела понятия о женской сдержанности. Инстинктивная деликатность не прикрывала ее чувственного темперамента, сказавшегося в грубых шутках ее девичества и проявлявшегося, почти хвастливо, во всей дальнейшей жизни. Красота мужчин служила лучшим путем к ее милости. Она гладила шеи красивым молодым дворянам, когда они преклоняли колена для целования ее руки, и в присутствии всего двора ласкала своего «милого Робина» — лорда Лестера.
Неудивительно, что политики, обманутые Елизаветой, почти до конца считали ее просто легкомысленной женщиной или что Филипп II удивлялся, как может «развратница» расстраивать политику Эскуриала. Но они видели далеко не всю Елизавету. Упрямство Генриха VIII, пошлость Анны Болейн служили простым прикрытием характера твердого, как сталь, чисто рассудочного, представлявшего разум, не затронутый ни страстью, ни воображением. Несмотря на свою видимую любовь к роскоши и удовольствиям, Елизавета вела простую скромную жизнь и много работала. Ее тщеславие и каприз не имели никакого значения в государственных делах. Кокетливая в приемной зале, она становилась самым холодным и строгим политиком за столом Совета. Только что осыпанная лестью своих придворных, она не допускала лести в кабинете; со своими советниками она говорила прямо и откровенно и требовала от них такой же откровенности. Если в ее политике и заметно влияние пола, то оно сказывалось в упорном преследовании цели, часто скрывавшемся под колебаниями женского чувства. Это и составляло, пожалуй, ее главное преимущество над современными ей политиками. Никогда за столом Совета не собиралась столь благородная группа министров, как при Елизавете, но она не была их орудием. Она выслушивала, взвешивала, принимала или отвергала совет каждого по очереди, но в целом ее политика принадлежала собственно ей.
Это была политика не гения, а здравого смысла. Ее цели были просты и ясны: сохранить свой престол, избавить Англию от войны, восстановить порядок гражданский и церковный. В основе того бесстрастного равнодушия, с каким она отказывалась от постоянно открывавшихся перед ней широких горизонтов, быть может, до некоторой степени лежали женские осторожность и робость. Она упорно отказывалась от Нидерландов. Она со смехом отвергла предложение протестантов объявить ее «главой веры» и «владычицей морей». Но удивительные результаты ее правления проистекали в основном из этого мудрого ограничения целей. Лучше всех своих советников она знала настоящие размеры своих средств; она инстинктивно понимала, до каких границ она может идти и что она может сделать. Ее холодный критический ум никогда не увлекался ни энтузиазмом, ни страхом преувеличения или преуменьшения ее сил или опасностей. У Елизаветы было мало или совсем не было политической мудрости в более широком или высоком смысле слова; но она обладала безошибочным политическим чутьем. Она редко определяла свой путь с одного взгляда, а перебирала, колеблясь и пробуя, тысячу ходов, как музыкант перебирает пальцами клавиатуру, пока вдруг не попадала на необходимый. Ее чисто практическая натура жила настоящим. Она относилась к плану тем недоверчивее, чем идеальнее он был и рассчитан на будущее. Политика представлялась ей искусством следить за ходом событий и в подходящую минуту извлекать из них пользу.
Такая политика самоограничения, практичности, опыта более всего соответствовала не только Англии того времени, ее слабым средствам, переходному положению — политическому и религиозному, но и личным талантам Елизаветы. Это была политика деталей, в которых находили себе применение ее удивительная находчивость и остроумие. «Не нужно войны, господа! — Властно говорила она своим советникам. — Не нужно войны»; но это нерасположение к войне вытекало не столько из ее отвращения к кровопролитию или расходам, — хотя она очень не любила ни того, ни другого, — сколько из того, что мир представлял открытое поле для дипломатических маневров и интриг, в которых она отличалась особенным мастерством. Сознавая его, она выкидывала тысячу причудливых штук, едва ли преследовавших иную цель, кроме простой мистификации. Она восторгалась «обходами» и «кривыми путями». Она играла с важными кабинетами, как кошка с мышью, чисто по-кошачьи наслаждаясь недоумением своих жертв. Когда ей надоедало дурачить иностранных политиков, она обращалась к новой забаве одурачиванию своих министров. Если бы Елизавета написала историю своего царствования, она, наверное, хвалилась бы не столько торжеством Англии и поражением Испании, сколько ловкостью, с которой в течение 50 лет она обманывала и проводила всех политических деятелей Европы. Но ее плутовство не было лишено политического значения. Следя за дипломатией королевы по тысяче депеш, мы находим ее неблагородной и невыразимо скучной, но она достигала своих целей. Она выигрывала время, а каждый выигранный год увеличивал силы Елизаветы.
Ничто так не возмущает в королеве, но ничто и не характеризует ее так, как ее бессовестная лживость. Это был вообще век политической лжи, но никто во всей Европе не пользовался ею так щедро и беззаботно, как Елизавета. Ложь была для нее просто удобным средством для избежания трудностей. Легкость, с какой она утверждала или отрицала все, что только отвечало ее цели, равнялась только циничному равнодушию, с каким она относилась к разоблачению своих уловок, как скоро цель их была достигнута. Тот же чисто рассудочный взгляд на вещи сказывался и в том, что она ловко пользовалась даже своими недостатками. Ее легкомыслие позволяло ей спокойно переживать минуты разоблачения и стеснительности, когда лучшие женщины могли бы умереть со стыда. Свою колеблющуюся и нерешительную политику она скрывала за естественной робостью и неустойчивостью своего пола. Даже роскошью и развлечениями она пользовалась для своей выгоды. В ее царствование бывали очень опасные и тревожные минуты, но страна сохраняла спокойствие, так как видела, что королева посвящает дни соколиной и псовой охоте, а ночи — танцам и забавам. Ее тщеславие и жеманство, ее женское непостоянство и каприз — все это играло роль в дипломатических комедиях, которые она последовательно разыгрывала с претендентами на ее руку. Требования политики не допускали ее брака, но, во всяком случае, она находила удовлетворение в том, что предупреждала войну и заговоры любовными сонетами и романтическими свиданиями или давала стране год спокойствия, ловко изображая влюбленность.
Следя за извилистым лабиринтом лжи и интриг королевы Елизаветы, мы почти перестаем чувствовать ее величие и начинаем презирать ее. Но хотя ее политические цели были покрыты мраком тайны, они всегда были умеренны и просты, и она всегда преследовала их с чрезвычайным упорством. Внезапные приступы энергии, время от времени прерывавшие обыкновенную нерешительность, доказывали, что это не было результатом слабости. Елизавета могла выжидать и хитрить, но когда наступала подходящая минута, она умела наносить удары, и притом тяжелые. От природы она была склонна скорее смело полагаться на свои силы, чем не доверять себе. Как все сильные натуры, она безгранично верила в свое счастье. «Ее величество сильно полагается на фортуну, — с горечью писал Уолсингем, — мне хотелось бы большего доверия ко всемогущему Богу». Дипломаты порицали ее нерешительность, оттяжки, перемены фронта и вместе с тем почитали ее «упорство», железную волю, пренебрежение к тому, что представлялось им неизбежной гибелью. «В этой женщине, — писал посол Филиппа II после неудачных переговоров, — сидит сто тысяч дьяволов». Ее подданным оставались неизвестными ее маневры и колебания, ее «обходы» и «извилистые пути», и им она представлялась воплощением отважной решимости. При всей своей храбрости люди, отразившие великую испанскую Армаду или пробившиеся сквозь ледяные скалы Баффинова залива, никогда не сомневались, что пальма храбрости принадлежит их королеве.
Ее настойчивости и мужеству в преследовании целей равнялось ее умение выбирать людей для их достижения. Она быстро оценивала таланты всякого рода и обладала удивительной способностью пользоваться для своей службы всей их энергией. С одинаковой проницательностью она выбирала как министров вроде Сесиля и Уолсингема, так и мельчайших из своих агентов. Ее успех в выборе подходящих для каждого дела людей, за исключением Лестера, объясняется в значительной степени благороднейшей особенностью ее ума. По возвышенности целей ее характер уступал характерам многих ее современников; зато по широте мышления и всеобщности симпатий она далеко превосходила всех. Елизавета могла беседовать о поэзии со Спенсером и о философии — с Джордано Бруно; она могла рассуждать об эвфуизме с Лили и восхищаться рыцарством Эссекса; от разговора о последних модах она переходила к работе с Сесилем над депешами и отчетами казначейства; она выслеживала изменников с Уолсингемом, устанавливала церковное учение с Паркером, обсуждала шансы открытия северо-западного пути в Индию с Фробишером. Подвижность и многосторонность ума позволяли ей понимать все стороны умственного движения эпохи и инстинктивно останавливаться на высших его представителях.
Но больше всего сказывалось величие королевы в ее влиянии на народ. Были в Англии более великие и благородные правители, но никто из них не был так популярен, как Елизавета. Страстная любовь, преданность и восхищение, нашедшие совершеннейшее выражение в «Царице фей», были так же сильны в сердцах простейших из ее подданных. В течение полувекового царствования она оставалась для Англии девственной протестантской королевой; блеска национального идеала не могли запятнать ни ее безнравственность, ни полное отсутствие религиозного энтузиазма. Худшие из ее поступков бесплодно разбивались о всеобщее поклонение. Один пуританин, которому она в припадке деспотической злобы велела отрубить руку, снял оставшейся рукой шляпу и прокричал: «Боже, храни королеву Елизавету!»
За исключением придворного круга, Англия почти не имела понятия о ее недостатках. Ее дипломатические уловки были известны только кабинету. Народ в целом мог судить о внешней политике только по ее главным чертам — умеренности и здравомыслию, а более всего — по ее результату. Но каждый англичанин мог судить о внутренней политике Елизаветы, о ее миролюбии, стремлении к порядку, о твердости и умеренности ее правления, разумном старании примирять и приводить к уступкам враждующие партии; в эпоху, когда почти все другие страны Европы раздирали междоусобицы, это приносило стране беспримерное спокойствие. Все признаки растущего благосостояния, вид Лондона, ставшего мировым рынком, красота величавых замков, поднимавшихся в каждом поместье, — все это говорило в пользу королевы Елизаветы.
В одной отрасли гражданского управления она обнаружила смелость и оригинальность великого правителя. В начале своего царствования она обратила внимание на общественное зло, так долго задерживавшее развитие Англии, и назначила для его исследования комиссию, разрешившую вопрос введением законов о бедных. Она охотно покровительствовала новой торговле; ее расширение и охрану она считала частью государственного управления. Установка статуи Елизаветы в центре Лондонской биржи была со стороны торгового класса платой за тот интерес, с каким она следила за его предприятиями и принимала в них личное участие. Ее бережливость вызывала общую признательность. Воспоминание о терроре и о его мучениках выставляло в ярком свете отвращение к кровопролитию, которое было заметно в начале ее царствования и не совсем исчезло и в более суровом его конце.
Но всего важнее было общее доверие к инстинктивному пониманию ею народного характера. Она постоянно следила за настроением народа и всегда точно знала, когда можно противиться народному чувству и когда нужно отступить перед новым веянием свободы, бессознательно поощрявшимся ее политикой. Но даже при отступлении, она сохраняла победоносный вид: прямота и откровенность ее уступки сразу возвращали ей отнятую было сопротивлением любовь. Во внутренней политике Елизавета занимала положение женщины, в холодном характере которой единственной сердечной чертой была гордость благосостоянием ее подданных и стремление приобрести их любовь. Если можно сказать, что Елизавета любила что-нибудь, так это Англию. «Ничто, — объявила она с необыкновенной горячностью своему первому парламенту, — ничто на земле не дорого мне так, как любовь и благорасположение моих подданных». И она вполне приобрела столь дорогие для нее любовь и благорасположение.
Быть может, она тем крепче держалась за свою популярность, что последняя несколько скрадывала ее страшное одиночество в жизни. Она была последней из Тюдоров, последней из детей Генриха VIII; ее ближайшими родственниками были Мария Стюарт и дом Суффолков: первая — открытый, второй — тайный претенденты на ее престол. Среди родственников матери у нее был только один двоюродный брат. Всю свою женскую нежность она обратила на Лестера, но брак с ним был невозможен; даже если бы она решилась на какой нибудь другой брак, то не смогла бы выйти замуж из-за сложностей политического положения. Горькое восклицание, вырвавшееся однажды у Елизаветы, показывает, как тяжко она переживала свое одиночество. «У королевы Шотландии прекрасный сын, а я — только бесплодный ствол!» — воскликнула она, узнав о рождении Якова.
Но ее изолированное положение только отражало исключительность ее характера. Она жила совсем отдельно от окружавшего ее мира, иногда оказывалась выше, иногда ниже его, но никогда не внутри. С Англией Елизавета соприкасалась только рассудочной стороной. Все нравственные черты эпохи для нее не существовали. Это было время, когда новая нравственная энергия, по видимому, вдруг охватившая весь народ, облагородила людей, когда честь и энтузиазм получили отпечаток поэтической красоты, а религия стала рыцарским подвигом. Но благородные чувства людей, окружавших Елизавету, затрагивали ее не больше, чем чудесные краски на картине. Она одинаково равнодушно извлекала пользу как из героизма Вильгельма Оранского, так и из ханжества Филиппа II. Благороднейшие люди и стремления служили ей только костяшками на счетах. Только в ней одной известие о Варфоломеевской ночи не вызвало жажды мести.
В то время как Англия торжествовала свою победу над Армадой, королева сердито ворчала по поводу расходов и старалась извлечь выгоду из поставленных ею для победоносного флота испорченных припасов. Ей было недоступно чувство благодарности. Не думая о вознаграждении, она принимала услуги, каких никогда не оказывали государям Англии. Уолсингем истратил свое состояние, спасая ей жизнь и престол, а она допустила, чтобы он умер нищим. Но, по странной иронии, этому самому недостатку расположения к людям она была обязана некоторыми из крупнейших достоинств своего характера. Если у нее не было любви, то не было и ненависти. Она не питала мелкой злобы; она никогда не унижалась до зависти или подозрительности к людям, служившим ей. Она равнодушно относилась к оскорблениям. Ее веселого настроения никогда не омрачали распространявшиеся иезуитами при дворах обвинения в распутстве и жестокости. Она не знала страха. В конце ее царствования убийцы один за другим грозили ее жизни, но ей страшно трудно было внушить мысль об опасности. Когда в самой ее свите открылись католические заговоры, она и слышать не хотела об удалении католиков от двора.
Эта нравственная отчужденность и оказала такое странное, в хорошем и дурном смыслах, влияние на политику Елизаветы относительно церкви. Молодая королева не была лишена религиозного чувства, но ей было почти совсем чуждо духовное настроение, она совсем не понимала важности вопросов, какими занималось богословие. Окружавший ее мир все более увлекался богословскими взглядами и спорами, но они нисколько не затрагивали ее. Она была последовательницей скорее итальянского Возрождения, чем гуманизма Колета или Эразма; к увлечениям своего времени она относилась так, как Лоренцо Медичи — к Савонароле. Ее ум не волновали религиозные вопросы, тревожившие умы ее современников; для Елизаветы они были не только непонятными, но и несколько смешными. К суеверию католика и к набожности протестанта она относилась одинаково — с рассудочным пренебрежением. Она приказывала бросать в огонь католические образа и смеялась над пуританами, называя их «братьями во Христе». Но она не питала религиозного отвращения ни к пуританину, ни к паписту. Протестанты роптали в ответ на допущение ко двору католических вельмож. Католики были недовольны приглашением протестантских политиков в ее Совет.
Но Елизавете все это представлялось вполне естественным. Она рассматривала богословские споры с чисто политической точки зрения. Она была согласна с Генрихом IV Французским в том, что королевство стоит мессы. Ей казалось вполне приемлемым поддерживать надежды на свое обращение, чтобы обмануть Филиппа II, или добиваться успеха в переговорах восстановлением распятия в своей молельне. В ее уме первое место занимали интересы общественного порядка, и она никогда не могла понять, что так бывает не со всяким человеком. Ее остроумие поставило себе задачей выработать такую систему, в которой церковное единство не сталкивалось бы с правами совести; этот компромисс требовал только внешнего сообразования с установленным богослужением, но, как она не переставала повторять, «сохранял свободу мнений». С самого начала она вернулась к системе Генриха VIII. «Я хочу следовать примеру отца», — сказала она испанскому послу. Она начала переговоры с папским престолом, и только требование папы Римского подчинить ее право на престол приговору Рима доказало невозможность соглашения. Первым делом ее парламента было провозглашение ее законности и права на престол, восстановление королевского верховенства и отказ от всякой иноземной власти и суда. При вступлении в Лондон Елизавета поцеловала представленную ей гражданами английскую Библию и обещала «прилежно читать ее». Лично она не желала идти дальше. Как и королева, противниками коренных преобразований церкви была треть Совета и по меньшей мере две трети народа. Из дворянства люди пожилые и богатые были консерваторами и только более молодые и бедные — новаторами.
Но скоро оказалось необходимым пойти дальше. Протестантов было меньше, но они составляли более деятельную и сильную партию, а возвращавшиеся из Женевы изгнанники приносили с собой сильнейшую ненависть к католичеству. Для каждого протестанта месса отождествлялась с кострами Смитфилда, а служебник Эдуарда VI освящался воспоминанием о мучениках. Елизавета привлекла к себе протестантов «Актом о единообразии» (1559 г.), восстановившим английскую литургию и обязавшим духовенство применять ее под страхом смещения; но она ввела в язык служебника такие изменения, которые указывали на ее желание, по возможности, примирить с ним католиков. Она не намеревалась просто восстанавливать систему протектората. Из королевского титула она выбросила слова «глава церкви». Составленные Кранмером 42 статьи были оставлены без внимания. Если бы это зависело от воли Елизаветы, она сохранила бы безбрачие духовенства и восстановила бы распятия в церквях; но отчасти ее усилия парализовались усилившимся ожесточением протестантов. Лондонская чернь ломала кресты на улицах. Попытку сохранить распятия или навязать священникам безбрачие расстроило сопротивление протестантского духовенства. С другой стороны, епископы времен Марии I, за исключением одного, заметили протестантское направление производимых перемен и, прежде чем принести присягу, согласно «Акту о верховенстве», подвергались тюремному заключению и лишению сана. Но для массы народа компромисс Елизаветы представлялся вполне удобоприемлемым. Масса духовенства, даже не принося присяги, подчинилась на деле «Акту о верховенстве» и приняла новый служебник. Из немногих открыто отказавшихся только 200 человек были лишены сана, а прочие остались без наказания. Масса народа не выказывала заметного отвращения к новому богослужению, и Елизавета имела возможность от вопросов веры обратиться к вопросу об устройстве церкви. Смерть Поля позволила ей назначить примасом Англии Мэтью Паркера, своим терпением и умеренностью походившего на нее и ставшего ее соратником в деле преобразования церкви. В вопросах веры Паркер был человеком лояльным, но имел твердое намерение восстановить порядок в церковной дисциплине и службе. Быстрые и глубокие преобразования двух последних царствований расстроили весь механизм английской церкви. Большинство приходских священников в душе все еще оставались католиками; иногда для более строгих католиков в церковном доме служилась месса, а для более строгих протестантов — в церкви новая литургия. Иногда те и другие склонялись перед одним и тем же алтарем: одни для принятия гостии, освященной священником дома, по старому обряду, а другие — для принятия облат, освященных по новому. Во многих северных приходах служба совсем не изменилась. С другой стороны, новое протестантское духовенство часто было непопулярным и возбуждало в народе недовольство насилием и жадностью. Капитулы разоряли свои имения арендами, оброками и вырубкой леса. Браки священников вызывали соблазн, еще усиливавшийся, когда их жены для своих платьев и корсетов разрезали пышные облачения прежнего богослужения. Новая служба иногда вызывала крайне беспорядочные сцены: духовенство одевалось, как ему было угодно, приобщающийся, по своему желанию, стоял или сидел; старые алтари разрушались, и причастный стол часто представлял собой простую доску на стойках. Народ, вполне естественно, оказывался «лишенным всякого благочестия» и являлся в церковь, «как на майский праздник».
К сложностям, зависевшим от настроения протестантов и их противников, присоединялись капризы королевы. Если у нее не было убеждений, то был вкус, который возмущался бесцветностью протестантской службы, и особенно браками священников. «Оставьте это, — сказала она в Королевском совете декану Науэлю, когда тот стал обличать почитание икон, — держитесь вашего текста, господин декан, а это оставьте!» Когда Паркер принялся сильно восставать против введения распятия и безбрачия, Елизавета выразила свое неудовольствие тем, что оскорбила его жену. В то время замужних женщин называли «мадам», а незамужних — «мистрес». Когда в конце пышного пира в Ламбете госпожа Паркер подошла к королеве прощаться, Елизавета притворно выказала минутное колебание и наконец сказала: «Я не могу назвать вас мадам и неохотно называю мистрес; однако благодарю вас за ваше радушие». До конца своего царствования она так же бесцеремонно, как и ее предшественники, распоряжалась богатством епископов и с царственным пренебрежением к праву собственности выкраивала награды для своих министров из церковных земель. Лорд Берли создал богатство дома Сесилей из владений Питерборосской кафедры. Близость Хэттон-Гардена к Или напоминает об ограблении другого епископства в пользу веселого канцлера королевы. Ее ответ на протест епископа против грабежа показал, что понимала Елизавета под своим верховенством над церковью. «Гордый прелат, — писала она, — Вы знаете, чем Вы были, прежде чем я сделала Вас тем, что Вы теперь! Если Вы тотчас не подчинитесь моему требованию, — клянусь Богом, я лишу Вас сана». Но эти капризы в действительности мало влияли на постоянную помощь, которую королева оказывала примасу в его восстановительной деятельности. Она не позволяла грабить никому, кроме себя, и серьезно относилась к восстановлению порядка и приличий во внешнем строе церкви. Вакантные епархии замещались в основном учеными и способными людьми, и в Англии, казалось, постепенно восстанавливался религиозный мир.
Не одни только религиозные дела настойчиво обращали на себя внимание Елизаветы при вступлении ее на престол. Англия была истощена войной, но могла избавиться от нее и от обусловленной ею зависимости от Испании, только примирившись с потерей Кале. Хотя эта жертва и принесла мир, но Франция оставалась явно враждебной: дофин и его жена, Мария Стюарт, взяли герб и титул короля и королевы Англии, а благодаря присутствию французской армии в Шотландии их притязания стали источником непосредственной опасности. Чтобы понять случившееся, мы должны бросить беглый взгляд на предшествовавшую историю Северного королевства. С тех пор как Англия окончательно отказалась от бесплодных попыток подчинить Шотландию, ее судьба была печальной. Какой бы мир ни заключали, постоянный страх перед опасностью с юга держал страну в союзе с Францией, вовлекшем ее в водоворот Столетней войны. Но после окончательного поражения и плена Давида при Невилл-Кроссе (в 1346 г.) борьба превратилась в разбойничьи набеги и битвы, в которых победителями оказывались попеременно феодальные лорды шотландской или английской окраины. Баллада о «Чиви Чейз» знакомит нас с духом борьбы, с вызывающей отвагой, «сильнее, чем звук трубы», волновавшей сердце Сидни.
На внутреннее развитие Шотландии эта борьба повлияла крайне пагубно. Выдвинувшиеся в ней фамилии Дугласов и Марчей прерывали войну с Англией только для жестоких взаимных схваток или для борьбы со своим королем. Власть короны при первых государях из дома Стюартов, получившего престол (1371 г.) после прекращения мужского поколения Брюса, упала до крайности. Вторжение и междоусобицы не только прекратили развитие промышленности и благосостояния народа, но даже вызвали их упадок. Страна была погружена в хаотический беспорядок и неурядицы; крестьяне и горожане стали жертвами насилия феодалов. Шотландия превратилась в область беззаконий, где без всякого удержу царили разбой и насилие. Положение королевства было настолько плачевным, что кланы горцев создали, наконец, союз с целью наброситься на верную добычу; но общая опасность вызвала примирение партий знати, и победа при Гарлоу спасла юг Шотландии от подчинения кельтам. Наконец среди королей Шотландии появился крупный деятель. Наученный долгим пленом в Англии, Яков I стал по возвращении на родину лучшим из ее правителей, а также первым поэтом. В свое 13-летнее царствование он восстановил правосудие и порядок, организовал парламент, напал на кланы горцев в их твердынях и принудил их принести присягу «саксонскому» королю. Затем он обратился к борьбе со знатью, но феодалы были еще слишком сильны, чтобы подчиниться закону; шайка злодеев проникла в покои короля и оставила его мертвым с 16 ранами на теле (1437 г.). Его смерть явилась знаком к борьбе между домом Дугласов и короной, борьбе, продолжавшейся в течение полувека. Однако порядок постепенно устанавливался; изгнание Дугласов принесло королям преобладание на юге; власть их над севером была обеспечена гибелью «властителей островов».
Но во внешней политике Шотландия все еще следовала по стопам Франции; всякая ссора королей Франции и Англии вызывала тревогу на шотландской границе. Наконец, в 1502 году, Генрих VII отдал руку своей дочери Маргариты королю Шотландии и тем на время сблизил обе страны. Но спор с Францией, последовавший за вступлением Генриха VIII на престол, расторг этот союз; снова началась война, и страшное поражение и смерть Якова IV при Флоддене ввергли Шотландию в беспорядки, обусловленные малолетством его преемника. Хотя Яков V приходился Генриху VIII племянником, но с самого начала относился к дяде враждебно; и церковь, и народ охотно помогли ему вовлечь обе страны в новую борьбу. Поражение при Солуэйском болоте разбило сердце молодого короля и свело его в могилу. «Началось девушкой и окончится девушкой!» — воскликнул он, когда ему на смертном одре принесли известие о рождении Марии Стюарт. Рука его малолетней наследницы тотчас стала предметом соперничества Англии и Франции. Если бы, как того желал Генрих VIII, Мария Стюарт была обручена с Эдуардом VI, соединение двух королевств могло бы изменить судьбы всей Европы; но недавнее кровопролитие ожесточило Шотландию, а высокомерие, с которым Сомерсет проводил план заключения брака, довершило разрыв. Вторжение Сомерсета и его победа при Пинки-Кле позволили Марии Гиз, вдове Якова V, которая после его смерти стала регентшей, добиться у чинов Шотландии согласия на брак ее дочери с Франциском I, наследником французской короны. С того времени, как известно, притязания Марии Стюарт на английскую корону стали настолько опасными, что побудили Марию Тюдор к браку с Филиппом II. Но опасность стала еще больше со вступлением на престол Елизаветы: католики не признавали законности ее прав, а ее религиозная политика приводила к союзу католической партии с ее соперницей.
Поэтому, несмотря на мир с Францией, Франциск I и Мария Стюарт настаивали на своих притязаниях, и с согласия Марии Гиз отряд французов высадился в Лите. Появление этого войска на границе должно было вызвать восстание католиков. Но война Франции с Испанией заставила Филиппа II поддержать в этот момент Елизавету, и его влияние на католиков на время обеспечило спокойствие. Притом сама королева Елизавета порождала в них надежды на церковную реакцию толками о своем примирении с папой Римским и о допущении в Англию папского легата, а также планами брака с католическим австрийским принцем. Между тем она отпарировала удар в самой Шотландии, где начала быстро распространяться Реформация: она стала тайно возбуждать к восстанию против регентши «лордов Конгрегации», как называли вельмож, стоявших во главе протестантов Шотландии. Со вступления на престол дипломатия Елизаветы подарила ей год, которым отлично воспользовалась ее неутомимая натура. Она восстановила в Англии порядок, преобразовала церковь, выплатила часть долгов короны, пополнила казну, создала флот и войско, готовые к действиям на севере, когда, наконец, поражение ее шотландских союзников заставило ее сбросить маску. Но пока она не имела почти никакой поддержки, кроме своей самоуверенности. Испания твердо верила в ее гибель; Франция пренебрегала ее силами; даже ее Совет был в отчаянии. Единственным министром, на которого она могла положиться, был Сесиль, но и он сомневался в ней.
Но едва она оставила уловки и колебания, как во всем блеске проявились ее энергия и настойчивость. В тот момент, как французы готовились сокрушить «лордов Конгрегации», английский флот вдруг появился в Фортском заливе и заставил армию регентши отступить к Литу (1560 г.). Елизавета заключила формальный договор с лордами и обещала помочь им в изгнании иноземцев. Францию раздирали внутренние смуты, и она не могла прислать ни денег, ни людей. В марте лорд Грей перешел границу с 8 тысячами человек и вместе с «лордами Конгрегации» стал осаждать Лит. Но шотландцы помогали слабо, и штурм города совсем не удался. К тому же Филипп II вдруг стал завидовать укреплению могущества Елизаветы и потребовал от нее прекращения военных действий; но Елизавета была непоколебима. Голод помог ей лучше меча, и наконец согласно двум договорам с Шотландией и Англией, послы Франциска II и Марии Стюарт обещали удалить французов, а управление предоставить Совету лордов; было признано также право Елизаветы на престол. Парламент Шотландии тотчас объявил кальвинизм национальной религией. Правда, и закон, и договор Франциск II и Мария Стюарт отменили, но на деле политика Елизаветы разрушила зависимость Шотландии от Франции и привлекла на свою сторону самую сильную и энергичную из партий шотландской аристократии.
Глава IV АНГЛИЯ И МАРИЯ СТЮАРТ (1560—1572 гг.)
Исход шотландской войны вдруг обнаружил перед Европой энергию Елизаветы и силу ее влияния. Она освободилась от контроля Филиппа II, выказала пренебрежение к Франции, создала английскую партию среди шотландской знати и тем устранила опасность, грозившую с севера. Пользуясь точно так же религиозными смутами, она могла сдерживать враждебность Франции. Под руководством адмирала Колиньи гугеноты, как называли французских протестантов, образовали сильную партию; неудача их восстания5 против фамилии Гизов, стоявших во главе католиков Франции и пользовавшихся преобладанием при дворе Франциска II и Марии Стюарт, заставила их искать поддержки и союза Елизаветы. Но если давно ожидавшийся окончательный взрыв (1560 г.) великой борьбы между старой и новой верой укрепил внешнее могущество Елизаветы, то он ухудшил внутреннее положение страны. Когда ее католические подданные увидели, что королева вступает в союз с кальвинистами Шотландии и гугенотами Франции, они потеряли всякую надежду на ее обращение; ее надежды на соглашение в богослужебных вопросах были разрушены изданием папской буллы, запрещавшей присутствие на английской службе; религиозные смуты во Франции избавили Филиппа II от страха перед ней, и он имел меньше оснований сдерживать католиков Англии. На деле он готовился занять новое политическое положение — покровителя католицизма во всем мире; его войска были отправлены помогать Гизам в междоусобной войне, начавшейся после смерти Франциска II, и преследовать еретиков всюду, где они есть. «Религия, — говорил он Елизавете, — стала прикрытием анархии и переворотов».
В то самое время, как отказ королевы от участия в Тридентском соборе уничтожил последние надежды английских католиков (1561 г.), в Лите высадилась Мария Стюарт, после смерти своего супруга ставшая во Франции чужестранкой. Несмотря на свою молодость, — а ей было всего 19 лет, — в умственном отношении она едва ли уступала самой Елизавете, далеко превосходя ее пылкостью, грацией и красотой. Она принесла с собой утонченную чувственность французского Возрождения: она готова была целые дни проводить в постели и вставать только к ночи, для танцев и музыки. Но у нее был железный организм, не поддававшийся усталости: после своего последнего поражения она проскакала 90 миль, останавливаясь только для смены лошадей. Она любила опасности, приключения, звон оружия; в одном набеге на север она говорила окружавшим ее суровым воинам, что хотела бы быть мужчиной, «чтобы изведать, что за жизнь проводить целые ночи в поле или сидеть в шанце с глэсговским щитом и палашом». Но в кабинете она была таким же холодным и проницательным политиком, как и королева Елизавета; планы ее отличались такой же тонкостью, но гораздо большей широтой и величием. «Все приемы лучших и опытнейших политиков Франции, — писал английский посол, — все хитрости, выдумки и обманы, таящиеся в хитрых мозгах шотландцев, — все это или свежо в памяти королевы, или она легко может это проделать».
Рис. Мария I Стюарт.
Ее красота, изысканная прелесть обращения, великодушный характер и искренняя привязчивость, ее откровенность, чувствительность и веселость, слезы женщины и отвага мужчины, ее свободная непринужденность, поэтический блеск, озарявший все значительные моменты ее жизни, — все это производило и на друзей, и на врагов обворожительное впечатление, только усиливавшееся с течением времени. Даже Ноллису, суровейшему из пуритан своего времени, она представлялась в плену «замечательной женщиной». «Кроме признания своего королевского достоинства, она, по-видимому, не обращает внимания ни на какие церемонии и почести. У нее заметна наклонность много говорить, быть смелой, шутливой и очень любезной. Она выказывает сильное желание отомстить своим врагам. В надежде на победу она готова подвергаться всем опасностям. Она охотно слушает рассказы о смелости и храбрости, восхваляет поименно всех заведомо смелых соотечественников, хотя они ее враги, и не скрывает трусости даже своих друзей». Люди еще не подозревали суровой набожности и силы страсти, скрывавшихся под привлекательной внешностью Марии Стюарт, но они сразу заметили ее политический талант. Она ухватилась за новую возможность, которую дала ей смерть супруга. Теперь ни в Шотландии, ни в Англии ее делу не мешало народное недоверие к вмешательству французов. Мария Стюарт высадилась в Лите с намерением разрушить союз Елизаветы с протестантами Шотландии, сплотить вокруг себя королевство и таким образом создать прочное основание для интриг среди английских католиков.
Ее появление произвело удивительное действие. Ее личное обаяние оживило преданность народа и склонило к ее ногам всю Шотландию. Ее очарованию не поддался только Нокс, самый крупный и строгий из проповедников кальвинизма. Грубые шотландские вельможи признавали, что Мария Стюарт владеет «какими-то чарами, привораживающими людей». Обещание религиозной терпимости побудило всех ее подданных поддерживать выдвинутое ею притязание на назначение ее преемницей Елизаветы. Но вопрос о наследовании, как и вопрос о браке, был для Елизаветы вопросом жизни и смерти. Ее брак с католиком или протестантом положил бы конец системе равновесия и национального единства в стране, подал бы знак к восстанию обманутой ею партии и к победному торжеству партии удовлетворенной. Испанский посол, настаивавший на браке с Габсбургом, писал: «Если сюда явится католический принц, то первая месса, на которой он будет присутствовать, послужит сигналом к восстанию». То же было и с вопросом о престолонаследии. Назначить наследником протестанта из дома Суффолков — значило бы побудить к восстанию всех католиков; назначить Марию Стюарт — значило бы вызвать отчаянное восстание протестантов и отдать Елизавету на произвол любого фанатика-убийцы, желавшего очистить путь для католического государя. «Я не настолько глупа, ответила королева Марии Стюарт, — чтобы надеть на себя саван».
Но на нее оказывалось сильное давление, и Мария Стюарт ожидала торжества католицизма во Франции, чтобы еще усилить его. Это и заставило Елизавету помочь гугенотам, когда они стали поддаваться перед силой Гизов. Как ни ненавидела она войну, но инстинкт самосохранения вовлек ее в великую борьбу, и, несмотря на угрозы Филиппа II, она обещала прислать протестантам под началом Конде деньги и 6 тысяч человек. Но роковое поражение армии гугенотов при Дре отдало Францию в руки Гизов и приблизило опасность к самому порогу Англии. Надежды английских католиков возросли. С изданием буллы о низложении, папа Римский, правда, медлил, зато он объявил (1562 г.) принятие английской литургии расколом и запретил католикам посещать церкви. Издание этой грамоты положило конец богослужебному единообразию, которое старалась установить Елизавета. Ревностные католики покинули церкви. На этих ослушников налагались тяжелые пени, и когда их число возросло, они стали важным источником дохода для казны. Но это не могло компенсировать нравственный удар, нанесенный отчуждением католиков.
Это было началом борьбы, которую Елизавете удавалось предупреждать в течение трех памятных лет. Фанатизм католиков встретился с фанатизмом протестантов. Вести о поражении гугенотов вызвали в Англии панику. Парламент выразил свои опасения в новых мерах строгости. «Довольно сказано слов, — заметил министр королевы, сэр Фрэнсис Ноллис, — пора обнажить меч». Этим мечом явился «Акт об испытании» («Test act») 1563 года, первый в ряду тех уголовных законов, которые в течение двух веков тяготели над английскими католиками. Этот статут требовал от всех чиновников, духовных и светских, за исключением пэров, присяги на верность королеве и отречения папы Римского от светской власти. Вследствие этого вся власть в королевстве перешла в руки протестантов, а также католиков, признававших, вопреки папе, законность Елизаветы и ее церковную юрисдикцию. Впрочем, к мирянам этот закон применялся бережно; более сильное давление оказывалось на духовенство. Многие из приходских священников хотя и приняли новую литургию, но не принесли присяги, предписанной «Актом о единообразии». До сих пор Елизавета благоразумно не допускала строгого расследования их взглядов. Но теперь для выполнения закона в Ламбете по ее приказу была учреждена комиссия с примасом во главе; в то же время за основу вероучения были приняты 39 статей, составленных при Эдуарде VI, и от духовенства потребовали их принятия.
Быть может, если бы Елизавета предвидела, как быстро исчезнет пугавшая ее опасность, она сохранила бы свою прежнюю лояльную политику. В этом случае она могла, по обыкновению, положиться на счастье. Гибель герцога Гиза при осаде Орлеана, занятого гугенотами (1563 г.) дезорганизовало его партию; при французском дворе верх взяла политика умеренности и равновесия; Екатерина Медичи была теперь всесильна, а она все еще придерживалась мирной политики. Но удача сопровождалась для Елизаветы заслуженным унижением. В годину бедствия гугенотов она продала им свою помощь за уступку Гавра, а теперь примирение партий во Франции снова отняло его. Мир с Францией следующей весной обеспечил ей на год отдых от тревог и совсем расстроил план Марии Стюарт оказать давление на соперницу соединенными силами Шотландии и Франции. Но поражение только внушило ей еще более опасный план. Ей надоела маска религиозной терпимости, которую приходилось носить с целью обеспечить себе общую поддержку подданных, и она решилась сблизиться с английскими католиками на почве католицизма.
По родству ближе всего к Марии был Генрих Стюарт, лорд Дарнли, сын графини Леннокс и внук Маргариты Тюдор по второму ее браку с графом Энгусом, тогда как Мария была внучкой Маргариты по первому браку с Яковом IV. Хотя дом Ленноксов и принял новое английское богослужение, но его симпатии заведомо остались католическими, и католики возлагали свои надежды на его наследника. Теперь Мария Стюарт решилась объединить силы католицизма посредством брака с Дарнли. Обе стороны считали этот брак вызовом протестантизму. До сих пор Филипп II относился одинаково подозрительно к религиозной терпимости Марии и к ее расчетам на Францию; теперь он постепенно перешел на ее сторону. «Она — единственные ворота, — признался он, через которые религия может снова проникнуть в Англию; все другие закрыты». Напрасно королева Елизавета старалась предупредить брак, угрожая войной и устраивая заговоры с целью захватить Марию Стюарт и изгнать Дарнли за границу. Лорды Конгрегации с ужасом пробудились от своего доверия к королеве, а ее сводный брат, лорд Джеймс Стюарт, более известный под именем графа Меррея, произвел смотр своим союзникам-протестантам. Едва они подняли восстание, как Мария, с пистолетами за поясом, пошла на них и без труда прогнала их вождей за границу. Разнесся слух, что она заключила союз с Испанией и Францией, где снова усилилось влияние Гизов.
Елизавета прибегла к позорному притворству, когда известие о беременности Марии придало той такую силу, что она пренебрегла предупреждениями Филиппа II об осторожности и медлительности. «С помощью Бога и Вашего святейшества, — писала она папе, — я надеюсь перепрыгнуть через стену». Ее советником все еще оставался итальянец Риццио, посоветовавший брак с Дарнли, и смелое предложение соответствовало ее характеру. Она потребовала признания своего права на престол. В предстоявшем парламенте она решилась установить в Шотландии католицизм и добиться изгнания Меррея и его товарищей. Католики Северной Англии готовы были восстать, когда Мария будет готова им помочь. Никогда такая опасность не грозила Елизавете, но и в этот раз она могла «положиться на свое счастье». Ради брака с Дарнли Мария рисковала всем, но едва со дня свадьбы прошло несколько месяцев, как люди заметили, что она «ненавидит короля». Юноша оказался беспутным и дерзким супругом, а презрительный отказ Марии короновать его, — отказ, который Дарнли приписал советам Риццио, — довел его ревность до бешенства (распространилось мнение, что Дарнли являлся отцом будущего ребенка Марии — Якова). В тот самый момент, как королева выявила свои широкие замыслы высылкой английского посла, Дарнли в сопровождении своих родственников — Дугласов ворвался в ее покои, утащил с ее глаз Риццио и бесчеловечно заколол его в передней.
Тут должны были проявиться темные стороны характера Марии Стюарт. Как ни сильно было ее желание отомстить Дарнли, но он был ей нужен для выполнения политических планов. Она скрыла свою ненависть под притворной привязанностью и этим успела отвлечь жалкого юношу от товарищей по заговору и воспользоваться его помощью для бегства в Денбар. Очутившись на свободе, она с торжеством пошла на Эдинбург во главе 8 тысяч человек (под командой графа Босуэла), а заговорщики в страхе бежали за границу. С мудрым притворством она, однако, вернулась к системе религиозной терпимости, но никогда не прекращала своих отношений с английскими католиками, а ее двор был наполнен беглецами из северных графств. «Ваши действия, — писала ей Елизавета во внезапном порыве горячей откровенности, — так же исполнены яда, как Ваши слова — меда». Рождение сына, будущего Якова VI в Шотландии и Якова I в Англии, удвоило силу Марии Стюарт. «Число Ваших друзей так возросло, — писал ей ее посланник из Англии, — что многие графства готовы восстать целиком и уже выбрали себе предводителей из знати».
Беспокойство собравшегося в это время (1566 г.) английского парламента показало, что положение действительно опасно. Палаты видели только одно средство помочь делу: они снова обратились к королеве с просьбой вступить в брак и решить вопрос о престолонаследии. Как известно, эти меры больше создавали опасности, чем устраняли их. Определить престолонаследие — значило сразу обнажить меч; поэтому здесь королева твердо стояла на своем. После бешеного взрыва гнева она дала обещание выйти замуж, решившись, без сомнения, обойти его, как обходила раньше. Но ссора с общинами, вызванная запрещением с ее стороны обсуждать вопрос о наследовании (к этой ссоре мы вернемся позднее), сильно поразила Елизавету. «Тайные внутренние враги, — сказала она общинам, когда их ссора закончилась сердечным примирением, — думали причинить мне это зло, чего никогда не могли бы сделать враги внешние, а именно: навлечь на меня ненависть моих общин. Неужели вы думаете, что я не интересуюсь вашей безопасностью и престолонаследием, на что обращена вся моя забота, или что я намерена нарушить ваши вольности? Нет, никогда этого не было у меня в мыслях; я хотела только удержать вас от падения в пропасть». Однако она не могла указать настоящих мотивов своего поступка, и роспуск парламента вместе с возраставшей внешней опасностью поставил ее (1567 г.) лицом к лицу с недовольством народа.
Вдруг страшное событие рассеяло собравшиеся тучи. Мария воспользовалась Дарнли как орудием для гибели его сообщников и успеха своей политики, но после убийства Риццио она возненавидела и стала избегать его. С ее губ сорвались зловещие слова. Она сказала, что пока она не освободится от него каким-либо способом, ей и жизнь не мила. Жажда мести только усилилась в ней под влиянием страсти к графу Босуэлу, самому смелому и бессовестному из пограничных баронов. Отчаянный характер графа не отступал ни перед какими препятствиями, мешавшими его браку с королевой. Развод мог освободить его от жены. Дарнли мог стать жертвой заговора лордов, которых он покинул и предал и которые все еще считали его своим злейшим врагом. Изгнанные бароны были возвращены; пошли темные слухи. Ужасная тайна последовавшего затем события все еще окутана мраком сомнения и неизвестности, который, вероятно, никогда не будет совсем рассеян. Настроение королевы, по-видимому, вдруг изменилось. Ее ненависть к Дарнли сразу сменилась проявлениями старой привязанности. Пороки и бедствия довели его до болезни, Мария посетила больного и уговорила его последовать за ней в Эдинбург. Она снова навестила его в уединенном ветхом доме возле дворца, где его поместили по ее приказу, поцеловала его при прощании и весело поехала на свадебный пир в Холируд.
В два часа ночи ужасный взрыв потряс город, горожане бросились из ворот и нашли дом разрушенным, а труп Дарнли — под развалинами. Убийство, несомненно, было делом Босуэла. Скоро стало известно, что его слуга насыпал порох под спальню Дарили, а граф выжидал за городом окончания дела. Но, несмотря на сильное подозрение и на прямое обвинение в убийстве, предъявленное против него лордом Ленноксом, серьезной попытки расследовать преступление не было сделано; а слух, что Мария намерена вступить в брак с убийцей, привел ее друзей в отчаяние. Ее агент в Англии писал ей, что «если она выйдет за Босуэла, она утратит милость Божью, свою репутацию и расположение Англии, Ирландии и Шотландии». Но скоро все крепости королевства были отданы в руки Босуэла, и этот шаг послужил прелюдией к суду над ним и оправданию, которое подавляющая сила его сторонников превратила в простую комедию. Бессовестное требование развода устранило последнюю помеху для его честолюбия, королева была похищена на пути в Линлитгоу, и за этим последовал брак.
В один месяц все изменилось. Отвращение к браку с виновником смерти ее мужа вызвало восстание всего народа. Бароны, как католики, так и протестанты, собрались вооруженными в Стирлинге; их вступление в Эдинбург подняло восстание в столице. Мария Стюарт и Босуэл выступили с отличным войском навстречу лордам к Сетону, но их войско отказалось сражаться. Босуэл бежал и закончил жизнь в изгнании, а королева в бешеном отчаянии была привезена в Эдинбург и на проклятия толпы отвечала дикими угрозами. Из Эдинбурга в качестве пленницы ее отправили в крепость Локлевен. Она была вынуждена купить себе жизнь отречением от престола в пользу сына и передачей регентства своему брату, графу Меррею, который только что вернулся из Франции. В июле 1567 года ребенок по имени Яков VI был торжественно коронован.
На время Англия была спасена, но надежды Марии Стюарт рассеялись как раз вовремя. Великая борьба двух вероисповеданий, начавшаяся во Франции, постепенно превращалась в общую борьбу всей Европы. Примирительная политика Екатерины Медичи четыре года поддерживала перемирие между католиками и протестантами, но затем Конде и Гизы, желая воспользоваться новыми смутами, возникшими в это время в Нидерландах, снова подняли оружие. Жестокое преследование протестантов и бесцеремонное нарушение конституционных вольностей Филиппом II наконец вызвали там восстание; Филипп II воспользовался этим, чтобы нанести давно задуманный удар по распространению ереси в этой части его владений. В момент вступления Марии в Локлевен герцог Альба с войском в 10 тысяч человек готовился к походу в Нидерланды; он легко восторжествовал над силами мятежников, и начался ряд ужасных избиений и насилий, обесславивших его имя в истории. Ничто не могло так обеспокоить Елизавету, как прибытие Альбы во Фландрию. Истребление там ереси послужило бы прелюдией к содействию Гизам в истреблении ереси во Франции. Но и без этих далеких опасностей торжество католицизма и присутствие католического войска в стране, столь явно связанной с Англией, сразу оживило мечты католиков о восстании против власти королевы Елизаветы, а известие о жестокостях Альбы пробуждали в каждом из ее протестантских подданных с трудом сдерживавшуюся жажду мести. Но нанести Альбе удар было невозможно, так как для торговли Англии главным рынком служил Антверпен и перерыв отношений с Фландрией, неизбежный в случае войны, разорил бы половину купцов Лондона.
С каждым днем трудности Елизаветы все множились, а в это время Марии Стюарт удалось бежать из Локлевена. Энергия Меррея быстро подавила при Лэигсайде восстание католических баронов, помогавших Марии. Тогда она отказалась от всякой надежды на Шотландию, с гениальной быстротой изменила свои планы и, переправившись в легкой лодке через Солуэй, до наступления вечера прибыла в замок Карлайл. Присутствие Альбы во Фландрии было гораздо менее опасно, чем пребывание Марии в Карлайле. Удержать ее в Англии — значило создать центр для мятежа; притом сама Мария грозила «доставить много хлопот, если ее удержат в плену». Она явно просила помощи Англии для восстановления ее на престоле или свободного пропуска во Францию. Исполнение последнего требования дало бы Гизам грозное средство против Елизаветы и снова обеспечило бы Франции вмешательство в дела Шотландии; возвращение ей утраченной короны оружием было невозможно. До оправдания Марии Меррей не хотел и слышать о ее возвращении, а она отказывалась подчиниться суду, который мог бы ее оправдать. Однако Елизавете так хотелось избавиться от чрезвычайно опасного присутствия ее в Англии, что отказ Марии подчиниться какому бы то ни было суду вызвал у нее только новые планы ее восстановления. Она убеждала Меррея устранить важнейшие обвинения, а Марию — в награду за возвращение — предоставить Меррею настоящее обладание королевской властью. Ни тот, ни другой не хотели принять условий, приносивших их обоих в жертву интересам Елизаветы: регент продолжал обвинять королеву в убийстве и прелюбодеянии, Мария отказывалась отвечать или отречься в пользу своего малолетнего сына. Простое бездействие, как, без сомнения, предвидела Мария, более всего содействовало успеху ее смелой политики. Ее несчастье, ее решительные отрицания постепенно ослабляли веру в ее виновность и снова привлекали на ее сторону католиков Англии. В то время как Елизавета «держала волка за уши», жестокая борьба, вызванная действиями Альбы в Нидерландах и во Франции, разжигала раздражение партий в Англии.
В стране и при дворе партии движения и сопротивления стали, наконец, в резкое и явное противоречие друг к другу. С одной стороны, Сесиль во главе протестантов требовал общего союза с протестантскими церквями всей Европы, войны против Альбы в Нидерландах и безусловной выдачи Марии ее шотландским подданным для заслуженного ею наказания. С другой — католики, опираясь на массу консервативной партии с герцогом Норфолком во главе, а также на богатых купцов, опасавшихся прекращения торговли с Фландрией, так же серьезно требовали отставки Сесиля и отзыва протестантов из Совета, прочного мира с Испанией и, хоть и не так открыто, признания прав Марии на престолонаследие. Елизавета по-прежнему вынуждена была медлить. Она не приняла советов Сесиля, но послала деньги и оружие Конде и помешала Альбе, арестовав посланные ему деньги и доведя ссору до временной задержки судов по обе стороны пролива. Она не приняла советов Норфолка, но не хотела ничего слышать об объявлении войны, не хотела обсуждать обвинений против Марии или признавать вступления Якова I (VI) на престол. Влияние присутствия Марии в Англии сказалось в заговорах Норфолка с графами севера Англии и с Испанией. Заметив опасность, Елизавета поступила быстро и решительно: Марию Стюарт она отдала под стражу лорду Гентингдону, затем она арестовала Арундела, Пемброка и Лемли и посадила в Тауэр герцога Норфолка.
Но поражение гугенотов во Франции и известие папского посла о том, что в Риме приготовлена булла о низложении Елизаветы, побудили крупных католических лордов к действию и вызвали восстание Невиллей и Перси. Сигналом к восстанию послужило вступление в Дергем графов Нортумберленда и Уэстморленда. Библия и новый служебник были разорваны в клочья, и на алтаре Дергемского собора снова отслужили мессу, прежде чем графы дошли до Донкастера с войском, возросшим до нескольких тысяч людей. Они требовали, чтобы «в церкви во всем были восстановлены старые обычаи»; граф Сассекс, полководец Елизаветы на севере, откровенно писал ей, «что в Йоркшире нет и десяти дворян, которые одобряли бы ее меры в церковной сфере». Но он был так же верен, как и откровенен, и упорно защищал Йорк, а королева приказала спешно перевезти Марию в новую тюрьму в Ковентри. Но буря рассеялась так же быстро, как и собралась. Масса католиков Англии не шевельнулась, и едва графы остановились в нерешительности ввиду этого неожиданного бездействия, как их войско охватил страх, и оно рассеялось. Вожди восстания бежали, а их несчастные сторонники поплатились за свою измену гибелью и разорением. Жестокие меры, сопровождавшие подавление этого восстания, были первым отступлением от мягкости в правлении Елизаветы, но они не замедлили произвести впечатление на противников. Надежды северных графов были расстроены общим бездействием католиков; теперь (1570 г.) Рим сделал все возможное, чтобы пробудить их к деятельности опубликованием буллы об отлучении и низложении королевы; булла эта тайно была издана в предыдущем году и в духе вызывающей насмешки оказалась прибитой к дверям дома Лондонского епископа. Католики севера Англии упорно уклонялись от национального богослужения.
С каждым днем число уклонявшихся возрастало. Интриги велись деятельнее, чем когда-либо. Регент Меррей был убит, и в Шотландии началась борьба между приверженцами Марии Стюарт и сторонниками ее сына. От разбитых католиков Мария обратилась снова к герцогу Норфолку, который стоял во главе консервативных пэров. Норфолк принял церковный компромисс Елизаветы и выдавал себя за протестанта, но одновременно вел интриги с партией католиков. Он думал найти у английских пэров содействие своему браку с Марией, а этот брак, казалось, должен был вырвать ее из рук французских и католических интриганов, превратить ее в англичанку и разрешить тревожный вопрос о престолонаследии. Его мечты о таком союзе с Марией Стюарт были открыты в предыдущем году Сесилем, а их исполнение задержало его короткое пребывание в Тауэре. Но после освобождения он возобновил свою переписку с королевой и наконец обратился к Филиппу II с просьбой о присылке испанского войска. Во главе этой просьбы стояло имя Марии Стюарт, а за Норфолком следовали имена многих лордов «старой крови», как величали себя гордые пэры. Значение этой просьбы было подчеркнуто сбором в Антверпене католических изгнанников вокруг беглых вождей северного восстания.
Эти заговоры были раскрыты настолько, что вызвали среди протестантов новое ожесточение. Собравшийся парламент принял «Билль об опале» против северных графов и объявил ввоз папских булл государственной изменой. Сильное негодование на Марию как на «дочь распри, сеющую жестокий раздор», сказалось в статуте, лишавшем права наследовать престол всякое лицо, которое при жизни королевы заявит притязания на корону. Ответом на враждебность католиков служил закон, обязывавший всех судей и чиновников подписать «религиозные статьи», что, в сущности, передавало в руки их противников суд и управление. Между тем измена Норфолка переросла в настоящий заговор. Филипп II обещал помочь, если восстание действительно вспыхнет; но ключ к этим переговорам давно находился в руках Сесиля, и прежде чем Норфолк смог сделать первый шаг к осуществлению своих честолюбивых планов, они были расстроены его арестом.
Со смертью его и Нортумберленда, последовавшего за ним на эшафот, исчезла боязнь внутреннего восстания, так долго тревожившая Англию. Неудача двух покушений не только доказала слабость и разъединенность партии недовольства и реакции; но и обнаружила слабость партийного духа перед подъемом национального чувства, развившегося естественно в мирное царствование Елизаветы и превратившегося в страстную преданность королеве, когда выявилась опасность, грозившая порядку и благосостоянию страны. Планы Марии Стюарт, Филиппа II и Перси разбились не столько о бдительность Сесиля и хитрость королевы Елизаветы, сколько о дух новой Англии.
Глава V АНГЛИЯ В ЭПОХУ ЕЛИЗАВЕТЫ
«Я желала, — гордо говорила королева Елизавета своему парламенту, — обеспечить себе повиновение подданных любовью, а не принуждением». Она вполне заслужила эту любовь правосудием и искусным управлением. Хотя, по-видимому, ее отвлекали внешние переговоры и интриги, но прежде всего она была государыней Англии. Свои искусство и энергию она посвятила делу гражданского управления. Едва освободившись от давления внешних тревог, она обратила внимание на две главные причины внутренних неурядиц. В 1560 году был положен конец обесцениванию монеты. В 1561 году учредили комиссию для изыскания наилучших средств к смягчению социального недовольства. Время и естественное развитие новых отраслей промышленности постепенно содействовали облегчению переполненного рабочего рынка; но в Англии все еще существовала огромная масса нуждающихся, для которой постоянным источником ожесточения служили огораживание и выселение, сопровождавшие достижения сельского хозяйства. Каждое восстание могло рассчитывать на поддержку этой массы разоренного люда; уже само ее существование служило поводом к междоусобицам. В мирное время ее присутствие выявлялось в преступлениях против жизни и собственности, шайках грабителей, державших в страхе целые графства, и «дерзких нищих», грабивших путников на дорогах.
При Елизавете, как и при ее предшественниках, продолжалось беспощадное применение репрессивных мер, бесплодность которых напрасно доказывал Мор. Однажды власти Сомерсетшира захватили шайку в 100 человек, из которых тотчас повесили 50, горько жалуясь Совету на необходимость дожидаться съезда судей, прежде чем доставить себе удовольствие видеть и остальных 50 повешенными рядом с первыми. Но правительство старалось противодействовать злу более разумным и действенным способом. Были сохранены старые средства — принуждение праздных к работе, а бродяг — к оседлости; каждый город или приход обязывались помогать своим бедным, нуждающимся и неспособным к работе и давать работу способным к труду нищим. Но постепенно был выработан более совершенный способ оказания помощи и предоставления работы бедным. Прежде средства для этого давал сбор милостыни в церквях; в 1562 году было предписано мэру каждого города и церковным старостам каждого сельского прихода вести списки всех обывателей, которые могли делать взносы в этот фонд, а в случае упорного уклонения судьи были уполномочены налагать на виновного подходящую сумму штрафа и добиваться ее уплаты заключением в тюрьму.
Начала, выраженные в этих мерах, — местная ответственность за местную нужду и отличие бедняка от бродяги, — нашли более ясное определение в статуте 1572 г. Этот закон обязал судей в сельских округах и мэров или других представителей городов вести списки нуждающихся бедных, помещать их в подходящих жилищах и для помощи им облагать налогами всех обывателей. Были назначены надзиратели для принуждения их к труду и надзора за ними; шерсть, пенька, лен и прочие материалы покупались за счет обывателей; для упорных бродяг и для бедных, отказывавшихся работать по приказанию надзирателя, в каждом графстве учреждались исправительные дома. Дальнейший закон передал сбор налога для бедных надзирателям и предоставил им право отдавать бедных детей в ученье, строить для необеспеченных бедняков дома, принуждать родителей и детей таких бедных к их содержанию. Общеизвестный закон 1601 года, пополнивший эту систему и придавший ей окончательную форму, оставался основой системы призрения бедных до поры, еще памятной современникам. Позднейший опыт обнаружил много недостатков в тех мерах; тем не менее их разумный и гуманный характер представлял поразительный контраст с законодательством со времен закона о рабочих, позорившим собрание статутов, а их действенность в те годы была подтверждена устранением социальной опасности, против которой они были направлены.
Но исчезновение социальной опасности было вызвано не столько законом, сколько естественным ростом благосостояния и промышленности в стране. Изменение в способе обработки земли, какие бы социальные трудности оно ни вызывало, несомненно, содействовало росту производства. В землю не только вкладывался больший капитал, но простая перемена в системе вызывала стремление к новым и лучшим способам земледелия: улучшалась порода лошадей и скота, шире применялись удобрения. Говорят, при новой системе одна десятина давала урожая столько, сколько две при старой. С введением более тщательной земельной обработки на каждой ферме потребовалось большее число рук, и большая часть излишнего труда, который в начале новой системы был вытеснен с земли, была теперь возвращена к ней.
Но гораздо сильнее поглощали безработных развивавшиеся мануфактуры. Льняная промышленность еще не имела значения, а тканье шелка только что было введено. Но шерстяные мануфактуры скоро стали важной частью народного богатства. Англия уже не посылала своей шерсти для тканья во Фландрию, а для окраски — во Флоренцию. Прядение и тканье шерсти, валяние и окраска сукна из городов быстро распространялись по деревням. Прядение шерсти, для которого центром служил Норвич, стало привычным во всех северных графствах. Жены фермеров начали перерабатывать шерсть своих овец в грубую домашнюю пряжу. Однако главными центрами промышленности и богатства все еще оставались юг и запад, бывшие родиной горного дела и мануфактурного производства. Железоделательные заводы ограничивались Кентом и Суссексом, хотя процветанию их в этой местности уже начинали угрожать недостаток древесного топлива для печей и истощение лесов Уилда. И тогда, как и теперь, только Корнуолл вывозил олово, а вывоз меди только что начинался. Среди шерстяных тканей Англии первое место занимало тонкое сукно, выделывавшееся на западе. «Пять портов» почти исключительно вели торговлю на Ла Манше. Каждый мелкий порт, от Фортленда до Лендсенда, высылал флот рыбачьих лодок со смелыми моряками, которым предстояло составлять экипажи Дрейка и флибустьеров. Наконец в царствование Елизаветы начали исчезать бедность и бездеятельность, на которые столько веков был осужден север Англии. Первые признаки переворота, который перенес мануфактуры и богатство Англии к северу от Мереи и Гембера, выявляются теперь в упоминаниях о фризовых материях Манчестера, одеялах Йорка, ножевом товаре Шеффилда, сукне Галифакса.
Однако развитие торговли Англии далеко опередило рост ее промышленности. Впрочем, об этом мы не должны судить по современной мерке: все население страны едва ли превышало 5—6 миллионов, а вместимость всех торговых судов определялась немного больше, чем в 50 тысяч тонн. Размер тогдашних судов показался бы теперь незначительным; теперешний угольный бриг, пожалуй, не уступит крупнейшему купеческому кораблю, выходившему тогда из Лондонского порта. Но при Елизавете началось быстрое развитие английской торговли, сделавшее англичан всемирными посредниками. Основание королевской биржи сэром Томасом Гресхамом в 1566 году служило признаком торговых достижений эпохи. Самое важное значение имела торговля с Фландрией; в первой половине XVI века Антверпен и Брюгге были действительно мировыми рынками, и ценность годового вывоза английской шерсти и сукна на их рынки определялась суммой в два миллиона. Торговое преобладание Лондона установилось с разорения Антверпена во время его осады и взятия герцогом Пармским. Говорят, третья часть торговцев и промышленников разоренного города нашла себе убежище на берегах Темзы. Вывозная торговля во Фландрию прекратилась, когда Лондон стал общеевропейским рынком, на котором рядом с хлопком Индии, шелком Востока и шерстяными материями самой Англии были золото и сахар Нового Света.
Не только часть прежней мировой торговли эта перемена перенесла на берега Англии, но и внезапный взрыв национальной энергии нашел для своей деятельности новые выходы. Перевозочные суда венецианцев все еще приставали в Саутгемптоне; но в царствование Генриха VII был заключен торговый договор с Флоренцией, и начавшаяся при Ричарде III торговля с портами Средиземного моря постепенно принимала более широкие размеры. Раньше торговлю Англии с балтийскими портами вели ганзейские купцы, но исчезновение в это время их лондонского склада, «стального двора», служило доказательством того, что и эта торговля перешла теперь в руки англичан. Развитие Бостона и Гелла свидетельствовало о торговых отношениях со Скандинавией. Процветание Бристоля, зависевшее в значительной степени от торговли с Ирландией, было ускорено завоеванием и заселением этого острова в конце XVI — начале XVII веков. Мысль о Северном пути в Индию открыла для торговли еще неизвестную страну. Из трех кораблей, отправленных под командой Хью Уиллоби для выполнения этой миссии, два были затем найдены на берегу Лапландии с замерзшими экипажами, в том числе и командиром; но третий, под командой Ричарда Ченслера, удачно прошел в Белое море и завязал торговлю с Россией (1553 г.).
Более выгодная торговля уже началась с берегом Гвинеи; ее золотому песку и слоновой кости были обязаны своим богатством купцы Саутгемптона. Виновником развившейся отсюда торговли рабами является Джон Гаукинс; его герб (статный полумавр, закованный в цепи) увековечил его первенство в деле перевозки негров из Африки на плантации Нового Света. Рыбная ловля в Ла-Манше и Немецком море давала занятие жителям многочисленных портов, окаймлявших берег от Ярмута до Плимута; Бристоль и Честер соперничали на Уистерских рыбных ловлях; путешествие Себастьяна Кабота из Бристоля к материку Северной Америки показало английским судам путь в бурный Северный океан. Со времен Генриха VIII число английских судов, высылавшихся на тресковые мели Ньюфаундленда, постоянно возрастало, а в конце царствования Елизаветы английские моряки оказались соперниками бискайских в охоте на китов в полярных морях.
Елизавета содействовала этому развитию национального благосостояния поддержанием обуславливавшего его мира и общественного порядка; а ее бережливость позволяла ей в обычное время довольствоваться обычными доходами короны и щадить кошельки ее подданных. Она охотно покровительствовала торговле, участвовала в ее оборотах, рассматривала ее расширение и охрану как отрасль государственного управления и поощряла образование крупных купеческих компаний, которые только и могли в то время охранять в дальних странах торговца от обиды и несправедливости. Давно существовавшая в Лондоне и утвержденная при Генрихе VII корпорация заморских купцов послужила образцом для Русской компании и для компании, захватившей в свои руки начавшуюся торговлю с Индией. Но не одно удовольствие возбуждал в Елизавете и ее министрах производимый вокруг них приливом богатства социальный переворот. Они боялись следовавшего за этим роста расходов, который мог разорить страну и уронить мужество народа. «Теперь Англия, — жаловался Сесиль, — за один год тратит на вино больше, чем прежде за четыре года». Отвыкание от соленой рыбы и рост потребления мяса указывали на перемену к лучшему в положении сельского населения. Грубые сплетенные из хвороста хижины заменялись жилищами из кирпича и камня. Оловянная посуда сменила деревянную утварь прежнего крестьянства; некоторые крестьяне даже могли похвастаться красивыми серебряными блюдами.
В это время впервые появилось понятие, которое теперь представляется нам чисто английским, — понятия о домашнем комфорте. Местечко перед камином, столь тесно связанное с семейной жизнью, возникло с широким введением каминов, которые в начале царствования Елизаветы еще редко встречались в обычных домах. В общее употребление вошли подушки, к которым прежде крестьяне и торговцы относились пренебрежительно, считая их пригодными только для рожениц. Ковры заменили грязную подстилку из камыша. Высокие дома богатых купцов с их изукрашенными фасадами и дорогой обивкой стен, их громоздкими, но изящными кроватями, резными лестницами, оригинальными фигурными фронтонами не только представляли контраст с нищетой, до того отличавшей английские города, но свидетельствовали о появлении нового класса, который сыграл важную роль в позднейшей истории. Еще более поразительная перемена выявила исчезновение феодального характера знати. Мрачные стены и частые зубцы на них исчезли из жилищ дворянства. Сильная средневековая крепость уступила место пышному и красивому елизаветинскому замку.
Ноль, Лонглит, Берли, Гэтфилд, Гардуик и Одли Энд — известные образцы социального и архитектурного преобразования, покрывшего Англию зданиями, в которых мысль о защите оставлена для заботы о домашнем удобстве и красоте. Мы до сих пор с удовольствием рассматриваем живописные линии их фронтонов, резные фасады, позолоченные башенки и причудливые флюгеры, их массивные ворота, выдающиеся фонарики, из которых знатный хозяин смотрел на свой новый итальянский сад, на его величавые террасы и широкие лестницы, вазы и фонтаны, причудливые лабиринты, правильные аллеи, ряды тисов, подстриженных странным образом в неудачное подражание кипарисовым аллеям Юга. Итальянская же утонченность преобразовала внутренний вид домов, подняла главные покои на верхний этаж (этому мы обязаны величавыми лестницами того времени), окружила спокойные дворы «приемными галереями», увенчала простой очаг огромным камином, украшенным фавнами и купидонами с грациозно переплетенными монограммами и фантастическими арабесками, увешала стены коврами, наполнила комнаты красивыми резными стульями и великолепными комодами.
Средневековая жизнь сосредоточивалась в обширной замковой зале, где барон со своего возвышенного места озирал собравшихся за его столом вассалов. Но крупные дружины постепенно распускались, и когда хозяин дома со своей семьей удалился в гостиную или «боковую комнату» и оставил залу своим слугам, исчез весь феодальный обиход. Широкое использование стекла сделалось заметной особенностью в постройке домов того времени, чертой, влияние которой на общенародное здоровье едва ли можно преувеличить. По фасаду новых господских домов протянулся длинный ряд окон. В каждом купеческом доме был свой фонарь. «У вас в домах, — роптал лорд Бэкон, иногда столько окон, что не знаешь, куда уйти от солнца или холода». Но веселое наслаждение светом и блеском солнца составляло отличительную черту эпохи. Расточительность на новые наряды, вместе с увлечением жизнью, любовью к красоте, ярким цветам, кокетству и хвастовству, произвели переворот в английской одежде. С тремя тысячами платьев королевы соперничали великолепием разрезные бархатные платья, брыжжи, украшенные драгоценными камнями камзолы ее придворных.
Прежние понятия о бережливости исчезли перед необыкновенным переворотом, совершенным в экономических отношениях открытием Нового Света. Щеголи в один вечер проигрывали состояния и отправлялись наживать новые в Индию. Мечты о галеонах, до краев наполненных жемчугом, алмазами и слитками серебра, грезы об Эльдорадо, где все из золота, завладевали воображением простых матросов и делали их расточительными и щедрыми. Чудеса Нового Света вообще сильно разжигали фантазию Старого света. Странное смешение прошлого и настоящего, отличающее маскарады и празднества эпохи, только отражало смешение, царившее в умах людей. Старина и новизна, итальянская аллегория, средневековое рыцарство, римская мифология, английский бой медведей, пасторали, суеверие, фарс — все это встречалось поочередно в увеселениях, которые лорд Лестер устраивал для королевы в Кенилуэрте. «Дикий человек из Индии воспевал ей хвалу, и эхо отвечало ему. От приветствий сивилл и великанов Елизавета обращалась к освобождению зачарованной девы от ее безжалостного тирана. Пастушки приветствовали ее весенними песнями, а Церера и Вакх бросали к ее ногам хлебные зерна и виноград».
Этим исканиям ума, этому причудливому богатству фантазии обязана своим возрождением при Елизавете английская литература. «Здесь, как и в других странах, Возрождение нашло туземную литературу почти вымершей, поэзию — низведенной до виршей Скелтона, историю — до летописей Фабиана или Гэлла; но оно мало сделало для английской литературы. Подавляющее влияние новых образцов мысли и слога, возвращенных им миру в новых писателях Греции и Рима, оказалось сначала только новой помехой для мысли о возрождении английской поэзии или прозы. Англия больше других европейских стран восприняла политические и церковные следствия гуманизма, но его литературные достижения были здесь много слабее, чем в остальной Европе — в Италии, Германии или Франции. Только Мор принадлежал к великим классическим ученым XVI века. Классическая ученость университетов почти погибла в бурях Реформации и возродилась не раньше конца царствования Елизаветы. Но постепенно влияние Возрождения подготовило умственную почву Англии к предстоявшей богатой жатве. Придворная поэзия, сосредоточивавшаяся вокруг Уайэтта и Сёрри, несмотря на свой наносный и подражательный характер, обещала новую жизнь английской литературе. Рост грамматических школ осуществил мечту сэра Томаса Мора и привел средние классы, от помещика до мелкого торговца, в соприкосновение с гениями Греции и Рима.
Любовь к путешествиям, ставшая замечательной особенностью елизаветинской эпохи, расшевелила умы крупной знати. «У остающихся дома юношей, замечал Шекспир, характеризуя свое время, — всегда бывают доморощенные остроты». Поездка на материк вошла в систему воспитания джентльмена. Переводы произведений Тассо Ферфаксом, а Ариосто Гаррингтоном служили проявлениями влияния, какое начала оказывать на умы англичан литература Италии, куда чаще всего направлялись путешественники. Наконец, на Англию начали влиять писатели Греции и Рима, популяризованные массой переводов. Прекрасный перевод Чепменом Гомера высоко превосходит остальные, но до конца XVI века на английский язык были переведены все самые крупные поэты и историки классического мира. Характерно для Англии, что первой пробудилась от долгого сна историческая литература, хотя форма, в которой она восстала, выявляла отличие мира, в котором она погибла, от того, в котором она вновь появилась. В средние века мир не имел истории, кроме темного и неведомого прошлого Древнего Рима; поэтому летописец рассказывал историю предшествовавших лет в виде предисловия к рассказу о настоящем, не чувствуя никакой разницы между ними. Религиозный, социальный и политический переворот, произошедший в Англии при новой монархии, нарушил непрерывность ее жизни; как глубок был разрыв между двумя эпохами, видно из того, что, возрождаясь при Елизавете, история от средневековой формы простого рассказа переходит к новой форме исследования и воссоздания прошлого.
Новый интерес к отошедшему миру повел к собранию его летописей, к их перепечатке и переводу на английский язык. Желание отыскать в прошлом основы для елизаветинской церкви, а также чистая любовь к литературе побудили архиепископа Паркера положить начало первой из этих работ. Собрание исторических рукописей, которое он, следуя примеру Лелэнда, спас при крушении монастырских библиотек, создало школу подражавших ему антикваров, исследование и рвение которых сохранили для нас почти все труды значительного исторического достоинства, существовавшие до упразднения монастырей. Изданию им некоторых из наших древнейших летописей мы обязаны рядом подобных изданий, носящих имена Кемдена, Туисдена и Гэла. Но как отрасль литературы английская история в указанной новой форме, явилась в сочинении поэта Даниэля. Предшествовавшие ему хроники Стау и Спидда — простые записи прошлого, часто взятые почти буквально из бывших тогда в ходу летописей, без всякого слога и расположения; между тем Даниэль, несмотря на неточность и поверхностность, придал своей истории литературную форму и изложил ее чистой и изящной прозой. Два более крупных произведения в конце царствования Елизаветы, «История турок» Нолса и широкий, но незаконченный план «Всемирной истории» Рэли, выявили расширение исторического интереса за пределы чисто национальных границ, которыми он до сих пор определялся.
Своим развитием английская литература была гораздо более обязана влиянию, которое, как известно, все более оказывала на нравы и вкус эпохи Италия, частью благодаря путешествиям туда, а частью своей поэзией и романами. Говорят, люди выше ценили рассказ Бокаччо, чем библейскую повесть. Одежда, язык, нравы Италии стали предметами почти страстного обожания, не всегда носившего разумный или благородный характер. Эшему оно представлялось подобным «очарованию Цирцеи, принесенному из Италии для искажения людских обычаев в Англии». «Итальянизировавшийся англичанин — воплощенный дьявол», гласила суровая итальянская поговорка.
Литературная форма этого подражания во всяком случае представлялась нелепой. Джон Лили, славившийся и как драматург, и как поэт, отказался от традиционного английского слога и заменил его слогом, подражавшим итальянской прозе эпохи упадка. Новый слог назвали «эвфуизмом» по роману «Эвфуэс», в котором Лили впервые применил его. Новым читателям он известен прежде всего по безжалостной карикатуре, в которой Шекспир осмеял его педантизм и вычурность, бессмысленное однообразие изысканных фраз, безвкусицу нелепых острот. Его представитель, Армадо в «Напрасных усилиях любви», оказывается «человеком с самоновейшими словами, настоящим рыцарем моды»; «в голове у него фабрика фраз; музыка его пустой речи восхищает его, подобно чарующей гармонии». Но сама эта вычурность вытекала из общего восхищения новыми средствами мысли и языка, оказавшимися в распоряжении литературы. Из этого нового чувства литературной красоты, проявлявшегося в вычурности, в любви к «фабрикации фраз» и к «музыке своей пустой речи», из этого нового наслаждения нежностью или величавостью фразы, строем и расположением предложений, — тем, что называется атмосферой слов, — из этого и должен был развиться стиль. Одно время эвфуизм процветал. Елизавета была самой вычурной и отчаянной эвфуисткой: «придворная красавица, не говорившая этим языком, — сообщал один из придворных времен Карла I, — привлекала к себе так же мало внимания, как теперь — не говорящая по-французски». Мода, правда, прошла, но «Аркадия» сэра Филиппа Сидни свидетельствует об удивительных успехах, достигнутых прозой под ее влиянием.
Сидни, племянник лорда Лестера, был идолом своего времени; в нем, пожалуй, всего полнее и красивее отразился век. Он был так же красив, как и храбр, остроумен и нежен, благороден и великодушен по характеру, дорог одинаково Елизавете и Спенсеру, любимец двора и войска. Его знания и талант сделали его центром литературного мира, появившегося тогда в Англии. Он путешествовал по Франции и Италии и был одинаково знаком как со старой наукой, так и с новыми открытиями в астрономии. Джордано Бруно посвящал ему как другу свои философские исследования; он был знаком с испанской драмой, поэзией Ронсара, сонетами Италии. Мудрость серьезного политика он соединял с романтикой странствующего рыцаря. «Всякий раз, как я слушал старый рассказ о Перси Дугласе, — говорил Сидни, — он сильнее волновал мое сердце, чем звук трубы». Он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти английское войско во Фландрии, и когда лежал при смерти, к его разгоряченным губам поднесли чашу с водой, но он велел отдать ее солдату, распростертому на земле возле него. «Твоя жажда, — сказал он, — сильнее моей». Вся натура Сидни: его рыцарство и ученость, страсть к приключениям и стремление к необычайному, свежесть тона, нежная и детская простота чувства, жеманство и ложная чувствительность, сильная страсть к удовольствию и наслаждению — все это нашло выражение в пастушеском попурри его «Аркадии», натянутом, скучном и все-таки странно прекрасном. В его «Защите поэзии» плодовитость молодого поэта превратилась в серьезную энергию и величавую возвышенность оратора. Но и в том и в другом произведениях остаются та же гибкость, музыкальность и прозрачная ясность слога.
Впрочем, быстрота и живость английской прозы развились в школе подражателей итальянцам, появившейся в последние годы правления Елизаветы. Начало английского романа следует искать в тех рассказах и повестях, которыми Грин и Нэш наводняли рынок и образцы которых они нашли в итальянских новеллах. Короткая форма этих новелл скоро вызвала появление памфлета, а быстрота, с какой издавались рассказы или непристойные пасквили, подходившие под это название, и жадность, с какой они поглощались, подтверждали появление нового круга читателей. Грин хвалился тем, что за последние восемь лет он написал сорок памфлетов. «В одну ночь или в один день он мог бы, как и семь лет назад, состряпать памфлет, и счастлив был тот печатник, которому удавалось дорого заплатить за самые низкие примеры его остроумия». Теперешний читатель видит в произведениях Грина и его товарищей больше пошлостей, чем остроумия, но нападки Нэша на пуритан и его соперников были первыми произведениями, достаточно свободными от педантизма и вычурности эвфуистов. В его легкости, гибкости, живости и прямоте речи мы находим начало народной литературы. Из кабинета она спустилась на улицу, и сам этот факт доказывал, что улица была готова к ее принятию. Масса печатников и печатных книг в конце царствования Елизаветы также показывает, что круг читателей и писателей далеко вышел за пределы сферы ученых и придворных, которой он прежде ограничивался.
Позже нам придется еще рассматривать великое поэтическое движение, которому эти духовные достижения пролагали путь, а также нравственный и религиозный переворот, произошедший в стране под влиянием развития пуританства. И умственные, и религиозные течения в соединении с ростом благосостояния оживили дух независимости в массе народа. Понять этого Елизавета не могла, но ее удивительный такт позволил ей почувствовать силу нового настроения. Задолго до открытого столкновения между народом и короной изменения, сознательные или бессознательные, которые она вводила в систему управления, показывают, что она инстинктивно чувствовала происходившие вокруг нее перемены. Она не отказалась ни от одного из нарушений английской свободы, но ограничила и смягчила почти все. Подобно своим предшественникам, она нарушала личную свободу; точно так же искажались законы и оказывалось давление на присяжных в политических делах, а совет королевы все еще пользовался правом произвольных арестов. Пошлины, налагавшиеся Елизаветой на сукно и сладкие вина, доказывали принадлежность ей права произвольного обложения. Распоряжениям королевы постоянно приписывалась сила закона.
В одном случае Елизавета, по-видимому, уклонилась от политического правила, усвоенного Тюдорами. Со времен Кромвеля парламент как важное орудие правосудия и законодательства созывался почти ежегодно; Елизавета разделяла недоверие к палатам, какое выказывали Эдуард IV, Генрих VII и Уолси. Ее парламенты созывались не чаще, чем раз в три года, иногда даже через пять лет, и только под давлением нужды. Но на практике королевская власть применялась с осторожностью и умеренностью, показывавшими, что Елизавета чувствовала, насколько трудным становилось единовластие. Обычно ход правосудия не подвергался ограничениям; Совет применял свою юрисдикцию почти исключительно к католикам и оправдывал ее как предосторожность против серьезных опасностей. Распоряжения короны отличались временным характером и незначительностью. Наложенные пошлины были так малы, что народ, довольный отказом Елизаветы от внутреннего обложения, почти не замечал их. Она отказалась от «одолжений» и принудительных займов, познакомивших подданных ее предшественников с угнетением. Она рассматривала временные свидетельства, выпускавшиеся при необходимости в помощь казначейству просто как заимствование из будущих доходов (подобно теперешним билетам казначейства), и аккуратно оплачивала их. Монополии, мешавшие торговле, вызывали более серьезные жалобы; но в начале царствования они считались частью системы торговых компаний, необходимых для направления и защиты расширявшейся торговли.
Бережливость позволяла Елизавете в мирное время покрывать текущие расходы короны из обычных доходов. Но эта бережливость была результатом не столько экономии, сколько желания избежать созыва нового парламента. Королева видела, что руководить палатами, что было таким легким делом для Т. Кромвеля, с каждым днем становилось труднее. Появление новой знати, обогащенной церковным имуществом и приученной к политической жизни большими событиями, придало свежую силу лордам. Обогащение сельского дворянства, а также его усилившееся стремление добиваться мест в палате Общин, привели к устранению старого обычая оплаты членов парламента их избирателями. Давно начавшаяся, но теперь впервые признанная законом перемена в городском представительстве тоже повышала активность и независимость Нижней палаты. Старые грамоты требовали избрания членов от городов из числа горожан, а закон Генриха V придал этому обычаю силу закона.
Но уже проведение этого закона показывает, что обычай часто нарушался; а во времена Елизаветы большинство городских мест были заняты людьми посторонними, часто ставленниками соседних крупных землевладельцев. Эти члены были большей частью людьми богатыми и родовитыми, которые, вступая в парламент, руководствовались чисто политическими целями и относились к короне гораздо смелее и независимее, чем предшествовавшие им скромные торговцы. Но уже в конце царствования Генриха VIII тон общин так изменился, что Эдуард VI и Мария I вернулись к праву короны создавать новые города и стали призывать представителей поселений, которые были простыми деревнями и находились в полной власти короны. Эту «подтасовку палаты» пришлось продолжать и Елизавете. Призыв ею в общины большого числа таких членов, всего 62, служил доказательством того, что правительству становилось все труднее обеспечивать в ней значительное большинство.
Если бы Елизавета жила в спокойные времена, ее бережливость совсем избавила бы ее от необходимости созывать парламент. Но опасности царствования заставляли ее неоднократно просить субсидий, и при каждом требовании тон общин становился все хуже. В конституционном отношении особое преимущество политики Т. Кромвеля заключалось в том, что в самый критический для вольностей народа момент она в ряде случаев признала и подтвердила право парламента отменять налоги, издавать законы, рассматривать жалобы и ходатайствовать об их удовлетворении. В то время как власть, превратившая эти права в простое орудие деспотизма, из года в год слабела, они сохранялись. Парламент Елизаветы не только пользовался своими полномочиями так же полно, как и парламент Т. Кромвеля, но силы, политические и религиозные, которые она упорно старалась сдержать, давили непреодолимо и скоро потребовали новых преимуществ. Несмотря на редкие созывы, жесткие слова, аресты и ловкое «руководство», парламент постепенно приобрел такую власть, о которой королева сначала вовсе и не думала. Шаг за шагом Нижняя Палата добилась свободы своих членов от ареста, права наказывать и исключать членов за проступки, совершенные в палате, права решать все вопросы, касавшиеся выборов.
Более важное требование свободы слова привело к ряду мелких столкновений, доказавших деспотичные замашки Елизаветы, а также понимание ею новой силы, с какой приходилось иметь дело. В вопросе о браке Марии Стюарт с Дарнли господин Дэлтон нарушил запрет королевы касаться вопроса о престолонаследии, отменив притязания Марии. Елизавета тотчас приказала арестовать его, но общины попросили позволения «сослаться на свои вольности», и она велела выпустить виновника. В том же духе она запретила в 1571 году господину Стрикленду, представившему билль о преобразовании новой литургии, являться в парламент; но, заметив желание парламента вернуть его, она взяла запрещение назад. С другой стороны, общины еще отступали перед настойчивым отрицанием Елизаветой ее притязаний на ограничение свободы слова. На смелый протест Питера Уэнтуорса против нерешительности общин они ответили заключением его в Тауэр. Когда он обратился к позднейшему парламенту 1588 года с еще более смелым вопросом «Разве в этом собрании каждый член не имеет права свободно и бесконтрольно, письменно или устно, излагать жалобы общества?», это навлекло на него по приказу Совета новый арест, продолжавшийся до роспуска парламента, но общины уклонились от вмешательства в это дело. Колеблясь в защите прав отдельных членов, общины упорно сохраняли свои притязания на общие полномочия, данные парламенту политикой Томаса Кромвеля.
В теории тюдоровские политики относили исключительно к компетенции короны три главных предмета — вопросы торговли, церкви и политики, но в действительности такие вопросы рассматривал один парламент за другим. Весь церковный строй королевства, само право Елизаветы на престол основывались на статутах парламента. Когда в начале ее царствования общины попросили ее назначить преемника и вступить в брак, то хотя она выразила им порицание и уклонилась от ответа, но отрицать их право на вмешательство в эти «политические вопросы» она не могла. Однако вопрос о престолонаследии получил слишком жизненное значение для свободы и религии Англии, чтобы можно было ограничиться обсуждением его в зале Совета. Парламент 1566 года повторил требование более настоятельно. Сознание действительной опасности такого требования и самовластный характер вызвали у Елизаветы взрыв яростного гнева. Она обещала, правда, вступить в брак, но решительно запретила касаться вопроса о престолонаследии. Уэнтуорс тотчас спросил у общин, не противоречит ли этот запрет вольностям парламента, и этот вопрос вызвал горячие прения. Новое послание королевы запретило продолжать обсуждение вопроса, но общины ответили на это ходатайством о свободе совещаний. Благоразумие указало Елизавете на необходимость отступления; она объявила, что «она и не думала в чем-либо нарушать дарованные им прежде вольности», и смягчила запрет до просьбы. Любезная уступка предоставила ей покорное согласие общин, и они встретили ее послание «с чрезвычайной радостью и сердечнейшими молитвами и благодарностью». Тем не менее они одержали настоящую победу. Такого столкновения между общинами и короной не бывало со времен установления Новой монархии, и оно закончилось скрытым поражением короны.
Это послужило прелюдией к другому требованию, также оскорбительному для королевы. Хотя в действительности строй английской церкви основывался на узаконениях парламента, но теоретически Елизавета, подобно прочим Тюдорам, считала свое церковное главенство чисто личной властью, так что ни парламент, ни даже Совет не имели права вмешиваться в его применение. Но удаление от власти католического дворянства посредством «Тест акта» и рост пуританства среди землевладельцев придавали общинам и Совету все более протестантский оттенок, и они легко могли вспомнить, что верховенство, столь ревностно охраняемое от вмешательства парламента, было передано короне парламентским статутом. Здесь, впрочем, королева как религиозная представительница обеих партий, на которые распались ее подданные, стояла на более твердой почве, чем общины, представлявшие только одну из них; и она смело воспользовалась своим преимуществом. Предложенные более строгими протестантами в 1571 году билли о реформе богослужения были по ее требованию представлены ей и уничтожены. Уэнтуорс, самый смелый из ораторов партии, был, как мы уже знаем, заключен в Тауэр. На одном из позднейших заседаний парламента спикеру было запрещено принимать билли «о преобразовании церкви и государства». Но, несмотря на эти препятствия, общины продолжали стремиться к реформе, и в каждый парламент вносились церковные билли, хотя их отменяла корона или отвергали лорды.
Больший успех имели нападки общин на власть королевы в вопросах торговли. Сначала жалобы на торговые привилегии и монополии, стеснявшие внутреннюю и внешнюю торговлю, были оставлены королевой без внимания, так как затрагивали вопросы, не касавшиеся общин и превосходившие их способность понимать. Когда почти 20 лет спустя вопрос был поднят снова, сэра Эдуарда Годи сильно порицала «важная особа» за его жалобу на незаконные вымогательства казначейства.
Но, несмотря на это, предложенный им билль был передан лордам, а в конце царствования Елизаветы буря народного негодования, вызванная усилением зла, побудила общины к решительной борьбе. Напрасно министры противились биллю об отмене монополий; после горячих четырехдневных прений тактичность заставила Елизавету уступить. Она поступила со своей обычной ловкостью: объявила, что не знала прежде о существовании зла, поблагодарила палату за ее вмешательство и одним росчерком пера отменила все дарованные ею монополии (1601 г.).
Глава VI АРМАДА (1572—1588 гг.)
Только что описанное нами чудесное возрастание богатства и социальной энергии сопровождался замечательной переменой в религиозном настроении народа. Постепенно и почти бессознательно Англия становилась протестантской по мере того как незаметно исчезал традиционный католицизм, бывший религией трех четвертей народа при вступлении Елизаветы на престол. В конце ее царствования единственными областями Англии, где старая вера несколько сохранила свою силу, были север и крайний запад, самые бедные и пустынные части страны. Одна из главных причин такой перемены заключалась, несомненно, в постепенном вымирании католического священства и в замене его новым протестантским духовенством. Старые приходские священники, хотя они почти все подчинялись переменам в обрядах и учении, которые навязывали им различные периоды Реформации, в душе оставались враждебными ее духу. Так как Мария Тюдор отменила реформы Эдуарда VI, то они ожидали от католического наследника отмены реформ Елизаветы; а пока они довольствовались ношением стихаря вместо ризы и служением по новому служебнику вместо старого. Их можно было заставить читать с амвона проповеди, но дух их поучений оставался неизменным, и им было легко внушать презрение к новой службе, так что приверженцам старины она представлялась просто «святочной потехой».
Но двадцать лет сделали свое дело и очистили ряд приходов. В 1579 году королева почувствовала себя достаточно сильной, чтобы в первый раз настоять на общем подчинении «Закону о единообразии», а строгий надзор Паркера и епископов обеспечил в духовенстве, занявшем места умерших священников, как внутреннее, так и внешнее согласие с установленной церковью. Новые священники по вере и учению были не просто протестантами, а крайними протестантами. Прежние ограничения проповеди были незаметно устранены, и рвение новых служителей выявилось в постоянных поучениях, изменявших в их духе религиозные идеи нового поколения. Но сильнее поучений влиял их характер. При Генрихе VIII священники были в основном люди невежественные и распутные, а духовные особы, поставленные жадными протестантами при Эдуарде VI или в первые годы царствования Елизаветы, по характеру были еще хуже своих соперников. Но энергия ряда примасов, поддерживаемых общим подъемом усердия и нравственности в ту эпоху, сделала свое дело, и к концу царствования Елизаветы нравственный характер и общественное положение духовенства очень изменились.
Теперь в рядах священников можно было найти ученых вроде Гукера. Крупные скандалы, позорившие духовенство как корпорацию, большей частью исчезли. В царствование Елизаветы пуританскому памфлетисту было уже невозможно обвинять священников в пьянстве и распутстве, в чем протестантские памфлетисты могли обвинять духовенство времен Генриха VIII. Влияние духовенства находило себе поддержку в общем подъеме духовной жизни. Мы уже видели первые ростки новой литературы, высшими представителями которой должны были явиться Шекспир и Бэкон. Грамматические школы распространяли новые знания и духовную энергию в средних классах и среди сельского дворянства. Атмосфера университетов — лучший показатель состояния всей нации, в царствование Елизаветы совершенно изменилась. В его первые годы Оксфорд был «гнездом папистов», отправлявшим своих лучших учеников в католические семинарии. В его конце университет стал очагом пуританства, где безраздельно господствовали строжайшие учения Кальвина.
Это движение было, несомненно, ускорено политическими событиями эпохи. В правление Елизаветы верность королеве среди англичан все более становилась страстью, а булла о низложении поставила папу Римского во главе врагов королевы. Заговоры, кипевшие вокруг Марии Стюарт, ставились в вину папе; он, как было известно, побуждал Францию и Испанию вторгнуться в еретическое королевство и завоевать его; вскоре ему предстояло благословить Армаду. С каждым днем для католика становилось труднее примирять католицизм с верностью королеве или преданностью стране; масса людей, руководящаяся скорее чувством, чем рассудком, постепенно переходила на ту сторону, которая, каковы бы ни были ее религиозные взгляды, защищала патриотизм и свободу против угнетения, Англию — против Испании. Новый толчок был дан этому постепенному повороту в религиозных мнениях жестокостями, которые ознаменовали торжество католицизма на материке. Ужасы казней Альбы или Варфоломеевской ночи в Париже оживили воспоминания о казнях Марии Тюдор. Повесть о страданиях протестантов была рассказана с чудесным пафосом и живописностью Джоном Фоксом, изгнанником в эпоху преследования; его «История мучеников» публично читалась в церквях по королевскому приказу и оттуда книга перешла на полку любой английской семьи. Первыми приняли учение Реформации торговые классы городов, но их протестантизм превратился в страсть, когда беглецы с материка принесли в лавки и на площади рассказы о притеснениях и казнях. Тысячи нидерландских беглецов нашли себе убежище в «Пяти портах», треть купцов Антверпена появилась на новой Лондонской бирже, церковь французских гугенотов нашла себе все еще хранимое ею место в склепе Кентерберийского собора.
В своей церковной политике Елизавета больше всего рассчитывала на время, и время, как известно, оправдало ее ожидания. Ее система компромисса в области учения и богослужения, постепенной замены умерших священников протестантскими служителями, принуждение диссидентов штрафами по крайней мере к внешнему согласованию с государственной церковью и к присутствию при ее службе, — политика, которой, без сомнения, содействовали описанные нравственные влияния, — все это постепенно изменяло религиозное положение Англии. Но упадок католицизма вызвал новый подъем католического фанатизма, который, отчаявшись в помощи католических государей, стал теперь сам готовиться к жестокой борьбе с ересью. Доктор Аллен, ученый, удаленный из Оксфорда согласно «Акту о единообразии», предусмотрел последствия вымирания католического духовенства в Англии и учредил для его пополнения семинарию в Дуэ. Новому заведению оказали щедрую поддержку католические пэры, а поток беглецов из Оксфорда и грамматических школ Англии предоставил ему питомцев, и вскоре оно уже отправляло на берега Англии «семинарских священников»; как ни мало их было сначала, но их присутствие сразу дало себя знать приостановкой постепенного примирения католического дворянства с английской церковью.
Ничто не могло быть неприятнее для Елизаветы, а сознание опасности еще усиливало ее гнев. Буллу о низложении она приняла за объявление войны со стороны папства, а новых священников не без основания считала его политическими агентами. Сравнительно слабое преследование католиков в начале ее царствования происходило отчасти из сочувствия и потворства дворян, действовавших в качестве мировых судей, но еще более — из религиозного равнодушия королевы. Но «Тест-акт» отдал магистратуру в руки протестантов, а когда Елизавета от равнодушия перешла к подозрению, а от подозрения — к страху, она стала меньше сдерживать окружавших ее ханжей. Покидая Юстон Холл, который она посетила в одну из поездок, королева выразила его владельцу, молодому Руквуду, благодарность за прием и дала ему поцеловать руку. «Но господин камергер, отлично зная, что Руквуд был наказан за непосещение церкви, призвал его к себе и спросил, как он осмелился, не имея права находиться в обществе христиан, показаться на глаза королеве, затем сказал, что ему место в кандалах, запретил являться ко двору и велел подождать приговора Совета». Совет приговорил его к заключению в Норвичской городской тюрьме, а семеро других дворян были очень счастливы, что отделались только домашним арестом. Страх королевы отозвался паникой во всем народе. Несколько священников, прибывших из Дуэ, молва превратила в армию папских эмиссаров, присланных сеять в стране измену и мятеж. Для отражения новой опасности был созван парламент, членов которого, за исключением немногих католических пэров, действие «Тест-акта» превратило в чисто протестантское собрание, и он объявил изменой высадку этих священников и их укрывательство.
Закон оказался не пустой угрозой: казнь Кетберта Мэна, молодого священника, арестованного в Корнуолле с буллой о низложении при нем, показала ожесточенный характер борьбы, которую готовилась начать Елизавета. Однако она была далека от мысли о религиозном преследовании; она гордилась своим невмешательством в вопросы совести. Официально защищая ее политику Сесиль объявлял свободу богослужения несовместимой с религиозным порядком, но в то же время смело доказывал право каждого англичанина на полную свободу религиозных взглядов. С современной точки зрения, политика, объявлявшая всякого католического священника предателем, а всякую католическую службу — изменой, представляется, пожалуй, даже более возмутительной, чем открытое преследование; но в основу своей репрессивной системы королева положила чисто политические мотивы, что являлось первым шагом к терпимости. Если Елизавета и преследовала католиков, то она была первым государем Англии, почувствовавшим, что обвинение в религиозной нетерпимости ложится пятном на его управление.
Нельзя отрицать того, что новые миссионеры действительно были серьезными политическими врагами. Аллен был неутомимым заговорщиком, деятельность его священников должна была помогать осуществлению нового плана завоевания Англии. Теперь к их усилиям присоединились старания иезуитов. Несколько отборных оксфордских изгнанников вступили в орден иезуитов, члены которого уже прославились своей слепой преданностью воле и приговорам Рима; двое самых способных и красноречивых из этих изгнанников, Кампиан и Парсонс, были выбраны главами иезуитской миссии в Англии. Сначала их успех был поразительным. Желание послушать Кампиана было так велико, что, несмотря на угрозы правительства, он, почти не скрываясь, мог проповедовать перед большой аудиторией в Смитфилде. Из Лондона проповедники, переодетые начальниками или слугами, иногда даже в рясе англиканского священника, разъезжали по многим графствам, и всюду, где они показывались, оживало рвение католического дворянства. Во главе списка вельмож, возвращенных к старой вере этими странствующими апостолами, стояло имя лорда Оксфорда, зятя Сесиля и самого гордого из английских пэров.
Успех иезуитов в разрушении примирительной попытки Елизаветы проявился более публично в усилившемся уклонении католиков от присутствия при английском богослужении. Паника протестантов и парламента даже преувеличила настоящие размеры опасности. Небольшую кучку проповедников воображение народа превратило в целое войско переодетых иезуитов; вторжение этого воображаемого войска было встречено арестами и пытками всех священников, которых правительство могло захватить, заключением диссидентов в тюрьмы, задержанием выдающихся католиков по всей стране и изданием статутов, запрещавших служение мессы даже в частных домах и повышавших штраф с диссидентов до 20 фунтов в месяц; кроме того, объявлялись «виновными в государственной измене все лица, выражающие притязания на какую-либо власть освобождать подданных от присяги или старающиеся склонять их к католической вере, а также лица, после настоящего закона добровольно принявшие такое разрешение или примирившиеся с римским престолом».
Способ применения широких полномочий, предоставленных этим законом короне, не только характеризует саму Елизавету, но и сразу подтверждает политику, которой в течение более ста лет следовали, по крайней мере в теории, ее преемники. Немногие миряне были привлечены к суду на основании его постановлений, и ни один из них не был казнен. Преследование католических дворян ограничивалось, более или менее строгим в разное время, взысканием с них штрафов за уклонение от англиканской церкви и непосещение ее служб. Казни подвергались только священники, и при Елизавете преследования велись столь беспощадно, что на время остановили католическую реакцию. Шпионы и полиция выслеживали иезуитов, выгоняли их из убежищ и группами отправляли в Тауэр. Преследования велись так активно, что Парсонс вынужден был бежать на материк, а Кампиана среди завываний черни провели пленником по улицам Лондона и представили к суду по обвинению в измене. «Наша религия — единственное наше преступление», — заявил он к негодованию судей; но политическая опасность проповеди иезуитов обнаружилась в уклонении от прямого ответа на вопрос о том, что он думает о возможности отлучения и низложения папским престолом королевы. Смерть Кампиана сопровождалась настойчивым стремлением к беспощадному истреблению его ордена. Если верить исчисленному количеству католиков, в следующие 20 лет было казнено двести священников, а еще больше их погибло в смрадных темницах, куда они были заключены.
Эта беспощадная борьба помешала примирению с Римом, но не смогла уничтожить того, что было сделано ее жертвами. Они расстроили систему постепенного принуждения и примирения, от которой Елизавета ожидала религиозного единства ее подданных; штрафы, аресты при каждом возникновении национальной опасности, устранение наставников с помощью заточения или казни сильнее прежнего отдаляли английских католиков от национальной церкви. Это дало новый толчок направлению общественного мнения, которому суждено было наконец привести Англию к признанию за каждым человеком права на свободу совести и богослужения. Преследование католиков при Елизавете, как раньше преследование протестантов при Марии I, только усилило личное понимание религии. В людях, дрожавших перед королевской властью, оно обнаружило силу еще более мощную. Оно разрушило очарование, которое монархия производила на народ. Перед страстью к религиозной и политической свободе, черпавшей новую силу из преследования как католического священника, так и ревнителя протестантизма, корона перестала казаться неодолимой.
Жестокая религиозная борьба уже началась, но все чувствовали, что за ней последует еще более жестокая борьба политическая. На море мерещились войска Филиппа II, и к ужасам междоусобиц, казалось, готовились присоединиться ужасы иноземного вторжения. В это время сильнейшей из европейских держав была Испания. Открытия Колумба подарили ей Новый Свет на западе; завоевания Кортеса и Пизарро обогатили ее казну сокровищами Мексики и Перу; ее галеоны доставляли в гавань Кадиса продукты богатой Индии, золото, драгоценные камни, слитки серебра. С Новым Светом король Испании соединял лучшие и богатейшие земли Старого: он был властителем Неаполя и Милана, самых богатых и плодородных областей Италии, промышленных Нидерландов, Фландрии, главного мануфактурного округа эпохи, и Антверпена, ставшего центральным рынком всемирной торговли.
Его родовое королевство при всей своей бедности поставляло ему самых стойких и смелых солдат, каких только видел мир со времени падения Римской империи. Слава испанской пехоты все росла с того дня, как на полях Равенны она отразила натиск французского рыцарства; а испанские генералы не имели себе соперников ни в военном искусстве, ни в беспощадной жестокости. Притом все это громадное могущество было сосредоточено в руках одного человека. Хотя ему служили искусные политики и тонкие дипломаты, но Филипп II был для себя единственным министром. День за днем работал он в свое долгое царствование, подобно писцу, среди бумаг, загромождавших его кабинет, стремясь, чтобы ничто не оставалось без его надзора, ничто не делалось без его прямого приказа. Он хвалился тем, что на всем обширном пространстве своих владений он является неограниченным государем. Для проведения этой идеи полновластия он сокрушил вольности Арагона, как его отец сокрушил вольности Кастилии, и отправил Альбу уничтожить конституционную свободу Нидерландов. Рука об руку с властолюбием шло его ханжество. Италия и Испания ужасами инквизиции были доведены до молчания; костер и меч очищали от ереси Фландрию. Эта колоссальная держава оказывала смертоносное влияние на всю Европу. Новый протестантизм, как и новый дух политической свободы, своим главным врагом считал Филиппа II. Колиньи и гугеноты тщетно боролись не столько с Гизами, сколько с Испанией; против Испании защищал Вильгельм Оранский религиозную и гражданскую свободу; Испания должна была скоро погрузить Германию в хаос Тридцатилетней войны; от Испании уже двадцать лет напрасно ожидал католический мир поражения ереси в Англии.
Хотя, действительно, средства Филиппа II были громадными, но и их оказывалось недостаточно для широких честолюбивых планов, в которые постоянно вовлекали его набожность и честолюбие, а также разбросанность его владений. Он стремился повелевать слабыми государствами Италии, господствовать на Средиземном море, сохранять свое влияние в Германии, поддерживать католицизм во Франции, сокрушать ересь во Фландрии, посылать один флот против турок, а другой — против Елизаветы; этих широких целей было достаточно для истощения могущества даже испанской монархии. Но надежды Елизаветы на успех в долгой борьбе с Филиппом II основывались скорее на его характере, чем на истощении его казны. Филипп II был медлителен, осторожен до робости, постоянно терялся в отсрочках, колебаниях, в предусматривании далеких опасностей, выжидании благоприятных моментов; на этой медлительности и колебаниях его соперница постоянно играла со времени своего вступления на престол. Дипломатическая борьба между ними походила на схватку тяжелого испанского галеона с легкой галерой флибустьеров. Подвижность Елизаветы, ее переменчивость, отговорки и мистификации могли, конечно, обмануть Филиппа II, но они также смущали и мешали работе его ума.
Среди всех этих запутанных интриг настоящий ход их отношений был прост и ясен. В начале царствования Елизаветы Франция соперничала с Испанией могуществом, и королева просто пользовалась одной соперницей против другой. Угрожая союзом с Испанией, она помешала Франции оказать деятельную помощь Марии Стюарт; в то же время, играя на боязни Филиппа II перед ее союзом с Францией, она заставила его потворствовать ее ереси и отговаривать английских католиков от восстаний. Но когда так долго сдерживаемый поток религиозного движения вышел, наконец, из берегов, политическое положение Европы изменилось. Жадность и преследования Альбы довели Нидерланды до отчаяния, и они подняли восстание, после странных превратностей судьбы подарившее Европе республику Соединенных провинций. Вожди гугенотов во Франции воспользовались этим восстанием для того, чтобы устранить влияние Екатерины Медичи на Карла IX и ее политику религиозного равновесия и поставить Францию во главе протестантов Запада. Карл IX подчинился советам Колиньи, настаивавшего на войне с Филиппом II и обещавшего помощь гугенотов при вторжении в Нидерланды.
Никогда для честолюбия Франции не открывалось более соблазнительных перспектив. Но Екатерине Медичи Франция протестантская и свободная представлялась гибельной для монархии, она перешла на сторону Гизов и обеспечила им торжество своим содействием избиению протестантов во время Варфоломеевской ночи.6 Хотя долго собиравшаяся буря религиозной вражды и разразилась, но Елизавета рассчитывала при помощи своей ловкости остаться в стороне от нее. Франция снова погрузилась в хаос междоусобиц, Нидерландам пришлось бороться с Испанией один на один. Героическая борьба принца Оранского вызывала сильный восторг среди англичан, но не могла ни на минуту отвлечь Елизавету от политики холодного эгоизма. Для нее восстание Нидерландов было просто «уздой на Испанию, избавлявшей Англию от войны». В самую тяжелую пору борьбы, когда герцог Альба подчинил себе все, кроме Голландии и Зеландии, когда отчаялся даже Вильгельм Оранский, королева напрягла все свои силы, чтобы помешать Франции помочь ему.
Ни Елизавета, ни английские политики не верили тому, что Нидерланды могут до конца противиться Филиппу II. Они считали, что борьба закончится полным подчинением Нидерландов, или что они продадут себя Франции за ее помощь; и Елизавета старалась помешать каждому из ее католических врагов. Для этого она думала принудить Нидерланды к принятию условий, предложенных Испанией, — то есть к восстановлению их конституционных вольностей при условии подчинения католицизму. Мир на таком основании не только оживил бы английскую торговлю, страдавшую от войны, но и оставил бы Нидерланды грозным орудием против Филиппа II. Свобода провинций была бы спасена, а оценить значение религиозного вопроса, связанного с новым подчинением игу католицизма, Елизавета была неспособна. Для нее упорный отказ Вильгельма Оранского пожертвовать своей верой был так же непонятен, как и упорное требование Филиппом II такой жертвы. Большее значение имело то, что опасения Филиппа II вызвать вмешательство Англии, которое лишило бы его всякой надежды на успех в Нидерландах, давали ей внутреннее спокойствие. Если бы возмущение в Англии удалось, Филипп II готов был воспользоваться плодами чужих трудов; поэтому он и не возражал против заговоров, имевших целью захват или умерщвление королевы. Но пока она крепко сидела на троне, он считал слишком опасным открыто нападать на нее; ни призывы католиков Англии, ни настояния папы Римского не могли пока побудить Филиппа II к борьбе с королевой Елизаветой.
Но постепенно руководство событиями выскальзывало из рук политиков и дипломатов, и выигранный их действиями долгий период колебаний закончился столкновением национальных и политических страстей. Возрастание фанатизма в католическом мире преодолело осторожность и колебания Филиппа II; в то же время Англия отказалась от уравновешенного нейтралитета Елизаветы и смело бросилась в борьбу, которую считала неизбежной. Общественное мнение, за которым королева следила так внимательно, высказывалось с каждым днем все смелее и решительнее. Ее холодное равнодушие к героической борьбе нидерландцев более чем уравновешивалось тем восторгом, который она возбуждала в массе народа. Первые беглецы из Фландрии нашли себе убежище в «Пяти портах». Изгнанные из Антверпена купцы встретили радушный прием у купцов Лондона. Свою тайную помощь принцу Оранскому Елизавета оказывала по капле, а лондонские торговцы из своих средств послали ему полмиллиона — сумму, равнявшуюся годовому доходу короны. На помощь голландцам через пролив переправлялось тайком все большее число добровольцев, пока 500 англичан, сражавшихся в начале войны, не образовали пятитысячной бригады, своей храбростью определившей исход одной из самых важных битв. Голландские корсары находили прибежище в гаванях Англии, английские суда при нападении на купеческие корабли испанцев поднимали голландский флаг. Пыл протестантов все возрастал, по мере того как из походов в Нидерланды возвращались «лучшие вожди и солдаты», рассказывавшие о жестокостях Альбы или о том, как корсары передавали рассказы английских моряков, захваченных в Испании и Новом Свете, о муках, вынесенных ими под пытками инквизиции, или о смерти на костре.
Ввиду такого упорного проявления настроений народа дипломатия Елизаветы почти утратила свое значение. Когда она в 1581 году попробовала подействовать на Филиппа II одной из своих последних брачных интриг, обещавшей Англии католического государя в лице герцога Анжуйского, младшего сына ненавистной Екатерины Медичи, негодование народа вдруг выразилось в таких протестах против католического короля, которым королева не решилась противиться. Если Елизавета стояла за мир, то Англия высказывалась за войну. С начала ее царствования, когда только она и Сесиль верили в силу Англии и когда европейские дипломаты считали «безумием» ее упорное сопротивление советам Филиппа II, настроение изменилось: весь народ усвоил смелость и самоуверенность своей королевы. Моряки южного берега давно уже вели за свой счет полупиратскую войну. Через четыре года после вступления Елизаветы на престол Ла-Манш кишел пиратами, плававшими по патентам принца Конде и гугенотских вождей и не обращавшими внимания ни на жалобы французского двора, ни на репрессивные меры Елизаветы. Усилия ее нейтрализовались потворством всех прибрежных жителей, даже портовых чиновников короны, обогащавшихся добычей, а также западного дворянства, вполне разделявшего настроение корсаров; но больше всего ей мешало стремление народа к открытой борьбе с Испанией и протестантов — к борьбе с католицизмом. Молодые англичане переправлялись через Ла-Манш на службу к Конде или Генриху Наваррскому. Борьба в Нидерландах привлекала сотни протестантов. Прекращение междоусобиц во Франции только увлекло корсаров в Вест Индию, так как они не обращали никакого внимания на приговор папы Римского, отдавший Испании Новый Свет, и на угрозы Филиппа II против появления в его морях протестантов.
Напрасно испанцы захватывали торговые суда англичан и заключали их матросов в темницы инквизиции, «обременяя их оковами и лишая света солнца и луны». Прибыль от торговли была так значительна, что вознаграждала за опасности, а нетерпимость Филиппа II вызывала столь же яростное сопротивление. Пуританство корсаров шло рука об руку с их страстью к приключениям. С точки зрения этих людей, нарушение монополии католиков в Новом Свете, избиение испанцев, торговля неграми, ограбление кораблей с золотом были подходящим занятием для «избранников Бога». Имя Фрэнсиса Дрейка стало грозой Испанской Индии. У Дрейка протестантский фанатизм соединялся с блестящей смелостью. У него появилась мысль (1577 г.) проникнуть в Тихий океан, воды которого никогда не видели английского флага. Поддержанный кучкой авантюристов, он направился в южные моря на корабле величиной едва ли с ла-маншскую шхуну, с несколькими еще более мелкими судами, отстававшими из-за бурь и опасностей пути. Но Дрейк с одним кораблем и 80 матросами смело плыл вперед, прошел через Магелланов пролив, которого до того не переплывал ни один англичанин, проскользнул вдоль неохраняемых берегов Чили и Перу, нагрузил свой корабль золотым песком и серебряными слитками Потоси, а также жемчугом, изумрудами и алмазами, составлявшими груз большого галеона, который раз в год отправлялся из Лимы в Кадис. С добычей, превосходившей полмиллиона, смелый мореплаватель неустрашимо направился к Молуккам, обогнул мыс Доброй Надежды и, закончив объезд земного шара, снова бросил якорь в Плимутской гавани.
Романтическая смелость путешествия Дрейка, а также громадность его добычи вызвали в Англии общий восторг. Прием, оказанный ему по возвращении Елизаветой, был принят Филиппом II за оскорбление, которое можно было загладить только войной. Как ни хладнокровен он был, но и его наконец возмутило пренебрежение, с которым Елизавета отнеслась ко всем требованиям удовлетворения. На требование выдать Дрейка она ответила тем, что пожаловала корсару дворянство и носила в короне поднесенные им в подарок алмазы. Когда испанский посол пригрозил, что «дело, пожалуй, дойдет до пушек», она, по словам Мендозы, ответила «спокойно, самым естественным голосом, как будто говорила о чем-то обычном, что если я буду высказывать такого рода угрозы, она велит посадить меня в тюрьму». Хотя Филипп II и был оскорблен, но она думала, что он не решится на войну с ней ввиду продолжения восстания в Нидерландах и стремления Франции к союзу с Англией, который позволил бы ей захватить их. Но чувство личной обиды и негодование католиков в ответ на его эгоистичное уклонение от мести за мучеников католицизма наконец подействовали на Филиппа II, и на Тахо начали собираться первые суда флота, который предназначался для покорения Англии.
Гнев и фанатизм находили себе поддержку в холодной политике. Завоевание Португалии (1580 г.) почти удвоило силы Филиппа II. Оно добавило ему единственный флот, который еще мог соперничать с испанским флотом. Обладание португальскими колониями принесло его флагу такое же господство в Индийском и Тихом океанах, каким он пользовался в Атлантическом океане и в Средиземном море; теперь можно было не только вытеснить англичан и еретиков из Нового Света на Запад, но и лишить их участия в прибыльной торговле с Востоком. В Нидерландах и во Франции все, казалось, благоприятствовало планам Филиппа II. Его войска под командой герцога Пармского постоянно одерживали победы в Нидерландах; еще более роковым ударом для его мятежных подданных было умерщвление Вильгельма Оранского. С другой стороны, смерть герцога Анжуйского сделала наследником французской короны Генриха Наваррского, вождя партии гугенотов, что исключало всякую возможность вмешательства Франции.
Чтобы помешать торжеству ереси через вступление на престол короля протестанта, Гизы и французские католики тотчас подняли оружие; но составленная ими Священная лига опиралась главным образом на поддержку Филиппа II, и пока он снабжал ее деньгами и людьми, ему был обеспечен покой со стороны Франции. В это время Фарнезе, взяв Антверпен, одержал свою главную победу; падение города после блестящей защиты убедило даже Елизавету в необходимости вступиться за единственную «узду на Испании, избавлявшую Англию от войны». Лорд Лестер был послан к берегам Фландрии с 8000 человек. С еще более вызывающей смелостью Елизавета позволила Фрэнсису Дрейку с флотом из 25 кораблей напасть на испанские колонии. Поход Дрейка принес ряд побед. За обиды, причиненные английским морякам инквизицией, было отплачено сожжением городов Сан-Доминго и Картахены; берега Кубы и Флориды подверглись опустошению, и хотя флот с золотом ускользнул от него, но Дрейк вернулся (1586 г.) с богатой добычей. Бездействие войск Лестера было прервано только неудачной стычкой при Цутфене, в которой пал Сидни, а между тем Елизавета напрасно старалась воспользоваться присутствием своей армии, чтобы достигнуть соглашения между Филиппом II и голландцами.
В то же время в самой Англии было неблагополучно. Раздраженные преследованием, обманутые в надеждах на внутреннее восстание или внешнюю помощь, пылкие католики обратились к мысли об убийстве, которой умерщвление Вильгельма Оранского придало угрожающе значение. Раскрытие заговора Сомервилля, фанатика, принявшего причастие перед отправлением в Лондон с целью «застрелить королеву из пистолета», вызвало, естественно, строгие меры: католические дворяне и пэры бежали или были арестованы, училище правоведения, где еще оставалось несколько католиков, подвергли сильной чистке, новые кучки священников отправили на эшафот. Допрос и казнь Парри, члена Нижней Палаты, служившего в свите королевы, вызвали общую панику. Собравшийся парламент был охвачен ужасом и чувством преданности королеве. Все иезуиты и «семинарские священники» изгонялись из королевства под страхом смерти. Закон о безопасности королевы навсегда лишал права наследовать корону всякого претендента на нее, подстрекавшего подданных к восстанию или к покушению на особу королевы.
Угроза была направлена против Марии Стюарт. Утомленная долгим заточением, неудачей своих надежд на помощь Филиппа II или Шотландии, провалом восстания английских католиков и интриг иезуитов, она одно время склонялась к покорности. «Позвольте мне уйти, писала она Елизавете, — позвольте мне удалиться с этого острова в какое нибудь уединение, где я могла бы приготовить свою душу к смерти. Согласитесь на это, и я откажусь от всех прав, на которые я или мои родственники можем иметь притязания». Ее просьба оказалась тщетной, и она, отчаявшись, нашла новое и страшное утешение в заговорах на жизнь Елизаветы. Она знала и одобрила обет убить королеву, данный Энтони Бабингтоном и кучкой молодых католиков, большей частью принадлежавших к свите Елизаветы; но и заговор, и одобрение были одинаково известны Уолсингему, а захваченная переписка Марии Стюарт доказала ее виновность. Несмотря на ее протест, комиссия пэров явилась судить ее в Фотерингейском замке, и их обвинительный приговор по постановлениям недавнего закона лишил ее права на корону.
При известии о ее осуждении улицы Лондона засверкали огнями и начался колокольный звон; но, несмотря на просьбы парламента и настояния Совета казнить ее, Елизавета не решалась на это. Однако сила общественного мнения увлекала все за собой, и единодушное требование народа вынудило, наконец у королевы согласие против ее воли. Она бросила на пол подписанный приказ, и Совет принял на себя ответственность за его исполнение. Смерть на эшафоте, воздвигнутом в зале Фотерингейского замка, Мария встретила так же бесстрашно, как и жила. «Не плачьте, — сказала она своим фрейлинам, — я дала за вас слово». «Скажи моим друзьям, поручила она Мелвиллю, — что я умираю доброй католичкой».
Едва казнь свершилась, как гнев Елизаветы обрушился на министров, вырвавших у нее приказ. Сесиль, ставший теперь лордом Берли, на время впал в немилость. Дэвисон, передавший приказ Совету, был посажен в Тауэр в наказание за шаг, расстроивший политику королевы. Действительно, смерть Марии Стюарт, казалось, положила конец несогласиям английских католиков и тем устраняла с пути Филиппа II последнее препятствие. Мария передала ему как ближайшему родственнику католического вероисповедания свои права на корону, и с этого времени надежды ее приверженцев были связаны с Испанией. Чтобы побудить Филиппа II к действию, не нужно было нового толчка. Победы Дрейка показали ему, что для безопасности его владений в Новом Свете необходимо завоевать Англию. Присутствие английской армии во Фландрии убедило его в том, что путь к завоеванию Нидерландов идет через Англию. Поэтому действия Фарнезе, ввиду более крупного предприятия, были приостановлены. Из всех портов испанского берега были собраны корабли и припасы для флота, который уже три года назад начали формировать на Тахо. Филиппа II сдерживала только боязнь нападения со стороны Франции, где дела Лиги шли неудачно.
Слухи о вооружении Армады снова вызвали Дрейка в море (1587 г.). Он отправился с 30 небольшими судами, сжег в гавани Кадиса перевозочные суда и галеры, взял приступом гавани Фаро, и только приказы с родины помешали его попытке напасть на саму Армаду. Но высадка в Ла-Корунье завершила то, что Дрейк называл «поджиганием бороды испанского короля». Елизавета воспользовалась смелым ударом для возобновления переговоров о мире, но испанская гордость была задета за живое. Среди обмена протоколов Фарнезе собрал для будущего вторжения 17 тысяч человек, составил в Дюнкирхене флот из плоскодонных транспортов и нетерпеливо ожидал Армады для прикрытия переправы. Но нападение Дрейка, смерть первого адмирала и зимние бури помешали отплытию флота. Еще сильнее задерживала его боязнь Франции, но весной 1588 года терпение Филиппа II было вознаграждено. Лига восторжествовала, и король очутился пленником в ее руках. Армада тотчас отплыла из Лиссабона, но едва она вышла в море, как буря в Бискайском заливе погнала ее разбросанные суда в Ферроль. Только 19 июля паруса Армады были замечены с мыса Лизард, и сигнальные огни передали тревогу вдоль берега Англии. Весть эта нашла страну готовой. В Тилбери была собрана армия под командой Лестера, ополчения центральных графств собрались в Лондоне, а милиция юга и востока приготовилась к отражению высадки на том или другом берегах. Если бы Фарнезе высадился в самый ранний из предполагаемых им дней, он нашел бы путь в Лондон прегражденным более крупным войском, чем его собственное, — притом войском, в рядах которого было много людей, уже успешно сражавшихся с его лучшей пехотой во Фландрии. «Когда я произведу высадку, — предостерегал он Филиппа II, — мне придется давать одну битву за другой, придется терять людей от ран и болезней, придется оставлять за собой отряды для охраны моих сообщений; в короткое время силы моей армии ослабеют настолько, что я буду не в состоянии идти вперед на глазах неприятеля, а еретики и другие враги Вашего величества получат время вмешаться; в то же время могут появиться большие затруднения, которые погубят все, и я не буду в состоянии их устранить». Действительно, даже в случае высадки Фарнезе успех испанцам могло обеспечить только восстание католиков, а в этот критический момент в сердцах английских католиков патриотизм оказался сильнее религиозного фанатизма. Католические лорды командовали своими судами рядом с Дрейком, Чарльзом Говардом, лордом Эффингемом, католические дворяне привели своих вассалов в Тилбери. Но для обеспечения высадки вообще испанцам нужно было владеть Ла-Маншем, а там стоял английский флот, готовый к упорной борьбе за господство над проливом.
Когда Армада широким полумесяцем шла мимо Плимута к месту соединения с Фарнезе в Кале, корабли, собранные под командой лорда Говарда Эффингема, вышли из бухты и по ветру пошли за ней. По численности оба флота были страшно неравными: у англичан было только 80 судов против 149 кораблей Армады. Еще сильнее было несоответствие в размерах: 50 английских судов, включая эскадру лорд-адмирала и барки добровольцев, были немного крупнее теперешних яхт. Даже из 30 кораблей королевы Елизаветы, составлявших главную силу флота, только четыре по вместимости равнялись меньшим из испанских галеонов. 65 этих галеонов составляли самую мощную половину Армады; кроме того, в ее состав входили 4 галеры, 4 гальяса, с 50 пушками каждый, 56 вооруженных купеческих судов и 20 шлюпов. Армада была снабжена 2500 пушками и большим запасом провианта; на ее борту находились 8 тысяч матросов и более 20 тысяч солдат; возглавлял Армаду любимец двора герцог Медина Сидония, окруженный штабом способнейших морских офицеров, какие только были у Испании. Однако, хоть и малы были английские суда, они были прекрасно снаряжены, двигались вдвое быстрее испанских, имели 9 тысяч смелых моряков, а их адмирала окружала группа капитанов, прославивших свои имена в испанских водах. Здесь был Гоукинс, проникший первым в заколдованные земли Индии, Фробишер, герой северо-западного прохода, и, наконец, Дрейк, командовавший корсарами. Притом им благоприятствовал ветер, и легкие английские суда, то приближаясь, то отдаляясь, по желанию, и на один выстрел испанцев отвечая четырьмя, смело преследовали великую Армаду в ее движении по Ла-Маншу.
По выражению английских моряков, «у испанца вырывали одно перо за другим». Один галеон за другим топили, захватывали, сажали на мель, а Медине Сидонии все не удавалось принудить преследователей к настоящему сражению. Отдельные схватки между двумя флотами, которые то останавливались, то медленно двигались, продолжались целую неделю, пока Армада не бросила якоря на рейде Кале. Настало время для более горячей схватки, если имелось ввиду предупредить соединение Армады с Фарнезе: действительно, как ни были испанцы изнурены беспощадной погоней, их потери судов были невелики, тогда как у английских кораблей запасы провианта и снарядов скоро истощались. Говард решил добиться сражения, зажег в полночь восемь брандеров и пустил их с приливом на испанский флот. Галеоны тотчас обрубили свои канаты и в страхе вышли в море, направляясь длинной линией к Гравелингену. Дрейк решил во что бы то ни стало помешать их возвращению. На заре английские суда дружно схватились с ними и до захода солнца истратили свои заряды почти до последнего. Три больших галеона были потоплены, три беспомощные, отнесены к берегу Фландрии, но большая часть испанского флота уцелела, и даже Дрейку он представлялся «страшно большим и сильным».
Однако сами испанцы потеряли всякую надежду. Сбитые в кучу ветром и губительным огнем англичан, с разорванными парусами и разбитыми мачтами, переполненные людьми, галеоны стали просто бойнями. 4 тысячи человек было убито, и хотя моряки сражались храбро, но они были напуганы ужасной бойней. Сам Медина был в отчаянии. «Мы погибли, сеньор Оквенда, крикнул он храбрейшему из своих капитанов, — что нам делать?» «Оставьте другим говорить о гибели, — ответил Оквенда, — Вашей светлости нужно только велеть подать свежие заряды». Но Оквенду не поддержали, и военный совет решил вернуться в Испанию единственным путем, который оставался свободным, — вокруг Оркнейских островов. «Никогда и ничто, — писал Дрейк, — не нравилось мне так, как вид неприятеля, гонимого к северу южным ветром. Смотрите внимательно за герцогом Пармским, потому что с помощью Божьей, если нам это угодно, я надеюсь вскоре поставить дело так, что герцогу Сидонии захочется в порт святой Марии, под его апельсиновые деревья».
Однако дело истребления было предназначено врагам более сильным, чем Дрейк. Припасов не хватило, и английские суда были вынуждены прекратить преследование; но едва уцелевшие корабли испанцев достигли Оркнеев, как над ними разразились северные бури с такой яростью, перед которой исчезли всякие согласие и единство. Ла-Коруньи достигло 50 кораблей, привезя 10 тысяч человек, пораженных болезнями и умерших. Из прочих одни потонули, другие разбились о скалы Ирландии. Грабители Оркнеев и Фарреров, жители Шетландских островов, крестьяне Донегала и Голуэя — все они приняли участие в деле истребления и грабежа. Между Плотиной Гигантов и Блэскетами погибло 8 тысяч испанцев. На берегу возле Слиго один английский капитан насчитал 1100 трупов, выброшенных морем. Цвет испанской знати, высланный в новый «крестовый поход» под начальством Алонзо да Лейвы, два раза терпел крушение и вышел в море в третий раз, чтобы разбиться на рифах близ Денльюса.
Глава VII ПОЭТЫ ВЕКА ЕЛИЗАВЕТЫ
Мы уже познакомились с возрождением английской литературы в первой половине царствования Елизаветы. Общее оживление народной жизни, повышение благосостояния, рост богатства, утонченности и развитие досуга, отличавшие этот период, сопровождались подъемом духовной жизни Англии, выражавшимся в увеличении числа грамматических школ, усиленном изучении классиков в университетах, пристрастии к переводам, познакомившим всю Англию с образцовыми произведениями Италии и Греции, но прежде всего — в незрелых, но энергичных усилиях Сэквилля и Лили создать художественную поэзию и прозу. К народным и местным влияниям, воздействовавшим на английскую литературу, присоединялось влияние более общее — отличавшая эпоху в целом беспокойная жажда новизны. Область человеческого интереса расширилась открытием нового неба и новой земли так, как никогда раньше или позже. Только в последние годы XVI века Кеплер и Галилей познакомили современников с открытиями Коперника, а смелые флибустьеры разорвали завесу, наброшенную жадной Испанией на Новый Свет Колумба.
Едва ли менее важным духовным толчком служило внезапное ознакомление народов друг с другом под влиянием общей страсти к заграничным путешествиям. Америго Веспуччи описал краснокожие племена Дикого Запада, Кортес и Писарро открыли причудливые цивилизации Мексики и Перу, путешествия португальцев познакомили Европу с древним великолепием Востока, а Маффеи и Мендоза впервые рассказали про Индию и Китай. Англия принимала деятельное участие в этих открытиях. Англичанин Дженкинсон проник в Бухару; Уиллоби познакомил Западную Европу с Московией; английские моряки проникли к эскимосам, поселились в Виргинии, а Дрейк объехал весь земной шар. «Собрание путешествий», изданное Гаклюйтом, показало не только обширность мира, но и бесконечное число человеческих пород, разнообразие их законов и обычаев, религий и даже стремлений.
Влияние этих новых, более широких понятий о мире отразилось не только на живости и богатстве современной фантазии, но и на повышение с этого времени интереса к человеку. Шекспировская идея Калибана, подобно исследованиям Монтеня, отметила появление нового и более верного, ввиду его большей положительности, взгляда на природу и историю человека. Стремление изучать человеческий характер сказалось в «Опытах» Ф. Бэкона и еще более — в удивительной популярности драмы. К этим широким мировым источникам поэтического вдохновения присоединилось в Англии национальное торжество победы над Армадой, освобождение от Испании и страха перед католиками, подобно туче, тяготевшего над умами народа. Новое чувство безопасности, национальной энергии и силы вдруг изменило вид всей Англии. До того в царствование Елизаветы главное значение принадлежало интересам политическим и экономическим; сцену занимали политики и воины — Сесили, Уолсингемы и Дрейки, а литература почти не принимала участия в славных событиях эпохи. Но с тех пор, как остатки Армады были отнесены к Ферролю, воинов и политиков затмевают великие поэты и философы. Среди толпы, заполнявшей переднюю Елизаветы, более всего выделялась фигура певца, слагавшего к ее ногам «Царицу фей», а также молодого юриста в блестящем зале, погруженного в мысли о задачах «Нового органона» («Novum Organum»). Победа при Кадисе, завоевание Ирландии меньше обращают на себя внимания, чем вид Гукера в овчарне, создававшего «Церковное устройство», или гений Шекспира, из года в год достигавшего большей высоты в грубом театре близ Темзы.
Полный расцвет новой литературы начался в Англии с Эдмунда Спенсера. Мы мало знаем о его жизни. Он родился в 1552 году в Восточном Лондоне в бедной семье, но находился в родстве со Спенсерами Элторпа, уже тогда бывшими, как он горделиво замечал, «издревле известной фамилией». Он был вольным слушателем в Кембридже, но еще юношей покинул университет и направился домашним учителем на север: там в безвестной бедности он провел несколько лет, а затем пренебрежение «прекрасной Розалинды» снова увлекло его на юг. Школьная дружба с Габриэлем Гарви принесла ему знакомство с лордом Лестером, который отправил его гонцом во Францию; на службе у него Спенсер впервые познакомился с племянником Лестера, сэром Филиппом Сидни. Из дома Сидни в Пенсгерсте в 1579 году вышло самое раннее его произведение, «Календарь пастуха»; по форме это, подобно «Аркадии» Сидни, пастораль, в которой любовь, патриотизм и религиозность странным образом сталкиваются с вымышленной пастушеской жизнью. Оригинальная мелодичность и богатая фантазия пасторали сразу принесли ее автору почетное место среди тогдашних поэтов. Но он уже тогда задумал более крупное произведение; судя по некоторым словам Гарви, Спенсер решил поспорить с Ариосто и надеялся даже превзойти «Неистового Роланда» в своей «Царице фей». Однако недоброжелательность или равнодушие Берли разрушили надежды, которые он возлагал на покровительство Сидни или Лестера и на милостивый прием королевы. Сам Сидни попал у Елизаветы в немилость и удалился в Уилтон, чтобы возле своей сестры писать «Аркадию», а «недовольство долгим и бесплодным пребыванием при дворах и томление напрасными ожиданиями и пустыми надеждами» увлекли, наконец, Спенсера в изгнание. Он последовал в качестве секретаря за лордом Греем в Ирландию и по отозвании наместника остался там чиновником и владельцем участка земель, конфискованных у графа Десмонда.
Так Спенсер попал в число поселенцев, от которых тогдашняя Англия ожидала обновления Менстера, а его практический интерес к «бесплодной почве, на которой царят холод, нужда и бедность», сказался позже в прозаическом трактате о положении острова и его управлении. В Дублине или в своем Килколменском замке, в двух милях от Донерэла, «у подножия Мола, этой белой горы», и провел он десятилетие, в течение которого погиб Сидни, сложила голову на плахе Мария Стюарт, пришла и ушла Армада. В этом замке нашел его Уолтер Рэли «в полном бездействии», как показалось его неутомимому другу, «в прохладной тени серых ольх на берегу Муллы», во время посещения, воспетого в стихотворении «Возвращение Колина Клута домой». Но в бездействии и уединении своего изгнания поэт окончательно обработал великое произведение, начатое в период двух лет веселой жизни в Пенсгерсте, и вернулся вместе с Рэли в Лондон для издания первых трех книг «Царицы фей».
Появление «Царицы фей» представляется поворотным пунктом в истории английской поэзии; оно решило вопрос, суждено ей существовать или нет. Старая народная поэзия расцвела и замерла с Кэдмоном; затем вдруг она проявилась с еще большей силой у Чосера, но потом замерла еще сильнее. За границей шотландские поэты XV века сохранили отчасти живость и блеск своего учителя; в самой Англии поэзия итальянского Возрождения отозвалась в творчестве Сёрри и Сидни. Новая английская драма также начала проявляться с удивительной силой; деятельность Марло уже подготовила путь для Шекспира. Но как ни блестящи были задатки для будущей поэзии во время высадки Спенсера в Бристоле с «Царицей фей», однако уже почти два века в английской литературе не появлялось крупных поэтических произведений. С появления «Царицы Фей» поток английской поэзии течет без перерыва.
Бывали времена, например, непосредственно следовавшие за ее появлением годы, когда Англия «превращалась в гнездо певчих птиц»; бывали времена, когда песнь становилась редкой и жалкой; но уже не бывало времени, когда бы Англия оставалась совсем без певца. Новая английская поэзия осталась верной источнику, из которого она вытекла, и Спенсер всегда считался «поэтом поэтов»; но в свое время он был поэтом всей Англии. «Царица фей» была встречена общим ликованием. Она стала «утехой для образованного человека, образцом для поэта, утешением для солдата». Поэма служила верным изображением тогдашней жизни. С тонким поэтическим чутьем Спенсер заимствовал основу своего сюжета из волшебного мира кельтской поэзии, чудеса и тайны которой, в сущности, вернее всего изображали чудеса и тайны окружавшего его мира. В век Кортеса и Рэли сказочная страна стала действительностью, и никакие приключения дам или рыцарей не могли быть чудеснее тех историй, которые ежедневно рассказывали серьезным купцам на бирже закаленные моряки южных морей. Сами несообразности истории короля Артура и рыцарей Круглого стола, как ни были они изукрашены объединенными силами певца, поэта и священника, делали ее наилучшей формой для изображения того мира противоречивых чувств, который мы называем Возрождением.
На наш взгляд, представляется, пожалуй, несколько смешным странное смешение персонажей в «Царице фей», фавны, пляшущие на мураве, где бились рыцари, чередование дикарей Нового Света с сатирами классической мифологии, встреча великанов, карликов и чудовищ народной фантазии с нимфами греческих сказаний и с юными рыцарями средневековой романтики. Но как ни странно это смешение, оно верно отражает еще более странное смешение враждебных идеалов и непримиримых стремлений, наполнявшее жизнь современников Спенсера. Не только в «Царице фей», но и в изображенном ею мире религиозный мистицизм средневековья сталкивался с духовной свободой Возрождения, — аскетизм и самоотречение оказывали чарующее действие на умы, стремившиеся к жизни, полной разнообразия и неисчерпаемости, мечтательная поэтическая утонченность чувства, выражавшаяся в фантастических грезах рыцарства, существовала рядом с грубой практической энергией, вытекавшей из пробудившегося сознания мощи человека, а необузданная сила идеализированной дружбы и любви шла рука об руку с нравственной строгостью и возвышенностью, почерпнутыми Англией из Реформации и Библии. Но как ни противоречат друг другу элементы поэмы, их объединяют спокойствие и ясность, отличающие настроение «Царицы фей». Нас окружает здесь мир Возрождения, но прикосновение автора внесло в него порядок, благородство и спокойствие. Страстные сцены, взятые им из современной итальянской поэзии, доведены до идеальной чистоты; сама борьба окружавших его людей освобождена от мелочей и вознесена в высокие сферы душевной борьбы.
Попадается много намеков на современные события, но спор Елизаветы и Марии Стюарт принимает идеальную форму борьбы Эны и лживой Дьюэссы, а стук оружия испанцев и гугенотов доходит до нас, ослабленный прозрачным воздухом. Подобно сюжету, стихи катятся естественно, сами собой, без поспешности, усилий и задержки. Роскошный колорит, подробные и часто сложные описания, расточаемые воображением Спенсера, не оставляют в уме читателя впечатления путаницы. Каждая фигура, как она ни странна, представляется ясно и отчетливо. По спокойствию, ясности и духовной возвышенности «Царицы фей» мы чувствуем, что новая жизнь наступающего века придаст правильные и гармоничные формы жизни Возрождения. Как по идее, так и по способу ее воплощения в законченной части поэмы, она написана в тоне будущего пуританства. В своей ранней пасторали, «Календарь пастуха», поэт смело стал на сторону более решительных реформаторов против церковной политики двора; прообразом христианского пастыря он взял архиепископа Гриндэла, бывшего тогда в опале за свои пуританские симпатии, и резко нападал на пышность высшего духовенства.
В религиозном отношении «Царица фей» носит глубоко пуританский характер. Худшим врагом ее «рыцаря красного креста» является лживая, одетая в багряницу, «Дьюэсса Рима», отвлекающая его на какое-то время от истины и приводящая его в жилище гордыни. Упорно и безжалостно Спенсер настаивал на казни Марии Стюарт. Спокойствия его стихов не нарушают выражения горечи, кроме моментов, когда он касается опасностей, грозивших Англии со стороны католицизма; они погубили бы его рыцаря, «если бы его не поддерживала небесная благодать и если бы стойкая истина не избавляла его от них». Но еще более заметны благородные глубокие стороны английского пуританства в характере и цели произведения Спенсера. В своих прежних думах в Пенсгерсте поэт намеревался превзойти Ариосто, но веселость последнего оказалась совершенно чуждой его поэме. Никогда рябь смеха не волнует спокойной поверхности стихов Спенсера. Он обычно бывал серьезен, и серьезность его тона служит отражением серьезности его цели. По его словам, он стремился представить нравственные добродетели и указать для каждой из них рыцарского защитника, который своими подвигами и доблестью доказывал бы ее превосходство и попирал ногами порок, ей противоположный.
В каждом из описанных им двенадцати рыцарей он хотел воплотить одну из добродетелей порядочного человека в его борьбе с ошибками и заблуждениями; наконец, в Артуре, представителе всего общества, можно видеть совершенного человека в его стремлении приблизиться к «Царице фей» — божественной славе, составляющей настоящую цель деятельности человека. Широкое образование, тонкое чувство красоты и прежде всего сама сила нравственного воодушевления спасли Спенсера от узости и крайностей пуританства, часто превращавших его доброту в резкость. Спенсер — христианин до мозга костей, но его христианство обогащено и оплодотворено свободным духом Возрождения, а также поэтической любовью к миру природы, в которой коренятся древнейшие мифологии. Диана и языческие боги получают от новой, более чистой веры отпечаток какой-то святости, а в одной из величайших песен «Царицы фей» понятие любви, как в уме грека, превращается в величавую идею производительной силы природы.
Действительно, для выражения своего нравственного воодушевления Спенсер пользовался изящными и утонченными формами философии Платона. Он не только любил, как и другие, все благородное, чистое и доброе, но и увлекался сильнее, чем кто другой, страстными стремлениями к нравственной красоте. Справедливость, умеренность, истина для него — не пустые слова, а реальные существа, которым он глубоко предан. Он думал, что внешняя красота проистекает из красоты душевной, и за то любил ее. Такой нравственный протест может вызвать неудовольствие во всякие времена, и веку Елизаветы делает честь то, что, несмотря на все его недостатки, благородные люди радушно встретили «Царицу фей». Сама Елизавета, по словам Спенсера, «склонила свой слух к моей пастушеской свирели» и назначила поэту пенсию. В 1595 году он привез в Англию еще три песни своей поэмы и затем вернулся в Ирландию, чтобы в сонетах и прекраснейшей из свадебных песен воспеть свой брак и закончить «Царицу фей» среди любви, бедности и нападений своих ирландских соседей. Вскоре эти нападения получили более серьезный характер. В 1599 году Ирландия подняла восстание, и поэт из своего пылающего дома бежал в Англию и умер с разбитым сердцем в Вестминстерской гостинице.
Если «Царица фей» выражала высшие начала века Елизаветы, то выражением этого века в целом, как высших, так и низших его начал, служила английская драма. Мы уже называли условия, по всей Европе сообщавшие поэтическое направление возбужденным умам людей; это направление всюду приняло драматическую форму. Правда, искусственная французская трагедия, которой где-то в это время положил начало Гарнье, до позднейшей эпохи не оказала никакого влияния на английскую поэзию; зато влияние итальянской комедии, появившейся полувеком раньше, с Маккиавелли и Ариосто, сказалось в новеллах или рассказах, откуда драматурги заимствовали интриги. Это влияние наложило свою печать на некоторые из худших особенностей английской сцены. Из итальянской драмы были заимствованы те стороны английской, которые оскорбляли нравственный характер эпохи и вызвали смертельную ненависть пуритан, — грубость и нечестивость, пристрастие к сценам ужаса и преступления, частое использование в качестве мотивов драматического действия жестокости и вожделения, смелое применение ужасного и неестественного, лишь бы оно позволяло раскрывать страшные и возмутительные стороны человеческой страсти.
Сомнительно, чтобы английские драматурги многим были обязаны испанской драме, при Лопе де Вега и Сервантесе достигшей вдруг такой высоты, что она почти соперничала с английской. Обе драматургии очень похожи по мышлению трагедии и комедии, по отказу от торжественного однообразия поэтического языка ради разговорной речи обыденной жизни, использованию неожиданных случаев, по сложности завязок и интриг; по-видимому, это сходство объясняется скорее сходством условий, которым обе они были обязаны своим происхождением, чем какой-либо прямой их связью. В действительности английская драма была создана не какими-либо внешними влияниями, а самой Англией. Сам характер народа отличался драматизмом. Со времен Реформации двор, училище правоведения, университет соперничали друг с другом в постановке пьес; они так рано стали популярными, что уже при Генрихе VIII оказалось необходимым назначить для надзора за ними «руководителя развлечений».
Всякий переезд Елизаветы из одного графства в другое являл собой ряд зрелищ и интермедий. Диана со своими нимфами встречала королеву при возвращении ее с охоты; Амур дарил ей свою золотую стрелу, когда она вступала в ворота Норвича. С первых лет ее царствования дух Возрождения проник в грубую форму мистерий; это были изображения аллегорических добродетелей и пороков или героев и героинь Библии, в течение средних веков представлявшие драму. Скоро с чисто церковными нравоучениями (moralit?s) начали чередоваться переделки классических пьес, а в народной комедии «Игла бабушки Гертон» выразилось стремление к более живому языку и сюжету; в то же время Сэквиль, лорд Дорсет, в своей трагедии «Гирбодук» сделал смелую попытку ввести возвышенную речь и воспользоваться белым стихом как орудием драматического диалога. Но не этим попыткам и усилиям ученых и вельмож в действительности обязана была английская сцена поразительной гениальностью, проявившеюся с того времени, как в 1576 году «слуги графа Лестера» построили в Блэкфрайере первый общественный театр. Сам народ создал себе сцену. Обычно театром служили просто двор гостиницы или балаган, какие до сих пор встречаются на сельских ярмарках; масса зрителей помещалась на дворе под открытым небом, несколько крытых мест в галереях, окружавших двор, представляли ложи более состоятельных зрителей, а покровители и дворяне занимали места на самой сцене.
Все принадлежности отличались крайней грубостью: несколько цветков воссоздавали сад, десяток статистов с мечами и щитами изображал толпу или войско, герои въезжали и уезжали на лошадке, а записка на столбе обозначала нахождение сцены в Афинах или Лондоне. Актрис не было, и грубые слова, поражающие нас в устах женщины, принимали другой оттенок, поскольку все женские роли исполнялись юношами. Но все эти неудобства больше чем уравновешивались народным характером драмы. Как ни прост был театр, все бывали в нем. Сцену занимали дворяне и придворные, ремесленники и купцы теснились на лавках во дворе. Грубая толпа партера сообщила английской драме отпечаток своих чувств и вкусов. Она требовала от сцены бурной жизни, быстрых переходов, сильных страстей, реальности, жизненной смеси и путаницы, живой беседы, болтовни, остроумия, пафоса, возвышенности, вздора и шутовства, ужасов и кровопролития, возвышения над всеми классами общества, знакомства как с худшими, так и с лучшими проявлениями человеческого характера. Новая драма хотела придать «веку и духу времени отпечаток формы». Сам народ выносил на сцену свое благородство и свою низость. Не было сцены, столь человечной, а поэтической жизни — столь напряженной. Дикие и необузданные противники всех старых преданий и условных правил, английские драматурги не признавали другого наставника, другого источника вдохновения, кроме самого народа.
В истории английской литературы немного таких поразительных событий, как это внезапное появление драмы при Елизавете. Первый общественный театр, как известно, был построен только в середине царствования королевы, а к его концу только в Лондоне существовало уже восемнадцать театров. За 50 лет, предшествовавших закрытию театров пуританами, появилось 50, в том числе первоклассных, драматургов; много их произведений погибло, и тем не менее до нас еще дошла сотня драм, написанных в то время, и из них по меньшей мере половина — превосходных. Взгляд на их авторов показывает, что духовное возбуждение эпохи проникло в массу народа. Почти все новые драматурги получили хорошее образование, и многие из них окончили университет. Но вместо придворных певцов, вроде Сидни и Спенсера, теперь появились «бедные студенты».
Первые драматурги — Нэш, Пиль, Кид, Грин, Марло — были в основном бедняками, смелыми в своей бедности: они вели беспутную жизнь, презирали закон и молву, восставали против обычаев и верований, считались «безбожниками», «называли Моисея обманщиком», проводили жизнь в непристойных домах и пивных и погибали от голода или в кабацких драках. Но с их появлением началась драма века Елизаветы. Немногие дошедшие до нас пьесы раннего времени представляются или холодными подражаниями комедиям классиков, или грубыми фарсами, или, как «Горбодук», трагедиями, не обещавшими особенного драматического развития, несмотря на поэтичность отдельных мест. Но в год, предшествовавший прибытию Армады (1587), положение в театре вдруг изменилось, и новые драматурги сгруппировались вокруг двух людей с очень разными талантами — Роберта Грина и Кристофера Марло. Мы уже говорили о Грине как о творце легкой английской прозы; но гораздо важнее была его поэтическая деятельность.
Глубокое понимание характеров и общественных отношений, живость его фантазии и слога оказали на современников такое влияние, в котором с ним могли поспорить только Марло и Пиль. Он служит лучшим представителем молодых драматургов. Он покинул Кембридж для путешествия по Италии и Испании и принес оттуда распущенность одной и скептицизм другой. В покаянном слове, написанном им перед смертью, он изобразил себя пьяницей и хвастуном, добывающим средства бесконечными памфлетами и пьесами, чтобы тратить их на вино и женщин и пить чашу жизни до дна. Ад и будущая жизнь служили для него предметом постоянных насмешек. Если бы он не боялся судей королевских судов больше, чем Бога, говорил он со злой насмешкой, он часто занимался бы грабежом. Он женился и любил свою жену, но скоро бросил ее и снова погрузился в излишества, которые проклинал, но без которых не мог жить. Как ни распутна была жизнь Грина, его произведения отличаются чистотой. Он постоянно принимал сторону добродетели в беспрестанных любовных памфлетах и повестях, сюжеты которых были драматизированы образовавшейся вокруг него школой. Жизнь Марло была такой же бурной, а его скептицизм — еще смелее, чем у Грина. По всей вероятности, только ранняя смерть спасла его от преследования за безбожие. Его обвиняли в том, что он называл Моисея обманщиком и хвастался, будто если бы он задумал создать новую религию, она вышла бы лучше того христианства, которое он видел вокруг себя. Но как создатель английской трагедии он намного превосходил своих товарищей.
Родился Марло в начале царствования Елизаветы и был сыном кентерберийского башмачника, но воспитывался в Кембридже. В год, предшествовавший победе над Армадой он выдвинулся благодаря пьесе, которая сразу произвела переворот на английской сцене. Правда, пьеса отличалась напыщенностью и сумасбродством, достигшими высшей степени там, где пленные цари, «откормленные клячи Азии», тащили по сцене колесницу своего победителя; но в то же время «Тамерлан» не только показывал протест новой драмы против робкой пустоты эвфуизма, но и представлял образец той смелой фантазии, тайну которой Марло отдал своим последователям. Он погиб в 29 лет в постыдной драке, но за свою короткую деятельность успел наметить главные черты будущей драмы. Его «Мальтийский жид» служил провозвестником Шейлока. «Эдуардом II» он открыл ряд исторических драм, подаривший нам «Цезаря» и «Ричарда III». Его «Фауст» страдает беспорядочностью, комизмом, низкой страстью к удовольствиям, но это первая драматическая попытка затронуть великий вопрос об отношениях человека к невидимому миру, отразить силу сомнений в уме, зараженном суеверием, вызывающую смелость человека, доведенного до глубокого отчаяния. Положим, Марло сумасброден и неровен, в своем нескладном и плоском шутовстве он иногда унижался до смешного; но в его произведениях есть сила, сознательное величие тона и такая степень страсти, которая ставит его высоко над всеми современниками, кроме, быть может, одного — высшими качествами воображения, а также величием и прелестью своего могучего таланта он уступает только Шекспиру.
Несколько смелых острот, ссора и роковой удар — вот и вся жизнь Марло; но даже и таких сведений нет о жизни Уильяма Шекспира. Действительно, едва ли о каком другом великом поэте известно так мало. Из истории его молодости мы имеем одну или две пустячные легенды, да и те, почти наверное, ложны. Для выяснения его деловой жизни в Лондоне не существует ни одного письма, ни одной из острот, «произнесенных у Сирены», и остается один анекдот. Его взгляд и фигура в позднейшее время были сохранены бюстом над его могилой в Стратфорде, и через столетие после смерти его еще помнили в родном городе; но даже мелочная тщательность исследователей времени Георгов едва была в состоянии подобрать несколько частностей самого незначительного свойства, которые могли бы пролить свет на годы его уединения перед смертью. То обстоятельство, что, по видимому, в памяти его современников не оставила следа ни одна выдающаяся особенность, объясняется, может быть, гармонией и цельностью его характера; само величие его гения мешает открыть в его произведениях какие-либо личные черты. Его предполагаемые признания в сонетах так темны, что даже при самых смелых суждениях можно назвать только несколько черт. В драмах он живет во всех своих характерах, а его характеры охватывают все человечество. Нет ни одного характера, ни одного действия или слова, которые мы могли бы отнести к личности самого поэта.
Он родился в 1564 году, двенадцатью годами позже Спенсера, тремя — позже Ф. Бэкона. Марло был его ровесником, Грин, вероятно, несколькими годами старше. Бедность заставила его отца, перчаточника и мелкого арендатора в Стратфорде-на-Эйвоне, сложить с себя должность эльдормена, когда его сын достиг юности; быть может, гнет той же бедности был причиной, заставившей Уильяма Шекспира, в 18 лет уже бывшего мужем женщины старше него, уйти в Лондон и поступить на сцену. Едва ли он мог начать жизнь в столице позже чем в 23 года, это значит в замечательный год (1587), следовавший за смертью Сидни, предшествовавший прибытию Армады и видевший постановку «Тамерлана» Марло. Если принимать слова сонетов за выражение его личных чувств, то его новое занятие вызывало в нем только горькое презрение к себе. Он бранил судьбу за то, «что она дала ему для жизни только низкие средства, вызывающие низкие черты»; он страдал от мысли, что раскрасился на потеху подмастерьев, глазеющих в партере Блэкфрайерского театра. «Вот почему, — прибавлял он, — на имени моем лежит пятно, позорящее всю мою натуру».
Но реальность этих слов более чем сомнительна. Несмотря на мелкие ссоры с некоторыми из соперников по драматическому искусству в начале карьеры, гениальная натура новичка, по-видимому, принесла ему общую любовь его товарищей — актеров. В 1592 году, когда он был еще простым переделывателем старых пьес, его товарищ по занятию Четтл возражал в ответ на нападки Грина против него в тоне искреннего расположения: «Я знаю, что он ведет себя так же пристойно, как и отлично исполняет взятые на себя обязанности; кроме того, добросовестность его действий засвидетельствовали почтенные люди, что доказывает его честность, а веселая приятность его письма доказывает его искусство». Его компаньон Бёрбедж называл его после смерти «прекрасным другом и товарищем»; а Джонсон только передавал общее мнение эпохи, называя его истинно честным человеком с открытым и независимым характером.
Актерская профессия оказала ему существенную услугу в поэтической деятельности. Она не только дала ему понимание сценических условий, которое сделало его пьесы столь эффектными на сцене, но и позволила подвергать их, по мере того как он их писал, испытанию. Если верно утверждение Джонсона, что Шекспир никогда не вычеркивал ни строчки, то заключающееся в этом порицание его небрежности и легкомыслия несправедливо. Условия издания поэтических произведений в то время совсем отличались от современных. Представлявшаяся на сцене драма в течение ряда лет оставалась в рукописи и подвергалась постоянному пересмотру и исправлению; каждая репетиция и каждое представление оставляли множество замечаний, которыми, как известно, молодой поэт вовсе не пренебрегал. Случай, сохранивший первое издание его «Гамлета», показывает, как беспощадно мог переделывать Шекспир даже лучшие свои произведения. Через пять лет по прибытии в Лондон он уже славился как драматический писатель. Грин с горечью говорил о нем, под именем Шексина, как о «дерзкой вороне, украшенной нашими перьями»; эта насмешка выявляет или его известность как актера, или подготовку к более смелому полету — переделке для сцены пьес его предшественников. Скоро он стал пайщиком театра, актером и драматургом, и второе его прозвище, Iohannes Factotum (Иван на все руки), свидетельствует о его готовности браться за всякое честное дело, попадавшее ему в руки.
Поэмой «Венера и Адонис», «первым плодом моей фантазии», как называл ее Шекспир, для него начался период независимого творчества. Замечателен был год ее издания (1593). Только тремя годами раньше появилась «Царица фей», поставившая Спенсера, без соперников, во главе английской поэзии. С другой стороны, в это время внезапно умерли два главных драматурга эпохи. Грин скончался в бедности и раскаянии в доме бедного башмачника. «Долли, — писал он покинутой жене, заклинаю тебя нашей молодой любовью и покоем моей души, постарайся заплатить ему; если бы он и его жена не помогли мне, я умер бы на улице» «О, если бы мне можно было прожить еще год, — восклицал молодой поэт на смертном одре, — но я должен умереть, всеми отвергнутый! Не вернуть времени, прожитого беспутно! Моя жизнь прожита беспутно, и я погиб!» Год спустя смерть Марло в уличной драке устранила единственного соперника, который мог равняться талантом с Шекспиром. В это время последнему было около 30 лет, и 23 года, прошедшие с появления «Адониса» до его смерти, заполнены рядом мастерских произведений.
Всего характернее для его гения — непрерывная деятельность. За пять лет, последовавших за изданием его первой поэмы, он в среднем сочинял, по видимому, по две драмы в год. Но когда мы пытаемся проследить рост и развитие таланта поэта в порядке выхода его пьес, мы во многих случаях наталкиваемся на отсутствие точных сведений о времени их появления. Фактов, на которые могло бы опереться исследование, чрезвычайно мало. «Венера и Адонис» вместе с «Лукрецией» должны были быть написаны раньше их издания в 1593—1594 годах; сонеты, изданные только в 1609 году, были до некоторой степени известны его близким друзьям уже в 1598 году. Его ранние пьесы указываются списком, данным в 1598 году Фрэнсисом Мирсом в «Сокровище ума», хотя отсутствие пьесы в случайном каталоге такого рода едва ли дает нам право считать, что ее еще не было в то время. Какие произведения приписывались ему при смерти, это определяется, тоже приблизительно, изданием, выпущенным его товарищами — актерами.
Кроме этих скудных сведений и того, что некоторые из его драм были изданы при его жизни, все остальное недостоверно; а заключения, выведенные из них и из самих драм, а также из предполагаемого сходства с другими пьесами того периода или из намеков на них, могут считаться верными только приблизительно. Большинство легких комедий и исторических драм Шекспира можно с большой вероятностью отнести ко времени между 1593 и 1598 годами: в первый из них он был известен только как переработчик — интерпретатор, во второй они упоминаются в списке Мирса. Притом они носят на себе отпечаток молодости. В «Напрасных усилиях любви» молодой поэт прямо из своего Стратфорда попадает в блестящее общество, окружавшее Елизавету, и большей частью обращает внимание на его внешность, на его причуды и сумасбродства, остроты и капризы, пустоту и нелепые фантазии, скрывавшие его внутреннее благородство. Деревенский юноша может поспорить с кем угодно в остроумных колкостях и ответах; он смеется над пустым остроумием и надутым сумасбродством мысли и фразы, введенными Эвфуэсом в моду при тогдашнем дворе. Он разделяет восхищение жизнью, составлявшее столь заметную черту века; его забавляют ошибки, странности и приключения окружающих людей; его веселость доходит почти до крайности в проделках «Укрощения строптивой» и в бесконечной путанице «Комедии ошибок».
Пока в его пьесах еще мало поэтической возвышенности и страсти; но легкая прелесть диалога, ловкая обработка запутанного сюжета, естественная веселость тона и музыкальность стиха обещали сделать его мастером общественной комедии, если от внешних особенностей окружающего мира он обратится к изображению характеров и действий людей. В «Двух веронцах» картина нравов отличается такими мягкостью и идеальной красотой, которые служили настоящим протестом против жесткой, хотя и энергичной обрисовки характеров, введенной тогда в моду первым успехом Бена Джонсона с его комедией «У всякого человека — своя прихоть». Но тотчас вслед за этими легкими комедиями появились два произведения, в которых вполне воплотился его гений. Его поэтический талант, до сих пор сдерживавшийся, обнаружился с чрезвычайной силой в блестящих фантазиях пьесы «Сон в летнюю ночь», а страсть прорвалась бурным потоком в «Ромео и Джульетте».
Вместе с этими страстными мечтами, нежными образами и тонкими характеристиками в этот короткий период напряженной деятельности появились и его исторические драмы. С первого появления новой драмы не было, по-видимому, пьес более популярных, чем драматические изображения английской истории. В своем «Эдуарде II» Марло показал, каких трагических эффектов можно достичь в этой области; а мы уже видели, как естественно приспосабливание старых пьес, вроде «Генриха VI», к новым требованиям сцены приводило к тому же и Шекспира. В плане он еще следовал до некоторой степени старым пьесам на избранные сюжеты, но в обработке последних он смело сбросил с себя иго прошлого. В «Ричарде III», в «Фальстафе» или «Готспере» («Горячке») он обнаружил более широкое и глубокое понимание характеров, чем кто-либо из прежних драматургов; в «Констанции» и «Ричарде II» он изобразил человеческое страдание с такой силой, с какой не решался рисовать его даже Марло. Эти исторические драмы больше всех других пьес обеспечили Шекспиру прочную популярность среди соотечественников. Нигде дух английской истории не выражается с таким благородством. Если иногда произведения поэта и служат отражением национальных предрассудков и несправедливости, то они целиком пропитаны английским юмором, английской страстью к бою, английской верой в добро и в конечную гибель временно торжествующего зла, английским состраданием к павшим.
Шекспир далеко превзошел своих товарищей и как трагический, и как комический поэт. «Если бы музы захотели говорить по-английски, — заметил Мире, они заговорили бы изящным языком Шекспира». Его личная популярность достигла высшей степени. Его веселый характер и живое остроумие рано сблизили его с молодым графом Саутгемптоном, которому посвящены его «Адонис» и «Лукреция»; а различие в тоне этих посвящений свидетельствует о быстром переходе знакомства в пылкую дружбу. Его богатство и влияние также быстро росли. Он владел собственностью и в Стратфорде, и в Лондоне, а его сограждане поручили ему ходатайствовать перед лордом Берли об интересах города. У него было достаточно средств, чтобы помогать отцу и купить дом в Стратфорде, в котором он впоследствии жил. Предание о том, что Елизавета была так восхищена Фальстафом в «Генрихе IV», что приказала поэту изобразить его влюбленным, и этот приказ вызвал к жизни «Веселых виндзорских кумушек», — все равно, верно оно или нет — доказывает его популярность как драматурга. Когда умерла группа старших поэтов, они нашли себе преемников в Марстоне, Деккере, Миддлтоне, Гейвуде, Чепмене и всего более — в Бене Джонсоне; но никто из них не мог оспаривать первенства Шекспира. Приговор Мирса, что «Шекспир среди англичан наиболее выделяется в обоих видах драмы», представлял общее мнение современников.
Наконец он вполне овладел средствами своего искусства. По полноте сценического действия, тесной связи событий, легкости движения, поэтической красоте важнейших мест, сдержанному и сознательному пользованию поэзией, по пониманию и развитию характеров, но больше всего — по мастерству, с которым характеры и события сосредоточиваются вокруг фигуры Шейлока, «Венецианский купец» выявляет полное развитие его драматического таланта. Но поэт еще юн по характеру: «Веселые виндзорские кумушки» представляются взрывом веселого смеха, и смех более сдержанный, но полный чарующей прелести, встречает нас в «Как вам угодно». Но уже в печальном и задумчивом Джеке мы замечаем веяние нового, более серьезного настроения. До того поэта воодушевляла кипучая молодость; теперь она вдруг почти исчезла. Хотя Шекспиру было едва 40 лет, но в одном из его сонетов, написанном едва ли позже, есть указание на то, что он уже чувствовал приближение ранней старости. Внешний мир вдруг померк для него. Блестящий круг молодых вельмож, дружбой которых он дорожил, был разорван политической бурей, вызванной безумной борьбой графа Эссекса за власть. Сам Эссекс погиб на эшафоте, его друг и идол Шекспира — Саутгемптон — был заключен в Тауэр; Герберт, лорд Пемброк, младший покровитель поэта, удален от двора.
В то время как таким образом гибли друзья и исчезали надежды, Шекспир, по — видимому, переживал тяжкие страдания и тревоги. Несмотря на остроумие толкователей, трудно и даже невозможно извлечь из сонетов каких-либо данных о душевном состоянии поэта: «Странные изображения страсти, проносящиеся над волшебным зеркалом, как было тонко замечено, не имеют осязательной очевидности ни перед собой, ни за собой»; но само их появление служит доказательством тревоги и внутренней борьбы. Перемена в характере драм Шекспира, несомненно, отражает перемену в его настроении. Веселость в его ранних произведениях исчезает в таких комедиях, как «Троил» или «Мера за меру». Всюду представляются неудачи. В «Юлии Цезаре» доблесть Брута разбивается о его неопытность и отчужденность от людей; в «Гамлете» даже проницательный ум оказывается беспомощным, ввиду отсутствия энергии; яд Яго пятнает любовь Дездемоны и величие Отелло; могучая страсть Лира беспомощно борется против ветра и дождя; женская слабость лишает леди Макбет победного торжества; страсть и беспечность губят героизм Антония, гордость — благородство Кориолана. Но именно борьба и самоуглубление, обнаруживающиеся в этих драмах, и придали произведениям Шекспира неведомые дотоле глубину и величие. Это был век, когда характеры и таланты людей приобретали размах и энергию. Смелость авантюриста, философия ученого, страсть влюбленного, фанатизм святого достигали почти нечеловеческого величия. Человек начал осознавать громадность своих внутренних сил, беспредельность своего могущества, казалось, смеявшегося над тем тесным миром, в котором ему приходилось действовать. Это величие человечества и раскрывается перед нами, когда поэт изображает широкие взгляды Гамлета, страшное потрясение сильной натуры Отелло, ужасную бурю в душе Лира в гармонии с бурей в самой природе, беспредельное честолюбие, обагряющее руку женщины кровью убитого короля, неудержимую страсть, отдающую мир за любовь. Внушаемые этими великими драмами ужас и уважение несколько знакомят нас с грозными силами века, их породившего. Страсть Марии Стюарт, бесчеловечность Альбы, смелость Дрейка, рыцарство Сидни, широта мысли и дела у Рэли и Елизаветы становятся для нас понятнее, когда мы знакомимся с рядом великих трагедий, начавшимся «Гамлетом» и окончившимся «Кориоланом».
Три последние драмы Шекспира — «Цимбелин», «Буря», «Зимняя сказка» — открывают перед нами человека, примиренного с собой и миром; они были написаны среди полного довольства в его стратфордской усадьбе, куда он удалился через несколько лет после смерти Елизаветы. В них не заметно никакого отношения к окружающей современности; здесь мы переходим в область чистой поэзии. Этот мирный и спокойный конец жизни отличает Шекспира от величайших его современников. Всем сердцем он принадлежал веку Елизаветы и стоял теперь на перепутье двух великих эпох нашей истории: век Возрождения сменялся веком пуританства. Строгий протестантизм с его нравственностью, серьезностью и глубокой религиозностью придавал жизни энергию и благородство, но одновременно жесткость и узость. Библия заменяла Плутарха. «Упорные сомнения», преследовавшие избранные умы Возрождения, заключались в богословские формулы пуританства. Сознание всемогущества Божьего угнетало человека. Смелость, превращавшая англичан в племя удальцов, сознание неистощимости своих сил, кипучая свежесть молодости, чарующее стремление к красоте и веселью, сформировавшие Сидни, Марло, Дрейка, уступали место сознанию греховности и стремлению устроить жизнь по-Божьему. Вместе с новым нравственным миром развивался и новый политический порядок, более нормальный и национальный, но менее живописный, менее окутанный тайной и блеском, столь любезными поэтам. Прежде небольшие трещины время от времени расширялись и грозили гибелью строю, церковному и политическому, который создали Тюдоры и к которому были страстно привязаны люди Возрождения.
Шекспир оставался совсем чуждым этому новому миру мысли и чувства. Он не имел понятия о демократических устремлениях пуританства; а между тем, несмотря на крупные недостатки, оно было первой политической системой, признававшей значение народа как целого. Ряд его драм изображают междоусобицы. Войны Роз занимают его ум, как они занимали умы его современников. Только проследив ряд драм от «Ричарда II» до «Генриха VIII», мы оценим глубину влияния, оказанного на настроение народа борьбой Йорков и Ланкастеров, и силу оставленного ею страха перед междоусобицами, своеволием баронов и спорами о престолонаследии. Казалось, только корона могла избавить от такой опасности. Для Шекспира, как и для его современников, средоточием и охраной народной жизни все еще служила корона. Идеалом для него была Англия, собравшаяся вокруг такого короля, как его Генрих V, — прирожденный руководитель людей, окруженный преданным народом и побеждающий своих врагов. В общественном отношении поэт выражал аристократический взгляд на жизнь, разделявшийся лучшими умами века Елизаветы. Воплощением крупного вельможи являлся Кориолан; насмешки, которыми Шекспир в ряде пьес осыпал чернь, только передают общий дух Возрождения. Но он не выказывал симпатии к борьбе феодализма с короной. Он вырос в царствование Елизаветы; он знал только одного государя, очаровывавшего сердца всех англичан.
Боязнь неумелого управления исчезла; его мысли, как и умы соотечественников, были поглощены борьбой за национальную независимость, и увлечение этой борьбой не оставляло места для мыслей о гражданской свободе. Не принадлежали наступавшему времени и религиозные симпатии поэта. Другие обращались к богословским умозрениям; для Шекспира неисчерпаемым предметом интереса оставался человек и человеческая природа. К числу его последних созданий принадлежал Калибан. Невозможно определить, принадлежал ли он к католикам или к протестантам. Трудно даже сказать, были у него вообще религиозные убеждения или нет. Религиозные мысли, изредка попадающиеся в его произведениях, — немного больше, чем выражение сдержанного и мечтательного благоговения. Многозначительно его молчание о более глубоких основах религиозной веры. Он не говорил о загробной жизни; тем больше значения придают этому умолчанию сомнения Гамлета. Вероятно, для него, как и для Клавдия, смерть была «переходом неизвестно куда». Часто, обращаясь к тайне жизни и смерти, он оставлял ее тайной до конца и не обращал внимания на известные ему богословские толкования. «Мы — то же, что сновидения, и наша краткая жизнь заканчивается сном».
Противоречие между духом елизаветинской драмы и новым настроением нации сказалось еще резче, когда после смерти Шекспира руководство английской сценой перешло к Бену Джонсону, сохранявшему его почти до самой гибели драмы в бурях междоусобиц. Правда, Уэбстер и Форд превосходили его трагической возвышенностью, Мэссинджер легкостью и грацией, а Бомои и Флетчер поэтичностью и изобретательностью; но по широте драматического таланта, по умению владеть поэтическими красотами выше Джонсона был только Шекспир. Жизнь Джонсона до конца сохраняла мятежный, вызывающий отпечаток прежнего драматического мира, в котором он приобрел славу. Пасынок каменщика, он добровольцем принимал участие в Нидерландской войне, на виду у обеих армий убил противника на поединке и, вернувшись в 19 лет в Лондон, в поисках хлеба насущного поступил на сцену. В 45 лет он сохранил еще столько сил, что пешком совершил путешествие в Шотландию. Даже когда он состарился, его «толстое брюхо», лицо в шрамах и крупная фигура славились среди людей младшего поколения, собиравшихся у «Сирены» слушать его остроты и стихи, взрывы его хандры, великодушия, нежной фантазии, педантизма и бурного высокомерия.
Он вступил на сцену с гордым намерением преобразовать ее. Уже в молодые годы он приобрел большие познания и презрительно относился к писателям, которые, подобно Шекспиру, «были мало знакомы с латынью и еще менее с греческим»; в поэзии он хотел вернуться к классической строгости, к строгой разборчивости и вкусу. Он порицал сумасбродство, отличавшее современную поэзию; он изучал интриги своих драм, старался придать своим выражениям симметрию и правильность, своей речи краткость. Но творчество у него исчезает: в его общественных комедиях мы находим скорее качества и типы, а не людей, отвлечения, а не характеры. Его комедия — не гениальное отражение жизни, как она есть, а нравственное и сатирическое стремление преобразовать нравы. Только его удивительная веселость и истинно поэтическое чувство несколько смягчают весь этот педантизм. Он разделял энергию и кипучесть жизни, отличавшие школу, из которой он вышел. Его сцена кишит фигурами. Несмотря на его речи о правильности, только его удивительный талант мешал его эксцентричности становиться смешной.
Если он не умел создавать характеров, то богатство метких частностей придавало жизнь тем типам, которыми он заменял характеры. Притом его поэзия достигала огромной высоты: его лирика блещет чистейшей и легчайшей фантазией; его «маски» богаты роскошными образами; его пастораль «Печальный пастушок» дышит мягкой нежностью. Но, несмотря на сохраняемые ею красоту и силу, драма быстро клонилась к упадку. По мере приближения Великого мятежа интересы народа обращались к новым важным вопросам, и старания драматургов остановить это движение новыми впечатлениями только ускоряли гибель драмы. Позднейшая комедия отличалась невероятной грубостью. Почти так же невероятна страсть позднейших трагедий к ужасам кровосмешения и кровопролития. Ненависть пуритан к театру объясняется не только стремлением отомстить за насмешки, которыми он осыпал пуританство; это была главным образом искренняя ненависть богобоязненных людей к изображению в привлекательной поэтической форме гнуснейшего разврата.
Представителями поэтической жизни новой Англии являлись творцы «Гамлета» и «Царицы фей»; ее чисто рассудочная деятельность, широкое знакомство со всеми областями человеческого знания и поразительное искусство в использовании ими полнее всего сказались в произведениях Фрэнсиса Бэкона. Бэкон родился в начале царствования Елизаветы, тремя годами раньше Шекспира (1561 г.), и был младшим сыном хранителя печати, а также племянником лорда Берли. Уже в детстве живость и понятливость принесли ему расположение королевы. Елизавета очень любила разговаривать с ним и испытывать его вопросами, на которые он отвечал с недетской важностью и рассудительностью, так что Ее величество часто называла его «молодой лорд — хранитель». Еще ребенком в школе он выражал свое недовольство Аристотелевой философией, «так как она пригодна только для рассуждений и споров, но не дает произведений, полезных для жизни человека». Занявшись правом, он в возрасте 21 года в статье о «Величайшем создании эпохи» изложил уже систему индуктивного исследования, которой хотел заменить логику Аристотеля.
Исследования молодого мыслителя были прерваны надеждами на успех при дворе, но скоро эти надежды рассеялись. Смерть отца оставила его в бедности, а недоброжелательство Сесилей помешало его карьере при дворе, и за несколько лет до прибытия Шекспира в Лондон он вступил в сословие адвокатов, где скоро стал одной из главных знаменитостей эпохи. В 23 года он был членом Палаты Общин, и его ум и красноречие сразу выделили его среди окружающих. По словам Бена Джонсона, «всякий, кто слушал его, боялся, что скоро он закончит свою речь». Его высокая репутация очень возросла с появлением в 1597 году его «Опытов», замечательных не только глубиной мысли и точным, удачным ее выражением, но и искусным приложением к человеческой жизни того опытного анализа, который впоследствии Бэкон сделал ключом к науке. Его известность на родине и за границей сразу выросла, но он не мог довольствоваться этой чистой славой. Он сознавал в себе большие таланты и стремления, полезные для общего блага, а время было такое, что эти стремления едва ли можно было осуществить не иначе как при посредстве короны; между тем перспективы политической деятельности чем дальше, тем больше от него отдалялись.
В начале своей парламентской карьеры он раздражал Елизавету упорным противодействием ее требованию субсидий, и хотя обида была заглажена униженными извинениями и отказом от всякого сопротивления политике двора, но Бэкону несколько раз отказывали в назначении на коронные должности, и только после издания «Опытов» он смог добиться незначительного места в Совете королевы. Лучшим оправданием нежелания королевы ввести в Совет лучшую голову Англии, — нежелания, странно противоречившего ее обычным приемам, — служила все более обнаруживавшаяся нравственная неустойчивость Бэкона. У людей, которыми пользовалась Елизавета, ум направлялся большей частью строгим сознанием политического долга. Их благоговение перед королевой иногда представляется нам чрезмерным, но оно всегда находилось под руководством и контролем пылкого патриотизма и серьезного религиозного чувства; при всем своем уважении к правам короны эти люди никогда не теряли из виду закона. Высота и оригинальность ума Бэкона отдаляли его от подобных людей в такой же степени, как и растяжимость его нравственных понятий.
В политике, как и в науке, он мало уважал прошлое. Право, конституционные вольности, религия представлялись ему только средствами для достижения известных правительственных целей, и если этих целей можно было достичь более коротким путем, он считал простым педантизмом отстаивание более сложных средств. Бэкон хотел осуществить крупные политические идеи — реформу и кодификацию права, цивилизацию Ирландии, очищение церкви, затем объединение Шотландии и Англии, преобразования в области воспитания и материальной жизни и другое; по его мнению, скорее всего и проще можно было осуществить эти цели, воспользовавшись властью короны. Такое понимание королевской власти могло быть очень соблазнительным для преемника Елизаветы, но для нее представляло мало привлекательного, и до конца ее царствования все усилия Бэкона сделать карьеру у нее на службе оставались безуспешными.
«Что до моих имени и памяти, — сказал он в конце своей жизни, — я предоставляю их снисходительности людей, иноземным народам и ближайшему веку». Наряду с политической деятельностью и придворными интригами он находил еще время для продолжения философских исследований, начатых в ранней молодости. В 44 года, когда окончательно рухнули его надежды на Елизавету, он издал обзор «Успехов наук» и тем впервые выдвинул решительно новую философию, над которой работал в тиши. По его собственным словам, это произведение заканчивалось «общим и точным обозрением науки, с указанием того, какие части ее не затронуты, не исправлены и не изменены деятельностью человека, для того, чтобы такой план, оставаясь в памяти, мог давать сведения для общественных целей и возбуждать личные усилия». По его мнению, только такой обзор мог отвратить людей от бесполезных занятий или недейственных средств для достижения полезных целей и направить их к настоящей цели знания как «богатой сокровищницы для прославления Создателя и облегчения положения людей».
Трактат служил предисловием к ряду работ, которые должны были составить «Великое обновление» («Instauratio Magna»), но автору не суждено было его закончить, и подготовленные его части были изданы при Якове I. Первым очерком «Нового органона» «Novum organum», в полном виде представленного Якову I в 1621 году, служили «Cogitata et visa» («Мысли и наблюдения»). Через год Бэкон представил свою «Естественную и опытную историю». Этот трактат, вместе с «Новым органоном» и «Успехами наук», составляет все, что из задуманного «Великого обновления» было действительно закончено, но даже и здесь мы имеем только часть двух последних разделов. Прочие части целого, «Лестницу разумения», которая должна была следовать за ними и от опыта вести к науке «Антиципации», или гипотезам, необходимым для исследования новой философии, и заключительный очерк «Приложения науки» он предоставил завершать потомству. «Мы надеемся, что положили недурное начало, — говорил Ф. Бэкон. — Будущее человеческого рода должно дополнить это и, быть может, таким образом, который нелегко будет понять людям, имеющим в виду только настоящее; от этого зависит не только отвлеченное благо, но и все судьбы человечества и все его могущество».
Обращаясь от подобных слов к тому, что действительно сделано Бэконом, трудно не испытать некоторого разочарования. Он не вполне понимал старую философию — предмет своих нападок. Его недовольство бесплодным расходованием человеческого ума, которое он объяснял усвоением ложного способа исследования, скрывало от него настоящее значение дедукции как орудия открытия, и это пренебрежение к ней усиливалось его невежеством в математике, а также отсутствием в его время двух великих дедуктивных наук — астрономии и физики. Не более точным было и его представление о методе новой науки. Индукция, исключительно на которую Бэкон обращал внимание людей, в его руках не дала результатов. «Искусство исследования природы», которым он так гордился, оказалось непригодным для научных целей и было отвергнуто новыми исследователями. Его едва ли можно считать оригинальным там, где он был на более верной дороге. «Можно сомневаться, — говорил Деголд Стьюарт, — заключается ли в его произведениях хотя бы одно важное замечание относительно верного способа исследования, намека на которое нельзя было бы найти в сочинениях его предшественников». Но Бэкон не только не предугадал методов новой науки, но и отвергал великие научные открытия своего времени. Он отнесся с пренебрежением и к астрономической теории Коперника, и к магнитным исследованиям Гилберта. Современные ученые, по-видимому, платили ему той же монетой. «Лорд-канцлер писал о науке, как лорд-канцлер», — заметил Гарви, открывший кровообращение.
Но, несмотря на неправильную оценку как старой, так и новой философии, последующие века почти единогласно и справедливо приписывали Бэкону решительное влияние на развитие новой науки. Ему не удалось открыть способа опытного исследования, но он первый провозгласил существование философии наук и указал на единство знания и исследования во всем физическом мире; внимательным отношением к мелким частностям опыта, с которого должна была начинаться наука, он придал им важность; презрительным отказом от преданий прошлого он расчистил путь для исследования; наконец, он потребовал для науки ее настоящих места и оценки и отметил громадность влияния, которое ее разработка должна оказать на обеспечение могущества и счастья человечества.
В одном отношении деятельность Бэкона была в высшей степени знаменательной. В его время духовную энергию мира поглощало богословие. Притом он служил королю, который занятия богословием предпочитал всем другим. Но, уступая Якову I во всем прочем, Бэкон не соглашался подчиняться ему в этом, подобно Казобону. Он не пытался даже, подобно Декарту, преобразовать богословие, обратив разум в орудие богословского доказательства. Он вообще держался в стороне от этой науки. Как политик он не уклонялся от разработки таких вопросов, как реформа церкви, но рассматривал их просто как вопросы гражданского управления. В своем подробном перечне отраслей человеческого знания он обошел только богословие. Сам по себе его метод был неприменим к предмету, где посылки предполагались доказанными, а результаты — известными. Бэкон стремился при помощи простого опыта определять неизвестное. Вся его система была направлена против подчинения авторитету и допущения традиции в вопросах исследования; он особенно настаивал на необходимости основывать веру на строгом доказательстве, а доказательство — на заключениях, выведенных разумом из очевидности.
Но в богословии, по уверению всех богословов, разум играет подчиненную роль. «Если я обращусь к нему, — заметил Ф. Бэкон, — я должен буду покинуть ладью человеческого разума и перейти на корабль церкви; да и светила философии, до сих пор так прекрасно сиявшие над нами, перестанут давать нам свой свет». Притом достоверность заключений о таких предметах не согласовалась с величайшей особенностью теории Ф. Бэкона — благородным признанием возможности для каждого исследователя ошибаться. Он считал своей обязанностью предостерегать людей от «призраков» знания, так долго мешавших его настоящим достижениям, от «идолов племени, пещеры, рынка и театра», — ошибок, вытекающих из общего настроения людских масс, из личных особенностей, странной власти над умом слов и фраз, из преданий прошлого. Притязания богословия нелегко было примирить со значением, какое Бэкон приписывал естествознанию. «Во все времена, — говорил он, — когда люди гениальные или ученые пользовались особым или даже некоторым уважением, очень небольшая часть человеческой энергии расходовалась на философию природы, хотя ее нужно считать главным источником знания; все остальное, если его отделить от этого корня, может, пожалуй, быть отделано и приспособлено к пользованию, но не может сильно развиться».
Нравственные науки, этика и политика, могли бы сделать действительные успехи, только усвоив принадлежащий естествознанию индуктивный способ исследования и положив в основу своей работы данные науки о природе. «Нельзя ожидать больших успехов от наук, особенно прикладных, если в них не проникнет естествознание и, с другой стороны, если эти частные науки не обратятся снова к естествознанию. А пока астрономия, оптика, музыка, многие механические искусства, и что еще более странно, даже этика, политика и логика недалеко ушли от начала и только затрагивают разнообразие и поверхность вещей». Ф. Бэкон первый обратил внимание всего человечества на важное положение и значение естествознания. В его время наука обращалась к областям, до того не подвергавшимся исследованию: Кеплер и Галилей создавали новую астрономию, Декарт открывал законы движения, а Гарви — кровообращение. Но масса людей почти не замечала этого великого переворота, и только энергия, глубокое убеждение и красноречие Ф. Бэкона впервые обратили внимание человечества, как целого, на важное значение физического исследования. Своей глубокой верой в результаты и победу новой философии он вызвал в своих последователях столь же сильные рвение и уверенность. Он прежде всех указал на значение постепенного и терпеливого исследования, опыта и сравнения, на необходимость жертвовать гипотезой в пользу факта и руководствоваться только стремлением к истине, что должно было стать законом для новой науки.
Глава VIII ЗАВОЕВАНИЕ ИРЛАНДИИ (1588—1610 гг.)
В то время как внутри Англия становилась «гнездом певчих птиц», вовне последние годы царствования Елизаветы были временем блестящих побед. Неудача Армады была первым из тех поражений, которые сломили могущество Испании и изменили общее политическое положение. В следующем году 50 кораблей и 15 тысяч человек были посланы под командой Дрейка и Норриса против Лиссабона. Поход закончился неудачно, но англичане осадили Ла-Корунью, ограбили берег и на испанской земле отразили испанскую армию. Истощение казны скоро принудило Елизавету довольствоваться выдачей каперских патентов добровольцам, но война приобрела национальный характер, и народ повел ее за свой счет. Купцы, дворяне, вельможи снаряжали суда корсаров. Флибустьеры все в большем количестве пускались в испанские воды; каждый месяц в гавани Англии приводились испанские галеоны и купеческие суда. Между тем необходимость действовать во Франции удерживала Филиппа II от нападения на Англию. Едва Армада была рассеяна, как умерщвление Генриха III, последнего из Валуа, возвело на престол Генриха IV Наваррского, а появление протестантского государя сразу сделало всех католиков Франции сторонниками Лиги и ее вождей Гизов.
Лига отвергла притязания Генриха IV как еретика, провозгласила кардинала Бурбона королем под именем Карла X и признала Филиппа II покровителем Франции. Она получила от Испании помощь войском и деньгами, и это усилие Испании, успех которого мог привести к гибели Елизаветы, побудил королеву помогать Генриху IV людьми и деньгами в борьбе против ополчившихся на него, по-видимому, подавляющих сил. Казалось, раздираемая междоусобицами Франция обратится в вассала Испании, и Филипп II надеялся с ее берегов переправиться в Англию. Но наконец Лигу постигла неудача. После смерти «игрушечного» короля (Карла X) появилась мысль передать корону Франции дочери Филиппа II, но это вызвало недовольство в самом доме Гизов и усилило национальную партию, опасавшуюся подчинения Испании. Наконец подчинение Генриха IV вере, исповедуемой массой его подданных, расстроило все расчеты Филиппа II на успех. «Париж, право, стоит обедни», — сказал Генрих IV в оправдание своей измены делу протестантов, но этот шаг не только подарил ему Париж: он сокрушил все надежды на дальнейшее сопротивление, разрушил Лигу и позволил королю во главе объединенного народа принудить Филиппа II к признанию его титула и к заключению мира в Вервенсе.
Неудача надежд Филиппа II на Францию была отягчена его неудачами на море. В 1596 году в ответ на угрозу новой Армады английское войско смело произвело высадку в Кадисе. Город был разграблен и разрушен до основания, в гавани было сожжено тринадцать военных кораблей, а собранные для похода запасы — истреблены целиком. Несмотря на этот сокрушительный удар, испанский флот в следующем году собрался и отплыл к берегам Англии; но, как и для его предшественника, бури оказались губительнее оружия англичан: корабли потерпели крушение в Бискайском заливе и почти все погибли. С разрушением надежд Филиппа II на Францию и с утверждением английского господства на море со стороны Испании бояться больше было нечего, и Елизавета получила возможность обратить всю свою энергию на последнее дело, прославившее ее царствование.
Однако, чтобы понять окончательное завоевание Ирландии, мы должны вернуться к царствованию Генриха II. А в это время цивилизация острова сильно понизилась сравнительно с уровнем, на каком она была, когда ирландские миссионеры принесли к берегам Нортумбрии христианство и науку. Просвещение почти исчезло. Христианство, бывшее в VIII веке жизненной силой, в XII веке выродилось в аскетизм и суеверие и перестало влиять на нравственность всего народа. Церковь не имела прочного устройства и поэтому не могла совершить той работы, какую выполняла в других странах Западной Европы. Она не могла внести порядка в анархию враждующих племен, а напротив, сама подчинилась ей. Ее глава Корб, или архиепископ Армагский, превратился в наследственного главу клана; епископы не имели епархий и часто просто зависели от крупных монастырей. Хотя король Ольстера считал себя главой королей Мейнстера, Лейнстера и Коннаута, но следы центральной власти, объединявшей племена в один народ, едва ли оставались; даже в этих мелких королевствах царская власть была почти только названием.
В этом общественном и политическом хаосе единственным живым организмом был род, или клан, сохранивший учреждение древнейшего периода человеческой цивилизации. Главенство в клане переходило по наследству, но не от отца к сыну, а к старшему члену правящей семьи. Земля, принадлежавшая роду, делилась между его членами, но через известные промежутки времени происходили переделы. Обычай усыновления теснее привязывал усыновленного ребенка к приемным родителям, чем к его родной семье. В долгой и отчаянной борьбе с датчанами исчезли все задатки прогресса, внесенные в Ирландию. Основанные пришельцами прибрежные города, вроде Дублина и Уотерфорда, остались датскими по населению и обычаям и враждовали с соседними кланами кельтов, хоть иногда военные неудачи вынуждали их платить дань и признавать, хотя бы на словах, власть туземных королей. Но через эти города в XI веке до некоторой степени возобновились отношения с Англией, прекратившиеся в VIII столетии. Национальная антипатия обособляла датские города от туземной церкви, и они стали обращаться за посвящением епископов в Кентербери и признавать за Ланфранком и Ансельмом право духовного надзора.
Образовавшиеся таким образом отношения стали еще теснее благодаря торговле рабами, которую Завоеватель и епископ Вульфстан успели было на время подавить в Бристоле, но которая скоро возобновилась. В XII веке Ирландия была полна англичанами, похищенными и проданными в рабство вопреки запрещениям короля и духовным угрозам английской церкви. Положение страны представляло законный повод к войне, если только честолюбию Генриха II нужен был предлог, и через несколько месяцев после коронации король послал Джона Солсберийского просить у папы Римского разрешения напасть на остров. План в том виде, как он был предложен папе Адриану IV, имел характер крестового похода. В качестве оснований для вмешательства Генриха II указывались обособление Ирландии от остального христианства, отсутствие науки и просвещения, возмутительные пороки населения.
По общему мнению того времени, все острова подчинялись власти папского престола, и Генрих II просил у папы Адриана IV позволения вступить в Ирландию как в область римской церкви. Его целью было «расширить пределы церкви, остановить распространение пороков, исправить нравы населения, насадить среди него добродетель и помочь усилению христианства». Он обязывался «подчинить народ законам, искоренить дурные обычаи, уважать права туземных церквей и добиться уплаты Папе» как доказательства верховенства римского престола. Адриан IV своей буллой (1155 г.) одобрил предприятие, вызванное «рвением к вере и любовью к религии», и выразил желание, чтобы население Ирландии приняло его со всеми почестями и признало своим государем. Папская булла была прочитана на большом собрании английских баронов, но противодействие императрицы Матильды и трудности похода заставили Генриха II на время отказаться от этих планов и обратить свою энергию на расширение материковых владений.
Прошло двенадцать лет, и при дворе Генриха II появился ирландский вождь Дермод, король Лейнстера, и присягнул ему как государю земель, из которых он был изгнан во время одной из бесконечных междоусобиц, раздиравших остров. Получив от английского рыцарства обещание помощи, Дермод вернулся в Ирландию; за ним скоро последовал Роберт Фиц Стефен, сын коменданта Кардигана, с небольшим отрядом в 140 рыцарей, 60 солдат и 300-400 уэльских стрелков. Хотя число пришельцев было невелико, но их кони и оружие оказались для ирландских пехотинцев непобедимыми. Жители Уэксфорда поплатились за вылазку взятием их города, кланы Оссори потерпели кровопролитное поражение, и Дермод в диком восторге схватил из груды наваленных у его ног трофеев голову и зубами оторвал у нее нос и губы.
Затем прибыли со свежими силами Морис Фицджералд и Ричард Клэр, граф Пемброк, разорившийся барон, которого позже прозвали Стронгбау («Крепкий лук») и который, вопреки запрещению Генриха II, с отрядом в 1500 человек, нанятых Дермодом, высадился близ Уотерфорда. Город тотчас был взят, и соединенные силы графа и короля пошли осаждать Дублин. Король Коннаута, которого прочие кланы признали государем острова, сделал попытку выручить город, но тот был взят врасплох; а брак Ричарда Клэра с Евой, дочерью Дермода, сделал его вскоре после смерти тестя властителем Лейнстера. Но скоро новому правителю пришлось спешить в Англию и успокаивать недоверие Генриха II: он передал короне Дублин, присягнул за Лейнстер как за английский лен и сопровождал короля в его поездке в новые владения, завоеванные для него искателями приключений.
Если бы судьба позволила Генриху II осуществить его намерение, то завоевание Ирландии было бы закончено уже в то время. Правда, король Коннаута и вожди северного Ольстера отказали ему в присяге, но остальные племена Ирландии признали его верховенство, а епископы на соборе в Кэшеле провозгласили его своим повелителем. Генрих II уже готовился пойти на север и запад и закрепить свои завоевания систематической постройкой замков по всей стране, когда смуты, последовавшие за умерщвлением Фомы Бекета, заставили его поспешить в Нормандию. Упущенный случай уже не повторился. Правда, Коннаут согласился признать на словах верховенство Генриха II, Джон де Курси достиг Ольстера и утвердился в Даунпатрике, а король думал одно время назначить правителем Ирландии своего младшего сына Иоанна; но легкомыслие молодого принца, смеявшегося над грубой одеждой туземных вождей и в насмешку рвавшего им бороды, заставило отозвать его. Только распри и слабость ирландских племен и позволили авантюристам удержаться в округах Дрогеды, Дублина, Уэксфорда, Уотерфорда и Корка, которые с того времени назывались «английским палисадом».
Если бы ирландцы прогнали пришельцев в море или, если бы англичанам удалось завоевать Ирландию, можно было бы избежать бедствий ее позднейшей истории. Борьба, подобная сопровождавшей изгнание англичан из Шотландии, могла бы вызвать дух патриотизма и национального единства, который из множества враждовавших кланов образовал бы один народ. Завоевание, подобное нормандскому в Англии, во всяком случае, утвердило бы среди покоренных закон, порядок, мир и просвещение победителей. К несчастью, Ирландия была слишком слаба, чтобы прогнать пришельцев, и в то же время достаточно сильна, чтобы держать их в страхе. Страна разбилась на две половины, находившиеся в постоянной вражде. Ненависть к более цивилизованным пришельцам только усиливала варварство туземных племен. Сами пришельцы, запертые в тесных пределах «Палисада», быстро опускались до уровня окружавшего их варварства. В шайке авантюристов, захвативших землю силой, сказывались без помехи все беззаконие, жестокость и узость феодализма. Чтобы удержать их в подчинении, английской короне понадобились строгие меры Иоанна Безземельного: его войско овладело их укреплениями и отправило главных баронов в изгнание. Иоанн разделил (1210 г.) «Палисад» на графства и предписал соблюдение в нем английского права; но уход его войска в нем подал знак к возобновлению анархии. Всякий ирландец вне «Палисада» представлялся врагом и разбойником, и его убийство не преследовалось законом. Половину своих средств бароны добывали в набегах за границу, а эти набеги вызывали нападение туземных грабителей, доводивших свои опустошения до стен Дублина. В самом «Палисаде» друзья и враги одинаково притесняли и грабили английских поселенцев; в то же время распри английских баронов ослабляли их силу и мешали успешно вести оборону и наступление.
Высадка шотландского отряда с Эдуардом Брюсом во главе и общее восстание ирландцев, «встретивших его как освободителя», заставили баронов на время помириться, и в кровавой битве при Эзинри (1316 г.) они доказали свою храбрость, победив 11 тысяч врагов и почти полностью истребить клан О’Конноров. Но вместе с победой вернулись анархия и упадок. Бароны все более превращались в ирландских вождей: Фитц-Морисы, ставшие графами Десмонд и возведенные за крупные владения на юге в маркграфы, приняли одежду и обычаи соседних туземцев. Рост этого зла не могли задержать постановления статута Килкенни (1366 г.), запрещавшего всякому англичанину принимать язык, имя и одежду ирландца; далее статут предписывал применение в пределах «Палисада» английского права и объявлял изменой усиливавшееся подчинение туземному праву брегонов, а также браки между англичанами и ирландцами и усыновление английских детей ирландскими родителями. Несмотря на свою строгость, эти постановления оказались не в силах остановить слияние двух племен, а усиление независимости лордов «Палисада» сохранило только тень подчинения английскому правительству. Это вызвало со стороны Ричарда II серьезную попытку завоевания и устройства острова. В 1394 году он высадился с войском в Уотерфорде и добился общего подчинения туземных вождей; но лорды «Палисада» угрюмо держались в стороне, и едва Ричард II покинул остров, как ирландцы также отказались исполнить свое обещание очистить Лейнстер. В 1398 году наместник Ирландии погиб в битве, и Ричард II решился завершить свое дело новым походом, но смуты в Англии скоро прервали его действия, и с уходом его солдат исчезли все следы его деятельности.
Возобновление войн во Франции и взрыв войны Роз снова предоставили Ирландию самой себе, и верховенство Англии над ней превратилось просто в тень. Наконец, за дело взялся Генрих VII. Он послал туда наместником сэра Эдуарда Пойнингса, который навел страх на лордов «Палисада» захватом их предводителя, графа Килдэра; знаменитый закон Пойнингса в 1494 году запретил парламенту «Палисада» рассматривать какие-либо вопросы, кроме одобренных предварительно английским королем и его Советом. Но пока лорды «Палисада» все еще должны были служить в качестве английского гарнизона против непокорных ирландцев, и Генрих VII назначил наместником своего пленника, лорда Килдэра. «Вся Ирландия не может справиться с ним», — роптали его министры. «Так пусть он правит всей Ирландией», — ответил король. Но хотя Генрих VII и начал дело усмирения Ирландии, у него не хватило силы добиться настоящего подчинения, и крупные нормандские лорды «Палисада» — Бетлеры и Джералдины, Делапоры и Фицпатрики — подчинившись на словах, на деле пренебрегали властью короля. По обычаям и внешнему виду они совсем превратились в туземцев; они так же непрерывно враждовали между собой, как и ирландские кланы; а их господство над несчастными жителями «Палисада» представляло собой соединение ужасов феодального угнетения и кельтской анархии. Несчастные потомки первых английских поселенцев терпели от налогов, притеснений и беспорядков; их грабили одинаково и кельтские разбойники, и набранные для их преследования войска; они даже предпочитали ирландское безначалие английскому «порядку», и граница «Палисада» все ближе придвигалась к Дублину.
Единственное исключение из общего хаоса составляли приморские города, защищенные своими стенами и самоуправлением; во всех других своих владениях английское правительство, достаточно сильное для подавления открытого восстания, было чистым призраком власти. У кельтских кланов вне «Палисада» исчезли даже те остатки цивилизации и племенного единства, которые сохранялись до времени Стронгбау. Распри кельтских кланов отличались таким же ожесточением, как и их ненависть к чужеземцу, и дублинскому правительству было легко поддерживать вражду, избавлявшую его от необходимости обороняться, среди народа «с таким характером, что за деньги сына можно поднять против отца, отца — против сына». В течение первых 30 лет XVI века летописи области, оставшейся под властью туземцев, упоминают более чем о сотне набегов и битв среди кланов одного севера. Но наконец для Англии настало время серьезной попытки внести порядок в этот хаос своеволия и неурядиц. Для Генриха VIII политика, которой следовал его отец, — управление Ирландией посредством ее крупных вельмож, — была ненавистной. Он хотел править в Ирландии так же самовластно и полно, как и в Англии, и во второй половине своего царствования он обратил всю энергию на достижение этой цели.
Уже с самого вступления его на престол ирландские лорды почувствовали на себе тяжелую руку повелителя. Джералдины, в предыдущее царствование от имени короля управлявшие Ирландией, скоро заметили, что корона не желает больше служить для них орудием. Их глава, граф Килдэр, был вызван в Англию и заключен в Тауэр. Тогда могучий род решил снова доказать Англии ее беспомощность, и лорд Томас Фитцджералд поднял обычным способом восстание. Архиепископ Дублина был убит, город взят, но цитадель устояла, страна была опустошена, а затем при приближении английского войска мятежники вдруг исчезли в пограничных болотах и лесах. Обычно на подобное нападение отвечали таким же набегом, точно так же терпели неудачу под стенами замка мятежного вельможи и затем так же отступали, после чего начинались переговоры и заключалось соглашение. К несчастью для Джералдинов, Генрих VIII серьезно решил взять Ирландию в руки, и для выполнения этого у него был Томас Кромвель. Новый наместник, Скеффингтон, привез с собой артиллерийский парк, появление которого сразу изменило политическое положение острова. Замки, служившие прежде убежищами для мятежников, были превращены в развалины. Мэйнус, — твердыня, из которой Джералдины угрожали Дублину и по своему произволу управляли областью, — в две недели был разрушен до основания. Удар был настолько сокрушительным и неожиданным, что сопротивление сразу прекратилось. Могущество великой нормандской фамилии, господствовавшей над Ирландией, было совсем сломлено, и для продолжения ее остался один ребенок.
С падением Фицджералдов Ирландия почувствовала себя во власти повелителя. «Ирландцы, писал Томасу Кромвелю один из главных судей, — не были никогда в таком страхе, как теперь. В пяти графствах королевские суды заседают больше, чем прежде». Генриху VIII подчинились не только англичане «Палисада», но и крестьяне Уиклоу и Уэксфорда. В первый раз на памяти людей английское войско явилось в Менстер и привело юг в подчинение. Замок О’Брайенов, охранявший переход через Шеннон, был взят приступом, и падение его повлекло за собой подчинение Клэра. Взятие Этлона сопровождалось покорением Коннаута и обеспечило верность великой нормандской фамилии де Барсов, пользовавшихся почти королевским влиянием на западе. Сопротивление племен севера было сломлено победой при Беллаго. Раньше власть короны ограничивалась стенами Дублина, а в течение семи лет (1535—1542), отчасти благодаря энергии нового наместника, лорда Леонарда Грея, а еще больше — настойчивости Генриха VIII и Томаса Кромвеля, эта власть распространилась на всю Ирландию.
Но Генрих VIII хотел не только подчинения Ирландии. Он хотел цивилизовать покоренный народ, править им при помощи не силы, а закона. Но под законом король и его министры могли понимать только английское право. Господствовавшее у туземцев обычное право, устройство кланов и родовое землевладение, а также поэзия и литература, прославившие язык ирландцев, оставались неизвестными политикам Англии или как варварские возбуждали в них презрение. Их уму представлялся один только способ цивилизовать Ирландию и устранить ее хаотические неурядицы — это уничтожить все кельтские традиции ирландского народа, «сделать Ирландию английской» по обычаям, закону и языку. Существовавшие уже в «Палисаде» наместник, парламент, судьи, шерифы представляли собой бледную копию учреждений Англии; имелось ввиду распространить их постепенно на весь остров. Думали, что вслед за английским законом воцарятся английские обычаи и язык. Единственный действенный способ для проведения такого преобразования заключался в полном подчинении острова и в его заселении английскими колонистами; но даже железная воля Томаса Кромвеля отступила перед таким приемом, хотя его настойчиво советовали его помощники и поселенцы «Палисада». Он был одновременно и слишком кровав, и слишком дорог.
Способом более надежным, дешевым, человечным и политичным представлялось привлечь на свою сторону вождей и при помощи политики терпеливого великодушия превратить их в английских вельмож, воспользоваться обычной преданностью членов клана своим вождям как средством распространения среди них нового образования и предоставить времени и твердому управлению постепенное образование страны. Еще до падения Джералдинов Генрих VIII следовал этой системе и уже применял ее в Ирландии, когда завоевание подчинило ее. Необходимо было убедить вождей в преимуществах правосудия и законного порядка. Обещанием «сохранить за ними их собственность» нужно было устранить их опасения, что под каким-нибудь предлогом «их прогонят с их земель и принадлежащих им по закону владений». Следовало обращать внимание даже на их возражения против введения английского права и сообразно местным условиям ужесточать или смягчать применение закона. При возвращении земель или прав, очевидно принадлежавших короне, строгим мерам следовало предпочитать «мягкие средства, тонкие уловки, дружеские уговоры».
В общем, эта примирительная система и проводилась английским правительством при Генрихе VIII и двух его преемниках. Вожди один за другим соглашались на принятие договора, гарантировавшего им владение землями и оставлявшего неприкосновенной их власть над членами клана при условии обещания верности, воздержания от незаконных войн и притеснения соплеменников, уплаты короне известной подати и несения военной службы. В залог верности требовалось только принятие английского титула и воспитание сына при английском дворе, но в некоторых случаях, например с О’Нейлами, требовалось обязательство применять английские язык и одежду и поощрять земледелие и сельское хозяйство. Согласие на такие условия достигалось не просто властью короля, но и крупными подарками. Действительно, это изменение приносило вождям много выгод. При принятии новых титулов им не только жаловались земли упраздненных монастырей, но английские суды, незнакомые с ирландским обычаем родового землевладения, признавали вождей единственными собственниками земли.
Достоинства этой системы были несомненными; понимания ее недостатков трудно было ожидать от политиков той эпохи, полагавших, что можно ожидать возрождения Ирландии только при усвоении ею английской культуры. Запрещение национальных одежды, обычаев, законов и языка могло представляться им просто упразднением варварства, мешавшего всякому прогрессу. В это время роковой промах вызвал в Ирландии религиозную борьбу. Церковный строй Ирландии отличался, пожалуй, не меньшей хаотичностью, чем ее политические порядки. Уже с прибытия Стронгбау не существовало единой ирландской церкви по той простой причине, что не было и единого ирландского народа. Между церковью за пределами «Палисада» и церковью в его пределах не было ни малейшего различия ни в учении, ни в устройстве; но в пределах «Палисада» духовенство по происхождению и языку было исключительно английским, а вне их — исключительно ирландским. В английских владениях в монастыри и церкви ирландцев не допускал закон; в ирландских — недоброжелательство туземцев не допускало англичан.
В религиозном отношении страна, в сущности, находилась на том же уровне, что и в политическом. Распри и беспорядки оказали роковое влияние на церковную дисциплину. Подобно окружавшим их вождям, епископы были светскими деятелями или суровыми воинами, пренебрегавшими своими кафедрами, доводившими свои соборы до разрушения. В целых епархиях церкви были в развалинах и без священников. Единственными проповедниками являлись нищенствующие монахи, но результаты их проповедей были незначительными. «Если король не найдет лекарства, — говорили в 1525 году, — скоро здесь будет не больше христианства, чем в самой Турции». К несчастью, лекарство, найденное Генрихом VIII, было хуже болезни. Политически Ирландия составляла одно целое с Англией, и великий переворот, отделивший одну страну от Рима, распространился, естественно, и на другую. Правда, сначала последствия его казались довольно незначительными. Волновавший Англию вопрос о верховенстве короля над церковью при завоевании в Ирландии встретил затруднения только в общем равнодушии. Все готовы были принять его, не думая о последствиях.
Епископы и духовенство в пределах «Палисада» подчинились воле короля так же легко, как и их собратья в Англии, и их примеру последовали прелаты, по крайней мере, четырех епархий Ирландии. Туземные вожди не больше лордов Совета стеснялись отказываться от подчинения римскому епископу и признавать Генриха VIII «верховным главой церкви Англии и Ирландии под властью Христа». Здесь не было того противодействия упразднению монастырей, какое было выказано по ту сторону пролива; напротив, жадные вожди обнаружили сильное стремление к участию в разделе церковных земель. Но следствия этих мер оказались роковыми для слабых остатков культуры и религии, еще пощаженных вековыми неурядицами. Несмотря на свои недостатки, монастыри были в Ирландии единственными школами. Приходские священники, столь многочисленные в Англии, были редки в Ирландии: в церквях, зависевших от монастырей, большей частью служили монахи, и упразднение их обителей во многих округах страны прервало общественное богослужение. Несмотря на все запрещения, нищенствующие монахи продолжали трудиться и учить, и это ставило их во враждебное положение относительно английского правительства.
Если бы навязанные стране церковные реформы ограничились этим, они, в сущности, принесли бы немного вреда. Но в Англии разрыв с Римом, упразднение монашеских орденов и установление верховенства короля над церковью вызвали в некоторой части народа стремление к богословской реформе, которое Генрих VIII разделял и постепенно старался удовлетворить. В Ирландии никогда не существовало духа Реформации во всем народе. Народ принял законодательные меры, проведенные в английском парламенте, нисколько не думая о богословских последствиях этого или о каких-либо переменах в церковном учении и обрядах. Никто не потребовал отмены богомолья, истребления икон, реформы общественного богослужения. Приезд в 1535 году архиепископа Брауна «для низвержения идолов и искоренения идолослужения» был первым шагом в ряду усилий английского правительства навязать новую веру народу, всецело и страстно преданному своей старой религии.
Попытка Брауна повлиять на проповедь была встречена молчаливым и упорным сопротивлением. «Ни кротким увещеванием, — писал примас Томасу Кромвелю, — ни евангельским наставлением, ни взятием с них торжественной клятвы, ни даже угрозой строгого наказания не мог я со времени моего прибытия убедить или побудить кого-либо из монахов или священников хоть раз проповедовать слово божье или истинность титула нашего славного государя». Даже принятое так спокойно верховенство было подвергнуто сомнению, когда выяснились последствия его принятия. Епископы воздерживались от исполнения приказа — вычеркнуть из служебников имя папы Римского. Проповедники сохраняли полное молчание. Когда Браун приказал истребить иконы и мощи в своем соборе, ему пришлось доносить, что настоятель и каноники «находят их столь важными для своей выгоды, что не слушают моих слов». Но Томас Кромвель настаивал на установлении церковного единообразия между двумя островами, и примас заражался отчасти энергией своего покровителя. Непокорных священников сажали в тюрьмы, образа устраняли из церквей, посох святого Патрика, пользовавшийся величайшим поклонением ирландцев, сожгли на рыночной площади.
Но поддержку своей деятельности примас находил только в Англии. Ирландский совет относился к ней холодно. Лорд — наместник с молитвой преклонил колени перед иконой в Триме. Молчаливое, но упорное сопротивление сокрушило усилия Томаса Кромвеля, а с его падением надолго наступила приостановка церковных реформ, которые он навязывал покоренной стране. Но при вступлении на престол Эдуарда VI проведение реформ возобновилось со всей энергией протестантского рвения. Епископы были вызваны к наместнику и получили от него новый английский служебник, который, хотя и был написан на языке, столь же чуждом ирландцам, как и латынь, должен был в каждой епархии заменить латинский служебник. Приказ подал знак к открытой борьбе. «Теперь мессу будет читать всякий неученый человек!» — воскликнул Даудэл, архиепископ Армагский, со всеми своими викариями, кроме одного, выбегая из комнаты. С другой стороны, епископы Миза, Лимерика и Килдера последовали за Брауном Дублинским в изъявлении покорности. Но это разделение епископов вовсе не привело правительство в уныние. Даудэл был изгнан из страны, а вакансии были замещены протестантами самого крайнего направления, например Бэлом.
Однако такие меры не могли произвести никакой перемены в мнениях самого народа. Новые епископы-преобразователи не говорили по-ирландски, а грубые крестьяне, окружавшие их кафедры, не понимали ни слова в их английских проповедях. Туземные священники сохраняли молчание. «Проповеди у нас совсем нет, — доносил ревностный протестант, — а без этого невежда не может приобрести знание». На прелатов, пользовавшихся новым служебником, смотрели просто как на еретиков. Один из членов паствы епископа Мизского объявил ему: «Знай только народ, как это сделать, он бы съел вас». Протестантизму не удалось отвлечь от старых убеждений ни одного ирландца, но он успел поднять против короны всю Ирландию. Новая борьба за общую веру устранила старые политические различия, созданные завоеванием Стронгбау. Население внутри и вне «Палисада» объединилось, согласно верному замечанию, «не как ирландский народ, а как католики». В религиозном единстве открылось новое чувство национального единства. «И англичане, и ирландцы начинают одинаково противиться приказам вашего лордства, — писал много лет раньше Браун Томасу Кромвелю, — и забывать свои прежние национальные распри».
Со вступлением на престол Марии I этот слабый ирландский протестантизм незаметно исчез. В Ирландии не было протестантов, кроме новых епископов, и когда Бэл бежал за море, а его товарищи были низложены, церковь вернулась к своей прежней форме. Однако попытки восстановить монастыри не было, и Мария I с такой же энергией, как и ее отец, пользовалась своей властью, низлагала и назначала епископов и не допускала вмешательства папы Римского в ее церковную политику. Она восстановила мессу, вернула значение старым обрядам богослужения, и религиозное несогласие между правительством и его ирландскими подданными на время было устранено. Однако с избавлением от одной опасности появилась другая. Англии все больше надоедала примиренческая политика, которой настойчиво следовали Генрих VIII и его сын. Пока она сопровождалась именно таким успехом, какого ожидали Уолси и Кромвель: вожди спокойно принимали систему, а их кланы подчинялись новому порядку, следуя их примеру. «Подчинение графа Десмонда легко повлекло за собой подчинение остального Менстера. Пожалование в графы О’Брайена покорило всю эту область». Мак-Уильям стал лордом Клэнрикардом, а Фицпатрики — баронами Верхнего Оссори. Посещение английского двора крупным вождем севера, принявшим титул графа Тайрона, считалось важным шагом в деле цивилизации Ирландии.
На юге, где постепенно распространялось господство английского права, вожди заседали рядом с английскими мировыми судьями, и кое-что было сделано для ослабления распрей и беспорядка у диких племен, обитавших между Лимериком и Типперари. «Люди могут спокойно проходить по этим графствам, не боясь грабежа или другой обиды». В графстве Клэнрикард, некогда опустошенном войной, «изо дня в день развивается земледелие». Но в графстве Тайрон и на севере старые неурядицы господствовали безраздельно; да и всюду ход развития своей медлительностью раздражал терпение английских наместников. Между тем единственная надежда на действительный успех заключалась именно в терпении, а были признаки того, что дублинскому правительству надоедало ждать. При протекторе Сомерсете «грубое обращение» с вождями наместника сэра Беллингэма вызвало мятежные настроения, исчезнувшие только тогда, когда истощение казны заставило его вывести гарнизоны, расставленные в сердце страны. При Марии I его преемник, лорд Суссекс, бесплодно производил набег за набегом на упорные племена севера и однажды сжег Армагский собор и три церкви.
Более серьезным нарушением примиренческой системы послужило принятие Суссексом постоянно отвергавшегося Генрихом VIII проекта английской колонизации: он отдал английским поселенцам область О’Конноров и образовал из нее графства, названные в честь Филиппа II и Марии Тюдор графствами короля и королевы. Между поселенцами и обезземеленными кланами тотчас началась жестокая борьба, окончившаяся только при Елизавете истреблением ирландцев. Для размежевания пустых земель были назначены комиссары с целью распространить колонизацию и на другие округа, но гнет войны с Францией положил конец этим широким планам. Елизавета сразу признала обезземеливание и колонизацию опасными, и благоразумный Сесиль вернулся к более надежной, хотя и более медленной системе Генриха VIII.
Однако между туземцами уже распространилась боязнь английского нашествия, и это вызвало восстание севера Ирландии и появление вождя гораздо более энергичного и способного, чем те, с какими до того приходилось бороться правительству. Переход графства Тайрона к вождю О’Нейлов неизбежно привел к столкновению между системами наследования, признанными английским и ирландским правом. После смерти графа Англия признала наследником титула его старшего сына, а клан настаивал на своем старом праве выбора вождя из среды семьи и предпочел младшего сына, более законного, — Шона О’Нейла. Суссекс поспешил на север, чтобы решить вопрос силой оружия; но прежде, чем он достиг Ольстера, деятельный Шон сумел успокоить своих соперников, О’Доннелей Донегэла, и привлек на свою сторону скоттов Антрима. «С прибытия моего сюда, — писал лорд Суссекс, — ни ирландец, ни скотт никогда не решались противиться англичанину — в поле или в лесу»; но Шон снова воодушевил своих воинов и, напав на войско наместника с отрядом вдвое меньшим, отбросил англичан в беспорядке к Армагу. Обещанное помилование побудило его посетить Лондон и выразить притворную покорность, но едва он вернулся домой, как отказался от ее условий и остался фактически властителем севера, расстроив в утомительной борьбе попытки лорда-наместника захватить или отравить его. Успех еще больше разжег его честолюбивые планы; он вторгся в Коннаут и захватил Клэнрикард, а на представление Дублинского совета отвечал смелым вызовом: «Мечом приобрел я эти земли и мечом же буду их защищать».
Но его смелость не устояла перед искусством и энергией сэра Генриха Сидни, преемника лорда Сассекса. В то время как английская армия продвигалась от «Палисада», Сидни вызвал восстание против О’Нейлов враждебных им кланов севера; Шон был разбит О’Доннелями, искал убежища в Антриме и в пьяной ссоре был изрублен в куски своими хозяевами. Победа Сидни (1567 г.) обеспечила несчастной стране десять лет мира; но папы Римские уже выбрали себе Ирландию полем, на котором им было удобно вести борьбу с Елизаветой. На деле религиозного вопроса здесь почти не существовало. Правда, со вступлением Елизаветы на престол церковная политика протестантов была восстановлена на словах: снова возобновили отречение от Рима, новым актом единообразия острову навязали английский служебник и вменили в обязанность присутствие на службе, в которой он применялся. Как и прежде, все, казалось, подчинились закону; ему последовали даже епископы ирландских округов, и единственные известные нам исключения оказывались на крайнем юге и на севере, где, ввиду отдаленности, сопротивление не представляло опасности.
Но настоящей причиной этого внешнего подчинения «Акту единообразия» было то, что фактически оно оставалось мертвой буквой. Не было возможности найти достаточного числа английских священников или ирландских, которые были бы знакомы с английским языком. Одной из самых образованных епархий была Мизская, но и там из ста священников едва ли десять знали какой-либо язык, кроме своего. Обещание перевести служебник на ирландский язык никогда не было исполнено, и заключительное постановление самого акта позволяло употребление латинского перевода впредь до дальнейшего приказа. Но, подобно другим постановлениям, и это не соблюдалось, и во все царствование Елизаветы дворянство «Палисада» спокойно посещало мессу. В сущности, религиозного преследования не было, и в множестве жалоб Шона О’Нейла мы не находим упоминания о религиозных притеснениях за веру.
Далеко не так смотрели на дело Рим и Испания, католические миссионеры и ирландские изгнанники. Они утверждали и, может быть, верили, что ирландский народ страдает от религиозного преследования и стремится от него избавиться. Когда в 1579 году папа Римский задумал самое крупное и широкое выступление против Елизаветы, он увидел в преданности ирландцев католицизму рычаг для низвержения еретической королевы. Стекли, ирландский изгнанник, давно внушал папе Римскому и Испании план высадки в Ирландии, и наконец его мысль была осуществлена высадкой небольшого отряда на берегах Керри. Несмотря на прибытие в следующем году 2 тысяч папских солдат в сопровождении легата, попытка закончилась жалкой неудачей. Новый наместник, лорд Грей, принудил к сдаче форт Смеруик, где укрепились пришельцы, и беспощадно истребил его гарнизон. После долгих колебаний на помощь им восстал граф Десмонд, но был разбит и подвергся преследованию в своей собственной области, которую доведенные до жестокости преследователи обратили в пустыню. Безжалостное наказание Менстера распространило в стране страх, принесший большую помощь Англии, когда борьба с католицизмом достигла высшей степени при отражении Армады. В тот памятный год вожди сохраняли спокойствие; они только избивали несчастных людей, потерпевших крушение у берегов Бентри и Сдиго.
С тех пор вся страна признавала власть правительства; но эта власть основывалась только на страхе. В годы, последовавшие за подчинением Менстера, насилие и вымогательство солдатчины, опьяненной грабежом и кровопролитием на юге, вызвали мятеж более грозный, чем те, с какими до того приходилось иметь дело Елизавете. Общая ненависть к притеснителям снова объединила племена Ольстера, разъединенные политикой Сидни, а в Хью О’Нейле они нашли вождя, даже искуснее Шона. Хью был воспитан при английском дворе и по манерам и обращению стал англичанином; за постоянную верность в годы прежних восстаний он был награжден пожалованием графства Тайрон, а в споре с соперником из своего клана он обеспечил себе помощь правительства, предложив ввести в свою новую область английские законы и разделение на графства. Но, едва он стал бесспорным хозяином севера, как постепенно его тон изменился. С заранее ли обдуманным намерением, или, подозревая в англичанах замыслы против себя, он занял наконец явно вызывающее положение. В то самое время как договор в Вервенсе и крушение второй Армады освободили Елизавету от войны с Испанией, восстание Хью О’Нейла нарушило спокойствие, господствовавшее со времени побед лорда Грея. Ирландский вопрос снова стал главной заботой королевы.
Сначала казалось, что прежнее счастье ей изменило. Поражение английских войск в Тайроне вызвало общее восстание кланов севера; а предпринятая в 1599 году настойчивая попытка подавить растущее восстание окончилась неудачей из-за тщеславия и непослушания, если не преступного соучастия, наместника королевы, молодого графа Эссекса. Его преемник, лорд Маунтджой, при своем прибытии нашел в своей власти только несколько миль вокруг Дублина; но за три года восстание было подавлено. Испанский отряд, высадившийся для его поддержки в Кинсейле, был вынужден сдаться. Овладев страной, англичане закрепили ее за собой линией крепостей. Энергия и беспощадность нового наместника сокрушили всякое открытое сопротивление, а голод, последовавший за опустошением страны, докончил разрушительное действие меча.
Хью О’Нейл с торжеством был доставлен в Дублин; граф Десмонд, снова поднявший восстание в Менстере, искал убежища в Испании, и наконец дело завоевания было закончено. В годы правления преемника Маунтджоя, сэра Чичестера, была сделана серьезная и ловкая попытка умиротворить завоеванную область введением всюду чисто английской системы управления, суда и землевладения. Все следы старого кельтского устройства страны были отвергнуты как «варварские». Закон отнял у вождей их власть над кланами и поставил их в положение крупных вельмож и землевладельцев; члены кланов из подданных превратились в арендаторов, плативших своим лордам только известные обычные оброки и повинности. Система кланового землевладения была уничтожена, и наделы членов клана были превращены в чиншевые участки (copyholds) английского права. Таким же путем у вождей было отнято их наследственное право суда, и английская система решения дел судьями и присяжными заменила суд по обычному праву брегонов.
Всему этому кельты противопоставили непреклонное упорство своей расы. Ирландские присяжные, как и теперь, отказывались обвинять. Члены кланов были рады освобождению от произвольных вымогательств своих вождей, но все еще считали их начальниками. По внушению из Англии Чичестер сделал попытку ввести религиозное единообразие, но потерпел неудачу: англичане «Палисада» оказались такими же католиками, как и природные ирландцы, и единственным следствием попытки было создание на общей религиозной основе единого ирландского народа. Впрочем, твердое, но умеренное управление наместника достигло многого, и уже появлялись признаки готовности народа постепенно усваивать новые обычаи, — как вдруг при преемнике Елизаветы (в 1610 г.) английский совет принял и провел великую революционную меру, известную под именем колонизации Ольстера. Мирная консервативная политика Чичестера была заменена политикой широких конфискаций: две трети Северной Ирландии были объявлены собственностью короны ввиду того участия, какое ее владельцы принимали в недавней попытке восстания, а земли, приобретенные таким образом, были разделены между новыми поселенцами из Шотландии и Англии. В материальном отношении заселение Ольстера, несомненно, сопровождалось блестящим успехом. Среди печальных пустошей Тайрона всюду появились хутора и усадьбы, церкви и мельницы. Городской совет Лондона предпринял колонизацию Дерри и дал маленькому городу имя, столь прославленное его геройской защитой. Основы материального благосостояния, поставившего Ольстер выше остальной части Ирландии по богатству и просвещению, положены, несомненно, конфискацией 1610 года. Кроме тайного недовольства, эта мера в свое время не вызвала никакого сопротивления; выселенные туземцы угрюмо удалились на земли, оставленные им грабителями. Но эта мера отняла у ирландцев всякую веру в справедливость англичан и посеяла семена рокового недоверия и вражды, с которыми впоследствии приходилось бороться при помощи тирании и кровопролития.
Заселение Ольстера вывело нас за границы описываемого периода. Блеск побед Маунтджоя озарил последние дни Елизаветы, но не мог разогнать печали умирающей королевы. Она всегда была одинокой, а по мере приближения к могиле ее одиночество еще усиливалось. Политики и воины ее первых лет один за другим исчезали из ее Совета, а их преемники выжидали ее последних минут и интриговали из-за милостей будущего государя. Ее любимец, лорд Эссекс, был вовлечен в нелепое восстание, приведшее его на эшафот. Старый блеск ее двора побледнел и исчез. При ней остались только одни должностные лица; «прочие члены совета и вельможи при всяком случае уклоняются». При появлении ее перед публикой народ, одобрения которого она всегда добивалась, соблюдал холодное молчание. Менялся дух века, и по мере этого ее одиночество все усиливалось. Выросшая вокруг Елизаветы новая Англия с ее серьезностью, прозаичностью и моралью относилась холодно к этому блестящему, причудливому, бессовестному детищу светского Возрождения.
Елизавета наслаждалась жизнью так, как наслаждались ею люди ее времени, и теперь, когда они исчезли, держалась за нее с тем большим упорством. Она охотилась, танцевала, шутила со своими молодыми любимцами; в 67 лет она кокетничала, бранилась, шалила, как делала это в тридцать. «Королева, — писал за несколько месяцев до ее смерти один придворный, — уже много лет не была так кокетлива и не стремилась так к увеселениям». Несмотря на отговоры, она продолжала свои пышные переезды из одного поместья в другое. Она по-прежнему занималась делами и по своей обычной привычке бранила «тех, кто не хотел уступать ей в важных вопросах». Но смерть приближалась. Лицо королевы приобрело дикий вид, ее фигура превратилась в скелет. Наконец, у нее исчезло ее стремление к щегольству, и она по целым неделям отказывалась менять платье. Ею овладела странная меланхолия: «Она держала в руках золотой кубок, — говорил человек, видевший ее перед смертью, и часто подносила его к губам, но ее сердце, казалось, было слишком переполнено, чтобы нуждаться в наполнении». Постепенно она теряла рассудок. Она утратила память, ее бурный характер стал невыносимым; казалось, ее покинуло даже мужество. Она велела класть постоянно возле себя меч и время от времени прорывала им обои, как будто за ними ей представлялись убийцы. Она потеряла вкус к пище и ко сну. День и ночь она сидела в кресле, обложенная подушками, приставив палец к губам и уставив глаза в пол, не говоря ни слова.
Однажды она прервала молчание вспышкой своей прежней властности. Когда Роберт Сесиль сказал ей, что она «должна» лечь в постель, слово это подействовало на нее, как звук трубы. «Должна! — воскликнула она; разве можно говорить государям — должны? Жалкий человек, жалкий человек! Если бы твой отец был жив, он не решился бы употребить это слово». Потом, когда ее гнев прошел, она впала в прежнее уныние. «Ты потому так самонадеян, — сказала она, — что, как ты знаешь, я должна умереть». Она оживилась еще раз, когда окружавшие постель министры назвали в качестве возможного преемника лорда Бошана, наследника притязаний Суффолков. «Я не хочу, чтобы мне наследовал сын негодяя!» — громко закричала она. Когда упомянули короля Шотландии, она не сказала ничего и только кивнула головой. Она постепенно теряла сознание, и на другой день, рано утром, угасла жизнь Елизаветы, — жизнь столь великая и в своем величии столь необыкновенная и одинокая.
1
Карл V, король Франции, преследовал при этом 2 цели — освободить свою страну от банд наемников и попытаться посадить на престол Кастилии своего ставленника, чтобы в союзе с ним продолжить борьбу с Англией. (Прим. ред.)
(обратно)2
Легитимность этих претензий под сомнением из-за отсутствия признания оставшейся части населения Франции. (Прим. ред.)
(обратно)3
Церковный иерарх объявил, что еще до брака с Елизаветой Вудвилл Эдуард IV тайно женился на другой женщине, и из-за этого его дети — незаконнорожденные — не имели никакого права на наследование престола. В этих обстоятельствах трон должен был перейти к детям брата Эдуарда IV — герцога Кларенса, но тот по приказу Эдуарда IV был казнен, а дети были также убиты Тюдорами — сын по приказу Генриха VII, а дочь — по приказу Генриха VIII. (Прим. ред.)
(обратно)4
Бекингэм-Генри Стаффорд (1454—1483) был приверженцем Ричарда III и помог захватить престол; затем перешел в оппозицию и попытался сам захватить королевский престол, но безуспешно, и был казнен. (Прим. ред.)
(обратно)5
Имеется в виду Амбуазский заговор, жестоко подавленный. (Прим. ред.)
(обратно)6
Екатерина Медичи не хотела войны обессиленной Франции с сильной Испанией, которая бы закончилась поражением первой и гибелью династии Валуа. Поэтому нужно было ликвидировать вождей гугенотов во главе с Колиньи, которые втягивали Францию в конфликт с Филиппом II. (Примеч. ред.)
(обратно)

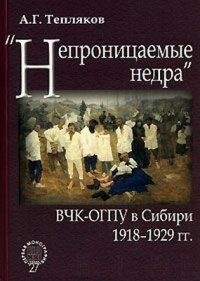



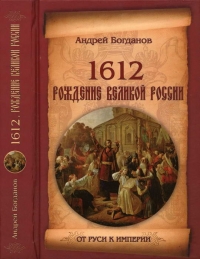

Комментарии к книге «Британия. Краткая история английского народа. Том 1.», Джон Ричард Грин
Всего 0 комментариев