Илья Кукулин МАШИНЫ ЗАШУМЕВШЕГО ВРЕМЕНИ (Как советский монтаж стал методом неофициальной культуры)
Монтажное мышление неотрывно от общеидейных
основ мышления в целом.
С. М. Эйзенштейн. «Диккенс, Гриффит и мы» (1942)Ясно, что монтаж — не самоцель. Важно, однако, различать монтаж
в обычном смысле этого слова от другого явления, которое имеет сходство
с монтажом, но значительно шире и глубже этого понятия.
Дзига Вертов. Из дневника (1953)Была трава, трава пробивалась сквозь асфальт. Была работа с клеем
и ножницами, теперь все позабыто, позаброшено.
Ладно.
Был такой, как же, как же, отлично помню.
П. П. Улитин. «Путешествие без Надежды» (1974)Илья Владимирович Кукулин — кандидат филологических наук, доцент Школы культурологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (Москва), старший научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий (НИУ ВШЭ), старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва).
От автора
Н. И. Клейману,
с глубокой благодарностью
Мне показалось полезным написать эту книгу, чтобы заполнить лакуну, образовавшуюся в гуманитарных исследованиях за последние четверть века. Яркие теории, объясняющие историю русского авангарда, с одной стороны, и исследования русской неподцензурной литературы советского периода, с другой, до недавнего времени мало соотносились между собой. Положение стало меняться только в последние годы[1]. Еще важнее, что и те и другие исследования ограничены именно российским материалом — если не считать работ, объясняющих происхождение русского художественного авангарда, например, от французского кубизма или от других инокультурных эстетических движений. Последующая эволюция русского авангарда и развитие русской неподцензурной литературы советского периода почти не контекстуализированы в пространстве эволюции европейских и американских культур. При всем своеобразии русского авангарда или феномена русской неподцензурной литературы они не были экзотическими явлениями в европейском контексте. Надеюсь, что эта книга дает концептуальные средства, помогающие избавиться от такой экзотизации, основанной на культурном эссенциализме.
В книге я старался уклониться от пересказа исторических сведений об известных, оформленных художественных течениях, таких как футуризм, кубизм или конструктивизм, — и потому, что по этому вопросу существует много исследований, и потому, что, как я полагаю, монтаж в искусстве стал методом, по своему значению выходящим далеко за пределы этих течений. Именно поэтому я склонен скорее анализировать решаемые отдельными авторами эстетические проблемы, чем указывать названия групп и направлений.
Той же установкой на объединение разных подходов в исследовании монтажа объясняется и наличие в моей книге сведений, по отдельности хорошо известных историкам различных национальных литератур (русской, германской, французской, литературы США…), историкам философии или киноведам, равно как и цитат, которые многие специалисты могут счесть хрестоматийными. Однако объединение этих разнородных данных в рамках единого контекста — истории многообразных типов семантизации монтажа как эстетического метода — позволяет очертить контуры нового проблемного поля, в котором можно выделить ранее не описанные «силовые линии» развития культуры XX века. Такая перекомпоновка контекста дает новые данные, чтобы критически обсудить существующие концепции соотношения авангарда и социалистического реализма в искусстве.
Все неоговоренные переводы иноязычных цитат и названий выполнены автором книги.
В своей работе я пользовался постоянными консультациями коллег. Если у этой книги и есть достоинства, то этим я во многом обязан их рекомендациям. Недостатки работы — целиком на моей совести.
Я благодарен Полине Барсковой, Ивану Болдыреву, Оксане Булгаковой, Михаилу Габовичу, Борису Гаспарову, Александру Дмитриеву, Евгению Добренко, Владимиру Забродину, Галине Зелениной, Зиновию Зинику, Валерию Кислову, Науму Клейману, Клаудии Кривеллер, Юрию Левингу, Станиславу Львовскому, Елене Михайлик, Дарье Невской, Сергею Панову, Никите В. Петрову, Яну Пробштейну, Ричарду В. Темпесту и Александру Эткинду. Благодарю Сергея Зенкина, Марка Липовецкого и Михаила Ямпольского, которые согласились быть рецензентами этой книги — их консультации тоже были для меня очень важны. Я глубоко благодарен Елене Шумиловой, которая поддержала меня и взяла на себя труд правки рукописи.
Книга подготовлена на основе статей, ранее опубликованных в журналах, в том числе с системой внутреннего рецензирования (peer-reviewed journals). Значительная часть текста написана заново, однако я благодарен редакторам и внутренним рецензентам, которые дали мне ряд ценных рекомендаций.
Идея статьи, положенной в основу главы о Солженицыне, была в свое время поддержана покойным Леонидом Константиновичем Козловым, который дал мне несколько важнейших источниковедческих и киноведческих рекомендаций.
Я благодарю мою маму Эллу Кукулину и мою тещу Елену Броннер, которые помогали нашей семье в течение всех последних лет. Это дало мне возможность, выполняя все прочие обязательства, интенсивно заниматься научными исследованиями.
Есть человек, чья помощь при работе над этой книгой — как и над всеми иными моими работами — была совершенно неоценима. Это моя жена и коллега Мария Майофис. Без ее постоянной поддержки, советов и научных консультаций эта книга не могла бы быть написана.
* * *
P. S. Позволю себе завершить эту вступительную заметку постскриптумом не вполне академического характера.
Я начал работу в одну эпоху, а заканчиваю в другую. 1 марта 2014 года завершился исторический период, начавшийся в 1987–1988 годах с перестройки в СССР и антикоммунистических восстаний в Восточной Европе. Того мира, к которому я, как мне казалось, привык, больше нет.
В этой ситуации я задаю себе вопрос: кому и зачем могут быть интересны те историко-культурные сюжеты, о которых я говорю в своей книге? Можно утешаться стоическими мыслями о том, что плоды научного познания нужны всегда и имеют самостоятельную, не прикладную ценность — всеми теми гносеологическими императивами, о которых говорил Макс Вебер в своей знаменитой лекции «Wissenschaft als Beruf» («Наука как призвание и профессия», 1918), прочитанной 7 ноября 1917 года, ровно за год до начала революционных событий в Германии. Но сегодня положения этой лекции дают только интеллектуальное успокоение, а этого недостаточно.
В новой ситуации те сюжеты, о которых говорит эта книга, видятся острее и иначе, чем прежде. В разные периоды XX — начала XXI века художники-нонконформисты чудесным образом возвращали искусству способность сопротивляться идеологии национальной исключительности, государственной агрессии, монологической самоуверенности, застывшим претензиям на величие. Всем этим установкам они противополагали подвижность образов, многоголосие мира, отсутствие единственной, привилегированной точки зрения, чувство, что история не закончена, — и осознание права каждой частной человеческой жизни, потерянной в ее потоке, на собственный, пусть и тихий голос. Они не только изобретали новые методы, но и использовали старые, прежде служившие идеологизированному искусству и, казалось, безнадежно сросшиеся с задачами социального конструирования.
Способность современного искусства придавать методам радикального авангарда социально-критический пафос, возвращаться от массовой к индивидуализированной этической точке зрения не всегда заметна, но очень устойчива. Иначе говоря, этическая рефлексия в искусстве обнаруживает удивительные способности к регенерации даже в самых неподходящих условиях. Сегодня изучение этой регенерации приобретает далеко не только историко-культурный смысл.
Москва 2 марта 2014 г.Введение
1
Русская литература советского периода, как и русская культура в целом, была разделена на три отдельных поля, или «русла» — легальную, неподцензурную и эмигрантскую. Ни одно из этих полей не было цельным, и на каждом историческом этапе каждое из них имело очень сложную морфологию и динамику. Такая «многосоставность» делает особенно трудной задачей изучение того, как соотносились и взаимодействовали эти поля в прошлом и какое влияние каждое из них оказывает на сегодняшние культурные процессы.
Наиболее сложный вопрос — отталкивание и взаимодействие легальной и неподцензурной литератур, которые сосуществовали на одной территории. «Граница, которую обоюдно проводили между собой… неофициальные авторы и члены Союза писателей, должна быть учтена как факт их исторического сознания»[2]. Сегодня уже ясно, что эти два пространства были разделены не только и даже не столько тем, что одни авторы позволяли себе писать на темы, не дозволенные цензурой, а другие не позволяли и ограничивали себя, чтобы иметь возможность быть опубликованными. Они были разделены разными представлениями об эстетике и о роли искусства в обществе и в истории: одни готовы были приспосабливаться к идеологизированной литературной системе, чтобы иметь возможность прямо обратиться к читателям — или, например, к начальству; другие считали, что «правда» — как бы ни понимать это слово — сама найдет себе дорогу к аудитории; третьи полагали, что решение эстетических задач и/или самодетерминация художника средствами творчества важнее сиюминутного отклика.
11 февраля 1965 года Андрей Синявский заявил на суде над ним и Юлием Даниэлем: «Особенности моего литературного творчества <…> отличаются от того, что у нас принято, <…> не политикой, а художественным мироощущением». В одном из первых интервью после переезда во Францию в 1973 году Синявский сказал, что его «расхождения с советской властью — чисто стилистические»; это выражение стало крылатым[3]. В дальнейшем исследователи неподцензурной литературы (В. Кривулин, М. Айзенберг[4]) многократно писали о том, что ее главные особенности связаны не столько с тематикой, сколько с общими литературно-эстетическими и антропологическими ориентирами авторов.
Иначе говоря, можно предположить, что легальная и неподцензурная литературы были основаны на разных принципах представления смысла, то есть на разных типах мимесиса — при всей проблематичности использования термина «мимесис» в искусстве XX века, часто ориентированном на создание собственной, ни на что иное не похожей реальности. Одним из наиболее продуктивных методов для анализа различия в типах мимесиса я считаю сопоставление путей, по которым в легальной и неподцензурной литературе (и в целом в разных полях российской культуры) шла трансформация эстетического метода, который, апеллируя к внешней реальности (в отличие, например, от абстрактного искусства), с очевидностью поставил под вопрос аристотелевские представления о мимесисе. Этот метод — монтаж.
2
У слова «монтаж» как у эстетического термина, как хорошо известно, есть два смысла: узкий и широкий. В узком смысле монтаж — это метод организации повествования в кинематографе. В широком — совокупность художественных приемов в других видах искусств: произведение или каждый образ раздроблены на фрагменты, резко различающиеся по фактуре или масштабу изображения. Примеры такой гетерогенности — фотоколлажи; нарочито дискретные композиции в поэзии или прозе, свидетельствующие о фрагментарности действия или разорванности индивидуального восприятия; чередование в литературном произведении коротких отрывков с существенно разной стилистикой; контрастное столкновение в визуальной работе материалов разной фактуры; визуальное или словесное изображение одновременно происходящих действий, при котором синхронность демонстрируется с помощью чередования коротких фрагментов, репрезентирующих эти действия; резкая и частая смена точек зрения (в понимании Б. А. Успенского[5]) внутри одного текста или визуальной работы.
В произведении искусства, использующем один или несколько из этих композиционных приемов, особую роль приобретают «монтажные стыки», указывающие не только на гетерогенность, но и на сознательную сконструированность произведения. В литературном произведении такие «стыки» могут быть оформлены как графические пробелы между короткими фрагментами или скачкообразный, немотивированный перенос действия в другое место или другую эпоху.
Подобный тип организации образов и композиционной структуры сознательно нарушает важнейшие принципы классического европейского («аристотелевского») мимесиса, в целом, несмотря на эксперименты Ренессанса, барокко и романтизма[6], сохранявший свою силу до начала XX века — изображение события как единого целого, а мира, представленного в произведении, — как внутренне связного и сомасштабного[7]. Философ Владимир Библер говорил: «…Монтаж следует понимать как организующий принцип культуры XX века, но, вместе с тем, монтажом можно назвать лишь то, что существует в культуре XX века»[8].
Монтаж в широком смысле слова предполагает, что мир словно бы нарезан на фрагменты, а затем организован в новом порядке[9], и эта «переделанность» не просто заметна читателю, зрителю или слушателю, но и становится конститутивным признаком произведения. Однако каждый из элементов новой картины (или хотя бы их часть) так или иначе опознаваем, поэтому монтаж может быть описан и как новый тип мимесиса — или как реактуализация на новом этапе периодически воспроизводящегося в истории культуры представления о мимесисе как об изображении «истинного» (то есть скрытого) смысла явлений, а не их внешних признаков. Ср., например, романтические версии такого представления — противопоставление продуктивного «подражания» и непродуктивного «копирования» в эстетике С. Т. Кольриджа или предложенную немецким философом и литературоведом Фридрихом Теодором Фишером (1807–1887) замену понятия мимесиса на понятие вчувствования (die Einfühlung), предполагающее, что художник «следует не за предметом, а за ощущениями, возникающими при восприятии предмета»[10].
Авангард выработал новое, критическое понимание мимесиса, в явной форме оспаривающее аристотелевское представление об искусстве как подражании. Владимир Паперный писал, что для «Культуры Один»[11] в целом характерны апелляции к «правде назначения, функции, конструкции, работы материала, закономерностей восприятия». Этот отказ от традиционного мимесиса, согласно Паперному, и обусловил популярность монтажа среди раннесоветских кинорежиссеров[12].
Модернистский монтаж, во всем разнообразии его эстетических вариантов и возможностей, может быть понят через новую интерпретацию, которое понятие «мимесис» получило во второй половине XX века в работах немецкого философа Теодора Адорно (1903–1969) и французского философа — Филиппа Лаку-Лабарта (1940–2007). Оба они интерпретировали понятие «мимесис» как двусмысленное, амбивалентное[13]: с одной стороны, это подражание образцам (классическим, рекламным, медийным и т. п.), нивелирующее человеческие различия и разнообразие психологических реакций, с другой — открытость Другому, отменяющая наличное человеческое «я» и влекущая за собой готовность изменить свою личность, а равно и творчество. В этом случае — если следовать за мыслью Лаку-Лабарта — мимесис потенциально предполагает разрыв любого тотального, застывшего единства и его представления в произведении. Организацией, композиционным структурированием таких разрывов потенциально является монтаж.
Критерий потенциальности вводится здесь потому, что монтаж в искусстве тоталитарных режимов предполагает восстановление такого тотального единства — уже на новом уровне, как сплошного становления. Примером «монтажного становления», при котором любой разрыв интерпретируется как знак стремительного роста, можно считать финал сценария С. Эйзенштейна «Генеральная линия» и снятого по нему фильма «Старое и новое» (1926–1928):
Рушили ветряные мельницы. Разворачивали старые прогнившие избы.
Веером от силы трактора взъерошивались бревна.
Вдрызг разбивались мельницы одноногие, кулацкие логовища.
Эскадра машин обработала завоеванную землю. Хлеб на широкополосных полях вырос так, как может расти только в кинематографе. В две минуты.
И не только хлеб. В полминуты поросята превращались в тридцатипудовых хряков, угрозой становясь для Дании.
Цыпленок «превращался» в пятнадцатитысячные массы.
Смерчем ураганным, плотиной прорвавшейся забило зерно в элеваторы, в мешки, в закрома, в мельницы.
[…]
(Староста в очках — Михаил Иванович [Калинин] — взмахнул рукой, показав масштаб, и сказал, улыбаясь:
— КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!)[14]
Пояснение о хлебе «…вырос так, как может расти только в кинематографе. В две минуты» высказано из метапозиции режиссера, воспринимающего один и тот же монтаж как метод создания фильма и программирования материальной реальности, которая призвана «догнать» искусство.
3
Главными, центральными свойствами монтажа в расширительном понимании являются контрастность и/или эстетическая оформленность «стыков» между различными элементами изображения — эпизодами книги или фильма, фрагментами картины или плаката. В этом моя точка зрения близка к концепции Владимира Библера: «Между двумя монтажными фразами оказывается гигантская пропасть, заполненная… творческой работой зрителя и слушателя. Монтаж одновременно оказывается сгущенным и, вместе с тем, разреженным, так что [мы] обязательно воспринимаем эти два звена как бесконечно… отстоящие друг от друга»[15].
Во многих литературных произведениях чередуются несколько сюжетных линий, чаще всего две — от «Одиссеи» Гомера до «Анны Карениной» Л. Толстого. Чередование эпизодов, относящихся к разным сюжетным линиям, я не считаю достаточным основанием, чтобы связывать произведение с эстетикой монтажа, так как вплоть до конца XIX века такое чередование обычно было миметическим: сначала излагался законченный эпизод одной сюжетной линии, потом — такой же законченный эпизод другой, и писатели почти никогда не «прыгали», разрывая события внутри сюжетной линии (за редчайшими исключениями — такими, как произведение Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» («Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman», 1759–1767)). Однако к монтажу близок метод, примененный Дж. Дос Пассосом в романе «Манхэттен» («Manhattan Transfer», 1925), где сюжетные линии сменяются внезапно и непредсказуемо.
Простейшей и наиболее общеизвестной эстетической формой немотивированной «стыковки» сюжетов является газетная полоса. Различные тексты на ней сосуществуют симультанно и объединены только самой общей жанрово-тематической «рамкой» — все они относятся к новостям самого недавнего времени и, если полоса специализированная, к определенному типу новостей — культуры, спорта, иностранной политики или общественной жизни. В этих текстах представлены точки зрения самих журналистов и участников событий. Эстетика газетной полосы оказала существенное влияние на развитие монтажных принципов в литературе.
Начиная с XVII века появляются литературные тексты, где по ходу развития сюжета эксплицитно меняются повествователи и, соответственно, точка зрения на события — сначала эпистолярные романы[16], а затем, в XIX веке, и произведения, где смена точки зрения не имеет привычной «эпистолярной» мотивировки, например, «Лунный камень» Уилки Коллинза (1866) — роман, в котором разные главы написаны от лица разных героев. Такие произведения могут быть названы «предмонтажными», так как один из важнейших типов монтажа в кино и литературе — это заметное, отчетливое чередование разных точек зрения. Специально такие приемы чередования проанализированы в книге Б. А. Успенского «Поэтика композиции», но я склонен понимать этот прием как явление монтажа только в том случае, если «стыки» между фрагментами, изложенными или изображенными с разных точек зрения, сделаны предметом эстетической обработки. Такой эффект возникает, например, в случаях, когда произведение имитирует сборник разнородных документов и появляется контраст не только между точками зрения, но и между высказываниями в разной модальности — допустим, в произведении соединены письма, отчеты, протоколы собраний, фрагменты исторических трудов или имитация таких фрагментов. Примеры подобных произведений, явно испытавших влияние стилистики монтажа, — романы Карела Чапека «Война с саламандрами» (1935) и Торнтона Уайлдера «Мартовские иды» (1948).
В кинематографе различают монтаж планов и монтаж эпизодов[17] — то есть соответственно соединение фрагментов единого события, снятых с разных точек зрения, и последовательное соединение съемок разных событий. В рамках такого терминологического различения предметом изучения в этой книге являются аналоги монтажа планов в других искусствах — или те случаи, когда монтаж эпизодов представлен как монтаж планов, то есть когда переход от одного события к другому представлен как резкая смена точки зрения (или способа видения, или модальности).
Монтажная композиция в литературе воспринимается как необычная и в то же время функциональная в том случае, если ее фрагменты соотносимы «на глаз», иначе говоря, если фрагментация вносит в текст дополнительное ритмическое членение, аналогичное стихотворному[18], но более слабое и менее урегулированное.
Если соотносимые фрагменты текста велики, совпадают с границами главы или части, то его построение уже не может быть определено как монтажное — оно выходит за пределы максимальных ограничений «сверху». Однако в некоторых случаях разные части произведения могут быть большими, но контрастными по отношению друг к другу, а «стыки» между ними так или иначе подчеркнуты, даны как выделенные элементы. В таких случаях я полагаю, что композиция все же функционально аналогична монтажному построению. Примеры таких произведений с обширными частями, которые разделены выделенными стыками, — романы М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1929–1940) или Д. Митчелла «Облачный атлас» («Cloud Atlas», 2004).
В качестве «минимальных» единиц монтажа могут выступать отдельные слова — когда, например, автор нарочито меняет словоразделы, как это происходит в палиндромах, омограммах, панторифмах, каламбурных рифмах. Как известно, подобные приемы использовались еще в древности, в российской же поэзии стали восприниматься как актуальный прием и получили особое распространение в 1850–1860-х годах — ср., например, каламбурные рифмы Дмитрия Минаева: «В ресторане ел суп сидя я, / Суп был сладок, как субсидия…» («В ресторане ел суп сидя я…», 1865[19]) — или Василия Курочкина: «…Или искать красоту в безобразии / Азии…» («Я не поэт — и, не связанный узами…», 1859[20]). Однако в 1910–1920-х годах возникает вторичное осмысление этого приема как особого рода микромонтажа — после того как формируется «обычная» монтажная эстетика.
Такое переосмысление произвел Алексей Крученых в своих эссе «Сдвигология русского стиха» (1922) и «Фактура слова» (1923). Несмотря на окончание «-логия» и использование научного термина «фактура», научными эти эссе не были, хотя, судя по лексике и концептуальным ходам, испытали влияние формалистского (Осип Брик) и околоформалистского (Сергей Бобров) научного стиховедения[21]. В своих работах Крученых предлагает воспринимать один и тот же звуковой комплекс в стихе одновременно в двух режимах: обычном и «сдвинутом». Например, строку из стихотворения Сергея Рафаловича (1875–1944) «Расколотое зеркало» — «Сплетя хулу с осанною…» — Крученых переписывает как «сплетяху лу сосанною» и потом интерпретирует значение каждого из этих слов: «сплетяху», по его мнению, — это церковнославянский глагол, «Лу» — сокращение имени Лулу, а «сосанною» — то ли имя собственное, то ли производное от глагола «сосать»[22]. Из-за этих фонетических манипуляций словораздел у Крученых становится эстетически выделенным, подчеркнутым элементом стиха, в отличие от «традиционных» игр в духе поэтов «Искры», где внимание читателя сосредоточено не на словоразделе, а на неожиданном словесном составе самого каламбура (у Минаева: «суп сидя я — субсидия», «курбеты — [не] Курбе ты»).
Эссе («трахтаты») Крученых могут быть рассмотрены как манифесты наиболее радикального направления в тогдашнем поэтическом авангарде, использующего в качестве одного из методов микромонтаж на фонетическом уровне. Ср. также ранние эксперименты Александра Введенского, вероятно, знакомого с крученыховской идеей «сдвигологии»:
супруг с супругоЮ в кровати она замужем АОННА вате («Парша на отмели», 1921–1923[23]) («АОННА вате» — «а он на вате».)В своей «сдвигологии» Крученых, по-видимому, ориентировался на идею «ритмико-синтаксических фигур» О. Брика, в свою очередь восходящую к стиховедческим концепциям Андрея Белого. Впервые эта идея была высказана в докладе Брика «О стихотворном ритме», прочитанном на заседании Московского лингвистического кружка 1 июня 1919 года[24]. Неявно откликаясь на идеи Брика, Крученых переразделяет стихотворную строку не по осмысленным словам, а по ритмическим комплексам.
Впоследствии эта мысль вызвала яростные возражения А. Белого, который спорил не с Крученых, а с менее радикальными по духу формалистами, — но невольно пересказывая «сдвигологию»:
…ни поэт не скандирует стихов во внутренней интонации, ни исполнитель, кем бы он ни был, поэтом или артистом, никогда не прочтет строки Дух отрицанья, дух сомнения как Духот рицанья, духсо мнения, от сих «духот», «рицаний» и «мнений» — бежим в ужасе.[25]Через несколько десятилетий после Крученых и Введенского Д. А. Пригов еще больше радикализовал прием подчеркивания словоразделов, образуя заумные слова с помощью механического передвижения словоразделов, нарочито не учитывающего ритмических фигур:
Я придумал для японцев два слова: Васл Ова Я придумал про Японию еще два: Юещед Ва Я придумал название японской рыбы: Скойр Ыбы […] И было написано японское японское: Онскоеяп онское[26]Этим приемом Пригов в своих стихах пользовался не часто, но регулярно. Как и в случае Крученых, актуализированный словораздел здесь выступает как аналог монтажного «стыка», денатурализирующий «естественность», «понятность» слова[27].
В целом можно констатировать, что при обращении к аналогам монтажных методов в литературе на протяжении XX — начала XXI века в качестве функциональных элементов могли быть задействованы фрагменты чрезвычайно разной длины — от части слова до раздела большого романа.
4
В истории монтажа в XX–XXI веках можно выделить три типологически различные стадии. Принципы монтажа могли оставаться одними и теми же: это рекомбинация семантических элементов и/или построение нарочито дискретного по своей структуре произведения искусства. Но монтаж на этих трех этапах развития исполнял разные функции и предполагал разные представления о человеческом «я».
Эйзенштейн воспринимал свою монтажную работу как элемент истории и орудие ее переделки. Эта точка зрения была радикальной, но не уникальной. Не столь волюнтаристски настроенные авторы в первой половине XX века тоже считали монтаж частью истории и производством нового смысла. Почти для всех для них монтаж имел конструирующую функцию. Она могла ассоциироваться с конструктивизмом как конкретным эстетическим движением, но эта связь была факультативной: не только конструктивисты считали монтаж методом реконструкции сознания, которое больше не может безотчетно существовать в истории, заново осознает историю и поэтому иначе, чем прежде, представляет себе будущее.
С семиотической точки зрения каждый акт монтажа в визуальных искусствах и в литературе — построение новой знаковой структуры из отдельных элементов уже существующих систем означающих (дискурсов и/или невербальных образно-символических порядков — то есть визуальных образных структур, разных типов фактуры, геометрических форм и т. п.). Каждый из входящих в монтажную конструкцию элементов «вынимается» из прежнего контекста и наделяется новым смыслом. Но если прежний смысл воспринимался как окончательный, новый смысл никогда не завершается, всегда открыт в будущее.
Как показали философы языка во второй половине XX века — от позднего Л. Витгенштейна в «Философских исследованиях» до Жака Деррида, — действующий в языке процесс означивания имеет темпоральный характер и никогда не завершен. Пользуясь метафорическим языком Деррида, наделение языковых элементов значением никогда не окончательно и всегда до некоторой степени «отложено на потом». В обыденном языке этот временной аспект означивания заметен мало, в языках искусства — сильнее: например, рождение смысла метафоры имеет безусловно временной характер. Об этом очень ярко писал еще О. Мандельштам в своем эссе «Разговор о Данте» (1933). Философскую концептуализацию этой темпоральности дал прежде всего Поль Рикёр, вряд ли знавший о Мандельштаме, но испытавший влияние тех же, что и русский поэт, философских концепций начала XX века, которые связывали язык, темпоральность и субъективность — в частности, Бергсона[28]. Монтаж радикализирует и этот временной аспект (так как в нем соположение знаков из разных контекстов и «рядов» ничем не опосредовано), и условный характер языкового знака.
Лев Кулешов и Дзига Вертов описывали монтаж как создание нового языка, в котором художник заново определяет правила сочетания элементов[29]. С. М. Эйзенштейн в своих работах интерпретировал монтаж как построение особой, антропологически значимой метафоры, направленной на перестройку сознания реципиента (зрителя). В не опубликованной при жизни книге 1937 года он сопоставляет монтаж с синхронным рассмотрением разных предметов, складывающихся в новый образ. Эйзенштейн показывает, что такая перестройка сознания занимает короткое, но психологически ощутимое время[30], более того — она является конструированием новых типов восприятия: «…только тупое, бесплодное и беспомощное, паразитическое искусство живет за счет эксплуатации наличного запаса ассоциаций и рефлексов, не создавая из них цепи новых образов, слагающихся в новые понятия»[31].
Эйзенштейн ссылался на официальную в 1937 году идеологию «интернационалистической народности» и в целом на сталинистскую интерпретацию марксизма-ленинизма («…мы будем близиться ко все более и более полному воплощению и самой истинности нашего социалистического бытия…»[32]), но важно, что для него и новизна монтажного образа, и перестройка сознания зрителя способствовали изменению исторического процесса.
Из всех создателей эстетики европейского литературного модернизма наиболее критически к представлению о монтаже как о конструктивном элементе истории был настроен Джеймс Джойс, но описанное представление отчасти разделял и он. Герой «Улисса» Стивен Дедалус говорит: «История… это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться» — и думал про себя: «А вдруг этот кошмар даст тебе пинка в зад?»[33] Для центральных персонажей «Улисса» возможно сотворение образа другой истории, чем та, что им дана (с кровавой борьбой за независимость Ирландии), которая на протяжении романа многократно переходит во внеисторический миф — и вновь становится историей.
Монтаж, таким образом, в первой половине XX века воспринимался как форма волюнтаристски направленной трансценденции: «я» художника словно бы выпрыгивало за свои пределы — туда, где оно не может предугадать, какой смысл приобретут элементы монтажного образа, но брало на себя определение направления, в котором будет разворачиваться это означивание.
Другое осознание функций монтажа вызревало постепенно на протяжении 1930-х годов. «Острый», конфликтный монтаж в это время уходит из кино, но сохраняется в литературе, живописи, плакатной графике. В творчестве Брехта, Дж. Дос Пассоса, К. Чапека, А. Белинкова проступало представление о монтаже как о методе сопротивления истории, который не дает возможности открыть будущее заново, но показывает историю как абсурдную и непредсказуемую, чреватую постоянным разрывом между намерением и осуществлением. Монтаж приобретает новую функцию — критики идеологии, и не только «чужой», но любой. Любая законченная система взглядов на историю и прогресс — в том числе коммунистическая — подлежала сатирическому осмеянию, как у Чапека, или остранению, как во фрагментах газет, подобранных Дос Пассосом в трилогии «США». Производя монтажные образы, эти художники стремились создать «искусственную позицию» (в философской терминологии А. М. Пятигорского[34]), с которой можно было бы сопротивляться представлению об истории как неизбежности.
Причина этого изменения была очевидна — торжество тоталитарных режимов в Европе[35] и, как следствие, кризис утопических надежд на построение справедливого общества. В статье «Эпилог» (1948) А. Дёблин писал: «Я видел, как мир — природа, общество — подобно многотонному железному танку подминает под себя человека, людей»[36]. Под этими словами могли бы подписаться многие сверстники немецкого писателя.
«Монтажное» отсрочивание значения в этот период связывалось уже не с трансценденцией «я», а с представлением об автономном произведении искусства, которое проясняет всю степень неопределенности окружающего мира. Чрезвычайно подробным и точным описанием такого «отсрочивающего» свое значение произведения можно считать мандельштамовский «Разговор о Данте», в котором «Божественная комедия» интерпретирована как «обратимая и обращающаяся поэтическая материя, существующая только в исполнительском порыве»[37]. Мандельштам хорошо понимал исторический смысл своей интерпретации, заметив в черновых набросках к «Разговору…»: «Дант… орудие в метаморфозе свертывающегося и развертывающегося литературного времени, которое мы перестали слышать, но изучаем и у себя и на Западе как пересказ так называемых „культурных формаций“»[38]. Упомянутые Мандельштамом «формации» — это репрезентации истории как тотальности.
Монтаж, основанный на критическом представлении о соотношении искусства и истории, может быть назван постутопическим.
Представление о новом историческом сознании первым ясно сформулировал Вальтер Беньямин в своих «Тезисах о понятии истории» (начало 1940)[39], ставших ответом на подписание в Москве пакта между социалистическим СССР и нацистской Германией. Об этой функции «Тезисов…» философ пишет практически прямо, интерпретируя ситуацию их создания как «…момент, когда политики, бывшие надеждой противников фашизма, повержены и подтверждают это поражение предательством своего дела»[40]. Собственный метод Беньямин называет «историческим материализмом», понимая под этим не сталинскую квазимагическую риторику из 4-й главы «Краткого курса истории ВКП(б)»[41], а отказ от любых идеологических иллюзий во взгляде на историю. Одна из важнейших мыслей Беньямина такова: в истории всегда торжествует точка зрения победителя, и для реабилитации побежденного и забытого нужно найти точку, в которой можно увидеть историю со стороны, как пространство обреченного бытия, которое может быть спасено только приходом Мессии, то есть неисторическим событием, взрывающим само понятие причинно-следственной связи.
Любой побеждавший до сего дня — среди марширующих в триумфальном шествии, в котором господствующие сегодня попирают лежащих сегодня на земле. Согласно давнему и ненарушаемому обычаю, добычу тоже несут в триумфальном шествии. Добычу именуют культурными ценностями. Исторический материалист неизбежно относится к ним как сторонний наблюдатель. Потому что все доступные его взору культурные ценности неизменно оказываются такого происхождения, о котором он не может думать без содрогания.
[…]
Для мышления необходимо не только движение мысли, но и ее остановка. Там, где мышление в один из напряженных моментов насыщенной ситуации неожиданно замирает, оно вызывает эффект шока, благодаря которому кристаллизуется в монаду. Исторический материалист подходит к историческому предмету исключительно там, где он предстает ему как монада.
(с. 83, 87)Видение истории под знаком торжества иррациональных, губительных сил связано с монтажом, который может пригодиться для того, чтобы спасти побежденных в прошлом, а для этого — реконструировать привычный образ настоящего. Именно такую функцию монтаж имеет в творчестве Дёблина и Дос Пассоса, позже — Павла Улитина.
Как ни странно, эта функция монтажа исторически является более ранней, чем утопическая, — она была изобретена еще в XIX веке, но опознать ее можно только ретроспективно, контекстуализируя более ранние произведения среди более поздних. Цель книги Александра Герцена «С того берега» (1849, 1855[42]) — осмыслить поражение Французской революции 1848 года, которое стало для Герцена крахом гегельянских представлений о прогрессе и просветительских представлений об истории. Композиционные принципы, примененные в этой книге Герценом, предвосхищают монтаж — это импрессионистическое чередование мемуарных записей о днях революции и диалогов о смысле исторического процесса между неназванными или лишь мельком описанными собеседниками.
Основная мысль книги — яростная критика любых представлений об истории как о предсказуемом и последовательном развитии, как о цельном нарративе в гегелевском духе[43]. В этом разрыве с историзмом XIX века Герцен перекликается с позднейшими размышлениями Беньямина — но не вполне. Один из участников герценовских диалогов, максимально близкий к автору, говорит: «Человек… дома в истории, — но из ваших слов можно подумать, что он гость в природе; как будто между природой и историей каменная стена. Я думаю, он там и тут дома, но ни там, ни тут не самовластный хозяин»[44].
В своих «Тезисах о понятии истории» этнический еврей Беньямин выразил чувство, возможно, первоначально специфически еврейское, но ставшее в XX веке достоянием людей многих культур и социальных групп: частный человек в истории вообще не дома, его отношение к историческому процессу должно быть выработано заново, его права жильца ни на чем не основаны. (Недаром Дж. Джойс делает своего главного героя полуевреем, а свою знаменитую реплику о кошмаре Стивен произносит в ответ на антисемитские ламентации Дизи.)
Судьба Французской революции 1848 года вообще способствовала обострению как историософской, так и эстетической рефлексии у наиболее чутких европейских авторов. Точно в то же время, когда Герцен писал статьи и эссе, составившие книгу «С того берега», — в 1849–1852 годах — в другой части Германии В. А. Жуковский создал поэму «Четыре сына Франции», композиция которой тоже явственно предвосхищает монтажную: поэма состоит из четырех эпизодов, контрастных по содержанию, но изоморфных по структуре[45]. Она показывает приход к власти Луи-Наполеона Бонапарта (еще первого президента республики, а не императора Наполеона III) в 1848 году как «водевильный» вариант Великой французской революции и демонстрирует ту же мысль, что чуть позже высказал Карл Маркс в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта», цитируя Г. В. Ф. Гегеля: история повторяется сначала как трагедия, потом как фарс.
По-видимому, предмонтажные методы в искусстве позднего романтизма и последующих периодов могли стихийно возникнуть в ситуации, когда автор, надеющийся на то, что история наделена смыслом, сталкивается с тем, что события идут, с его или ее точки зрения, абсурдно. Более поздний пример такой трансформации — визуальные произведения дадаистов конца 1910-х — начала 1920-х годов: «Дадаисты часто придают своим работам квазикартинную, „антропоцентрическую“ структуру, в центре которой оказывается объект, не способный, однако, отрегулировать связи и отношения в мире, еще недавно казавшемся таким знакомым и уютным, теперь же раскалывающемся на части» (Андрей Фоменко[46]).
Первую мировую войну, после которой возникает монтажное искусство, современники сравнивали с Французской революцией 1848 года. Ромен Роллан описывал эти два события как «крушение великих надежд» и «великих иллюзий», наступившее после периода «экзальтированной веры в прогресс и человечество»[47].
Развитие монтажа в его функции критики утопий и идеологий — иначе говоря, как постутопического — в послевоенную эпоху привело к осознанию истории и идеологии как опасных пространств, в которых действуют отчужденные от человека и властвующие над ним/над ней дискурсы.
Исследователи постмодернистского искусства много раз писали о том, что монтаж является его важнейшим методом. В постмодернистскую эпоху монтаж приобретает функцию не только критики идеологии, но, вместе с этим, анализа дискурсов, «населяющих» человеческое сознание. «Отсрочивание» значений перестает связываться с любой идеей трансценденции, оно указывает на композитность, «цитатность» человеческого «я», на необходимость постоянно различать между «своим» (никогда не окончательно «своим») и «чужим» (тоже не окончательно).
В совокупности эти техники могут быть определены как фрагментация языков на основе их феноменологического анализа, осуществленного художественными средствами[48]. Для того чтобы выделить «руину» или осколок языка, который определенным образом (если угодно, по определенной автором траектории) отсылает к целому, необходимо произвести сначала анализ этого языка, дать образ языкового поведения. Одним из первых, кто эксплицитно сделал такой анализ частью самого художественного произведения, стал Джеймс Джойс в романе «Улисс» (1914–1921).
Развитие такого аналитического метода можно проследить в сочинении французского поэта и прозаика Раймона Кено «Упражнения в стиле» (1947) и стихотворениях Льва Рубинштейна 1970–2000-х годов. Один из важнейших приемов Рубинштейна — создание своего рода каталога дискурсов «типовой» художественной или разговорной речи[49]. Единицами этого каталога становятся карточки, на которых записаны произведения Рубинштейна.
В каждом из фрагментов, помещенных на карточке, значимы и «типичность» языка, и эмоциональный тон, создающийся, несмотря на эту клишированность элементов. Формированию обновленной эмоциональности текста во многом способствует именно фрагментация. Еще один прием Рубинштейна — сложная игра синтагматики и парадигматики: с одной стороны, перед нами — вроде бы чистый каталог (наподобие Кено), но с другой — фрагменты ассоциативно связаны друг с другом и в этом смысле организованы парадигматически. Такая игра, равно как и динамический баланс между разговорными и литературными стилями, и не вполне отчужденная эмоциональность произведения — все это составляет тот шаг вперед, который делает Рубинштейн по сравнению с Кено. По словам М. Н. Айзенберга, «читатель [стихотворений Рубинштейна — ] посредник в сложном экспериментальном путешествии по стилям и языкам, выясняющем их сегодняшние границы»[50].
41.
Другой голос: Послушайте, от ваших дьявольских фантазий даже как-то не по себе становится. Вас послушать, так и жить не стоит…
42.
Другой голос: Если хотите, можете проводить меня. Ну, хотя бы до станции. Хоть чуть-чуть вы джентльмен, я надеюсь?
43.
Другой голос: Сначала приведи себя в порядок. Посмотри, на кого ты похожа…
44.
Другой голос: Значит, так. Никуда ты сейчас не пойдешь, а немедленно разденешься и вернешься за стол. Это раз. Второе. Чтобы никаких так называемых «страданий» я на твоей роже не видел. Третье. Всякому, кто осмелится в твоем присутствии хотя бы отдаленным намеком — ну сам понимаешь, — тому придется иметь дело со мной. Это тебя, надеюсь, устраивает? Ну, раздевайся, раздевайся. Не дури, старик.
45.
Другой голос: Куда ж теперь пойдешь? Отовсюду гонят… Везде попрекают… Повеситься, что ли?
46.
Другой голос: И что же? И что же прикажете делать? Назад пути нет — это ясно. Оставаться на месте? Ну, нет, это не по мне. Так, значит, — навстречу судьбе? Ну что ж — я готов. (В зал.) А вы что же молчите? Не останавливаете меня? Не утешаете? Ведь одно человеческое слово может иногда спасти от гибели. Впрочем, что это я говорю? С кем это я говорю? Прощайте.
(«Все дальше и дальше», 1984[51])Такую функцию монтажа можно назвать дискурсивно-аналитической, или историзирующей. Читатель, зритель или слушатель, настроенный на ее восприятие, вычленяет в элементах монтажного образа отсылки прежде всего к языкам, составляющим историю — общества, или культуры, или того и другого вместе. Анализ дискурсов и историзация — две стороны одной и той же смысловой работы. Монтаж в этой функции призван (вспомним призыв Беньямина) спасать забытые, «вытесненные» языки или забытые смыслы — прямо или апофатически, демонстрируя условность и искусственность «языков-победителей», влияющих на сознание не только читателей, но и автора[52]. В этом смысле описываемая функция монтажа близка к аутотерапии художника.
Позволю себе методологическое отступление. Из-за внимания «монтажных» авторов XX века, особенно его второй половины, к феноменологии языка я не обращаюсь в этой работе к концепциям Михаила Бахтина — при работе со сходной проблематикой конфликта языков и образных систем в рамках одного произведения. В концепции Бахтина и его друзей-соавторов (Валентина Волошинова и других) предполагалось, что анализ «спорящих» в произведении или в человеческом сознании языков осуществляется не автором произведения, а его исследователем[53]. Предложенная здесь интерпретация монтажа делает использование такой методологии невозможной. Говоря резко, каждый из ярких авторов монтажных произведений — Джойс, Э. Паунд, С. Эйзенштейн, Дж. Дос Пассос, П. Улитин — был сам себе Бахтин.
Еще одна новая функция монтажа была открыта в 2000-е годы, хотя «в себе», неопознанно, изредка использовалась и прежде. Лучше всего она видна на примере digital storytelling — создаваемых в Интернете композиций из текста, фотографий и видеозаписей; визуальные, а иногда и текстовые элементы digital stories часто могут быть заимствованными с других сайтов, но переосмысленными[54]. При отрефлексированном использовании такие digital stories, созданные из «чужих» элементов, представляют картину человеческой личности как незамкнутой и состоящей из множества «голосов» или инстанций. Монтаж выражает и эту множественность, и эту незамкнутость.
Отдельные элементы digital storytelling’а имеют разную модальность выражения. Различие в модальности использовалось в монтажных экспериментах еще в первой половине XX века: ср., например, включение материальных предметов в коллажи кубистов и особенно — контраст между игровыми театральными сценами, кинофрагментами и текстовыми комментариями в театре Эрвина Пискатора. Но теперь оно выражает множественность состояний личности и тех «режимов социальной вовлеченности»[55], в которых она участвует.
Эту функцию монтажа можно назвать мультиплицирующей. Современная литература только недавно начала работать с ней. Эта функция (пока?) очень неустойчива, потому что для дальнейшего ее развития необходимо постоянное возвращение к представлению о монтаже как средстве посттравматической терапии, выработанном на второй стадии.
Эта книга разделена на четыре части. В первой обсуждается конструирующий монтаж, еще не утративший утопических иллюзий, во второй — постутопический, в третьей — историзирующий, в 11-й главе и в заключении — мультиплицирующий.
5
В наибольшей степени монтаж получил развитие в российском искусстве начала 1920–1930-х годов. И в СССР, и в Европе, и в США использование монтажных методов стало одной из важнейших черт «большого стиля» эпохи[56]. Однако именно в СССР монтаж в наибольшей степени определял этот стиль и воспринимался критиками и образованными читателями и зрителями как идеологически маркированный метод — как важнейшая черта революционной эстетики, созданной в стране, которая строит небывалое прежде общество.
«Острый» монтаж использовался не только в фильмах Сергея Эйзенштейна, Льва Кулешова, Александра Довженко, Дзиги Вертова и многих других, но и в советской фотографии — достаточно вспомнить коллажи и плакаты Александра Родченко и Густава Клуциса[57]. Примерами аналогичного метода в театре можно считать, например, спектакли Вс. Мейерхольда 1920-х годов, такие как «Озеро Люль» по пьесе А. Файко (соответственно, в сценографии — эксперименты Виктора Шестакова, художника-постановщика мейерхольдовского Театра Революции), постановки И. Терентьева, драматургию С. Третьякова или пьесу Л. Лунца «Бертран де Борн» (1922), действие которой должно было идти поочередно на трех рядом расположенных сценах; впоследствии три сцены должны были быть в зрительном зале «Тотального театра» Эрвина Пискатора, проект которого был подготовлен Вальтером Гропиусом в Германии в 1927 году, но не реализован[58]. В поэзии приемы, аналогичные киномонтажу, заметны в сочинениях того же Третьякова и двух других ведущих поэтов ЛЕФа — Маяковского и Асеева[59], в прозе — в сочинениях Бориса Пильняка и Артема Веселого, в драматургии — на примерах в диапазоне от Даниила Хармса («Елизавета Бам», 1927) до ранних пьесах Всеволода Вишневского[60].
В искусстве Западной Европы и Северной Америки примерами «монтажного мышления» являются фильмы Д. У. Гриффита и Абеля Ганса, театр Эрвина Пискатора и Бертольта Брехта, коллажи Ласло Мохой-Надя, проза Дж. Джойса, А. Дёблина, Дж. Дос Пассоса и К. Чапека[61]. В поэзии монтажное мышление разработал Эзра Паунд в своих стихотворениях 1910–1960-х годов, прежде всего вошедших в цикл «Cantos» — Паунд был вообще одним из наиболее острых и оригинальных теоретиков и практиков нового метода искусства[62].
Монтажные эксперименты в искусстве России, Германии и США рано оказали влияние и на еврейскую литературу — идишскую и ивритскую — через творчество тех авторов, которые жили в этих странах[63]. Сказать об этом необходимо потому, что в среде еврейских художников Восточной Европы и Германии шел интенсивный обмен эстетическими идеями западноевропейского, русского и собственно еврейского происхождения, в 1920-е — начале 1930-х повлиявший на развитие советского искусства. Особенно важна здесь Культур-Лиге («Лига культуры») — левая организация, созданная в Киеве в 1918 году и имевшая свои отделения в Варшаве и Берлине; после того как в начале 1920-х годов деятельность киевского офиса Культур-Лиге была фактически парализована большевиками, варшавское отделение стало главным[64]. К Культур-Лиге принадлежал Эль Лисицкий, впоследствии — одна из центральных фигур советского авангарда 1920-х.
В творчестве еврейских поэтов и художников Берлина были выработаны выразительные средства для описания современного города, в том числе и монтажные[65]. Идишский поэт и прозаик Мойше Кульбак жил в Берлине в 1920–1923 годах и сотрудничал с Эрвином Пискатором. Некоторое влияние монтажной эстетики заметно в его романе «Зелменянер» («Зелменяне», 1931) и особенно в поэме «Диснер Чайлд Харолд» («Чайльд Гарольд из Дисны», 1933), повествующей о Берлине 1920-х. В США урбанистический монтаж в идишской поэзии в 1920-е годы создали авторы литературной группы «Ди Инцикистн» («Интроспективисты»), издававшие журнал «Ин зих» («В себе») и провозгласившие, несмотря на его название, что идишская поэзия сможет развиваться, только если откажется от специфически еврейских тем. В группу входили Якоб (Янкев) Глатштейн (1896–1971), Арон Гланц-Лейелес (1889–1966) и Нохум Борух Минков (1893–1958).
Элементы монтажа стали появляться в идишской литературе и раньше, в самом начале XX века, — под влиянием западноевропейской импрессионистской прозы и для передачи катастрофических ощущений, вызванных волной погромов начала XX века. Здесь следует обратить внимание на «протомонтажный» по структуре повествования рассказ Ламеда (Леви) Шапиро (1878–1948) «Крест» (1909), который сделал молодого писателя знаменитым[66]. Впоследствии Шапиро использовал «кинообразные» эффекты в своих описаниях Нью-Йорка, куда он переехал в 1911 году.
6
Общая и главная черта монтажной эстетики в литературе и драматургии — разделение текста не на главы, акты или явления, а на фрагменты, эпизоды или, как говорили русские формалисты, «куски» (одно из любимых словечек Шкловского), каждый из которых не соответствует течению единого события, но изображает его часть. Событие «кадрируется», как изображение в кино. Соединение «кусков» не обусловлено логически — или, во всяком случае, может не быть обусловлено, такая возможность всегда сохраняется.
В рамках этого типа организации нарратива можно выделить несколько важнейших приемов, которые могут встречаться по отдельности или использоваться все сразу.
1. Дробление текста на короткие «колоны», иногда нумерованные (А. Белый, А. Ремизов, Б. Пильняк, Д. Хармс, в литературе второй половины XX века — Л. Рубинштейн).
2. Ритмизация прозаического текста или его графическое разбиение, подчеркивающее ритм (А. Белый, Б. Пильняк, А. Веселый, сценарии С. Эйзенштейна, некоторые фрагменты «Красного колеса» А. Солженицына, «Школа для дураков» С. Соколова, поздняя проза Ю. Давыдова). В этом случае ритм берет на себя функцию замены логической сюжетной связи между фрагментами.
3. Резкое, подчеркнутое чередование точек зрения, которое возникает в результате либо частой смены повествователей (вступление к пьесе С. Третьякова «Рычи, Китай!»), либо включения в текст таблиц, писем героев, имитаций документов, отчетов и т. д. (в русской литературе — от романов Б. Пильняка и поэмы И. Сельвинского «Пушторг» (1927) до романа Л. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» (2006), в других литературах — трилогия «США» Дж. Дос Пассоса, «Берлин, Александерплац» А. Дёблина, «Война с саламандрами» К. Чапека).
4. Скачки повествования во времени, обращение причинно-следственных связей (А. Белый) или их разрыв (проза О. Мандельштама), внешне не мотивированные смены места действия. Последнее — очень частый прием в прозе 1920-х, вышедший далеко за пределы монтажной эстетики, — ср., например, «Трест Д. Е.» И. Эренбурга или «Месс-Менд» М. Шагинян. Однако в монтажной прозе эти скачки соединены с нарушением традиционных композиционных схем.
Структурные аналоги этих приемов в искусстве фотографии описал Густав Клуцис еще в 1931 году:
«а) разномасштабность в целях активизации ударного момента, вместо традиционной и ограниченной перспективности…
б) контраст по цвету и форме;
в) активизация путем освобождения (вырезание) от инертного фона и перенесение его на активный цвет (предельный контраст ахроматического цвета с хроматическим)»[67].
Андрей Фоменко добавляет к этому еще минимум один прием — ритмизация изображения, введение в него многократно повторенной фигуры. Ср., например, открытку Клуциса из цикла «Спартакиада» (1928).
Дэвид Бордуэлл, первым изучивший роль монтажа в советской культуре[68], сразу отметил и историческую динамику метода: в начале 1930-х годов использование монтажа резко сокращается. Причину этого он видел в давлении «бюрократии» на культуру и в том, что руководители СССР и его культурных институций требовали от художников соответствовать консервативным вкусам[69]. Однако, если рассматривать советскую культуру в международном контексте, этого объяснения окажется недостаточно. Чуть позже, в середине 1930-х, мода на резко выраженную монтажную эстетику сама собой, без явного внешнего давления уходит и из культур стран Западной Европы и США, а в 1950-е годы «демонстративный» монтаж снова начинает привлекать внимание кинорежиссеров (возможно, как стилизационная отсылка к кинематографу 1920-х) и представителей других видов искусств, пример — метод «нарезок» (cut-up), переоткрытый в 1950-е годы американским писателем Уильямом Берроузом и его другом, писателем и художником Брайаном Гайсином.
Эту трансформацию на материале кино проследил и сам Д. Бордуэлл в более поздних статьях[70]. При включении истории советского монтажа в международный контекст вопрос о том, в какой степени уход монтажа из советской культуры можно считать следствием только насильственного давления — бюрократии, цензуры или каких бы то ни было еще социальных акторов, — остается открытым.
Через несколько лет после появления первопроходческой статьи Бордуэлла Владимир Паперный написал книгу «Культура Два», в которой предложил другой ответ на вопрос, поставленный американским киноведом. История русской культуры в книге Паперного была, в традиции Генриха Вёльфлина, осмыслена как чередование двух типов семиотических систем: технократической, основанной на горизонтальных связях «Культуры Один», и иерархически-имперской «Культуры Два», пронизанной культом жизни и плодородия. Монтаж 1920-х был описан в этой книге как закономерное проявление «Культуры Один», которое должно было отмереть вместе с ней[71].
«Культура Два» в СССР стала репрезентацией новой, репрессивной и всеподавляющей «технологии власти» (пользуясь выражением А. Авторханова), но не была навязана «сверху»: согласно Паперному, эту стилистическую систему с энтузиазмом выработали те художники, которые готовы были действовать в новой политической ситуации 1930-х годов. В 1950-х же в советскую культуру вернулись некоторые элементы «Культуры Один», хотя и в смягченном виде[72].
Паперный представил свою циклическую схему как объяснение истории только русской культуры, поэтому из его книги все же неясно, что случилось с модой на монтаж в Западной Европе и США и почему она вновь вернулась в 1950-е — потому ли, что правила периодического возвращения «Культуры Один» действуют и там, или по какой-то иной причине.
На основе существующих работ по истории культуры XX века[73] я позволю себе выстроить гипотетическую схему, объясняющую описанные Паперным процессы культурной динамики. Дальнейшие части этой книги призваны по возможности обосновать и детализировать эту схему.
Центральные идеи своей работы я попытался обобщить в восьми коротких параграфах, которые будут последовательно раскрыты и аргументированы в последующих главах этой книги.
7
1. В 1900–1920-е годы монтаж в искусстве разных стран был понят как метод динамического изображения современности. Современность понималась как пространство производства утопии и как «движущаяся история», ткущаяся здесь-и-сейчас из конфликтов и противостояний, но также и как эпоха, принципиально отличавшаяся от всех предшествующих в антропологическом и психологическом отношении. Во многом эстетика монтажа питалась коллективным переживанием современности как психологической травмы. Это переживание было порождено сначала стремительной урбанизацией, а затем мировой войной и последовавшими гражданскими войнами в ряде европейских государств.
2. Монтажные принципы уже в 1900–1910-е годы имели разные семантические функции в разных произведениях, в дальнейшем эти типы семантики монтажа эволюционировали параллельно, оказывая влияние друг на друга.
3. В СССР отличие современности от предшествующих эпох было идеологизировано и политизировано: сегодняшний день представлялся в советских газетах, на радио, в литературе и в кино как момент радикального разрыва между «старым» и «новым». Ведущей силой в создании «нового» провозглашались специфически советские акторы — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) как «авангард всего человечества», или все строящееся советское общество в целом, или сами строители «новой жизни», в числе которых могли быть и партийные, и беспартийные, но обязательно с «передовым» сознанием (например, Марфа Лапкина из фильма С. Эйзенштейна «Старое и новое», 1929). Такую картину действительности в значительной степени поддерживало большевистское руководство, но сама она опиралась на представления о прогрессе, сформировавшиеся у русской интеллигенции еще в дореволюционную эпоху[74]. Значительную роль в развитии монтажа играла его способность быть наиболее убедительной для своего времени репрезентацией сбывающейся на глазах утопии.
Монтаж в советской культуре был органическим порождением различных европейских типов монтажа, однако в некоторых случаях монтажные приемы авторы, жившие в СССР, использовали для критического переосмысления большевистской историософии — иначе говоря, для сопротивления ей. Произведения, основанные на такой критике, с неизбежностью оказывались «вытесненными» из поля легальной советской литературы — или самими авторами не предназначались для прохождения через цензуру.
4. И в Западной Европе, и в Северной Америке, и в СССР в 1930-е годы само представление о современности претерпело изменения — но по разным причинам[75]. В западноевропейско-американском регионе ослабело — или, в некоторых случаях, стало более привычным — общее ощущение социального кризиса, вызванное ломкой жизни после Первой мировой войны. Развитие массовой культуры и общее стремление к эмоциональному эскапизму в ситуации надвигавшейся Второй мировой войны привело к распространению в искусстве (особенно в кино) мелодраматических сюжетов, не требовавших при своем изображении монтажных приемов. Напротив, такие сюжеты располагали к «плавным», неконфликтным типам повествования или изображения.
В нацистской Германии приемы, ассоциировавшиеся с «левым» и «дегенеративным» искусством, оказались фактически под запретом, а использовавшие их авторы вынуждены были эмигрировать. Однако были и художники, которые стали авторами своего рода «нацистского авангарда», соединявшего неоклассицистические образы и резкие монтажные приемы[76], — в первую очередь здесь следует назвать женщину-кинорежиссера Лени Рифеншталь (фильмы «Победа веры», 1933; «Триумф воли», 1935; «Олимпия», 1936–1938).
Тогда же, в 1930-е годы, в СССР власти совершили резкий социально-политический поворот (в терминологии Д. Бранденбергера — «национал-большевистский»), который привел — отчасти через ряд опосредований, отчасти благодаря прямым директивным указаниям — к формированию «Культуры Два» и представлению о современности как о пространстве триумфов, а не как о трамплине для строительства утопии. В своем самопредставлении СССР из экспериментального, научно обоснованного образца новых общественных и политических отношений, значимого для всего человечества, превратился в цветущую империю, достигшую всего, чего только можно желать. В этих условиях приобрели огромное значение мелодраматические сюжеты, созданные под влиянием голливудского кино и американских мюзиклов и способствовавшие «эндогенному» угасанию монтажа[77].
В советской культуре эти сюжеты получили новое идеологическое обоснование. Они призваны были эмоционально мобилизовать аудиторию и «натурализовать» большевистскую идеологию в ее новой, имперской версии и представить ее как «естественную» и единственно возможную для советского общества[78].
5. Не стоит, однако, считать, что элементы авангардной эстетики были полностью вытеснены из советской культуры 1930-х годов. Их влияние уменьшилось, монтажные приемы оказались перенесены в новый контекст, но все же сохранились.
В европейских и американской литературах вкус к монтажным приемам в предвоенные годы сохранили лишь те художники, которые воспринимали переживаемый исторический период как переходный или катастрофический. В литературе это — К. Чапек, Дж. Дос Пассос (трилогия «США», 1930–1936), А. Дёблин, отчасти Луи-Фердинанд Селин (резкие переходы с одной темы на другую, аналогичные монтажным склейкам, в романе «Путешествие на край ночи», 1932).
В 1930-е годы в западных культурах и в русской неподцензурной литературе формируется постутопический монтаж. Он более не отсылает к желательному будущему и не показывает современность как «место битвы» за это будущее. Его задача — изображение истории и/или современности как серии болезненных разрывов, фрагментирующих личный биографический и социальный опыт. В 1940-е годы эта семантика монтажа закрепляется окончательно.
Отчасти черты постутопического монтажа появились в этот период и у тех художников, которые сохраняли надежду на будущее радикальное изменение человеческого сознания — Бертольта Брехта и Сергея Эйзенштейна.
6. В 1950–1960-е годы в СССР монтаж был вновь адаптирован как в неподцензурной, так и в легальной литературе, а также в кинематографе. Однако возрождение монтажа в западных культурах и в СССР в этот период не было возвратом к традиции 1920-х годов. И на Западе, и особенно в СССР этот монтаж по-прежнему был не утопическим, а постутопическим, однако переосмысление традиции монтажа происходило в этот период на иных основаниях, чем в 1940-е.
Если в 1920-е годы монтаж — особенно в его советской интерпретации — демонстрировал реальность как разорванную и развивающуюся через конфликты, то в 1950–1960-е монтажные приемы свидетельствовали в большей степени об автономии произведения искусства и о гетерогенности человеческого сознания. Произошедшее изменение можно назвать персонализацией монтажа.
В эпоху «первого расцвета монтажа» этот метод представлял историю как насилие — с точки зрения его адепта, свидетеля или жертвы. В период «возвращения» монтаж мог быть использован для демонстрации сопротивления насилию, творимому от лица истории революционными партиями или тоталитарными режимами, и для критики утопического сознания.
Все эти изменения накапливались подспудно в 1930–1940-е годы. В СССР их возникновение можно проследить по немногочисленным произведениям неподцензурной литературы этого периода.
7. В 1970-е стилистическая традиция, восходящая к 1920-м годам и тогдашним версиям монтажа — советским или западным, — и в неподцензурном, и в легальном искусстве перестает восприниматься как актуальная, но становится предметом исторической рефлексии. Начиная с 1970-х монтаж говорит о том, что современность перестала быть одновременностью разных, равно значимых событий. На место представления о единой «современности» приходит представление о настоящем времени как о точке встречи фрагментов истории и дискурсивных практик, разъединенных и взаимно отчужденных в личной памяти людей под влиянием исторических травм XX века.
8. Монтаж стал одним из важнейших методов модернистского, авангардного и постмодернистского искусства XX века. Изучение его истории в русском искусстве позволяет поставить под вопрос жесткую, эссенциалистскую по сути дихотомию авангарда и социалистического реализма как двух «больших стилей». По-видимому, пришло время найти новый «оптический фокус», который позволит поставить под вопрос единство обоих «больших стилей». Этот «фокус» позволяет увидеть гетерогенность и авангарда, и соцреализма, и в целом советской культуры, которая делилась на подцензурный и неподцензурный «сегменты». Изучение монтажа для понимания этой гетерогенности напоминает изучение химического соединения, которое вступает в разные реакции с разными веществами, позволяя исследовать свойства каждого из них.
Эссенциалистское противопоставление авангарда и социалистического реализма предполагает, что первый из этих стилей был характерен для советских 1920-х годов, а второй — для 1930-х и последующих десятилетий советского строя, — с оговоркой, что наиболее чистый соцреализм существовал до начала 1950-х годов, а после этого он стал «половинчатым и неуверенным в себе»[79], вновь обогатился элементами авангарда (как это описано у В. Паперного) и т. п. Эстетика соцреализма, согласно концепциям и Паперного, и Гройса (при всем их различии), была не столько навязана обществу «сверху», сколько стала делом рук самих художников. По мнению Гройса, это были сами авангардисты, по мнению Паперного — и бывшие авангардисты, и консервативные авторы, оказавшиеся «в тени» в период моды на авангард, например Иван Жолтовский, страстный поклонник архитектуры Ренессанса и переводчик книг Андреа Палладио[80].
С точки зрения «теорий дихотомии» монтаж — метод прежде всего авангардный. В эпоху соцреализма он использоваться не может, разве что в виде исключения.
Если рассмотреть ситуацию с точки зрения истории монтажа и не принимать на веру дихотомию авангарда и соцреализма, картина заметно меняется. Монтаж был по своему происхождению методом прежде всего модернистским и сохранявшим даже при его использовании в авангардном искусстве принципиальные черты специфически модернистского сознания — в частности, интенцию отрефлексировать новые психологические черты современного человека. Поэтому его оказалось возможным применить не только в авангардных, но и в более умеренных версиях новаторского искусства 1900–1920-х годов.
Андрей Фоменко в книге «Монтаж, фактография, эпос» обратил внимание на то, что в 1930-е годы приемы монтажа из советской фотографии не исчезают, но резко идеологизируются. Однако он прослеживает развитие только одного направления в авангардном искусстве — производственнического.
Монтаж в 1920–1930-е годы был очень разнообразен по своей семантике и поэтому не может быть сведен к единой «авангардной» парадигме. В 1930-е возникают его соцреалистические адаптации[81], но параллельно — и постутопический монтаж. Оба этих направления сохраняют память о предшествующих модернистских и авангардных «воплощениях».
8
Модернизм здесь понимается как совокупность стилей в разных видах искусства конца XIX — середины XX века, в целом образующих главенствующий стиль этого периода. Эти стили имеют несколько общих характеристик: подчеркивание автономии произведения; проблематизация традиционной фигуры автора и предоставление «права голоса» прежде репрессированным социальным и культурным группам, от женщин до жителей колоний; рефлексия художественного языка, которая становится важнейшим составным элементом произведения, и как следствие — обновление этого языка, требующее от аудитории «переналадки» привычных форм восприятия искусства[82]. По сравнению с авторами прежних «больших стилей» — таких, как романтизм и реализм, — модернисты в наибольшей степени считали себя инициаторами синтеза художественной работы разных эпох и разных направлений.
Объединение этих особенностей с декларируемой в произведении революционной идеологией называется здесь «революционным модернизмом». Революционный модернизм, как я предполагаю, был одним из важнейших стилей советского искусства 1920-х годов. Впоследствии в СССР он мутировал в соцреализм, отрицавший модернистскую рефлексию, и в «смягченный модернизм», в котором рефлексия фигуры автора и художественного языка была так или иначе замаскирована (позднее творчество А. Платонова, Б. Пастернака, С. Эйзенштейна и других).
Под авангардом здесь понимается радикальная форма модернизма, представители которой провозглашают не столько синтез прежних эстетических форм, сколько радикальный разрыв с прошлым и метафизическое бунтарство. Рефлексия художественного языка направлена на резкую деформацию образа и на выявление минимальных выразительных форм, которые могут воздействовать на сознание читателя, зрителя или слушателя: звука, буквы, цвета, геометрической формы. Дадаизм и футуризм по этой классификации относятся к авангарду, конструктивизм — скорее к модернизму.
Исследование изменений семантики монтажа в русском искусстве дает возможность для построения другой истории русского модернизма — другой не только по методу, но и по выводам и периодизации. История монтажа позволяет, в частности, увидеть, что и в русском искусстве, как в искусстве других стран Европы и Северной Америки, между развитием модернизма и постмодернизма не было разрыва и постмодернистское искусство логически выросло из модернистского.
Монтаж — не единственный аспект модернизма как культурной системы, позволяющий выстроить новую версию истории литературы и искусства XX века. Другие элементы этой системы тоже могут стать основаниями для самостоятельных исторических нарративов — например, изменение фигуры автора, или рефлексия языка искусства, или остранение, или вторжение искусства в «нехудожественную» действительность и использование ее элементов в эстетических целях. Выбрав в качестве «измерительного прибора» монтаж, я использовал только одну из многих возможностей.
Существует ряд работ о монтаже в искусстве ЛЕФа и творчестве отдельных советских режиссеров и писателей[83]. Для меня здесь наиболее важна не проработка подробной картины, а общая постановка проблемы и отработка возможных методов анализа. Поэтому сам обзор тоже не претендует на полноту и по необходимости будет эскизным. Я позволил себе выдвинуть на первый план тех авторов и те тексты, связь которых со стилистикой монтажа неочевидна — как, например, произведения Аркадия Белинкова или Даниила Андреева, — или те, которые до сих пор редко сополагались с произведениями русского модернизма, как, например, романы А. Дёблина[84].
Мне очень жаль, что в рамках книги не удалось рассмотреть некоторые важные феномены монтажного искусства 1950–1980-х годов: коллажи и инсталляции Ричарда Гамильтона, картины Энди Уорхола, ранние фильмы чехословацкого режиссера Веры Хитиловой, прозу Леона Богданова, поэзию и визуальные работы Алексея Хвостенко, рукодельные книги литовского фотографа Витаса Луцкуса. У этой книги — несколько сюжетов, изложенных с многочисленными отступлениями. Разбор творчества этих значительных мастеров потребовал бы еще более сложной композиции. Пришлось пожертвовать полнотой контекста ради хотя бы минимальной логической связности.
Эстетика раннесоветского монтажа, при всем ее разнообразии, была чрезвычайно избирательной: из нее были элиминированы важнейшие семантические функции, которые монтаж успел приобрести в начале XX века, в том числе и в России. Но эти функции продолжали развиваться в культуре Европы и Северной Америки и — что особенно важно — были заново переоткрыты и освоены в некоторых направлениях неподцензурной литературы. Поэтому историю развития монтажных принципов и изменения их функций в культуре XX века нужно проследить с дореволюционных времен, еще точнее — с XIX века.
Семантику монтажа много обсуждали теоретики искусства и критики 1920–1930-х годов. В частности, о ней неоднократно писали Юрий Тынянов и Виктор Шкловский. Кинотеория и взгляды на кино русских формалистов, в том числе их представления о монтаже, — большая, сложная и самостоятельная тема, по которой опубликован ряд работ — Христиана Майланда-Хансена, Франтишека У. Галана, Михаила Ямпольского, Рашита Янгирова, Яна Левченко и других[85]. Изучение формалистских теорий монтажа выходит за рамки этой книги. Однако аналогии между общекультурными и филологическими теориями формалистов, с одной стороны, и принципами киномонтажа, с другой, я считаю важной частью обсуждаемого в этой книге контекста.
Две самые большие главы этой книги посвящены авторам, которые, как мне кажется, завершают в своем творчестве поэтику модернистского монтажа в русской литературе, — Александру Солженицыну и Павлу Улитину. Обсуждение их произведений сделано максимально подробным — так как роль этих авторов в истории монтажных методов в русской литературе очень велика, но до сих пор недооценена.
9
Задача этой книги — построение исторической типологии монтажа в литературе и в культуре в целом. Основной фокус анализа сосредоточен на разнообразии не форм монтажа, а его семантики и функций. По-видимому, функции монтажа в различных видах искусства на протяжении XX–XXI веков изменились гораздо сильнее, чем его структурные принципы, но это изменение гораздо меньше замечено и изучено.
В то же время это исследование продолжает цикл работ о границах и смысле понятия «русская неподцензурная литература»[86].
От решения этого вопроса, который выглядит узкоспециальным, зависит интерпретация двух важнейших проблем, имеющих не только академическое, но и общественное значение: антропологического содержания советской культуры и влияния политических идеологий на развитие литературы XX века.
Прежде чем объяснить, какое значение для изучения неподцензурной словесности играет история монтажа, необходимо сделать отступление методологического характера.
Новейшие исследования советской литературы социалистического реализма показывают, что гораздо большую, чем прежде предполагалось, роль в ней играли механизмы добровольной самоцензуры и энтузиастического принятия советской идеологии[87]. Безусловно, большое значение для поддержания советских писателей в должном идеологическом «тонусе» играли регулярные репрессии против ученых-гуманитариев и писателей, публиковавших «неправильные» тексты, — запрет на публикации, публичное шельмование, арест, заключение в учреждениях ГУЛАГа, смертная казнь. Важнейшими мерами по запугиванию писателей стали кампании конца 1920-х годов против филологов-формалистов и писателей, публикующихся за границей (Б. Пильняк, Е. Замятин), постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» (август 1946-го) с последующим многолетним запретом на публикации М. Зощенко и А. Ахматовой, собрания 1958 года, на которых клеймили позором Б. Пастернака и мн. др. Однако значительная часть советских писателей работала не из страха, а по убеждению, в соответствии со своим пониманием задач литературы.
Евгений Добренко показывает, что творчество и «рядовых» соцреалистических писателей, и руководителей ССП было основано на иных принципах субъективности, чем работа литераторов в других культурах, в том числе в русской дореволюционной: самосознание писателя, начиная с первых организаций «пролетарских литераторов» 1910-х годов, все больше напоминало самосознание особого рода функционера, совмещавшего задачи социальной психотерапии и социального программирования.
В результате реализации исторически «наслоившихся» проектов, которые выработали разные литературные (Пролеткульт, «Кузница», «Молодая гвардия», РАПП) и политические группировки (руководство ВКП(б)), в СССР был создан уникальный тип писателя, важнейшей задачей которого была цензура своего собственного сознания — и сознания общества[88]. Новый тип творчества «вытеснил» из культуры прежние представления о свободе высказывания и позволил советским культурным элитам «„выскочить из истории“, создав до модернистскую эстетику», в которой «модернизма как бы не было»[89].
Таким образом, советская литература в ее зрелом состоянии (1930–1980-е) выглядит почти идеальным подтверждением концепции французского философа-марксиста Луи Альтюссера (1918–1990). Он предположил, что распространяемая государством идеология определяет не только поведение, но и самосознание, создает модели «я» и социализации каждого человека. «Субъекты „маршируют“ и в большинстве случаев, за исключением „плохих субъектов“, которые в таких случаях вызывают вмешательство того или иного отдела (репрессивного) аппарата государства, „маршируют сами по себе“»[90]. В этой статье Альтюссер имел в виду и современные ему «буржуазные» государства, и тоталитарные общества — для них для всех характерна, по мнению философа, какая-нибудь одна господствующая идеология.
Его всеобъемлющая концепция настолько тотальна и пессимистична, что не дает — и даже, кажется, не предполагает — ответа на вопросы: откуда и почему берутся «плохие субъекты» и какие культурные ресурсы дают им возможность быть «плохими», если им заранее известно, что за инакомыслием всегда следуют репрессии?
Неподцензурная советская литература заставляет усомниться в справедливости теории Альтюссера, потому что она представляла собой даже не одно, а целую группу устойчивых сообществ, состоявших сплошь из таких «плохих субъектов». Советский пример особенно важен потому, что в XX веке СССР оказался наиболее долгоживущим идеократическим государством, в котором «господствующая идеология» позволяла обосновывать диаметрально противоположные решения властей. Авторы, создававшие неподцензурную литературу в 1950–1980-х годах, художники, создававшие не предназначенные для советских выставок картины, скульптуры и инсталляции, композиторы, писавшие «неправильную» музыку в этот же период, — почти все они большей частью выросли и социализировались в советских условиях и теоретически с детства должны были оказаться индоктринированными. Их «ускользание» от господствующей идеологии нуждается в объяснениях, ставящих под вопрос не только всеобщность концепции Альтюссера, но и в целом социологическое представление о том, что идеология влияет сходным образом на всех членов общества.
Тотальность теории Альтюссера была преодолена в концепции градов французских социологов Люка Болтански и Лорана Тевено. В их трактате «Критика и обоснование справедливости»[91] показано, что в любом современном обществе сосуществуют разные порядки представлений о справедливом и должном и каждый человек сообразуется в своей деятельности то с одним, то с другим порядком. Социологи назвали эти типы «градами», отсылая к дихотомии «града небесного» и «града земного» из произведения св. Августина Гиппонского «О граде Божьем». В советском обществе разные «грады» были максимально отчуждены друг от друга и жестко разнесены по разным сферам повседневной практики. (Поэтому в культуре особую роль приобретала фигура трикстера, который умел пародировать разные формы обоснования и связывать между собой разные грады[92].) Но и концепция Болтански и Тевено не помогает понять, какие культурные и социальные ресурсы способствуют воспроизводству субъектов, последовательно уклоняющихся в своей реализации от обращения к одному из господствующих градов.
История монтажа как радикальной рефлексии художественного языка позволяет различить в российской неподцензурной литературе несколько историко-культурных страт: 1) модернистов, разочаровавшихся в советской утопии, или 2) изначально настроенных критически по отношению к ней, или 3) тех, кто стремился деконструировать советские художественные языки и «официально принятое» представление о том, каким должен быть писатель, художник и т. п.
Модальность долженствования здесь очень важна. Один из наиболее глубоких неподцензурных писателей, Лидия Гинзбург, в своих заметках 1943–1944 годов размышляла:
…Смелость наших писателей это — в разных степенях — всегда одно и то же: подразумеваемое несовпадение с неким заданным стопроцентным образ<ом>. […]…получается непрестанная оглядка на предельный образ и кокетство его нарушением. Игнорировать этот образ как не действительный никому из них не приходит в голову, ибо игнорирование его грозит уже настоящей внутренней свободой, которая равносильна невозможности печататься[93].
В основе неподцензурной литературы как особого рода практики лежало именно «игнорирование предельного образа» советского писателя. Однако игнорирование это оказывалось разным у разных авторов; можно даже говорить об исторически сменявшихся формах такого игнорирования.
Сегодня словосочетание «неподцензурная литература» употребляется в двух значениях. Во-первых, это совокупность произведений, созданных без оглядки на советские цензурные нормы и обычно не рассчитанных на официальную публикацию в СССР. Во-вторых, это автономное субполе русской литературы, образующее самостоятельный контекст, со своей системой творческих связей и эстетических полемик. Вне этого контекста многие смысловые аспекты неподцензурной литературы, в особенности поэзии, не могут быть восприняты и «теряются»[94].
Два этих значения указывают на два разных социокультурных явления, при этом первое по своему объему шире второго и возникло раньше.
Сложение неподцензурной литературы в качестве автономного субполя в настоящее время в общих чертах исследовано. Его можно отнести приблизительно к 1951–1960 годам. Нижняя хронологическая граница — завязывание в 1951–1953 годах первых контактов, которые потом привели к формированию важнейших направлений свободной русской поэзии в период «оттепели»[95]. Верхняя граница — выход первого самиздатского поэтического журнала «Синтаксис» под редакцией Александра Гинзбурга (1959–1960) и первое публичное выступление Иосифа Бродского — 14 февраля 1960 года. Еще одно важнейшее событие — начало домашних выставок и чтений в барачной комнате Оскара Рабина в подмосковном поселке Лианозово — относится к середине этого периода — к 1956 году.
Процессы консолидации литераторов, не желающих считаться с советскими тематическими или эстетическими границами, начались еще до смерти Сталина. Однако в качестве самостоятельного субполя неподцензурная литература могла сложиться только после кончины диктатора, во время «оттепели», когда масштаб политических репрессий резко уменьшился, а открытость общества, в том числе и для новейшего западного искусства, — увеличилась. Именно тогда стали складываться постоянно действовавшие кружки и салоны, начали появляться самиздатские журналы — несмотря даже на то, что их инициаторов подвергали репрессиям.
И все же стихи и прозу без оглядки на идеологические «умственные плотины» отдельные авторы в СССР писали и раньше — с момента издания первых большевистских декретов о печати. Такие «бесконтрольные» сочинения образуют неподцензурную литературу в широком смысле этого слова. Момент ее возникновения может быть определен двояко — так как советская цензура прошла в своем становлении два этапа. Хронологические их границы наметил крупнейший ее историк Арлен Блюм, распределив материал по двум книгам[96]. На первом этапе — с 1917 до перелома 1929–1931 годов — она была, как и цензура в других странах, отдельным институтом, ограничивавшим культурное производство по идеологическим причинам. Уникальность тогдашней советской цензуры состояла еще не столько в необычной институциональной организации, сколько в беспрецедентной ранее жесткости запретов и широте охвата. Но уже в конце 1920-х — начале 1930-х годов в СССР складывается принципиально новая форма цензуры: она становится не только ограничителем, но и необходимой составной частью культурного производства и призвана регулировать не только публикацию текстов, но и процесс их создания, а также профессиональную социализацию писателей и их публичное признание. На этом этапе развития цензура состояла из целого ряда институциональных структур, включая редакции, издательства, организованный в 1934 году Союз писателей, литературные студии и кружки[97]. В ее систему входила и самоцензура литераторов, которые были готовы принимать общие «правила игры», чтобы их сочинения могли быть напечатаны, а самих их официально считали именно писателями.
Если говорить о неподцензурной литературе начиная с 1920-х годов, то это будет довольно широкий круг авторов, большей частью сложившихся или получивших известность в период «серебряного века» — или, как минимум, социализировавшихся в конце 1910-х — начале 1920-х годов, когда в литературе еще сохранялся дух свободного эстетического поиска. До «великого перелома» такие авторы часто стремились к объединению в группы (от неоклассического «Гермеса»[98] до авангардных ОБЭРИУ и Союза приблизительно равных, созданного Георгием Оболдуевым, Иваном Аксеновым и Сергеем Бобровым[99]) и распространяли свои стихи в списках, но не могли создать собственного общего субполя, потому что тогда еще не существовало единого поля советской литературы как замкнутой системы, от которой нужно было бы дистанцироваться. Такая система возникла на рубеже 1930-х — после того как сначала были разгромлены организации «попутчиков», а затем создан единый Союз писателей и советским писателям было фактически запрещено публиковаться за границей (в результате «дела Пильняка и Замятина» 1929 года[100]). Косвенным свидетельством этой консолидации является памфлет О. Мандельштама «Четвертая проза» (1930), где советские писатели уже описаны как единая и управляемая социальная группа.
В 1930-е годы в литературу вступают люди, которые выросли уже при советской власти. Авторы более старшего возраста могли отказываться от «негласного пакта» с цензурой, потому что знали из собственного опыта другие варианты существования в литературе. Писатели следующего поколения этой «цветущей сложности» уже не застали и должны были заново, «с нуля» изобретать не только новые типы письма, но и несоветское писательское самосознание.
Во всех этих случаях мы говорим об авторах, которые значительную часть своих произведений создали без расчета на публикацию. До сих пор не поставлен вопрос о том, как с этой ветвью русской литературы соотносятся такие произведения, как «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, проза А. В. Белинкова или та часть ранних произведений А. И. Солженицына, которую автор изначально не предназначал для советской печати, — например, киносценарий 1959 года «Знают истину танки!».
Все эти авторы хорошо знали «правила игры» в советской литературе. Булгаков регулярно публиковал свои пьесы и после смерти был даже удостоен официальных некрологов в советских газетах. Белинков, несмотря на свою откровенную нелюбовь к советской власти, в 1950–1960-е годы регулярно печатался в «толстых» журналах. Солженицын, хотя и на протяжении всего нескольких лет (1962–1964), тоже воспринимался как признанный советский писатель[101]. Есть ли какие-то эстетические признаки, по которым все эти произведения можно соотнести между собой — и с легальной советской литературой?
По-видимому, одной из «общих мер», позволяющих это сделать, является монтаж. История переосмысления монтажа в СССР позволяет выявить, как вообще советская культура «переваривала» и приспосабливала к своим нуждам открытия модернизма — и каковы были границы этого приспособления, за которыми модернистские методы уже не могли быть интегрированы в лояльную советскую культуру.
Неподцензурная словесность в узком смысле может быть с некоторыми оговорками определена как литература, основанная на рефлексии языкового употребления и социальных конвенций. Поэтому в ней активно использовался аналитический монтаж.
Предлагаемая в этой книге историческая типология монтажа относится не только к советскому искусству — легальному и неподцензурному, но и к другим европейским и североамериканским культурам XX века. Поэтому эта типология помогает содержательно описать зыбкую, не всегда устойчивую границу между подцензурной и неподцензурной литературой и соотнести два этих субполя российской словесности с некоторыми общими тенденциями в развитии западной культуры.
ЧАСТЬ I Конструирующий монтаж
Глава 1 Становление метода
Рождение термина: 1916–1923
Монтажные методы применялись в искусстве начиная, самое позднее, со второй половины XIX века. Принцип совмещения разных фотоизображений на одном отпечатке был открыт, по-видимому, в Шотландии в 1850-х годах, в последующие десятилетия получил большое распространение и назывался сначала «двойной печатью» («double printing»), а позже «комбинированной печатью» («combination printing»)[102]. Однако слово «монтаж» в его современном значении появилось в 1916–1918 годах — причем практически одновременно в России и Германии, и в обоих случаях — как переосмысленное заимствование из французского, где «montage» означало «подъем» и «сборка». Слово monteur уже в начале XX века имело во французском языке инженерно-технический смысл[103].
Изобретателем слова «монтаж» в его современном значении, по-видимому, был выдающийся режиссер и теоретик кино Лев Кулешов. Новый термин был введен в первой же его печатной публикации — статье «О задачах художника в кинематографе» (1917). Кулешов писал:
Для того, чтобы сделать картину, режиссер должен скомпоновать отдельные снятые куски, беспорядочные и не связанные в одно целое, и сопоставить отдельные моменты в наиболее выгодной, цельной и ритмической последовательности, так же, как ребенок составляет из отдельных, разбросанных кубиков с буквами целое слово или фразу. Это примитивная мысль о композиции или монтаже картины, детально же разбирать эту режиссерскую работу совершенно не в целях нашей статьи[104].
В дальнейшем слово «монтаж» получило общий теоретико-культурный смысл во многом — хотя и не исключительно — благодаря статье Сергея Эйзенштейна «Монтаж аттракционов. К постановке „На всякого мудреца довольно простоты“ А. Н. Островского в Московском Пролеткульте» (1923). Эйзенштейн писал:
…вместо статического «отражения» данного, по теме потребного события и возможности его разрешения единственно через воздействия, логически с таким событием сопряженные, выдвигается новый прием — свободный монтаж произвольно выбранных, самостоятельных (также и вне данной композиции и сюжетной сценки действующих) воздействий (аттракционов), но с точной установкой на определенный конечный тематический эффект — монтаж аттракционов[105].
Одной из причин сильного эффекта, произведенного работой Эйзенштейна, было место ее публикации: ее напечатали не в специальном кинематографическом издании, а в журнале «ЛЕФ», который читали представители разных видов искусства.
Одновременно с работами Кулешова и Эйзенштейна и независимо от них в берлинском кругу дадаистов появилось слово «фотомонтаж». Один из берлинских дадаистов, впоследствии ставший знаменитым художником и отошедший от дадаизма, Георг Гросс, вспоминал, что еще в 1915–1916 годах называл «monteur» («монтером») своего друга и не менее знаменитого художника Джона Хартфилда (John Heartfild, настоящее имя — Хельмут Херцфельд). Это прозвище первоначально не было связано с искусством: Хартфилд был так назван за свою привычку носить старый синий костюм — видимо, так тогда одевались обычные монтеры, — и еще потому, что именно Хартфилд в этой паре во многом был источником энергии, способствовавшим подъему («montage») их совместной работы. В 1919 году в этом же берлинском кругу Хартфилду был присвоен «титул» «Монтер Дада», но тогда это слово уже приобрело смысл эстетической характеристики — благодаря деятельности самого художника.
В 1916 году Гросс и Хартфилд, убежденные противники Первой мировой войны, придумали способ распространять свои идеи таким образом, чтобы их не блокировала военная цензура: они разрезали на отдельные элементы рекламные плакаты и объявления и склеивали из них открытки-коллажи, предназначенные для отправки на фронт из тыла или в обратном направлении. Антивоенные намеки на этих открытках возникали только из сочетания картинок. Так, когда германским военным авиаторам прибавили 100 марок в месяц за опасность работы, Гросс и Хартфилд изготовили фотомонтаж: череп, одетый в авиационный шлем, держит в зубах пачку стомарковых купюр.
У этой инициативы появилось в Германии так много последователей, что некоторые деятели нового искусства, как, например, Сергей Третьяков, впоследствии были убеждены, что фотомонтаж с самого начала был анонимным изобретением немецких солдат, а Хартфилд и Гросс его только усовершенствовали — впрочем, и сам Хартфилд высказывался в подобном духе[106].
Первоначально Гросс и Хартфилд называли свои работы «типоколлажами», а начиная с 1919 года ставили на них печати со словами «grosz-hartfield mont» или «grosz pinx hartfield mont»; «pinx» — сокращение от латинского «pinxit», нарисовал, «montiert» — от немецкого «смонтировано»[107].
Аналогичное изобретение, независимо от Гросса и Хартфилда, сделали в 1918 году два других берлинских дадаиста — Ханна Хёх и Рауль Хаусманн. Хёх в начале 1960-х годов рассказывала, что подобный способ обращения с открытками она знала с детства, а решающий вклад Хаусманна в их общее открытие был связан не с техникой, а с осмыслением результата: Хаусманн понял, что теперь фотообраз может иначе, по-новому передавать сообщение. Монтаж делает изображение подобным фильму и показывает разные предметы одновременно словно бы из разных перспектив. Впоследствии Хаусманн писал об этой интерпретации монтажа в своих статьях[108].
В мае 1920 года в Берлине состоялась Первая Дадаистская ярмарка, после которой слово «фотомонтаж» получило широкое распространение и укоренилось в европейских языках.
В России визуальный монтаж возникает в то же самое время, но первоначально не имеет самостоятельного названия. Густав Клуцис считал первым фотомонтажом в РСФСР свою композицию «Динамический город» (1919), но, по мнению современных искусствоведов, новый метод он придумал еще на год раньше — в эскизе панно «Штурм. Латышские стрелки (Удар по контрреволюции)» (1918), где в изображение были вклеены фотографии. А. Фоменко замечает, впрочем, что в «Динамическом городе» «Клуцис [еще] не пытается акцентировать гетерогенный характер использования материалов. […] Кажется, прием применен, но еще не осознан…»[109].
Новые возможности были открыты в композициях Эля Лисицкого начала 1920-х — см., например, известную работу «Футболист» (1921–1922). Но само слово появляется — как еще незнакомое и требующее пояснения — позже, в анонимном манифесте «Фото-монтаж» (sic!), помещенном в журнале «ЛЕФ» в 1924 году:
Под фото-монтажом мы подразумеваем использование фотографического снимка как изобразительного средства. Комбинация фотоснимков заменяет композицию графических изображений[110].
По-видимому, большое значение для культуры имел тот факт, что слово «монтаж» появилось почти одновременно для обозначения явлений сразу в трех видах искусства: кино, изобразительное искусство и театр. И хотя причины его возникновения в России и Германии были разными, сама синхронность, как будет показано дальше, была совсем не случайной: в искусстве начала XX века параллельно происходили типологически сходные изменения. По-видимому, именно вследствие появления дадаистского термина и статьи Эйзенштейна слово «монтаж» быстро стало обозначать не только специфическую особенность киноязыка, как об этом говорил Кулешов, но и совокупность определенных структурно-аналогичных методов работы в разных видах искусства.
Ближайшие эстетические контексты: паратаксис и барокко
Монтаж в разных видах искусств может быть описан прежде всего как конфликтный паратаксис. Понятие паратаксиса перенес из лингвистики в эстетику Теодор Адорно, анализируя позднюю лирику И. Ф. Гёльдерлина, но описал его как механизм, имеющий общекультурное значение[111]. Дальнейшую разработку теории паратаксиса предложил современный французский философ Жак Рансьер в книге «Будущее образа»[112].
Первоначально под паратаксисом понимали связь частей сложносочиненного предложения. Рансьер описывает различные травматические нарративы второй половины XX века (прозу Примо Леви и Робера Антельма, фильм Клода Ланцманна «Шоа») как цепочки образов, подобных по конструкции такому предложению: они не стыкуются и не связаны иерархическим соподчинением. Хотя Рансьер применил концепцию паратаксиса для интерпретации произведений, созданных в 1950–1970-е годы, первым, по его мнению, подобную эстетическую технику разработал еще Гюстав Флобер в «Госпоже Бовари» (1856)[113]. Объяснение между Эммой и Родольфом во время Земледельческого съезда и речи участников этого собрания никак не связаны между собой и соединены как две серии фрагментов, напоминая параллельный монтаж в кинематографе:
Et il saisit sa main; elle ne la retira pas. «Ensemble de bonnes cultures», cria le président. — Tantôt, par exemple, quand je suis venu chez vous… «À M. Bizet, de Quincampoix». — Savais-je que je vous accompagnerais? «Soixante-dix francs!» — Cent fois même j’ai voulu partir, et je vous ai suivie, je suis resté[114]. Он [Родольф] схватил Эмму за руку; она ее не отняла. — «За разведение различных полезных растений…» — кричал председатель. — Например, в тот час, когда я пришел к вам впервые… — «…господину Бизе из Кенкампуа…» — …знал ли я, что буду сегодня вашим спутником? — «…семьдесят франков!» — Сто раз я хотел удалиться, а между тем я последовал за вами, я остался…[115]Рансьер возводит паратаксис к различным типам монтажа — «диалектическому» и «символическому». Однако он полагает, что в паратактических «предложениях-образах», связывающих вербальные и визуальные компоненты произведения, всегда сохраняется внутренняя семантическая несогласованность, при этом паратаксис может быть и замаскированным: например, плакат, рекламирующий кока-колу, может с помощью монтажной техники связывать изображение емкости с этим напитком с образами счастья — такой образ выглядит внутренне согласованным, но в действительности эта ассоциация совершенно произвольна.
По-видимому, в культуре 1900–1920-х годов монтаж воспринимался чаще всего как соединение именно разнопорядковых и даже конфликтных образов, и это задало эстетическую традицию, действовавшую многие десятилетия — наряду с практиками рекламы, о которых говорит Рансьер. Поэтому, хотя концептуально наиболее значимой для меня является рансьеровская идея паратаксиса, — я все же пользуюсь здесь словом «монтаж».
Следствием монтажного соположения образов чаще всего становятся парадокс — на логическом уровне и гротеск — на поэтологическом. Этот аспект монтажа был осознан еще в момент возникновения метода — ср., например, один из первых русских (и европейских) прозаических текстов, написанных в технике монтажа, — «Симфонию 2-ю (драматическую)» (1901) Андрея Белого[116]. Как и первая «симфония», она написана короткими фрагментами, состоящими из нескольких нумерованных фраз каждый. Однако, в отличие от условно-сказочной первой «симфонии», во второй во многих случаях в тексте «встык» поставлены разделы, тематически не связанные между собой, — в совокупности они дают гротескное, или, в терминологии самого автора, «сатирическое»[117], изображение жизни большого города, в том числе и его интеллектуальных кругов. Белый отождествлял эти нумерованные «стихи» (возможно, эта терминология отсылает к русскому переводу Библии, разделенному на короткие нумерованные фразы, называемые обычно стихами) с музыкальными фразами, так как для его «симфоний» очень важна система лейтмотивов[118]. Однако сегодня они больше напоминают сценарий фильма в духе 1920-х годов, предполагающий энергичный монтаж.
Монтаж не обязательно, но часто сополагает и перемешивает внешние впечатления и образы, связанные с внутренней жизнью человека. Это — еще одна черта этого метода, подрывающая традиционные представления о мимесисе. В рамках традиционного мимесиса описания внешнего и внутреннего мира организованы достаточно различным образом. По мере развития искусства эта дихотомия все больше теряет свою абсолютность, но только в период модернизма изображение внутреннего мира в образах внешнего становится постоянным эстетическим приемом[119].
Одним из ранних провозвестий этого перехода становится уже упомянутый роман Флобера. Эмма Бовари, узнав, что Родольф не даст ей денег, от ужаса впадает в измененное состояние сознания и видит свои внутренние переживания как внешние объекты:
…Ей показалось, будто в воздухе вспыхивают огненные шарики, словно светящиеся пули; а потом сжимаются в плоские кружки и вертятся, вертятся, и тают в снегу между ветвями деревьев. На каждом появлялось посередине лицо Родольфа. Они все множились, приближались, проникали в нее; и вдруг все исчезло. Она узнала огоньки домов, мерцавшие в дальнем тумане[120].
Следующий шаг на пути разрушения границы между внешним и внутренним, важной для традиционного мисесиса, — одно из самых ярких проявлений раннего модернизма, сборник Эмиля Верхарна «Черные факелы»:
En sa robe, couleur de feu et de poison, Le cadavre de ma raison Traîne sur la Tamise. Des ponts de bronze, où les wagons Entrechoquent d’interminables bruits de gonds Et des voiles de bâteaux sombres Laissent sur elle, choir leurs ombres. («La morte»[121]) В одеждах цветом точно яд и гной Влачится мертвый разум мой По Темзе. Чугунные мосты, где мчатся поезда, Бросая в небо гул упорный, И неподвижные суда Его покрыли тенью черной. («Мертвец», пер. Г. Шенгели[122])Вне зависимости от того, в каких видах искусств используется монтаж — во «временных» или в «пространственных», — он всякий раз осложняет и нарушает «реалистические» принципы изображения времени в произведении. Монтажный образ демонстрирует время как совокупность одновременно происходящих движений — ср., например, в фильме Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом»; но уже и в «симфонии» Белого отдельные эпизоды воспринимаются как одновременные или, во всяком случае, соположенные. Наоборот, монтаж в кино или литературе может и столкнуть, поставить рядом действия, разделенные длительным промежутком времени.
Монтаж с самого момента своего возникновения в конце XIX века функционирует в искусстве в двух режимах: как метод и как техника. Формально он может быть описан как совокупность определенных технических приемов — в визуальных искусствах и литературе (не в кино!). Но за этими приемами, именно в их совокупности, первоначально стояло определенное мировоззрение — или, точнее, несколько разных типов мировоззрения (эскизно они будут описаны в гл. 2), которые сложились или тогда же, в конце XIX века, или в начале XX, и для их эстетической (само)реализации монтаж стал наиболее адекватным методом. Впоследствии приемы монтажа, превратившись в элемент художественной моды и «большого стиля» эпохи первой четверти XX века, часто использовались по отдельности для эстетической реализации других мировоззрений — в этом случае о монтаже можно говорить как о технике, которая возникает в 1910-х годах.
Иную последовательность можно наблюдать в истории кинематографа. В ней почти с самого начала монтаж был важнейшим вспомогательным средством, и лишь позже — начиная с фильма Гриффита «Нетерпимость» — он становится методом, выражающим новый взгляд на историю и общество.
Семантика монтажа много обсуждалась теоретиками и критиками 1920–1930-х годов. В своей работе я использую в качестве источников «монтажной мысли» этой эпохи работы трех теоретиков монтажа, один из которых — Сергей Эйзенштейн — общеизвестен, двое других — Эрнст Блох и Иеремей Иоффе — требуют краткого представления для российской аудитории.
Философ, писатель и политический публицист Эрнст Блох (1885–1977) в своих книгах детально проанализировал связь монтажа с утопическим мышлением[123]. Блох родился и вырос в Германии, в 1917–1919 годах жил в Швейцарии (так как выступал против действий Германии в Первой мировой войне), в 1933 году эмигрировал из Германии после прихода к власти нацистов, жил снова в Швейцарии, потом в Чехословакии и США. В 1948 году вернулся на родину, поселился в ГДР, где преподавал, критиковал установленный в стране режим и постоянно подвергался идеологическим обвинениям. В 1957 году он был принудительно отправлен на пенсию, после чего переехал в ФРГ. Он прожил в Западной Германии до конца жизни, продолжая разрабатывать «философию надежды», одновременно утопическую и критическую по отношению к утопиям XX века.
Блох признан как безусловный классик левой мысли в Германии, Франции и англоязычном мире, но гораздо менее известен в России, где, помимо переводов нескольких статей, вышла всего одна его крупная работа и две книги о нем[124]. Это упущение выглядит особенно странным на фоне известности ближайших друзей и собеседников Блоха — Георга Лукача, Вальтера Беньямина и Гершома Шолема и ученика-оппонента философа — Теодора Адорно.
Философ-марксист и историк искусства Иеремей Иоффе (1891–1947) сегодня полузабыт и до недавнего времени пользовался репутацией выдающегося теоретика почти исключительно среди своих младших петербургских коллег: он основал в Ленинградском университете кафедру истории искусств, действующую и поныне, и воспитал ряд учеников, среди которых был влиятельный советский философ Моисей Каган, до конца своих дней придававший большое значение идеям учителя. В 2006 году сборник извлечений из книг Иоффе («ридер») был издан по инициативе Игоря П. Смирнова[125], а в 2010 году вышел двухтомник его избранных трудов[126]. В 2000–2010-е годы в России было защищено несколько искусствоведческих и культурологических диссертаций, в большей или меньшей степени использующих его идеи. Однако фигура Иоффе продолжает оставаться настолько неизученной, что в разных источниках даже его имя пишется по-разному (так, в двухтомнике он назван Иеремия), а год рождения указывается то как 1891 (в энциклопедиях), то как 1888 (у М. Кагана).
Работы Иоффе 1920–1930-х годов посвящены анализу общих закономерностей развития различных видов искусства. Сегодня они поражают сочетанием, с одной стороны, агрессивной марксистско-гегельянской риторики и общего схематизма, довольно обычных для советской гуманитарной мысли 1920-х годов, и, с другой, — ярких гипотез, опережающих свое время. Например, идеи Иоффе об определяющем влиянии на мышление линейного идеографического письма и об изменении мышления с появлением звукового кино прямо предвосхищают идеи книги Маршалла Маклюэна «Галактика Гутенберга»[127]. Некоторые из концепций Иоффе, касающихся монтажа в разных видах искусств, имеет смысл ввести в обсуждение проблематики этой книги.
Э. Блох полагал, что монтажные методы соответствуют устройству мира, каким его видит марксист, то есть, с точки зрения Блоха 1930-х годов, — тот, кто понимает устройство динамически и исторически: «…процесс действительности как таковой еще открыт, следовательно, объективно фрагментарен»[128]. Мир динамичен, и каждое событие в нем открыто будущему, чревато возможностями — эту-то «синхронную множественность» и призван изображать монтаж. При этом монтаж неизбежно импровизационен, всегда сохраняет элемент игры: «…это постоянное экспериментирование со смыслами и образами, игра в образовавшемся после кризиса fin de siècle полом пространстве (Hohlraum)»[129].
(Излюбленным типом грамматических построений в сочинениях Блоха был паратаксис. Исследователи его творчества увязывают эту стилистическую особенность с интересом философа к монтажу[130] — хотя, конечно, обратное неверно: не всякий, кто пользуется паратаксисом, склонен к использованию монтажных принципов в повествовании.)
В «Тюбингенском введении в философию» (написанном в начале 1960-х годов на основе рукописей конца 1930-х и 1940-х) Э. Блох подчеркивает, что свойственные монтажным образам парадоксальность и гротескность имеют гораздо более раннее происхождение и могут быть возведены к эстетике барочных аллегорий[131]. Эта генеалогическая гипотеза, по-видимому, восходит к книге его друга Вальтера Беньямина «Происхождение немецкой барочной драмы» (1925): Беньямин был едва ли не первым, кто описал барочную аллегорию как результат фрагментации образа[132].
Такое сравнение монтажа с барокко имеет существенное значение — и как факт истории изучения монтажа, и как аналитическая «рамка», в которой разворачивается наша собственная работа. Во многих фрагментах «2-й симфонии» Белого очень заметно влияние Гоголя, вплоть до скрытых цитат (свинья в экипаже — контаминация образа свиньи из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и Носа, садящегося в карету, из повести «Нос»), а о барочных традициях в прозе Гоголя литературоведы писали очень много[133]. Монтаж у Белого, если можно так сказать, многократно форсирует барочную разорванность при обращении к гоголевской стилистике.
На мой взгляд, монтажная стилистика 1900–1920-х годов не была прямым продолжением барокко или возвращением к нему на новом этапе. Скорее, она способствовала в другой исторической ситуации порождению аналогичных эстетических эффектов в сознании автора и реципиента произведения искусства — таких, как драматизм, динамизм, обращение не к гармоническому, а к возвышенному, или, пользуясь выражением М. В. Ломоносова, к «восторгу внезапному».
При сопоставлении эстетики барокко и принципов модернистского монтажа стоит обратить внимание на принцип барочного остроумия, которое, по словам Бальтазара Грасиана, заключается «в гармоническом сопоставлении двух или трех далеких понятий, связанных единым актом разума»[134].
Вальтер Беньямин показал, что оригинальная барочная аллегория была основана на представлении мертвого и разрушающегося[135]. Монтаж использовал комбинацию не мертвых, но остановленных или выделенных в (историческом) времени моментов, был своего рода комбинацией временных срезов.
В 1933 году Иеремей Иоффе сделал шаг вперед по сравнению с концепцией Блоха, он писал о том, что любое сотворение «нового мира» в новом искусстве социалистического реализма будет конфликтным — превосходя на новом этапе противоречивость барокко: «Патетическое и монументальное барокко с его мировым духом бледнеет, отступает перед грандиозной исторической силой нового искусства… […] [Даже] мелкий уголок превращен [в нем] в арену напряженных отношений и связей. Здесь не может быть единого момента времени, единой точки пространства эмпирического искусства, ибо должно быть показано движение противоречий, которых не знает объективистическое искусство. Здесь множество моментов времени и фокусов — пространства»[136].
В целом можно видеть, что для различения противоречий и обоснования монтажа Блох использует феноменологическую перспективу (несмотря на марксистскую риторику), а Иоффе — идеологическую и эстетическую, но результат действия этих «преломляющих линз» оказывается очень похожим. По сути, и Блох, и Иоффе говорят о новом эстетическом феномене, воспроизводящем — совершенно с другими эстетическими установками — некоторые черты барокко. Но само барокко они понимают как искусство не меланхолии, как это делал Беньямин, а патетики и героического пафоса.
Илья Калинин полагает, что оптимистический взгляд на «руинизацию» действительности, восприятие ее был свойствен ранним формалистам и искусству русского авангарда[137]. По-видимому, интерпретация фрагментации и декомпозиции действительности как «пророчества, предвещающего конструкцию грядущего мира», было свойственно в 1920-х годах более широкому кругу художников и мыслителей — и не только российских (подробнее об этом сказано дальше).
Ближайшие социальные контексты: урбанизация
Возможности для формирования монтажа как эстетического метода стали складываться во второй половине XIX века, когда постепенно вырабатывался новый тип социального воображения, представлявшего действительность как ряд независимых и одновременно происходящих событий. Основные причины этих изменений были обусловлены очередным мощным этапом урбанизации в Европе, которому сопутствовало быстрое развитие массмедиа, в первую очередь газет[138]. На тот же период приходится развитие новых философских и психологических представлений о восприятии и сознании, оказавших влияние на художников, следующая фаза глобализации и порожденное ею усвоение дальневосточных культур (китайской и японской) на Западе[139] и, наконец, формирование нового типа политического активизма — непарламентского, «внесистемного». Три из этих пяти причин — кроме развития медиа и усвоения дальневосточной культуры — впервые были названы в 1995 году в важной статье американского историка литературы Александры Веттлауфер, посвященной истокам монтажной эстетики[140]; о влиянии дальневосточной литературы на формирование эстетики монтажа есть не менее значимая статья китаиста Шина Макдональда[141].
Наиболее важной из всех перечисленных причин было развитие городов. Город нового типа возникает уже на рубеже XVIII–XIX веков и прямо предвосхищает возникновение современных мегаполисов[142]. Изменившаяся городская жизнь активно воздействует на наиболее чутких ее созерцателей — художников, писателей, социальных аналитиков.
Трансформацию человеческого восприятия в условиях мегаполиса проанализировал уже Георг Зиммель в своей статье «Большие города и духовная жизнь» (1902). Но художники выразили ее раньше. В «Евгении Онегине» А. С. Пушкина паратактическое, данное в быстром ритме перечисление уличных сцен предстает как ad hoc найденный прием для изображения динамичного городского пространства. Таковы, например, описания раннего утра в Петербурге («Встает купец, идет разносчик, / На биржу тянется извозчик, / С кувшином охтенка спешит…» — гл. 1, XXXV) и въезда Татьяны в Москву («Мелькают мимо будки, бабы…» — гл. 7, XXXVIII).
Н. А. Некрасов, вступивший в литературу на рубеже 1830–1840-х, превратил этот прием в элемент нового стиля. В отличие от Пушкина он с помощью паратаксиса подчеркивает дисгармоничность и разорванность создаваемой им картины. Например, в стихотворении «Утро» (1874) перечисление неприглядных и одновременно рутинных событий предстает как способ создания внутренне противоречивого образа имперской столицы:
Проститутка домой на рассвете Поспешает, покинув постель: Офицеры в наемной карете Скачут за город: будет дуэль. […] Дворник вора колотит: попался! Гонят стадо гусей на убой; Где-то в верхнем этáже раздался Выстрел — кто-то покончил с собой…[143]Действие этого стихотворения начинается в деревне, но основную его часть — 6 строф из 9 — занимает именно «монтажное» описание города. При его чтении бросается в глаза гораздо большее разнообразие и внутренняя конфликтность изображаемых городских сцен по сравнению с деревенскими. В стихотворении прямо говорится о том, что важнейшая черта деревенской действительности — нищета и разорение, а городской — разобщенность жителей, хотя бы и благополучных[144].
В поэзии других стран примеры «протомонтажных» приемов при описании большого города можно найти у Шарля Бодлера, который, как известно, был первооткрывателем идеи «современности» как эстетически нового состояния общества (эссе «Художник современной жизни») и связал его именно с изменением психологии восприятия[145].
La diane chantait dans les cours des casernes, Et le vent du matin soufflait sur les lanternes. C’était l’heure où l’essaim des rêves malfaisants Tord sur leurs oreillers les bruns adolescents; Où, comme un oeil sanglant qui palpite et qui bouge, La lampe sur le jour fait une tache rouge; Où l’âme, sous le poids du corps revêche et lourd, Imite les combats de la lampe et du jour. Comme un visage en pleurs que les brises essuient, L’air est plein du frisson des choses qui s’enfuient, Et l’homme est las d’écrire et la femme d’aimer. Les maisons çà et là commençaient à fumer. Les femmes de plaisir, la paupière livide, Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide; Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids, Soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts. C’était l’heure où parmi le froid et la lésine S’aggravent les douleurs des femmes en gésine; Comme un sanglot coupé par un sang écumeux Le chant du coq au loin déchirait l’air brumeux… («Le Crépuscule du matin», до 1852)[146] Казармы сонные разбужены горнистом. Под ветром фонари дрожат в рассвете мглистом. Вот беспокойный час, когда подростки спят, И сон струит в их кровь болезнетворный яд, И в мутных сумерках мерцает лампа смутно, Как воспаленный глаз, мигая поминутно, И телом скованный, придавленный к земле, Изнемогает дух, как этот свет во мгле. Мир, как лицо в слезах, что сушит ветр весенний, Овеян трепетом бегущих в ночь видений. Поэт устал писать, и женщина — любить. Вон поднялся дымок и вытянулся в нить. Бледны, как труп, храпят продажной страсти жрицы — Тяжелый сон налег на синие ресницы. А нищета, дрожа, прикрыв нагую грудь, Встает и силится скупой очаг раздуть, И, черных дней страшась, почуяв холод в теле, Родильница кричит и корчится в постели. Вдруг зарыдал петух и смолкнул в тот же миг… («Предрассветные сумерки», перевод В. Левика[147])В конце XIX — начале XX века все большее влияние приобретал новый ритм городской среды, при котором человек воспринимал действительность словно бы отдельными сценами. Возможно, именно такой режим восприятия действительности подсказал дореволюционному «королю фельетонистов» Власу Дорошевичу (1861–1922) его стиль — короткие экспрессивные абзацы из одной фразы, иногда даже рубившие фразу надвое. Изменившийся ритм восприятия оказывал влияние на язык медиа.
…мне захотелось видеть артиста, портрет которого:
— Берут с собою в могилу.
Я вспомнил об этом, когда, попав в первый раз в Париж, проходил по площади Французской Комедии.
Я взглянул на афишу Французского Театра.
Совпадение!
Шел как раз:
— Гамлет.
Голубоватым, таинственным, лунным светом светился призрак.
А рядом с ним, словно тень от призрака, стояла траурная фигура.
Было жутко.
Еще никогда такого страха не вызывала во мне эта сцена.
И страшно было не призрака, а этого живого человека.
(В. Дорошевич. «Мунэ-Сюлли», 1916[148])Как известно, в 1920-е годы в литературной среде довольно распространенным было мнение о том, что адепт монтажных приемов В. Шкловский продолжал стилистическую традицию именно Дорошевича; сегодня мысль о влиянии Дорошевича на Шкловского является безавторским «общим местом»[149].
Не меньшее влияние на формирование эстетики монтажа оказал сам облик городской среды в конце XIX века. На домах появлялось все больше вывесок и рекламных плакатов; они изменяли облик архитектурных сооружений и превращали улицы в набор разноречивых, прямо не связанных друг с другом сообщений. В русской литературе одним из первых на это отреагировал Владимир Маяковский, представив городскую среду как столкновение семантически контрастных знаков:
Читайте железные книги! Под флейту золóченой буквы полезут копченые сиги и золотокудрые брюквы. А если веселостью песьей закружат созвездия «Магги»[150] — бюро похоронных процессий свои проведут саркофаги. («Вывескам», 1913)Еще одним фактором, повлиявшим на формирование эстетики монтажа, стало развитие газет и иллюстрированных журналов с их особой визуальной культурой. Сам вид газетного листа или страницы из журнала с множеством рядоположенных статей, заметок и иллюстраций демонстрировал одновременность, разномасштабность и разнонаправленность множества происходящих событий.
В межвоенное время художники еще помнили о происхождении фотомонтажа из рекламных объявлений и плакатов. В 1932 году идеологически агрессивный Густав Клуцис обвинил своих коллег — Александра Родченко, Эля Лисицкого и Антона Лавинского — в том, что они «восприняли методы рекламного фотомонтажа Запада», особенно подчеркивая «зараженность» коллажных иллюстраций Родченко к поэме Маяковкого «Про это». «Но это явление как чуждое нам не получило своего развития», — с удовлетворением подводил итоги художник[151].
Газеты и журналы не только говорили о новейших событиях и публиковали рекламу — сам их вид представлял идею современности. Развитие книгопечатания, как показал Бенедикт Андерсон, способствовало выработке представлений о нациях как о «воображаемых сообществах», в которых человек ощущает общность с людьми, с которыми он никогда не был знаком и которых, возможно, никогда в жизни не увидит[152]. Медиа XIX века, все быстрее доставлявшие новости и из все более дальних уголков мира, сделали представление о «воображаемом сообществе» синхронным, что повлекло быструю реакцию в литературе[153]. Так, именно к способности синхронно представить себе воображаемое сообщество апеллирует Уолт Уитмен (1819–1892)[154]:
See, steamers steaming through my poems, See, in my poems immigrants continually coming and landing, See, in arriere, the wigwam, the trail, the hunter’s hut, the flatboat, the maize leaf, the claim, the rude fence, and the backwoods village; See, on the one side the Western Sea, and on the other the Eastern Sea, how they advance and retreat upon my poems, as upon their own shores, See, pastures and forests in my poems — see, animals, wild and tame — see, beyond the Kaw, countless herds of buffalo, feeding on short curly grass, See, in my poems, cities, solid, vast, inland, with paved streets, with iron and stone edifices, ceaseless vehicles, and commerce, See, the many-cylinder’d steam printing-press — see, the electric telegraph, stretching across the continent, See, through Atlantica’s depths, pulses American Europe reaching, pulses of Europe duly return’d… («Starting from Paumanok» (1860)[155]) Погляди — пароходы плывут через мои поэмы, Погляди — иммигранты прибывают и сходят на берег, Погляди — вон вигвам, вон тропа и охотничья хижина, вон плоскодонка, вон кукурузное поле, вон вырубка, вон простая изгородь и деревушка в глухом лесу, Погляди — по одну сторону моих поэм Западное побережье, а по другую — Восточное, но, словно на побережьях, в моих поэмах приливает и отливает море, Погляди — вон в моих поэмах пастбища и лесные чащобы, звери дикие и ручные, а там, дальше, за Канзасом, стада буйволов щиплют траву на равнинах, Погляди — вон в моих поэмах большие, прочно построенные города, здания в них из железа и камня, мостовые замощены, а сколько в них экипажей, какая идет торговля! Погляди — вон многоцилиндровые паровые печатные станки и электрический телеграф, протянувшийся через континент, Погляди — пульсы Америки через глубины Атлантики стучат в берега Европы, а она возвращает их вспять… («Рожденный на Поманоке» (1860), пер. с англ. Р. Сефа[156])Во второй половине XIX века сложились неклассические формы политического активизма, выражавшие себя в демонстрациях, уличных акциях, разного рода политических перформансах (например, перекрытии входа в то или иное здание). Левые демократы, суфражистки и участники националистических движений, а потом и сторонники «консервативных революций», ставшие самостоятельной силой в 1920–1930-е годы, воспринимали действительность как «неготовую» и нуждавшуюся в переделке — вспомним обоснование монтажа у Э. Блоха.
Синтез всех указанных мотивов изображения города можно найти в одном из первых отчетливо монтажных фрагментов в немецкой и, вероятно, в целом в западноевропейской литературе — Посвящении к роману Альфреда Дёблина «Три прыжка Ван Луня» (1912–1913). Удивительна, но не случайна перекличка образов Дёблина — «Электричество играет на флейтах рельс…» — и писавшего в то же самое время раннего Маяковского, о котором Дёблин знать не мог, равно как и Маяковский о Дёблине («А вы / ноктюрн сыграть / могли бы / на флейте водосточных труб?» — «А вы могли бы?», 1913[157]).
ЧТОБЫ мне не забыть —
Тихий свист доносится снизу, с улицы. Металлическое позвякивание, гудение, хруст. Подскакивает на столе костяной чернильный прибор.
Чтобы не забыть —
О чем бишь я?
Сперва надо притворить окно.
Улицы в последние годы обрели странные голоса. Решетки проложены под тротуарами; всюду, куда ни глянь — кучи битого стекла, громыхающее листовое железо, гулкие трубы братьев Маннесман[158]. Перетасовываются, с грохотом проникая одно сквозь другое, дерево, чугунные глотки-жерла, спрессованный воздух, обломки горных пород. Электричество играет на флейтах рельс. Автомобили с астматическими легкими проплывают, накренившись набок, по асфальту; и мои двери дрожат. Молочно-белые дуговые фонари, потрескивая, забрасывают широкие лучи ко мне в окна, непрерывно загружают свет в комнаты.
Я не осуждаю эту бестолковую вибрацию. Просто мне делается как-то не по себе.
Не знаю, в чьих голосах тут дело, чьим душам потребны эти тысячетонные резонирующие арочные перекрытия.
Этот голубиный полет аэропланов в небесном эфире.
Эти петляющие между этажами трубы новейших отопительных систем.
Эти молнии слов, переносящихся на сотни миль:
Кому это надо?
Зато людей на тротуарах я знаю. Их беспроволочный телеграф — действительно новшество. А вот гримасы Алчности, недоброжелательная Пресыщенность с выбритым до синевы подбородком, тонкий принюхивающийся нос Похоти, Жестокость, чья желеобразная кровь заставляет сердца дрожать мелкой дрожью, водянистый кобелиный взгляд Честолюбия… Эти чудища тявкали на протяжении многих столетий, и именно они подарили нам прогресс.
О, я-то это хорошо знаю. Я, кого причесывает своим гребнем ветер.
Да, но я хотел о другом —
В жизни нашей земли две тысячи лет проносятся, как один год.
Приобрести, захватить… Один старый человек сказал: «Ты идешь, не зная куда, стоишь, не зная на чем, ешь, не зная почему. Во вселенной сильнее всего воздух и сила тепла. Как же можешь ты обрести их и ими владеть?»
Я хочу принести ему поминальную жертву (для чего и закрыл окно), принести жертву этому мудрому старику,
Лецзы[159],посвятив ему свою не способную что-либо изменить книгу[160].
Ближайшие историко-литературные контексты: жанры фрагмента и философского афоризма, «стернианское» повествование
Усилившееся внимание к ритмической дискретности восприятия и сама фрагментарность монтажных текстов способствовали началу интенсивного взаимодействия между эстетикой монтажа и развитием жанров литературного фрагмента и философского афоризма. В европейской литературе эта традиция реактуализировалась несколько раз — сначала она получила распространение в эпоху барокко, потом — была заново осмыслена в период сменившего барокко рационалистического искусства XVII века (ср. афоризмы Ф. де Ларошфуко)[161], потом — романтизма и позднего романтизма (Ф. Ницше).
Саму эту традицию можно считать отдаленной предшественницей монтажа в литературе. Афоризмы и литературные фрагменты представляют фрагментированный мир, но до появления монтажа в культуре не предполагалось, что дискретность ряда афоризмов и их восприятие как единого цикла должны находиться во внутреннем конфликте.
В русской культуре влияние идеи монтажа на жанр философского и моралистического афоризма впервые становится заметным у Василия Розанова. Характерно, что афоризмы Розанова создают впечатление импрессионистических, записанных мгновенно, «на бегу» — выше я упоминал о роли импрессионизма в возникновении монтажных принципов. В первые издания первого и второго томов («коробов») «Опавших листьев» (1913 и 1915 соответственно), как известно, были вклеены фотографии Розанова, его жены и детей, что усиливало «монтажное» впечатление от книги.
О влиянии Розанова на Шкловского писали неоднократно. Но Розанов повлиял и на других авторов, использовавших монтаж в своей работе, — в частности, на Владимира Маяковского. Л. Кацис предположил, что сам изобретенный Розановым жанр книги, в которой текст смонтирован с «домашними» фотографиями семейной жизни, оказал существенное влияние на замысел книги В. Маяковского «Про это», иллюстрированной коллажами А. Родченко. На этих коллажах были изображены не только сам Маяковский, его возлюбленная Лиля Брик (их постановочные фотопортреты по заданию Родченко изготовил Абрам Штеренберг), белые медведи на льдине и образы большого города, но и любимые домашние вещи поэта — например, крюшонница[162].
* * *
Очень близка к эстетике монтажа традиция стернианского повествования в прозе и в стихах (как, например, в «Евгении Онегине» и «Домике в Коломне» Пушкина) — с характерными для него перестановкой и пропуском фрагментов, описанием следствий раньше причины, коллажем разнотипных фрагментов (см. «графики» движения повествования в разных частях романа, которые Стерн приводит в романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена») и др. Шкловский, который был одним из первых в России исследователей Стерна, в начале 1920-х минимум дважды сравнил стернианскую традицию с эстетикой Пикассо, который в те годы переживал кубистический, «монтажный» период[163].
В русской литературе XIX века влияние этой традиции было обусловлено влиянием не только собственно Стерна, но и, например, французского писателя и офицера на русской службе Ксавье де Местра, который вослед стерновскому «Сентиментальному путешествию» в 1794 году создал «Путешествие вокруг моей комнаты». По словам де Местра, книга была сочинена за время, пока он, офицер (тогда еще французской армии), был посажен на гауптвахту за дуэль и вспоминал свое оставленное жилище. «Путешествие» де Местра состоит не столько из описания комнаты, по которой он «передвигался» 42 дня, сколько, как и проза Стерна, из разнообразных отступлений.
Развивая эстетику Стерна и Ксавье де Местра, Александр Вельтман в 1828–1830 годах написал повесть «Странник». Ее сюжет — мысленное путешествие, совершаемое с помощью карты. Герой по собственной воле может оказаться в одной из точек на карте или вернуться к себе домой на диван.
Исследователь русских травелогов Андреас Шёнле пишет: «…В романе… [Вельтмана] культивируется прерывистость и непредсказуемость переходов, которые легитимируются отсылкой на хаотическое вступление гайдновской оратории „Сотворение мира“ и удобной сентенцией о том, что „гармония всегда создается из беспорядка“»[164].
По композиционным приемам проза Вельтмана отчетливо напоминает монтаж:
VII
Кофе, или кофий, со славными сливками и трубка, должны быть всегда заключением завтрака перед отъездом. Чухонское масло гладко стелется по белому хлебу, если это кофий утренний; и иногда кажется, что он не желудок мой, а мою душу наполняет собою.
До Могилева нигде на станции мы не остановимся. Поздно сказано! Воображение уже спустилось с каменной горы, проехало без внимания город, таможню, карантин и переправилось через Днестр, не двигая с места парома. Какая быстрота! Где сто десять верст?
VIII
«Торопливость носит наружность страха, небольшая медленность имеет вид уверенности», — пишет Тацит, и потому должно ехать медленнее, кто-нибудь скажет; — неправда, говорю я и продолжаю путь во всю прыть своего воображения. Но оно расположилось отдыхать на кружочке на Днестре, над которым выгравировано: Атаки. Покуда вы ходите по местечку и по некоторой части прошедшего времени, я, между тем, с позволения вашего, прочитаю что-нибудь из тетрадки, которая с полки упала прямо в Ледовитое море.
Заглавие оторвано, начала нет; но кажется, что это дневные записки, писанные в роде предсказаний Нострадамуса. Например:
Апр. 20: Кто видел ее и меня В минуты печальной разлуки? Кто чувствовал жженье огня И слышал лобзания звуки? О друг мой! души не волнуй Слезами, блистающим взглядом, Мне будет медлительным ядом Прощальный любви поцелуй!Подобная вещь может с кем-нибудь случиться и не 20 апреля 1822 года, а 1, 4, 8 или 20 мая 1922 года; и потому все эти слова, писанные давно и сбывшиеся в следующем веке, могут считаться чудным предсказанием[165].
В этой работе используется расширительное понимание монтажа, и все же разграничение «стернианской» и собственно монтажной эстетики, при их близости, необходимо. По-видимому, важнейшее различие — в мотивировках, если пользоваться терминологией того же Шкловского. Читатель «стернианского» романа или поэмы воспринимает внезапные перескоки, смены ракурса и отступления как проявления авторского своеволия или даже каприза. Согласно А. Шёнле, «…в „Страннике“ пародируется эстетика разнообразия и живописности, лежащая в основе травелога»[166]. В этом смысле стернианская проза — прямое следствие просветительских представлений об автономии личности.
Напротив, читатель «монтажной» прозы, зритель «монтажного» спектакля, фильма или картины воспринимает перестановку кусков и «разнофактурность» произведения не как следствие авторского своеволия, но как смысловую особенность «современной» картины мира, не зависящую напрямую от воли автора. Поэтому монтажное искусство более миметично («подражает» внеположным смысловым системам), чем стернианское повествование, — если говорить только о конструирующем монтаже. «Авангард [в его монтажном варианте] разоблачает репрезентацию и при этом использует ее для собственных нужд», — пишет А. Фоменко[167].
Валерий Подорога считает одним из центральных образов исторического авангарда машину[168]. «Взгляд машины» становится, если использовать термин Шкловского, мотивировкой, которая позволяет художнику авангарда показать мир словно бы нечеловеческими глазами, — в оптике, не привязанной к человеческой субъективности. Но точнее было бы сравнить отдельные поэтики авторов авангарда не с реальными машинами, а с фантастическими — наподобие машины времени из романа Герберта Уэллса. Эти поэтики были конструированием новых, нарочито искусственных, непривычных познавательных позиций, которые позволяли иначе, чем прежде, воспринимать пространство и время — в ответ на радикальные изменения условий существования человека. Авторы авангарда и радикального модернизма стремились играть на опережение, изменяя человеческое восприятие прежде, чем оно будет дезориентировано социальным окружением[169].
Аналитический монтаж показывает разнородные дискурсы, взаимодействующие в сознании автора или реципиента. В своей апелляции к спонтанности и одновременно — к рефлексии он возвращается на новом уровне к проблематике «стернианского» повествования, как будет показано в заключительных разделах книги.
Искусство импрессионизма и фрагментация текста
Открытия философии и психологии конца XIX века в значительной степени повлияли на развитие искусства, в том числе и на становление монтажной стилистики. Александра Веттлауфер проследила это влияние, сопоставляя творчество писателя, художника, теоретика искусства и общественного деятеля Джона Рёскина (1819–1900) и французского поэта и художественного критика Жюля Лафорга (1860–1887)[170]. Оба они были теоретиками новой живописи и писали, что в действительности визуальный мир, окружающий человека, состоит из отдельных световых и цветовых фрагментов, связывающихся лишь в восприятии. При этом, например, Лафорг внимательно изучал работы немецкого философа Эдуарда фон Гартмана о роли бессознательного в эволюции человека (впоследствии эти работы оказали влияние на З. Фрейда и К. Г. Юнга) и сочинения психологов восприятия — Г. Т. Фехнера, Г. Л. Ф. Гельмгольца и других, философский «бэкграунд» Рёскина тоже был достаточно богатым.
Представление о мире как о комбинации вспышек-фрагментов и у Рёскина, и у Лафорга непосредственно реализовалось в их литературном творчестве. В цикле публицистических эссе «Fors Clavigera: письма к рабочим и труженикам Великобритании» (создавались и публиковались в 1871–1887 годах[171]) Рёскин нарочито резко меняет темы, сталкивает разномасштабные образы, от общих социальных рассуждений переходит к описанию уличных сцен и т. п.
Лафорг предлагает еще более разорванную, чем у Рёскина, картину действительности в стихотворении в прозе «Grande complainte de la ville de Paris» (1884, в переводе В. Рогова оно названо «Великий плач города Парижа», более правильный перевод — «Великий плач о городе Париже» или «Слово о бедах города Парижа»). Жанр этого сочинения Лафорг обозначил как «белая проза» («Prose blanche») — очевидно, по аналогии с существовавшим уже тогда во французском языке выражением «белый стих» («vers blanc»). Это стихотворение вплотную подходит к идее монтажа в литературе — оно состоит из отдельных фраз, цитирующих уличные объявления, рифмованные прибаутки торговцев, заголовки газет, бюрократические обороты и т. п. Короткие назывные фразы метафорически описывают различные типажи парижских улиц («Aux commis, des Niobides; des faunesses aux Christs…»). В целом создается картина городской суеты, неясная печаль которой показана гораздо более скрыто и не так публицистически, чем в стихотворении Некрасова «Утро». Стихотворение обрывается словно бы на полуслове:
Bonne gens qui m’écoutes, c’est Paris, Charenton compris, Maison fondée en… à louer. Médailles à toutes les expositions et des mentions. Bail immortel. Chantiers en gros et en détail de bonheurs sur mesure. Fournisseurs brevetés d’un tas de majestés, Maison recommandée. Prévient la chute des cheveux. En loteries! Envoie en province.
[…]
Et l’histoire va toujours dressant, raturant ses Tables criblées de piteux idem, — ô Bilan, va quelconque! ô Bilan, va quelconque…[172]
Добрый и честный народ, услышь: вместе с Шарантоном говорит Париж. В таком-то году основанный дом сдается внаем. На всех выставках медали ему присуждали. Аренда будет дана на вечные времена. Склады, где хранится счастье, в целом, и в частности, на любой каприз. Поставщики, чьи дипломы всем венценосцам знакомы. Дом с отменной репутацией. Предотвращается выпадение волос. Проводятся лотереи! Доставка в провинцию.
[…]
А история постоянно вершится, стирая на скрижалях каракули жалкого idem (того же самого. — И.К.) — о Итог, где же ты! о Итог, где же ты…[173]
Если говорить не о Рёскине, а только о Лафорге, необходимо, конечно, учесть, что эстетика французского стихотворения в прозе, разработанная поэтом Алоизиюсом Бертраном (Aloysius Bertrand, 1807–1841) и оказавшая очень большое влияние на Лафорга, изначально ориентировалась на романтическую экспрессию и «фрагментацию» изображаемого мира (Веттлауфер в своей статье не учитывает влияния этой традиции). Стихотворения Бертрана часто разделены на отдельные, сопоставленные друг с другом фрагменты:
Encore, — si ce n’était à minuit, — l’heure blasonnée de dragons et de diables! — que le gnome qui se soûle de l’huile de ma lampe! Si ce n’était que la nourrice qui berce avec un chant monotone, dans la cuirasse de mon père, un petit enfant mort-né! Si ce n’était que le squelette du lansquenet emprisonné dans la boiserie, et heurtant du front, du coude et du genou! Si ce n’était que mon aïeul qui descend en pied de son cadre vermoulu, et trempe son gantelet dans l’eau bénite du bénitier! Mais c’est Scarbo qui me mord au cou, et qui, pour cautériser ma blessure sanglante, y plonge son doigt de fer rougi à la fournaise! («La Chambre gothique»[174]) Мало того, что в полночь — в час, предоставленный драконам и чертям, — гном высасывает масло из моего светильника! Мало того, что кормилица под заунывное пение убаюкивает мертворожденного младенца, уложив его в шлем моего родителя. Мало того, что слышно, как скелет замурованного ландскнехта стукается о стенку лбом, локтями и коленями. Мало того, что мой прадед выступает во весь рост из своей трухлявой рамы и окунает латную рукавицу в кропильницу со святой водой. А тут еще [гном] Скарбо вонзается зубами мне в шею и, думая залечить кровоточащую рану, запускает в нее свой железный палец, докрасна раскаленный в очаге. («Готическая комната», перевод с фр. Е. А. Гунста)[175]По мнению историка европейских литератур Н. И. Балашова, «…сокращение числа глаголов у Бертрана сокращает связки внутри „стихов“ и между ними, придавая скачкообразную разорванность, „дискретность“ поэтическому изображению»[176].
И все же в целом можно согласиться с Веттлауфер: Лафорг радикально трансформировал эту традицию, введя в текст контрастные, намеренно противоречивые цитатные фрагменты, и высока вероятность того, что на поэтику «Большого плача», представлявшую парижскую улицу как совокупность разрозненных слуховых и зрительных впечатлений, вызывающих столь же моментальные культурные ассоциации, во многом повлияла именно импрессионистская живопись.
Случайность и игра: новые концепты в искусстве рубежа веков
В конце XIX века философы, исследующие проблемы сознания, — такие, как Уильям Джеймс и Анри Бергсон, и наиболее радикальные психологи — такие, как Зигмунд Фрейд, — приходят к выводу о том, что не только человеческое восприятие, но и сознание не являются цельными, состоят из отдельных вспышек-осознаний, на которые оказывают огромное влияние эмоции и бессознательные импульсы, отчужденные от «дневной» человеческой субъективности.
В литературе подобную концепцию субъекта первым выразил их современник, французский поэт Стефан Малларме — в поэме «Бросок игральных костей никогда не отменит случая» («Un Coup de Dés Jamais N’Abolira Le Hasard», 1897), ставшей важным событием в истории новой европейской литературы.
Малларме чутко уловил проблематику фрагментации сознания, все более обострявшуюся в городе конца XIX века и концептуализированную наиболее чуткими философами и искусствоведами. Он первым нашел эстетические средства не только для того, чтобы ее выразить, но «переиграть», превратить ее в творческую силу. В манифестарном предисловии Малларме объяснял, как нужно читать его поэму:
Свободное пространство [в этом произведении] появляется на бумаге всякий раз, когда образ исчезает из поля зрения или возвращается, обогащенный другим образом, и из-за того, что здесь нет соразмерно звучащих отрезков, нет регулярного стиха как такового — скорее, призматические преломления и отражения некой Идеи, которые возникают только на миг, пока длится их роль в той или иной духовной мизансцене, — то сам текст и определяет постоянно меняющееся расположение строк в зависимости от их приближения или удаления от скрытой сквозной нити и соответственно с требованиями правдоподобия. Что же касается собственно литературных преимуществ, если можно так выразиться, заключенных в графическом отображении расстояний между словами или группами слов, в сознании отделенных друг от друга, то они (расстояния), как мне представляется, ускоряют или замедляют ритм произведения, делают его более отчетливым и образуют целокупное видение страницы, ибо последняя предстает как самостоятельная единица текста, подобно тому как в других случаях таковой служит стих или совершенная строка. Сюжет появляется и мгновенно исчезает, благодаря динамике изложения, подчиняясь дроблению магистральной фразы, обозначенной в заглавии. Короче говоря, все происходит как бы гипотетично; повествовательные приемы избегаются. […] Различные типографские шрифты, выделяющие основной, вторящий и побочные мотивы, регулируют декламацию; устремленность строк вверх или вниз подсказывает соответственное повышение или понижение интонации[177].
В действительности единицей чтения «Броска костей» была не страница, а страничный разворот, что еще ближе к идее монтажа, потому что каждая страница в этом случае выступает как отдельный кадр, а разворот — как монтажный стык. Приведу один из таких разворотов:
тревожной искупительной и выстраданной немой насмешки как ЕСЛИ БЫ Величественный и головокружительный плюмаж над незримым челом то высвечивает то затемняет маленькую сумрачную фигуру возникшую из волн словно гибкая сирена когда пробил час нетерпеливым ударом раздвоенного хвоста развеять в тумане этот замок мнимую твердыню которая поставила предел бесконечному (Перевод с фр. М. Фрейдкина[178])Одно из наиболее значимых эстетических открытий, сделанных Малларме в этой поэме, — визуальная, графическая демонстрация встреч смысловых явлений в мире как проявления случайности и игры отчужденных от человека сил — и самого человека с этими силами (ср. название поэмы). Философ Ален Бадью, анализируя поэму Малларме, показал, что в ней создан образ абсолютного события, двумя выражениями которого являются упомянутое в тексте кораблекрушение и бросок костей[179]. Напомню, что Э. Блох в своих зрелых работах («Наследие нашего времени», 1935, и др.) тоже говорил об использовании монтажа как об игре. Можно сказать, что Малларме открыл потенциал не существовавшего еще метода.
Мотивы игры и случайности оказались впоследствии одним из ключевых для идеи монтажа во всем мире, но в революционной России — в наименьшей степени[180]. Впрочем, С. Эйзенштейн в 1937 году указал на переклички между поэтикой Малларме и эстетикой монтажа[181].
В искусстве 1910-х годов была одна группа, в наиболее радикальной форме выразившая связь эстетики монтажа и представления о случайности творчества, — уже упомянутые дадаисты, но здесь более значимой была не берлинская, а цюрихская ветвь движения. Тристан Тцара и Ханс Арп создавали свои визуальные и литературные произведения на основе произвольной, «нечаянной» комбинации элементов. Тцара в «Манифесте дада о немощной любви и горькой любви» (9 декабря 1920) призывал вырезать из газеты отдельные слова и вслепую доставать их из сумки, чтобы составить дадаистическое стихотворение[182]. (Берлинские дадаисты, в отличие от цюрихских, остро осознавали свое искусство как политически ангажированное[183].) Живший в Ганновере Макс Эрнст писал: «…техника коллажа есть систематическая эксплуатация случайного или искусственно спровоцированного соединения двух или более чужеродных реальностей в явно неподходящей для них среде, и искра поэзии, которая вспыхивает при приближении этих реальностей»[184].
В тогдашнем изобразительном искусстве подчеркивание мотива случайности могло сочетаться с демонстрацией нарочито рукодельного, «кустарного» происхождения объекта: ср. коллажи дадаистов и кубистов, в том числе и русских, с использованием газет, билетов, обрывков нот и объемных предметов, прикрепленных к холсту[185].
В России не было «своего» дадаизма, однако в 1910-е годы интерес к случайности и произвольности образов усиливается у представителей разных направлений авангарда[186]: ср., например, сборник стихотворений поэта-футуриста и режиссера Игоря Терентьева «17 ерундовых орудий» (Тифлис, 1919), в котором используются монтажные методы. На дадаистов и, возможно, на Малларме[187] ориентировался поэт, переводчик и теоретик искусства Иван Аксенов в своем недооцененном стихотворении «Мюнхен» (1914). Оно основано на коллажировании фраз, разбросанных по странице, и использовании неизмененных или переиначенных цитат (в цитируемых ниже фрагментах «Отчего не медное отворять?» — ср. «Иисус же глаголаше: Отче, отпусти им: не ведят бо что творят…» (Лк. 23: 34, церк. — слав. текст)). Стихотворение Аксенова представляет мир как основанный на случайности, одновременно воспринимаемый иронически и пугающий. Чтобы показать эстетический метод Аксенова, основанный на сочетании разнородных фрагментов с постоянными лейтмотивами, приведу здесь обширную цитату из этого стихотворения:
Гдѣ это сердятся турники? Сколько морщинъ въ этой улыбкѣ! А бешенные пауки Шевелятъ робко Мѣловой милый лунь для луны Проявлять ли теперь этотъ негативъ? НЕИЗБѢЖНО! потому что только воздухъ была пѣсня (Несмотря на совершенно невыносимую манеру отдельной прислуги отворять, въ отсутствiи, окна въ улицу) Нѣтъ! Нѣтъ! Нѣтъ! Н е п о з д н о И вѣсть еще дрожитъ. И не будет теюѣ никакого сахара Пока не уберутъ, не утолкутъ трутъ Растоптанные войной надъ землей озими Жалооконное О горестной долѣ, О канифолѣ, О каприфолѣ Безграалiе на горѣ. И не видно ни краю, ни отдыха Ахъ! не хватило красна вина Кто, г-спода, видѣлъ многоуважаемаго архитриклина? Ясно разваливается голова на апельсинныя доли; То говорунъ далъ отбой: Подъ тучей ключъ перевинченъ И когда падаютъ деньги — звонокъ Когда падаетъ палка — стукъ Когда падаетъ…… Нљтъ! Полая поляна Палево бѣла Плакала былая Плавная пила. Кириллицей укрыть Кукуя видѣлъ? НЕИЗБѢЖНО! И перебросился день.[188]Написавший это стихотворение (и несколько аналогичных) Иван Аксенов впоследствии стал не только поэтом, но и видным киноведом, адептом авангардного кино и автором первых русских монографий о Пикассо и Эйзенштейне[189]. По-видимому, за его творческой эволюцией, среди прочего, стоит устойчивый интерес к монтажу.
Циклические модели истории и параллельные сюжеты в литературе и кинематографе
Еще одним источником монтажной стилистики стала критика гегельянских и позитивистских представлений о прогрессе. Эта критика, как известно, была манифестирована в учении Фридриха Ницше о вечном возвращении. Еще одним источником модернистских образов исторического процесса стали восточные учения о переселении душ, получившие популярность в Европе благодаря мистическим и оккультным движениям конца XIX века. Концепция цикличного повторения исторических событий, порожденная ницшеанскими идеями и идеями о переселении душ, повлияла на «предмонтажные» принципы в пьесе Федора Сологуба «Ванька Ключник и паж Жеан» (1909), блестяще проанализированной З. Г. Минц[190]. В этом произведении два сюжета, пародийно-русский и пародийно-французский, типографски оформлены в виде двух параллельных столбцов, как в филологических изданиях различных вариантов фольклорного текста. Минц показала, что одной из задач Сологуба было показать скрытое единство двух внешне противоположных по смыслу сюжетов[191] — таким образом, конфликтное совмещение двух разных сюжетов функционирует в пьесе Сологуба как символ.
Более сложный смысл образ повторений в истории приобретает в знаменитом фильме Д. У. Гриффита «Нетерпимость» («Intolerance: Love’s Struggle Throughout the Ages», 1916), который, как много раз писали киноведы и историки культуры, оказал очень большое влияние на развитие раннесоветского кинематографа[192]. Смонтированные «встык» эпизоды этого произведения поочередно изображают события, относящиеся к четырем историческим эпохам: Древний Вавилон, Иудея евангельских времен, Франция в год Варфоломеевской ночи, современные Гриффиту Соединенные Штаты. После «вавилонской» сцены идут «иудейская», «французская» и «современная», потом новый «вавилонский» эпизод и т. д. — но в дальнейшем эпизоды чередуются непредсказуемо, завершается же фильм картиной конца света: к сражающимся солдатам (в которых угадываются войска, участвующие в Первой мировой войне) с неба спускаются ангелы, которые прекращают битву, а бунт заключенных в тюрьме высшие силы прекращают, уничтожая стены тюрьмы и превращая в цветущий луг место, где она стояла. Фильм имел подзаголовок «Drama of the Comparisons» — «Драма сравнений».
Таким образом, в «Нетерпимости» сосуществуют изоморфные сюжеты о преследовании, истреблении и, в «американском» сюжете, о чудесном спасении «непохожего» меньшинства или одиночки. «Эти разные истории… потекут, подобно четырем потокам, на которые смотришь с вершины горы. Вначале эти четыре потока побегут отдельно, плавно и спокойно. Но чем дальше будут они бежать, тем все больше и больше будут сближаться, тем быстрее будет их течение, и, наконец, в последнем акте они сольются в единый поток взволнованной эмоции», — объяснял режиссер[193].
По мнению многих исследователей, «Нетерпимость» стала началом новой эры в использовании монтажа в кино[194]. Как и «Мюнхен» Аксенова, грандиозная постановка Гриффита была основана на использовании лейтмотивов: изображении героини Лилиан Гиш, качающей детскую колыбель, и повторении сильно измененной цитаты из стихотворения Уолта Уитмена 1900 года «Out of the cradle endlessly rocking»: «Out of the сradle / Today and yesterday, endlessly rocking, ever bringing the same human passions, the same joys and sorrows…». Это — контаминация образов и строк из разных частей стихотворения Уитмена: «Out of the cradle, endlessly rocking… […] / A man — yet by these tears a little boy again, / Throwing myself on the sand, confronting the waves, / I, chanter of pains and joys, uniter of here and hereafter…».
Спасение героя в современности становится возможным потому, что прежде Христос (чей крестный путь изображен в «иудейской» части фильма) своими проповедями, повседневным поведением и готовностью умереть на кресте за всех людей дал пример жертвенной любви последующим поколениям — в том числе и героям «современной» части, которые преодолевают множество трудностей, чтобы успеть до казни передать тюремным властям распоряжение губернатора штата об освобождении несправедливо осужденного.
Различие между «современной» и «историческими» частями отчасти стирается благодаря образу-лейтмотиву. Американскому зрителю образ женщины, качающей колыбель, напоминал не только о процитированных в титрах строках Уитмена, но и о стихотворении другого американского поэта, Уильяма Росса Уэллеса (1818–1891), «Blessings on the Hand of Women…», которое было написано в 1865 году и уже к началу XX века стало хрестоматийным — в еще большей степени, чем стихотворение Уитмена. У Уэллеса образ «руки, качающей колыбель», настойчиво утверждается как надвременный, связывающий поколения и эпохи:
Blessings on the hand of women! Fathers, sons, and daughters cry, And the sacred song is mingled With the worship in the sky — Mingles where no tempest darkens, Rainbows evermore are hurled; For the hand that rocks the cradle Is the hand that rules the world.Наиболее изощренную версию «монтажа повторений» уже после Гриффита разработал Эзра Паунд. Как объяснял сам Паунд в письме 1927 года к отцу, главные темы его цикла «Cantos» могут быть описаны так: «живой человек сходит в мир Мёртвых»; «повторение в истории»; «магическое мгновение» или мгновение метаморфозы, прорыв из обыденности в «божественный или вечный мир»[195]. Паунд не выстраивает отношений эквивалентности между разными моментами истории, как Гриффит или, позже, Лев Лунц, Михаил Светлов или Михаил Булгаков (см. далее о «рифмующем монтаже»). В его «Cantos» все моменты истории индивидуальны, но Паунд настаивает, что в истории возвращаются одни и те же сюжеты, одни и те же проблемы. Он воспринимал историю как полный разрывами грандиозный коллаж поступков, текстов и изображений — но связанный общими лейтмотивами.
Китай и Япония: древняя культура фрагментации
Наконец, в ходе глобализации в Европе вновь — после «шинуазри» XVII–XVIII веков[196] — усилился интерес к дальневосточным культурам. Отчасти причиной этого возрождения стали бурные события в регионе: начавшаяся в 1868 году в Японии реформация Мэйдзи, Русско-японская война 1904 года, Ихэтуаньское восстание в Китае (1898–1901), реформы и Синьхайская революция (1911) в этой стране[197].
Именно изучение дальневосточных культур дало импульс разработке эстетики монтажа у Э. Паунда. В 1913 году к жившему в Англии Паунду обратилась Мэри Феноллоза — вдова умершего за пять лет до того выдающегося американского историка китайского и японского искусства Эрнеста Франсиско Феноллозы (1853–1908). Феноллоза много лет жил в Японии, принял буддизм (под именем Тейсин), был одним из активных участников вестернизаторской реформации Мэйдзи в этой стране, помогал разрабатывать закон об охране памятников старины, изучал китайскую иероглифическую систему письма, японский театр Но, поэзию двух стран, преподавал в Токийском университете и был награжден главными японскими орденами — Восходящего солнца и Священных сокровищ[198]. Мэри Феноллоза попросила Паунда помочь в разборе и публикации бумаг ее покойного мужа. Паунд действительно доработал и опубликовал ряд рукописей Феноллозы, в частности книгу о театре Но[199], разобрал подготовленные ученым подстрочники китайских и японских стихотворений. Поэт увлекся идеей Феноллозы об отличии китайского поэтического мышления, использующего иероглифы, от европейского, основанного на алфавитном письме; на Паунда оказала влияние и убежденность Феноллозы в ценности произведений традиционного китайского и японского искусства[200].
Статью Феноллозы «Китайские письменные знаки как поэтическое средство» Паунд не только подготовил к печати, но и включил — с указанием имени автора — в книгу своих эссе о новейшей поэзии и художественных манифестов «Наущения» («Instigations»)[201]. В этой статье Феноллоза, в частности, интерпретировал китайские иероглифы как «стенограммы» или «словесные идеи» конкретных человеческих действий, которые на письме оказываются совмещены друг с другом в одном ряду.
Переводя китайскую классическую поэзию на английский и изучая японскую эстетику, Паунд обратил внимание на то, что в китайской и японской поэзии образы автономны и находятся друг с другом в отношениях не логической, а сложной ассоциативной связи[202]. Эта идея совпала с тенденцией собственного поэтического развития Паунда: чуть раньше встречи с Мэри Феноллозой Паунд пришел к стилистике вортицизма, предполагавшей сопоставление контрастных и в то же время ассоциативно связанных образов, цитат, фрагментов — без комментариев и объяснений. Еще в 1912 году Паунд написал стихотворение «На станции метро», состоящее всего из двух строк и организованное по принципу японского хайку:
The apparition of these faces in the crowd; Petals on a wet, black bough. Эти лица, проступающие из толпы. На мокрой, черной ветке цветы. (Перевод Д. Кузьмина)Это стихотворение, несмотря на скромные размеры, в английской литературе настолько известно, что в англоязычной части «Википедии» ему посвящена отдельная статья. По сути, оно представляет собой произведение-манифест, демонстрирующий возникновение нового смысла из соположения образов.
Из стихотворения «На станции метро» и сопутствующего контекста можно заключить, что осмысление особенностей японской и китайской эстетики как «протомонтажных» стало возможным именно благодаря изменению восприятия мира, которое произошло в Европе и Северной Америке, особенно в больших городах, на рубеже XIX–XX веков.
Чуть позже, чем Эзра Паунд, — в 1920 году — за изучение японского языка и культуры взялся молодой Сергей Эйзенштейн[203], который в то время хотел стать военным переводчиком, но вскоре изменил свое решение и стал театральным режиссером. «Именно этот [японский] „необычайный“ ход мышления помог мне в дальнейшем разобраться в природе монтажа…»[204] — писал он позже и постоянно приводил примеры из японской культуры в своих теоретических работах. «Паунд и Эйзенштейн сходятся во многих пунктах», — замечает Ш. Макдональд[205].
Впоследствии, в 1930-е годы, интерес Эйзенштейна сместился от японской культуры — к китайской; впрочем, Макдональд отмечает, что представления Эйзенштейна о китайских иероглифах были неточными[206]. Вяч. Вс. Иванов напоминает, что Эйзенштейн прообразом монтажного образа считает такую комбинацию китайских иероглифов, в которой глагол, обозначающий процесс, складывается из двух знаков для существительных — например, «плакать» из «вода» и «глаз». А «знакомство с японским письмом», по мнению Иванова, «много дало Эйзенштейну… для построения теории звукозрительного контрапункта в звуковом кино»[207].
Впрочем, влияние японской и особенно китайской эстетики на развитие монтажа и иных модернистских методов, подрывающих традиционный мимесис, было намного более широким, чем описанные здесь прямые отсылки. «Китайский» антураж или аллюзии на китайское искусство — при усилившемся в Европе политическом и культурном интересе к Востоку — стали важнейшими мотивировками для отказа от сюжета традиционного типа: ср. роман Дёблина «Три прыжка Ван Луня», пьесы С. Третьякова «Рычи, Китай!» (1926) и Б. Брехта «Добрый человек из Сычуани» (1941). Концепцию «очуждения» (Verfremdung) Брехт развивал еще в пьесах 1920-х годов, но окончательно сформулировал эту мысль и ввел сам термин только в 1935 году — после того как побывал в Москве на выступлении выдающегося китайского режиссера и актера Мэя Ланьфана (1894–1961), реформатора классической пекинской оперы[208].
* * *
Советский монтаж 1920-х годов так или иначе испытал влияние всех перечисленных здесь типов семантизации монтажа; о некоторых таких влияниях вкратце уже было сказано. Однако, если рассматривать формирование советского монтажа подробнее, становится заметно, что некоторые традиции, повлиявшие на эстетику монтажа в целом, были в нем резко усилены и одновременно идеологизированы, а некоторые — ослаблены и даже вытеснены.
Глава 2 Модернистский эксперимент в советских обстоятельствах
Построение монтажного образа
Монтажные принципы в литературном произведении могут быть реализованы минимум на двух уровнях: образной структуры и композиции. Следуя мысли С. Эйзенштейна, я полагаю, что «ядро», центральный элемент монтажа как приема и как метода, — именно образ[209]. Распространение монтажных принципов на уровень композиции может быть описано как «раздвижение» монтажного образа до границ целого произведения[210]. Анализ специфики советского монтажа имеет смысл начать с введения концептуального аппарата, позволяющего описывать и контекстуализировать образы, порожденные монтажом.
А. Веттлауфер справедливо, на мой взгляд, связывает происхождение монтажа с импрессионизмом в живописи[211]. Импрессионистская картина должна была «собираться» в сознании зрителя из отдельных мазков или точек. Подобно этому, и монтажный образ должен был производить впечатление не только разъятия мира на элементы, но и его новой сборки, — но уже не как статическое, а как динамическое, заведомо не-цельное единство. На материале литературы подобный эффект наиболее точно проанализировал М. Л. Гаспаров в своем исследовании «Поэмы воздуха» (1927) Марины Цветаевой. Выводы ученого могут быть mutatis mutandis экстраполированы на довольно большое количество произведений, созданных в 1920-е годы. Гаспаров связывал эту методику с кубизмом, но, на мой взгляд, она в неменьшей степени напоминает коллажи в визуальном искусстве и монтаж в кинематографе:
Разорванность; отрывистость; восклицательно-вопросительное оформление обрывков; перекомпоновка обрывков в параллельные группы, связанные ближними и дальними перекличками; использование двусмысленностей для создания добавочных планов значения; использование неназванностей, подсказываемых структурой контекста и фоном подтекста, — таковы основные приемы, которыми построена «Поэма воздуха». Отчасти это напоминает (не совсем ожиданно) технику раннего аналитического кубизма в живописи, когда объект разымался на элементы, которые перегруппировывались и обрастали сложной сетью орнаментальных отголосков. Для Цветаевой это не только техника, но и принцип: ее этапы перестройки объективного мира в художественный мир или «мира, как он есть» в «мир, каким он должен быть… по [Божьему?] замыслу» — это (1) разъятие мира на элементы, (2) уравнивание этих элементов, (3) выстраивание их в новую иерархию[212].
Религиозность Цветаевой была сложной и неканонической[213], поэтому для более твердого ответа на вопрос о том, имело ли для Цветаевой это выстраивание элементов в новую иерархию религиозный смысл, а если имело, то какой, требовалось бы привлечь обширные дополнительные данные. Однако в целом можно констатировать, что описанные Гаспаровым принципы поэтики зрелой Цветаевой имеют много общего с философско-эстетическими системами Эрнста Блоха и Сергея Эйзенштейна — если соотносить рекомбинацию образов не с Божественным порядком, а с любым скрытым порядком вообще.
Блох часто цитировал в своих работах гностиков (Маркиона из Понта и других), которые считали, что истинное устройство мира скрыто от непосвященных; с другой стороны, он полагал, что такого «истинного» устройства мира, при котором человек возвратится к собственной природе, впервые обретет родину, — еще нет. Его только предстоит создать[214]. Это сотворение будущего, по Блоху, радикально изменяет и того/ту, кто творит, заново конструирует человека. Блох в своих поздних книгах использовал для обозначения этой взаимозависимости латинское выражение «Processus cum figuris, Figurae in processu» («Процесс творится теми, кто этим процессом создан»)[215]. Монтажный образ, сталкивающий фрагменты «неготовой» действительности, предстает как своего рода набросок, проекция этого «изменяющего сотворения».
Сергей Эйзенштейн в своих теоретических работах вводит понятие экстаза, весьма близкое к блоховской концепции открытия будущей «родины», которая грезится человеку в детстве. Экстаз, писал он, — это «восхождение к истокам» и одновременно выход субъекта за пределы собственного сознания в сферу трансцендентного аффекта[216]. «Этому состоянию сознания и должен соответствовать новый кинематограф, который, наподобие офортов позднего Пиранези, покадрово и в целом складывается из столкновений пространств „разной качественной интенсивности и глубины“»[217]. Но эти столкновения, по Эйзенштейну, — не статические, а динамические — то есть основанные на монтаже.
В случае Блоха и Эйзенштейна роль трансцендентного «магнита», заново выстраивающего для художника и для зрителя (или читателя, или слушателя) смысловые «силовые линии» образов, играет будущее. В менее отрефлексированной форме это было свойственно значительной части монтажных произведений 1920-х годов, прежде всего (но не исключительно) — в советском искусстве.
Для многих советских авторов монтаж был приемом, но для Эйзенштейна и наиболее остро рефлексирующих его современников — целостным эстетическим методом. «Эйзенштейн разделяет веру в монтаж как форму познания, основанную на манипуляции временем и на продуктивном сопоставлении разнообразного материала, которую мы обнаруживаем в различных проектах, таких как „Атлас Мнемозина“ Аби Варбурга, „Парижские пассажи“ Вальтера Беньямина и „Воображаемый музей“ Андре Мальро. Эти проекты, несмотря на многие очевидные различия между ними, демонстрируют общее понимание того, что приход кинематографа как вида искусства, которое в наибольшей мере соответствует новому восприятию времени, выходящему за пределы линейной хронологии, принес новый способ мышления об истории и новую практику историографии», — пишет итальянский киновед Антонио Сомаини[218].
Насколько слово «метод» соответствует лексикону самого Эйзенштейна? Оксана Булгакова полагает, что для режиссера слово «метод» связывалось прежде всего с всеоткрывающим «методом» социалистического реализма[219], но я с этим не согласен: в работе «Станиславский и Лойола» Эйзенштейн называет «методом», например, технику духовных медитаций, разработанную св. Игнатием Лойолой[220]. Таким образом, слово метод для него имело более общий смысл, чем идеологически определенный тип эстетической работы.
Формалисты, остранение и монтаж
Термин «монтаж», по-видимому, вошел в русский язык в том же году, что и другой, не менее знаменитый термин «остранение», — в 1917-м. Практически одновременно с первой статьей Льва Кулешова вышла статья Виктора Шкловского «Искусство как прием», где этот термин был обоснован[221].
Обе эти идеи находятся в глубинной связи, поэтому их одновременное появление не было случайным. Шкловский был знаком с Кулешовым, судя по косвенным данным, с начала 1920-х годов[222], в 1920-х — начале 1930-х был соавтором сценариев для ряда его фильмов. Но важны здесь не биографические обстоятельства (тем более что, по-видимому, в 1917 году критик и режиссер все же не были знакомы между собой), а тот факт, что остранение и монтаж стали центральными понятиями новаторских движений и в советском искусстве, и в гуманитарной мысли — а именно в формалистских (морфологических) теориях 1920-х годов. Галин Тиханов и Илья Калинин уже писали о том, что в научных и художественных текстах формалистов остранение связано с мотивами фрагментации и разрушения[223]. Калинин полагает, что вся система эстетических взглядов раннего Шкловского предполагает восприятие нарратива как произвольного, импровизационного коллажа[224]. Но остранение связано с монтажными приемами и более непосредственным образом, а не только тем, что и коллажирование, и остранение, и идея импровизации, как полагает Калинин, восходят к представлению об искусстве как танце и акробатике, которое, в свою очередь, восходит к произведениям Ницше. Для того, чтобы проследить эту непосредственную связь более подробно, необходимо вновь проанализировать аргументацию работы Шкловского 1917 года.
В статье «Искусство как прием» есть странное противоречие. Автор пишет, что остранение необходимо, чтобы «…вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным». Однако изменение образа, которое описывает Шкловский, не возобновляет прежнее, ранее стертое переживание, а принципиально меняет его содержание. В качестве примеров Шкловский приводит описание социальных отношений, театра и религиозного таинства в прозе Льва Толстого и аллегорические обозначения половых органов в фольклорных текстах. В обоих случаях смысл описываемых явлений принципиально смещается: Толстой показывает условность и бессмысленность социальных конвенций и институтов, а сексуальные отношения в цитируемой Шкловским русской былине «Ставр Годинович» предстают как эстетизированная игра:
«Помнишь, Ставер, памятуешь ли, Как мы маленьки на улицу похаживали, Мы с тобой сваечкой поигрывали: Твоя-то была сваечка серебряная, А мое было колечко позолоченное? Я-то попадывал тогды-сегды, А ты-то попадывал всегды-всегды?»[225]Воспользуемся метафорикой Шкловского — в результате такого переосмысления камень становится не совсем каменным, но отчасти еще и деревянным. Получается, что остранение исполняет не ту функцию, которую приписывал ему автор статьи «Искусство как прием».
Одну из причин этого парадокса описал Евгений Сошкин, который показал, что под «остранением» Шкловский имел в виду не один, а несколько нарративных механизмов[226]. Однако для целей этой работы более важна интерпретация работы Шкловского, которую предложил Михаил Ямпольский. Он сравнил остранение Шкловского с понятием Unheimliche («жуткого», в англоязычной литературе — «Uncanny»), которое было введено Зигмундом Фрейдом в одноименной работе 1919 года. «Перед нами вариант того же остранения, превращения привычного, хорошо знакомого в пугающе непривычное — новое. Время написания эссе Фрейдом по сути совпадает со временем написания „Искусства как приема“ Шкловским. Именно в этот момент предметы избавляются от налета историзма, покидают антикварные лавки и аранжируются в ассамбляжи нового, вводящие их в новый мир»[227].
«Пугающе непривычные» — или соблазнительно непривычные — образы, возникающие в результате остранения, не существуют сами по себе. Они являются частью объемлющего их текста, в котором есть другие образы. Толстовский Холстомер, взгляд которого анализирует Шкловский, не понимал отношений собственности, но по воле автора понимал многие особенности человеческой психологии: «Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил»[228], — говорит старый мерин об одном из своих хозяев. Только благодаря существованию этого контекста, задающего более или менее привычные параметры восприятия, остранение как прием становится возможным.
Последовательное, а не эпизодическое использование приема остранения приводит к тому, что текст становится более дискретным, в нем усиливается внутренний контраст. Чтобы остранение не автоматизировалось, разные образы должны быть остранены по-разному. Текст — или иное произведение — становятся монтажными.
Можно сказать, что остранение, das Unheimliche и монтаж (гносеологическим аналогом которого является «ассамбляж», упомянутый М. Ямпольским[229]) — три аспекта новой эстетической парадигмы, возникшей в конце 1910-х годов под влиянием событий Первой мировой войны и краха устоявшегося европейского символического порядка — и развития массмедиа, которое делало переживание этого краха общим, коллективным, переводя его из личной психопатологии в разряд поколенческого опыта[230].
Новая парадигма была основана на переживании разрыва в истории и биографиях людей. «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз», — писал О. Мандельштам в 1922 году в эссе «Конец романа»[231].
Понимание социальных связей как увиденных впервые, странных, должно было компенсировать ощущение разорванности истории. Илья Калинин предположил, что формалисты переживали перманентный кризис идентичности и для того, чтобы осмыслить его как часть истории культуры, как раз и разработали свою новую систему анализа произведений искусства. По его словам, формализм «…был попыткой ответа на базовые антропологические проблемы: как вернуть человеку утраченное восприятие мира, как преодолеть отчуждение между человеком и вещью, как само осознание исторического движения в качестве серии сломов… может стать способом сохранения идентичности субъекта, оказавшегося внутри очередного исторического слома»[232]. Острое чувство этого слома на рубеже 1910–1920-х годов было достоянием далеко не только формалистов, но очень многих интеллектуалов. Однако именно формалисты нашли метод интерпретаций культурных явлений, который позволял представить эти разрывы как движущую силу в развитии культуры. У формалистов получилась своего рода историко-культурная теория катастроф.
Напомню, что оригинальная теория катастроф, представляющая развитие органического мира как серию разрывов, после каждого из которых возникают новые виды и классы живых существ, была изложена Жоржем Леопольдом Кювье вскоре после другой революции — Великой французской. Первое издание написанного Кювье «Discours sur les revolutions de la surface du globe et sur les changements qu’elles ont produits dans le règne animal» вышло в 1817 году. Название его книги, переводящее дискурс исторической революции в дискурс естественной истории, говорит само за себя.
Выше уже было показано, что у монтажа была длительная культурная предыстория, восходящая к середине XIX века. Генеалогия остранения уходит еще дальше в глубины времени — Карло Гинзбург[233] прослеживает историю этого приема начиная с книги «Наедине с собой» римского императора Марка Аврелия[234]. Шкловский первым интерпретировал остранение как эстетический прием — до него подобные методы описания были элементом аскетической практики (стоик Марк Аврелий, который приучал себя воспринимать блага мира сего как бренные и преходящие) или социальной критики (см. описания «обычных» социальных конвенций в повести Вольтера «Простодушный» или в том же «Холстомере» Толстого). Однако Первая мировая война, а в России — еще и революционные события стали своего рода триггером. После краха прежних социального и символического порядка остранение и монтаж превратились в важнейшие средства изображения мира, потерявшего смысловую цельность.
Советские подцензурные авторы и художники с левыми убеждениями из других стран сделали использование этих радикальных эстетических средств телеологичным: крах прежнего общественного устройства был интерпретирован как залог возникновения нового, намного более динамичного. В этих условиях возникли и формалистская теория, и «монтажная» философия Эрнста Блоха.
Монтаж — культурная мода
На протяжении 1910-х годов, еще в предреволюционные годы, монтажные методы получали все большее распространение в русской культуре. Формирование советского искусства еще больше способствовало их популярности.
В 1920-е в искусстве разных стран мира возникла новая задача — изображение современности как очень короткой зоны «настоящего», резко отграниченного от прошлого и будущего. Философ и историк культуры Ханс Ульрих Гумбрехт дал своей книге об эстетических и экзистенциальных особенностях существования человека в 1926 году подзаголовок: «живя на острие времени» («living at the edge of time»)[235]. Важнейшим методом изображения такого настоящего стал монтаж.
В Советском Союзе семантика монтажа испытала воздействие важнейшего исторического обстоятельства. Раннесоветские авторы воспринимали новый метод как средство изобразить не просто настоящее, но перелом времени — от (дореволюционной) истории к (революционной) современности. Другой вариант: монтаж призван был демонстрировать современность, понимаемую как важнейший поворотный момент в истории человечества — путь к революции[236]. Главным «означаемым» советского монтажа была история.
Следует оговорить, однако, что в советской культуре 1920-х монтаж не всегда легко выделить как самостоятельный феномен. Он не имеет оформленных границ. Для советской культуры этого времени вообще характерны фрагментарность, «нарезка» визуального или вербального произведения на отдельные небольшие части, использование паратактических конструкций — но паратаксис в прямом и переносном смысле слова не всегда применяется как последовательный метод. Например, первый рассказ М. Шолохова «Продкомиссар» (первоначальное название — «Звери», 1924) состоит из относительно небольших глав-фрагментов, противопоставляющих друг другу юность героя и его зрелую жизнь. Однако все же эти фрагменты не настолько коротки, чтобы их соположение воспринималось как конфликтное. Считать раннего Шолохова последовательным сторонником монтажа вряд ли возможно, тем более что в последовавших за «Продкомиссаром» «Донских рассказах» фрагментарность и использование контраста как композиционного приема менее заметны.
В романе А. Серафимовича «Железный поток» (1924), сплошь модернистском — хотя и вторичном — по своей стилистике, есть одни сцены, где паратаксис не играет большой роли, и другие, построенные, несомненно, по принципу монтажа:
Звон железа, лязг, треск, крики… Та-та-та-та…
— Куды?! куды?! постой!..
Что это пылает во все небо: пожар или заря?
— Первая рота, бего-ом!
Черные полчища грачей без конца мелькают по красному небу с оглушительным криком.
Всюду в предрассветной серости надеваемые хомуты, вскидываются дуги.
Беженцы, обозные, роняя оглобли, задевают друг друга, неистово ругаются…
…бум! бум!..
…лихорадочно запрягают, цепляются осями, секут лошадей, и с треском, с гибелью, с отлетающими колесами безумно несутся по мосту, поминутно закупоривая.
…тра-та-та-та… бумм… бумм!..
Утки несутся в степь на кормежку. Отчаянно голосят бабы…
…та-та-та-та…[237]
Поэтому, с моей точки зрения, квалифицировать то или иное произведение как монтажное можно на основании только количественных, а не качественных критериев. В этой книге именно так я и буду выделять монтаж как самостоятельный феномен. Следовательно, когда я говорю здесь о монтажных композициях и образах, я подразумеваю, что они используются намеренно и последовательно, а не в качестве приема ad hoc, продиктованного общекультурными трендами.
Двумя самыми значительными литературными произведениями, посвященными революционному перелому, в начале 1920-х многие критики считали поэму А. А. Блока «Двенадцать» (1918) и роман Б. Пильняка «Голый год» (1920, публ. — 1922). Оба они построены на принципах, максимально близких к монтажу.
Поэма «Двенадцать» — полиметрическая композиция, составленная из фрагментов, резко различающихся по словарю и грамматическим особенностям — от разговорного синтаксиса и просторечий до сложных грамматических структур и «высокой» лексики. Разные по стилистике и метрике отрывки связаны повторяющимися образами ветра и метели, имеющими значение лейтмотивов.
Полиметричность поэмы тесно связана с ее содержательной фрагментарностью[238]. Михаил Лотман предположил, что полиметричность стихотворений и чередование стиха и прозы могут быть в целом рассмотрены как аналог монтажа в кинематографе[239].
Начало «Двенадцати» — череда описаний разных типажей и городских сцен и стилизация реплик, словно бы подслушанных на улицах. Нарочитая пестрота этих фрагментов формирует паратактическую, монтажную по сути композицию. Характерно, что, согласно воспоминаниям издателя и редактора Самуила Алянского, Блок признался ему, что писал сначала отдельные фрагменты поэмы, а потом компоновал их[240].
Вон барыня в каракуле К другой подвернулась: — Ужь мы плакали, плакали… Поскользнулась И — бац — растянулась! Ай, ай! Тяни, подымай! Ветер веселый И зол, и рад. Крутит подолы, Прохожих косит, Рвет, мнет и носит Большой плакат: «Вся власть Учредительному Собранию»…[241]Аналогично фрагментарную структуру имеет и роман Пильняка «Голый год». В нем используются резкие, контрастные смены стиля повествования и масштаба описываемого. Из отдельных реплик составлены «монтажные» последовательности, в которых со- и противопоставлены звукоподражания и советские неологизмы — и то и другое выполняет функции эмоционально-суггестивной зауми.
И опять — та ночь: —
Товарищ Лайтис спросил:
— Где здесь езть квардира овицера-дворянина-здудента Волковися?
Андрей Волкович безразлично ответил:
— Обойдите дом, там по лестнице во второй этаж! — сказав, позевнул, постоял у калитки лениво, лениво пошел в дом, к парадному входу, —
и —
и —
радость безмерная, свобода! Свобода! Дом, старые дни, старая жизнь, — навсегда позади, — смерть им! Осыпались камни насыпи, полетели вместе с ним под обрыв (шепнул ветер падения: гвиу!..), и рассыпалось все искрами глаз от падения, — и тогда осталось одно: красное сердце. Что-то крикнул дозорный наверху, а потом: костры голодающих, шпалы, обрывок песни голодных и вода Вологи. — Свобода! свобода! Ничего не иметь, от всего отказаться, — быть нищим! — И ночи, и дни, и рассветы, и солнце, и зной, и туманы, и грозы, — не знать своего завтра[242].
И теперешняя песня в метели:
— Метель. Сосны. Поляна. Страхи.
— Шоояя, шо-ояя, шооояяя…
— Гвииуу, гаауу, гвиииууу, гвииииуууу, гааауу.
И: —
— Гла-вбумм!!.
— Гла-вбумм!
— Гу-вуз! Гуу-вууз!..
— Шоооя, гвииуу, гаааууу…
— Гла-вбуммм!!.[243]
Здесь звукоподражания, имитирующие шум сильного ветра, чередуются с аббревиатурами «Главбум» и «ГУВУЗ» — означающими соответственно Главное управление государственными предприятиями бумажной промышленности, организованное в 1918 году[244], и «ГУВУЗ» — Главное управление военно-учебных заведений, созданное в 1863-м и называвшееся этой аббревиатурой еще до революции, но в 1918 году реформированное[245]. Эти аббревиатуры тоже ресемантизируются, приобретают смысл звукоподражаний природного шума, то есть становятся элементом природных стихий.
Современники сразу почувствовали связь между темой произведений Блока и Пильняка и новой эстетикой. «Пильняк… — писал Л. Д. Троцкий, — в беспорядке революции, который есть для него живой и основной факт, ищет опоры для своего художественного порядка»[246].
Тынянов, который Пильняка откровенно не любил, описал его метод фактически как монтаж:
…название этой конструкции — «кусковая». […] Все в кусках, даже графически подчеркнутых. Самые фразы тоже брошены как куски — одна рядом с другой, — и между ними устанавливается какая-то связь, какой-то порядок, как в битком набитом вагоне[247].
Однако Пильняк и Блок были скорее предвестниками, чем центральными фигурами эстетики «революционного монтажа», — моду на эту эстетику создали уже не они. В 1920-х годах монтажные эксперименты ассоциировались у критиков с новаторскими приемами в кино и левым изобразительным искусством, прежде всего — лефовским. Эта исторически сложившаяся ассоциация верна в общем, но оставляет в тени несколько важных обстоятельств.
«Острый» монтаж в 1920-е годы использовали не только левые и революционные авторы. В кино он утвердился в ходе длительного сопротивления советских кинематографистов и под влиянием произведений других видов искусства — визуальных и литературных. И, наконец, основными адептами метода были или бывшие модернисты — например, футуристы, пришедшие в ЛЕФ, — или авторы, вступавшие с модернизмом в осознанную полемику.
Советский монтаж и модернизм
Этот генезис монтажа 1920-х недостаточно замечен и изучен потому, что авторы 1920-х позиционировали себя как творцы совершенно новой культуры, которая резко отличалась от дореволюционной. Однако связь между раннесоветской эстетикой монтажа и предреволюционным модернизмом можно проследить на множестве примеров. Наиболее очевидна и не раз описана генетическая связь между стилистикой Б. Пильняка и дореволюционными произведениями А. Ремизова и А. Белого[248]. Короткая проза Ремизова еще в 1900-х годах по своим принципам организации предвосхищала монтаж — пусть и чуть менее явно, чем «Симфония 2-я» Андрея Белого.
Подливает вода — колыхливая речка, подплывает к самым воротам. Разъяренилась песня. А там за рекою старики стали в круг, изогнулись, трогают землю, гадают: пусть провещает Судина! […] Яром туманы идут. Поникает поток. Петуха не добудишься. Дуб развертывает свежие листья. И матерь-земля родит буйную зель. Гуляй, поколь воля! («Нежит», 1907[249])О модернистских корнях эстетики Эйзенштейна много писали исследователи его творчества. Оксана Булгакова полагает, что режиссер «…мыслил [каждый свой] фильм как грандиозный эксперимент, воплощающий наиболее адекватно идеи и опыты модернизма — от распыления пространства до исследования структур языка»[250].
Но А. Серафимович — куда менее рефлексирующий над эстетическими вопросами автор, чем Ремизов или Эйзенштейн, — еще в достаточно ранних рассказах испытал заметное влияние модернизма (от Леонида Андреева до В. Дорошевича). Усвоил он и характерные для этого эстетического направления монтажные принципы — в заметно большей степени, чем другие левые социально-критические писатели начала XX века, например А. М. Горький или Скиталец. См., например, резко выделенные визуальные образы, напоминающие крупные планы в кино, в рассказе Серафимовича 1907 года:
Какая-то противоестественная сила с уродливой, бессмысленной, отвратительной головой стоит между их молодостью, их страстью, их яркой жизнью, стоит и слепо смотрит на обоих, смотрит неуклюжими, черными, плохо обметенными от снега сапогами.
И в комнате звенит странный, чужой, неуместный женский смех. Это она смеется, смеется неудержимо, нелепо, понимая, что губит последние минуты. Начальник с отвислыми мешками под глазами подымает брови, как уши у бульдога. Тупо смотрят неуклюжие сапоги.
…Снег сверкает и искрится. Он сверкает и искрится везде: по отлогостям гор, по лощине и изредка падающими брильянтами в воздухе. Сосредоточенно думают бегущие, потряхивающие головами лошади все одну и ту же думу, и визжат скрипучими голосами все одну и ту же песню быстро скользящие полозья, песню о смерти, о железе, о радости жизни, о любви, о тихом сверкании моря, о железном порядке мира, в котором всему свое место. И розы кровавеют по ослепительной белизне гор.
(«Сопка с крестами», 1907[251])Поэтому, по-видимому, и «монтажная» сцена в «Железном потоке» была написана совершенно сознательно.
Даже М. Шолохов, не получивший систематического образования (он окончил четыре класса гимназии), по-видимому, научился фрагментарной композиции «Продкомиссара» именно от бывших модернистов — а именно лефовцев. В 1923 году 18-летний юноша, оказавшийся тогда в Москве, недолгое время посещал литературные курсы, на которых преподавали В. Б. Шкловский, О. М. Брик и Н. Н. Асеев, и вскоре после участия в этих занятиях и написал свой первый рассказ. Влияние модернистов эквивалентно в случае Шолохова влиянию модернизма — так как фрагментарная композиция и отсутствие прямого авторского суждения, характерные для рассказа «Продкомиссар», составляли важнейшую черту модернистской прозы, в том числе и русской[252].
Можно предположить, что, после того как его опус был отвергнут редакцией альманаха «Молодогвардейцы»[253], Шолохов решил смягчить использование модернистских приемов, чтобы его следующие тексты были приняты к публикации в комсомольских изданиях, — и, судя по результату, не прогадал.
Серафимович использовал монтаж не систематически, но осознанно. Шолохов под влиянием полуслучайной учебы у лефовцев создал в «Продкомиссаре» композицию не монтажную, но фрагментарную и по смыслу близкую к монтажу.
Выявление модернистского — и дореволюционного — генезиса монтажных приемов позволяет увидеть и другой неявный аспект их развития в литературе 1920-х годов. Монтажные принципы далеко не всегда соединялись с провозглашением советских идеологических лозунгов или оправданием/поддержкой советской власти. Это видно уже в «Двенадцати» Блока, которые не были «идеологически выдержанным» советским произведением. Но есть и более ясный и очевидный пример. Влияние монтажных принципов построения образа и композиции целого произведения заметно в романе Евгения Замятина «Мы» (1920), как известно, резко критичном по отношению к политике насильственной и тотальной «рационализации» общества, которая в конце 1910-х и в 1920-х годах ассоциировалась именно с большевистской политикой[254].
Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омраченные безумием мыслей лица… Лучи — понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени, и с каждой ступенью — вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву… […]
А затем мгновение — прыжок через века, с + на —. Мне вспомнилась (очевидно, ассоциация по контрасту) — мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков, проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц… И ведь, говорят, это на самом деле было — это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.
И тотчас же эхо — смех — справа. Обернулся: в глаза мне — белые — необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо[255].
Монтажными являются и размещенные в начале каждой главы-«записи» «конспекты», излагающие ее содержание. Эти «конспекты» пародируют по своей функции аналогичные пересказы в названиях глав авантюрных и приключенческих романов XIX века. До Замятина эти пересказы пародировал Достоевский в названиях глав «Братьев Карамазовых». Однако у Достоевского они представляют собой целые фразы («Психология на всех парах») или восклицания («Буди, буди!»), отсылающие к содержанию главы, тогда как у Замятина это отрывочные назывные предложения, соединенные по принципу паратаксиса, например: «Квадрат. Владыки мира. Приятно-полезная функция». Еще более «монтажной» по эстетическому принципу является название «Записи 35-й», заменяющей название своего рода кинематографическим крупным планом: «Конспект: (Не знаю какой. Может быть, весь конспект — одно: брошенная папироска)».
Роман Замятина был воспринят уже первыми его читателями как спор с методами и идеологией большевиков. Действительно, идеологически он был оппозиционным, но политически — революционным: находящиеся в подполье герои романа надеются на новый бунт. Жизнь «нумеров» под властью «Благодетеля» — несомненно, стагнация, хотя и замаскированная тем, что описанный в романе режим интенсивно развивается в техническом отношении и готовится к экспансии на другие планеты с помощью ракеты-«Интеграла».
Замятин не смог опубликовать свое произведение в РСФСР, но читал отрывки из него на литературных вечерах в начале 1920-х[256]; в 1924 году роман был запрещен цензурой. Те немногие современники, которые имели возможность прочитать «Мы» целиком, реагировали прежде всего на «крамольное» содержание, а не на эстетические особенности текста. Так, издатель и редактор Самуил Алянский писал Замятину 17 октября 1922 года: «Ваш последний роман настолько неприличен, что, несмотря на то, что почти весь свет о нем знает, я не решился, правда, по Вашей просьбе (совесть все-таки замучила), его рассказывать всем»[257]. А. К. Воронский и А. М. Горький восприняли «Мы» резко отрицательно и тоже не говорили о его эстетике — они критиковали роман прежде всего за высказанную в нем политическую позицию[258]. Однако, например, Тынянов оценил роман весьма высоко именно с эстетической точки зрения. Филолог полагал, что в произведении Замятина, в отличие от романа Пильняка «Голый год», монтажные (как они выглядят в описании Тынянова) приемы способствуют стилистическому и жанровому обновлению литературы. В приводимой цитате курсивом выделены обороты, описывающие монтажные приемы — так как Тынянов не использует термина «монтаж»:
Фантастика вышла убедительной. Это потому, что не Замятин шел к ней, а она к нему. Это стиль Замятина толкнул его на фантастику. Принцип его стиля — экономный образ вместо вещи; предмет называется не по своему главному признаку, а по боковому; и от этого бокового признака, от этой точки идет линия, которая обводит предмет, ломая его в линейные квадраты[259]. […] Еще немного нажать педаль этого образа — и линейная вещь куда-то сдвинется, поднимется в какое-то четвертое измерение. Сделать еще немного отрывочнее речь героев, еще отодвинуть в сторону эту речь «по поводу» — и речь станет внебытовой — или речью другого быта.
[…] …Естественно, что фантастика Замятина ведет его к сатирической утопии. […] Кристаллический аккуратный мир, обведенный зеленой стеной, обведенные серыми линиями юниф (uniform) люди и сломанные кристаллики их речей — это реализация замятинского орнамента, замятинских «боковых» слов.
[…] …Вместе с колебанием героя между двухмерным и трехмерным миром колеблется и сам роман — между утопией и Петербургом. И все же «Мы» — это удача[260].
В поэзии 1920-х годов примеры монтажных композиций можно найти даже у авторов, которых тогдашняя, да и более поздняя критика никогда революционными не считала и которые прямо продолжали эстетическую работу дореволюционного русского модернизма — например, у Максимилиана Волошина (в цикле стихотворений «Путями Каина») и Николая Клюева — автора стилизованных сказочных утопий. Волошин с самого начала считал революцию 1917 года исторической трагедией, Клюев быстро в ней разочаровался. Оба они главные свои послереволюционные произведения написали, не считаясь с цензурными нормами. Клюев цитируемую ниже поэму «Погорельщина» (1928) напечатать в СССР, кажется, и не пытался[261], а цикл Волошина, хотя и был опубликован, но вызвал, как и другие его стихи первой половины 1920-х, почти истерическую реакцию в советской печати[262].
Выла улица каменным воем, Глотая двуногие пальто. — «Оставьте нас, пожалста, в покое!..» «Такого треста здесь не знает никто…» «Граждане херувимы, — прикажете авто?» «Позвольте, я актив из КИМа!..» «Это экспонаты из губздрава…» «Мильционер, поймали херувима!..» «Реклама на теплые джимы?..» «А!.. Да!.. Вот… Так, право…» «А из вымени винограда Даст удой вина в погребцы…» («Погорельщина»)[263]Масштабные историософские стихотворения из цикла «Путями Каина» разделены на нумерованные фрагменты, как правило небольшие. В некоторых случаях Волошин резко меняет масштаб изображения, переходя от образа, словно бы снятого крупным планом, — к историософским спекуляциям — и вновь к «крупному плану»:
5 Кулак — горсть пальцев, пясть руки, Сжимающая сручье[264] иль оружье, — Вот сила Каина. 6 В кулачном праве выросли законы, Прекрасные и кроткие в сравненьи С законом пороха и правом пулемета. Их равенство в предельном напряженьи Свободных мускулов, Свобода — в равновесьи Звериной мощи с силами природы. 7 Когда из пламени народных мятежей Взвивается кровавый стяг с девизом: «Свобода, братство, равенство иль смерть». Его древко зажато в кулаке Твоем, первоубийца Каин. («Путями Каина», глава IV — «Кулак», 11 марта 1922 г.[265])Для Клюева монтаж — средство изображения прежде всего современности, маркированно советской и — в силу своей оторванности от родовых и религиозных «корней» — абсурдной. В основной части «Погорельщины», изображающей жизнь уединенной деревни Сиговый Лоб, монтаж не используется.
Волошину, как и Гриффиту в фильме «Нетерпимость», монтаж нужен для изображения трагически повторяющихся событий в истории — но главный смысловой акцент ставится все же на современности. Цикл «Путями Каина» написан для того, чтобы интерпретировать урбанизацию начала XX века, Первую мировую войну, революцию и Гражданскую войну как гипертрофированные, усиленные повторения событий, которые не раз происходили в истории прежде и были обусловлены тем выбором в пользу насилия и захватнического покорения мира, который некогда сделал библейский Каин, убивший Авеля и ставший прародителем современного человечества.
Влияние монтажа как особой эстетики ощутимо в прозе и еще более консервативных авторов, чем Волошин и Клюев, — например, в монархической и националистической по духу повести Бориса Садовского «Александр Третий» (1930):
В тот день великий князь Владимир собрался на облаву; двоюродный брат его Константин сочинил сонет.
И в кабинете Августейшего поэта слушает звучные стихи Иван Александрович Гончаров, кривой старичок во фраке и белом галстуке.
У К.Р. в покоях Мраморного дворца стеариновые свечи в люстрах, масляные лампы; историческая мебель на тех же местах, где была и сто лет назад[266].
«Монтажное» мышление проявилось не только в литературе, но и в филологии — в первую очередь в работах формалистов. Упоминания о монтаже как принципе работы (а не только объекте анализа) стали фирменной маркой Виктора Шкловского еще в 1920-е годы: так, Александр Архангельский назвал свою пародию на его эссеистику «Сентиментальный монтаж» (1929). Юрий Цивьян показал, что в ранних работах Шкловского присутствует постоянный мотив резкого поворота изображения набок, при котором оно приобретает новый смысл, и сравнил этот прием с аналогичными визуальными эффектами в кинематографе 1920-х, где они были частью «острых» стилистик монтажа[267].
Юрий Тынянов не использует в своих статьях монтажные приемы композиции материала, но применяет терминологию киномонтажа к анализу классических литературных произведений, рассматривая их словно бы через призму киноэстетики 1920-х годов. Приведу пример из статьи «Пушкин» (1928):
Сила отступлений [в поэме «Руслан и Людмила»] была в переключении из плана в план. Выступало значение этих «отступлений» не как самих по себе, не статическое, а значение их энергетическое: переключение, перенесение из одного плана в другой само по себе двигало. Подобно этому сравнение (шире, образ) у Пушкина в этой поэме перестало быть уподоблением, сравнением предмета с предметом: оно тоже стало средством переключения. […] При этой внефабульной динамике сами герои оказались переключаемыми из плана в план[268].
По-видимому, Тынянов показывает здесь черту, действительно характерную для поэтики Пушкина, но использованные лексика и метафорика свидетельствуют о влиянии на аналитический аппарат ученого представлений о резком изменении планов съемки в кино: от крупного — к мелкому или наоборот. Так как монтаж ассоциировался у интеллигентного читателя 1920-х с современностью, то, описывая творчество Пушкина в терминах «переключения планов», Тынянов делал классического автора актуальным для своих читателей.
Киномонтаж становится советским
Монтажные эксперименты в советском кино получили распространение в начале 1920-х — немного позже начала «монтажных» экспериментов в литературе и изобразительном искусстве (В. Татлин, Эль Лисицкий). Одним из первых их пропагандистов и практиков стал Дзига Вертов, который дал первые уроки киномонтажа молодому театральному режиссеру Сергею Эйзенштейну, вскоре, как известно, ставшему кинематографистом и принципиальным оппонентом Вертова. Однако «острый», основанный на быстром ритме монтаж прижился в российском кино не сразу — часть российского киносообщества встретила распространение новой техники весьма неодобрительно. Эти оппоненты полагали, что энергичный монтаж с резким «переключением планов» (тогда его называли «американским», так как считалось, что именно в кинематографе США он распространен больше всего) не соответствует русской национальной психологии, для которой якобы наиболее важны медленно протекающие, но сильные переживания, а их изображение возможно только при минимальном использовании быстрой смены планов[269].
Отстаивая противоположную точку зрения, в 1920 году Лев Кулешов написал книгу об эстетике киноискусства «Знамя кинематографии», одна из глав которой называлась «Теория монтажа и американизм» (вся книга опубликована не была, несколько глав были напечатаны как отдельные статьи в журнале «Кино-фот» в 1922-м). Характерен выбор терминологии: по сути, Кулешов утверждал, что у американской кинематографии нужно учиться монтажу потому, что эта национальная школа — единственная, выработавшая язык кино как самостоятельного вида искусства.
…Первое установление, сделанное из американских картин: это конкретизация нужного движения в отдельную съемку и составление из этих конкретно выраженных кусков единой сцены, разыгранной перед аппаратом, что имеет исключительное значение для получения нужного созвучия в кинематографической композиции. Подобный метод технически называется съемкой американскими планами, а склейка кусков, составляющих картину, — монтажом. Исходя из всего вышеизложенного, можно объявить, что подлинная кинематография есть монтаж американских планов и сущность кино, его способ достижения художественного впечатления есть монтаж. Так как область новых толкований кино почерпнута из разбора американских картин, то естественно, что эти картины являются как бы классическими для киноноваторов и наши враги определяют искания в кино словом антихудожественного для них значения — американщиной[270].
Уже к концу 1920-х годов советские фильмы, основанные на использовании энергичного монтажа, — «Броненосец „Потемкин“» (1925) и «Октябрь» (1927) Сергея Эйзенштейна, «Мать» (1926), «Конец Санкт-Петербурга» (1926) и «Потомок Чингисхана» Всеволода Пудовкина, «Арсенал» Александра (Олександра) Довженко (1928), «Обломок империи» (1929) Фридриха Эрмлера, «Шестая часть мира» (1926) и «Человек с киноаппаратом» (1929) Дзиги Вертова — получили большую известность в странах Запада. Левые интеллектуалы в США стали воспринимать советскую стилистику монтажа как образцовую — именно потому, что она, по их мнению, существенно отличалась от американских аналогов[271]. «Резкий» монтаж использовали не только такие последовательные авангардисты, как Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов и Эсфирь Шуб, но и более умеренные по своим эстетическим принципам модернисты — как, например, Довженко и Пудовкин. Впоследствии, в 1980-х, французский философ Жиль Делёз выделил четыре национальные школы монтажа в раннем кино: американскую, советскую, французскую и немецкую[272].
Монтаж и проекты «переделки человека»
Важнейшим предположением, пресуппозицией, лежащей в основе советского монтажа, была идея тотальной сконструированности, не-природности человека, его сознания, его взгляда. В наибольшей степени она оказалась выражена в теоретических манифестах Дзиги Вертова и Сергея Эйзенштейна[273]. Как известно, раннесоветское мировоззрение во многом определялось идеей «переделки» человеческого сознания. Именно поэтому монтаж в творчестве левых художников опознавался во многих странах как эстетическая рефлексия социалистической революции и предвосхищение нового, утопического мира.
Однако не все советские авангардистские течения и отдельные авторы-авангардисты в 1920-е годы стремились воспитывать «нового человека» именно в большевистском духе. Многие художники 1920-х, пока была такая возможность, еще пытались «сидеть между двумя стульями» — поддерживать новую, «революционную» власть и решать собственные эстетические и социально-антропологические задачи. Хороший пример здесь — творчество Эля Лисицкого как книжного графика и архитектора.
Например, принято думать, что утверждение нового в авангарде 1920-х предполагало уничтожение всего старого. Однако Эль Лисицкий в 1925 году предложил проект возведения в Москве «горизонтального небоскреба» — двух больших плоских зданий на высоких тонких пилонах (по мысли Лисицкого, лифты, проходящие в этих пилонах, могли связывать здания с подземными станциями метро). Этот проект был призван сохранить историческую застройку города[274]. Иначе говоря, Лисицкий мыслил активистское формирование будущего не как уничтожение прошлого, а как его радикальную реконтекстуализацию.
В статье «Топография типографики» (1923), опубликованной, что характерно, в дадаистском журнале «Merz», Лисицкий писал о том, что новый тип книжного иллюстрирования, основанный на принципах монтажа, должен воспитывать «нового человека». Однако Лисицкий призывал воспитывать читателя, наделенного не новым идеологическим сознанием, а новыми способностями к восприятию реальности: «Оформление книжного организма с помощью клише реализует новую оптику. Супернатуралистическая реальность совершенствует зрение»[275].
Очевидно, Лисицкий трактовал идею «новой оптики» не в большевистском смысле, а скорее в духе Э. фон Гартмана, Ф. Ницше или С. Малларме (см. авторское предисловие к поэме «Бросок игральных костей никогда не отменит случая») или даже придавая ей мистико-оккультные обертоны, несмотря на свой большевизм. В пореволюционные времена художник испытал заметное влияние иудейской мысли[276]. Можно предположить, что странный трехглазый образ, в который соединяются девушка и юноша на коллажном плакате для «Русской выставки» в Музее декоративного искусства в Цюрихе (1929), на одном уровне демонстрирует полное гендерное равенство — вплоть до отождествления двух полов, юноша и девушка на плакате очень похожи, как близнецы! — и совместное участие мужчин и женщин в строительстве будущего в СССР, но на другом уровне — восстановление утраченного единства Вселенной. В небесном прообразе человека — Адаме Ришоне — были соединены мужское и женское начала (мидраш Берешит Раба[277]). Это единство разделено на земле, но может быть восстановлено — хотя, конечно, идея такого «рукотворного» восстановления противоречит традиционной иудейской мысли.
Слово «СССР» написано на общем лбу женско-мужской фигуры, подобно тому как на лбу Голема — искусственного Адама, созданного, по легенде, пражским раввином Йехудой Львом бен Бецалелем (1512?–1609), по одной из версий было написано оживляющее его ивритское слово «эмет» («мет») — «истина». (Впрочем, согласно более распространенному варианту легенды, раввин положил в рот Голему кусочек пергамента с начертанным на нем тетраграмматоном, чтобы оживить искусственного человека.)
Помимо собственно иудейской традиции, на Лисицкого, конечно, влияла эстетика авангарда 1910–1920-х годов с ее постоянным мотивом телесных деформаций. Но и религиозно-мистическая традиция еще до Лисицкого была преломлена в искусстве еврейского авангарда — в первую очередь, старшего друга Лисицкого Марка Шагала. Изображение трехглазого двуполого существа отчетливо перекликается с работами Шагала, варьирующими мотив слившихся в единое существо Адама и Евы, — в первую очередь «Посвящение Аполлинеру» (1911–1912).
В 1929 году Эль Лисицкий уже не был религиозен, но, по-видимому, серьезно относился к иудаистической мистике как к системе метафор. Его плакат может быть интерпретирован как указание на СССР как на коллективного восстановителя поврежденной грехопадением человеческой природы. В то же время впечатление, производимое образом трехглазого существа, — отчасти жуткое (Unheimlich) во фрейдовском смысле[278]. Это свойственное плакату Лисицкого противоречие между оптимистическими и странными или даже жутковатыми эмоциональными обертонами дает основания предположить, что насильственные аспекты преобразования человеческой природы Лисицкий понимал — и показывал — не только как рационально спланированные, но и как трансцендентные, подобно сотворению человека Всевышним, и/или как магические, подобно изготовлению Голема рабби бен Бецалелем. Методом соединения социальных и трансцендентных смыслов в этом плакате как раз и является монтаж.
Пример Лисицкого (если предложенная здесь трактовка верна) — выразительный, но не уникальный. Даже такой «идеологически правильный» кинорежиссер, как Эйзенштейн, стремился в своих фильмах реализовать не только и не столько официальные установки, сколько собственную эстетическую концепцию, имевшую мало общего с социалистическим реализмом (это и было одной из причин неудач в реализации многих творческих замыслов Эйзенштейна). Об этой концепции мы можем судить по его теоретическим трудам, которые были частично опубликованы в 1960-х, а частично — в 2000-х годах[279]. Монтаж был для режиссера средством достижения нового состояния сознания, крайне архаического, «первобытного» и в то же время небывало нового, освобожденного от ограничений, свойственных человеку «классового» общества. Это состояние сознания должно было не изображаться в фильме, а «программироваться» самой структурой киноповествования, чтобы этого нового сознания мог достичь любой зритель.
Выставки
Значительные представители художественного авангарда — такие, как Эль Лисицкий, Николай Суетин и другие — стали в СССР главными «моторами» разработки новых концепций выставок. Во многом эти концепции использовали монтажные приемы — можно напомнить, например, о длинных композитных фотографических фризах, которые устанавливал в своих выставочных павильонах Эль Лисицкий, или о том, как он же размещал агитационные фотографии на потолке помещения, резко меняя точку зрения посетителя на павильонное пространство[280].
Дизайн выставок, особенно международных, рассчитанных на повышение престижа СССР на международной арене, оказался своего рода резервацией авангарда в 1930-е и даже в 1940-е годы. Характерен здесь пример Николая Суетина — одного из любимых учеников Казимира Малевича. В 1935 году он вместе с другими «малевичевцами» придумал «супрематический обряд» для похорон учителя и сам изготовил саркофаг-«архитектон» с использованием черного, белого и зеленого цвета[281]. Несмотря на эту демонстративную приверженность авангарду, в 1937 году Суетин и другой ученик Малевича, Константин Рождественский, стали дизайнерами интерьера советского павильона на Международной выставке «Искусство и техника в современной жизни» в Париже (1937, той самой, где павильон был увенчан скульптурой «Рабочий и колхозница»), а в 1939-м — павильона СССР на Всемирной выставке «Мир завтрашнего дня» в Нью-Йорке[282]. (Напомню, что в 1938 году эскизы, выполненные для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки другим авангардистом, Владимиром Татлиным, были уничтожены как «вредные».) В Нью-Йорке, в отличие от Парижа, Суетин и Рождественский применили соединение разнотипных изображений, напоминающее монтаж: в павильоне были установлены освещенные диорамы и многочисленные киноэкраны, на которые проецировались фильмы. Параллельно в павильоне была сооружена модель станции московского метро «Маяковская» в натуральную величину, стоявшая между зеркальными стенами[283].
В 1943 году Суетин — уже один, без Рождественского — в блокадном Ленинграде руководил организацией выставки «Героическая оборона Ленинграда». Она открылась 30 апреля 1944 года[284] и, судя по сохранившимся фотографиям и воспоминаниям, была достаточно радикальной по своему эстетическому решению. «В экспозиции был иссеченный осколками легендарный ленинградский блокадный трамвай, а рядом [в витрине] — кучи окровавленной одежды его погибших пассажиров. Огромные обезвреженные авиабомбы, которые сбрасывали на город немцы. Уникальные диорамы, созданные лучшими художниками по свидетельствам участников сражений». В ту же экспозицию были включены «хлебные карточки, буржуйки, лампочки-коптилки, саночки, на которых возили воду и трупы, и многие другие реликвии блокадного быта»[285]. Гетерогенность материала была оправдана тем, что блокада позволила представить всю городскую повседневность как героическую и тем самым вернуться к осмыслению авангардистской эстетики урбанизма. Этой гетерогенностью и установкой на столкновение официального и приземленного выставка Суетина, по-видимому, подхватывала некоторые важнейшие мотивы монтажных произведений 1920-х. (Трудно считать случайным совпадением тот факт, что в том же 1944 году отсидевший в ГУЛАГе историк-петербуржец Николай Анциферов защитил в Москве, в Институте мировой литературы, диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук «Проблема урбанизма в художественной литературе» — кажется, первую советскую научную работу, в названии которой содержалось слово «урбанизм»[286].)
5 октября 1945 года распоряжением Совета народных комиссаров РСФСР выставка «Героическая оборона Ленинграда» была преобразована в музей республиканского значения. Однако в результате «Ленинградского дела» музей был обвинен в политических ошибках и сначала преобразован в подобие музея Сталина, а потом и вовсе закрыт. По иронии судьбы приказ о его ликвидации был подписан — после долгих проволочек — 5 марта 1953 года.
Советский монтаж как рефлексия исторического насилия
Нарастающее влияние монтажной стилистики на советскую культуру не было прямо обусловлено вмешательством властей или партийных идеологов. Авангард и модернизм на протяжении 1920-х годов все больше теряли институциональное влияние. Начиная с 1921 года, когда футуристов изгнали с руководящих должностей в Наркомпросе, руководители РСФСР и ВКП(б) все более подозрительно относились к эстетическому авангарду и особенно к его претензиям на власть: так, на протяжении многих лет партийные лидеры последовательно «спускали на тормозах» попытки лефовцев возглавить советское искусство[287], но гораздо терпимее относились к аналогичным устремлениям рапповцев и даже периодически поощряли их. Эстетически рапповцы были куда более консервативны, чем лефовцы, хотя сплошь и рядом адаптировали открытия конкурентов для своих целей[288].
Модернистская фрагментация текста и использование монтажных принципов не могли бы получить такое большое распространение в советской литературе, ориентированной на нового читателя (а Серафимович и тем более Шолохов ориентировались именно на него), если бы у этого приема — а при последовательном применении монтажа можно уже говорить не о приеме, а об эстетическом методе — не было бы социально-психологических предпосылок, важнейшие из которых я попытаюсь назвать и описать ниже.
Советский новый читатель/зритель в 1920-е годы был чаще всего новым горожанином. 1920-е годы стали периодом очень быстрой урбанизации России, переселения в города бывших жителей деревни и маленьких уездных городов. Поэтому та психологическая связь «городского воображения» и монтажа, которая была описана в предыдущей главе, в РСФСР и, после 1922 года, в СССР была особенно сильной.
На советском обществе очень резко сказались последствия коллективной психологической травмы, которая и в России, и в других странах Европы была вызвана Первой мировой войной и концом «длинного XIX века», с его верой в технический прогресс и поступательную гуманизацию. В СССР, Германии и, например, Ирландии к этой общей травме добавился шок от гражданской войны[289], а в СССР — еще и от катастрофической ломки всего жизненного уклада (в Германии и Ирландии он не был таким радикальным) и начала массовых политических репрессий — почти одновременно с революцией[290]. Как пишет Владимир Паперный, быстрая модернизация, сопровождавшаяся репрессивно-мобилизационным преобразованием общества, переживалась особенно остро и болезненно в такой архаической, социально косной стране, как Россия[291].
По наблюдению Марка Липовецкого, эксперименты в литературе 1920-х годов были в значительной мере посттравматическими по своему происхождению. «Именно ощущение невозможности отделить письмо от травмы и вызывает свойственное литературе как 1920–1930-х, так и 1960–1980-х годов неприятие традиционных („дотравменных“) форм письма — „нормального“ романа, рассказа, повести»[292].
Идею о связи травмы с фрагментацией произведения искусства и эстетической рефлексией впервые обосновал Вальтер Беньямин в книге «Происхождение немецкой барочной драмы». В современной науке эта концепция получила подробную разработку на материале ряда частных случаев — в статьях Ильи Калинина о творчестве формалистов[293] и искусствоведа Бригид Доэрти о визуальных и литературных произведениях дадаистов[294].
Тезис М. Липовецкого можно конкретизировать: монтаж в искусстве 1920-х является одним из наиболее ярких примеров посттравматической образности, посттравматического мимесиса. «Пересобранный» на новых основаниях мир не совпадает в монтажном образе с самим собой, в его новом облике принципиально значимы «стыки», внутренние конфликты, указывающие на его скрытые «зияния» и принципиальную многозначность пропущенных в монтажном образе смысловых связей.
Валерий Подорога пишет:
Аттракцион [в методе «монтажа аттракционов»] — это… «машина по производству эффектов». Но как она работает? […] В качестве… аттрактора, смутного и странного, выступает травматический материал исторического опыта. Однако… аттрактивные элементы отделяются от монтажируемого целого и организуются вокруг скрытого аттрактора, который зритель хотя и чувствует, но воспринимает опосредованно[295].
Уже Эйзенштейн считал монтаж «посттравматическим» методом. Травму, которую призван исцелить монтаж, режиссер воспринимал не как историческую, а как свою личную, связанную с неврозами, уходящими корнями в детство. Одновременно монтажный метод и кинематограф в целом он считал главным средством излечить «…травму, которую переживает сознание в процессе становления — перехода от пралогического к логическому мышлению»[296]. Эта психоаналитическая концепция была, однако, обусловлена временем и местом своего происхождения — Россией 1920-х годов.
Частью опыта нового советского читателя/читательницы и зрителя/зрительницы было непривычное и немыслимое ранее участие в исторических событиях, резкое убыстрение темпа истории[297] и переживание истории как наглядно данного мучительного конфликта — войн, погромов, реквизиций, эмиграции, разделения семей. Те или иные авторы могли считать, что у этого конфликта есть виновники или что он является трагической неизбежностью (как это изображено у Волошина), но в целом важнейшей темой русского искусства 1920-х — в СССР и отчасти в эмиграции (например, в творчестве Цветаевой) — стала история, воспринятая как безличное насилие и одновременно как становление, крушащее старые формы и воздвигающее новые[298]. Модернистская фрагментация в советской культуре оказалась значимой для изображения не только пространственных контрастов или смысловых разрывов во внутренней жизни человека, но дискретности времени — и биографического, и исторического[299].
Подобная репрезентация истории, осуществленная с помощью монтажа, была характерна не только для российской культуры, но и для некоторых других послереволюционных культур. Один из двух главных героев романа Дж. Джойса «Улисс», как уже сказано, говорит в споре с оптимистом-проповедником: «История… это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться».
Роман был написан Джойсом в один из самых катастрофических периодов в истории его родной Ирландии. Работа над «Улиссом» продолжалась с 1914 до 1921 года. В 1916 году в Дублине произошло кровопролитное Пасхальное восстание, а в 1919–1921 годах в стране шла война за независимость. Очень ясно монтажные принципы выражены в главе «Цирцея», написанной во второй половине 1920-го[300], — и в ней же возникает аллегорическое описание Пасхального восстания, показанного одновременно как пародийная черная месса и апокалипсис, — хотя формально действие романа приурочено к 1904 году:
DISTANT VOICES. Dublin’s burning! Dublin’s burning! On fire, on fire!
(Brimstone fires spring up. Dense clouds roll past. Heavy Gatling guns boom. Pandemonium. Troops deploy. Gallop of hoofs. Artillery. Hoarse commands. Bells clang. Backers shout. Drunkards bawl. Whores screech. Foghorns hoot. Cries of valour. Shrieks of dying. Pikes clash on cuirasses. Thieves rob the slain. Birds of prey, winging from the sea, rising from marsh lands, swooping from eyries, hover screaming, gannets, connorants, vultures, goshawks, climbing woodcocks, peregrines, merlin, blackgrouse, sea eagles, gulls, albatrosses, barnacle geese. The midnight sun is darkened. The earth trembles.
The dead of Dublin from Prospect and Mount Jerome in white sheepskin overcoats and black goat-fell cloaks arise and appear to many.
A chasm opens with a noiseless yawn. […] Quakerlyster plasters blisters. It rains dragon ’ s teeth. Armed heroes spring up from furrows. […])[301]
Голоса в отдалении. Дублин, Дублин весь горит! На пожар бегите!
Взметаются языки серного пламени. Клубятся облака дыма. Грохочут тяжелые пулеметы. Пандемониум. Войска развертываются. Топот копыт. Артиллерия. Хриплые команды. Бьют колокола. Орут пьяные. Галдят игроки на скачках. Визжат шлюхи. Завывают сирены. Боевые возгласы. Стоны умирающих. Пики лязгают о кирасы. Мародеры грабят убитых. Хищные птицы, налетая с моря, взмывая с болот, пикируя с гор, с криками кружат, глупыши, бакланы, грифы, ястребы, вальдшнепы, соколы, кобчики, тетерева, орланы, чайки, альбатросы, казарки. Полночное солнце закрыла тьма. Земля содрогается.
Дублинские покойники с Проспекта и с Иеронимовой Горы, одни в белых овчинах, другие в черных козлиных шкурах, восстают и являются многим.
Бездна разверзает беззвучный зев. […] Выпадает дождь из драконьих зубов, за ним на поле вырастают вооруженные герои[302].
По мнению Кэтрин Флинн, эпизод «Цирцея», из которого взят этот фрагмент, был создан под влиянием общения Джойса, только что перебравшегося в Париж, с Г. Аполлинером и будущими сюрреалистами, конкретно — под впечатлением от пьесы Аполлинера «Груди Тиресия»[303].
В СССР монтажная репрезентация истории как насилия стала основой «стиля эпохи». Но это насилие советские авторы, в отличие от Джойса, воспринимали как продуктивное или, во всяком случае, неизбежное. Впрочем, когда Сергей Эйзенштейн встретился с Джойсом в 1929 году в Париже, они пришли к выводу о том, что между их эстетическими практиками есть ряд перекличек[304].
Очень распространенным настроением в советском обществе 1920-х годов стал цинизм. Петер Слотердайк в своем блестящем анализе культурной жизни Веймарской республики описал цинизм как настроение людей, выживших в исторических катаклизмах и не видящих дальнейшей цели в жизни[305]. Советский цинизм был устроен несколько иначе, чем веймарский, как его интерпретирует Слотердайк: он стал настроением тех, кто видел «далекую», стратегическую цель нового общества, но не видел близких и понятных целей в собственной жизни.
Монтаж и близкие к нему изобразительные принципы, такие как фрагментация, стали простым и, по-видимому, наиболее эстетически выразительным методом представления конфликтности и насильственного характера истории и одновременно способом встать в метапозицию по отношению к историческому процессу и тем самым преодолеть безвыходность цинического сознания. Другим, параллельным монтажу методом эстетической рефлексии цинизма стало культивирование в советской прозе героев-трикстеров, самым известным из которых стал Остап Бендер[306].
Наиболее отрефлексированно связь монтажа с репрезентацией истории как насилия была представлена в фильмах и теоретических работах Сергея Эйзенштейна. Киновед Леонид Козлов определил главную цель художественной работы Эйзенштейна как месть, направленную против «слепой отрицательности „надличных“ сил истории»[307]. В менее явной форме такая репрезентация присутствовала в огромном количестве произведений искусства. Не случайно впоследствии такие разные авторы, как Жиль Делёз и кинорежиссер Александр Митта (второй — в своем учебном пособии по режиссуре[308]), используя термин Эйзенштейна, называли «советский» тип киномонтажа диалектическим. О «диалектичности» здесь можно говорить в том смысле, что его основным выразительным средством был контраст между отдельными элементами изображения или точками зрения, понимаемыми как репрезентации разных исторически значимых сил. Столкновение этих сил в лучших образцах советского авангардного монтажа обязательно было парадоксальным или, как минимум, гротескным: см., например, знаменитый эпизод из фильма Эйзенштейна «Броненосец Потемкин»: взбунтовавшиеся матросы выбрасывают за борт доктора, отказавшегося признать червивым мясо, которым их кормили, — камера фиксирует то самое пенсне доктора, через которое он разглядывал мясо. Теперь это пенсне болтается на снастях, демонстрируя слабость и бесполезность — как сказали бы современные специалисты по cultural studies — дисциплинирующих орудий «старого режима».
Демонстративный разрыв между малым и большим, живым и мертвым придавал изображению особое эстетическое качество. Насилие, которое выражено в авангардном искусстве в целом и посредством монтажа в частности, — анонимное, делокализированное, не психологическое по своей природе, даже если в произведении и изображены его конкретные носители. Источником и одновременно средой насилия оказывается история как тотальность, превосходящая человеческое понимание. Обнаружение, манифестация этой тотальности становятся возможны благодаря контрасту и сопоставлению несходного, то есть тотальность проявляется в самой дискретности, на которой основан монтаж.
В фильмах Эйзенштейна есть сцены, в которых эта дискретность прямо осмысляется как место выявления исторической тотальности и действия негативных сил истории. Например, это момент развода моста в фильме «Октябрь», когда с одной из половин моста в Неву медленно падает мертвая лошадь с повозкой, или знаменитая сцена на лестнице из фильма «Броненосец „Потемкин“». Пространство между шагающими солдатами и катящейся вниз коляской представляется то как изображение пустой лестницы в кадре, то как монтажный разрыв между кадрами с солдатами и кадрами с коляской. В обоих случаях этот разрыв демонстрирует тотальность истории, от которой человека могут защитить революционные силы — но и они порождены этой тотальностью.
Глава 3 От 1920-х к 1930-м: мутации метода
История как насилие: модальности изображения
В советском монтаже — если в совокупности рассматривать кино, визуальные искусства и литературу — можно выделить как минимум пять главных модальностей изображения истории как насилия. Они могли совмещаться в одном произведении, но, как правило, при внимательном рассмотрении в «монтажных» опусах всегда можно выделить доминирующую модальность.
Первая — оправдание насилия как единственно возможного пути участия в истории. Эта модальность характерна для некоторых — далеко не для всех! — стихотворений Владимира Маяковского. Приведу фрагмент одного из таких стихотворений — «Солдаты Дзержинского» (1927). Оно написано к 10-летию ВЧК — ОГПУ и по эстетике близко к монтажу: полиметрическая композиция, контрастные грамматические структуры — в стихотворении чередуются предложения, написанные во втором и в третьем лице, игра масштабов[309]. Чередование «адресатов» предложений во втором лице — сначала поэт, потом ГПУ как собирательное действующее лицо, потом его отдельные сотрудники — и добавление к этому обобщенного «мы» приводит к тому, что вся аудитория вместе с субъектом повествования риторически объединяется в единое действующее лицо, которое обращается к большевистской политической полиции с требованием покарать «врага».
Тебе, поэт, тебе, певун, какое дело тебе до ГПУ?! Железу — незачем комплименты лестные. Тебя нельзя ни славить и ни вымести. Простыми словами говорю — о железной необходимости. […] Есть твердолобые вокруг и внутри — зорче и в оба, чекист, смотри! Мы стоим с врагом о скулу скулá, и смерть стоит, ожидает жатвы. ГПУ — это нашей диктатуры кулак сжатый.[310]Насилие в этом стихотворении выступает в двух обликах — как элемент аллегорически, в духе средневековых моралите, изображенной вселенской битвы Добра и Зла («железная необходимость», «…смерть стоит, / ожидает жатвы») и как реальные репрессии, осуществляемые ГПУ против «твердолобых / вокруг / и внутри» — иначе говоря, против тех, кто «не понимает» якобы прогрессивной сущности большевистского режима. Эта двойственность имеет принципиальное значение, так как за ней скрывается двойственность этических установок. Обобщенное восприятие истории как насилия показывает субъекта высказывания как одного из рядовых бойцов в исторической битве. Интерпретация ГПУ как «правильного» агента насилия превращает этого же субъекта в пассивного зрителя, который будет аплодировать карам против всех «твердолобых». Подобная раздвоенность была вообще свойственна позднему Маяковскому, но здесь она видна особенно хорошо — во многом благодаря монтажной природе стихотворения.
Вторая модальность — это интерпретация современности как распада прежнего смыслового единства в хаос. Как ни странно, далеко не всегда такой распад изображался столь пессимистически, как у Клюева. В поздних стихотворениях Брюсова, объединенных в книгу 1922 года с характерным названием «Mea» («спеши» — лат.), такой распад оказывается новым, продуктивным состоянием культуры, которое бросает вызов всякому желающему его осмыслить[311]. Брюсов изображал этот хаос с помощью конфликтного паратаксиса, близкого к монтажу. Отдаленно такое представление о культуре напоминает полупародийные, полусерьезные нарративы смены исторических эонов из прозы Константина Вагинова[312] — но Вагинов был гораздо более трезв и безыллюзорен в своих оценках, чем Брюсов.
Но глаза! глаза в полстолетие партдисциплине не обучены…[313] […] Над желто-зелеными лотос-колоннами, над всякими Ассурбанипалами, — вновь хмурился, золото-эбур[314], Фидиев Zeus, и на крае Неглинной — зебу[315], малы, как в цейс[316]. Как же тут стиху не запутаться между Муданиями и Рапаллами, если оппозиции Марса (о наука!) — раз в пятнадцать лет, и в Эгейю у старого Кука взять невозможно билет! («Волшебное зеркало», 19 ноября 1922)Стих, запутавшийся «между Муданиями и Рапаллами», указывает на свежие на момент написания «Волшебного зеркала» международные новости — подписание Рапалльского договора 16 апреля 1922 года, в результате которого между СССР и Германией были установлены дипломатические отношения, и перемирия в Муданье (ныне — Неа-Муданья), заключенного 11 октября того же года между турецким правительством Кемаля Ататюрка и правительствами стран Антанты — о прекращении боевых действий Второй греко-турецкой войны (1919–1922); проигравшая войну Греция присоединилась к перемирию 14 октября. Смысл этих строк: установление мира в Европе означает не восстановление прежней нормы, а закрепление порожденного войнами хаоса. Для его изображения и необходимо монтажное построение образа.
Третья модальность — изображение истории как непрерывного становления, внешне лишенного насилия, — использовался в 1920-х — начале 1930-х прежде всего в оптимистических пропагандистских плакатах, рассчитанных как на советскую, так и на иностранную аудиторию. Пример такого агитационного изображения — обложка, сделанная Элем Лисицким для проспекта советского раздела Всемирной гигиенической выставки в 1930 году.
Фотографические образы обложки делятся на две соположенные части: справа «в столбик» идут лица, представляющие разные этнические группы СССР, вверху и слева — фигура юноши, который держит за рукоятки маленький земной шар (одновременно это проволочный каркас шара, который сваривают двое рабочих) как штурвал корабля. Эта же фотография, напечатанная на очень большом листе, была помещена на фризе советского павильона как логотип — по размеру она была даже больше портрета Ленина, висевшего в центре павильона.
Левая часть композиции обложки демонстрирует молодость страны и готовность советской молодежи взять в свои руки судьбы мира, правая — разнообразие населения СССР. Эти части соединены «встык», левая верхняя часть аллегорически изображает исторический динамизм, правая — очевидно, ресурсы для этого движения.
Парадоксальное различие масштабов создает в этой обложке внутренний разрыв между фигурами юноши и земного шара. В самом изображении земного шара — каркаса — скрыт конфликт между внешней шарообразной формой и квадратными очертаниями, над которыми работают сварщики (отсылка к более ранним экспериментам Лисицкого с геометрическими абстракциями). В целом обложка призвана свидетельствовать о демократизме СССР, о незавершенности советского проекта (на которую указывают разрывы и конфликты в изображении). Эта незавершенность понимается как потенциальное разнообразие возможностей.
Уже через три года принципы советского плаката радикально меняются. В 1933 году Борис Ефимов рисует плакат «Капитан Страны Советов ведет нас от победы к победе!», похожий по композиции на обложку Эля Лисицкого. Но на плакате штурвал держит в руках не анонимный юноша, один из многих, а Сталин. Штурвал — это именно корабельный штурвал с надписью «СССР». То ли страна — это корабль, то ли сам штурвал — это и есть Советский Союз. Ничего визуально большего, чем Сталин (например, земного шара) на таком плакате быть не могло. Корабль изображен условно, но очевидно, что в нем нет ничего неготового и незавершенного. В Сталине актуализированы черты архаического образа правителя как кормчего[317]. Приблизительно в то же время, когда появился плакат Ефимова, Сталина в советской печати все чаще стали называть великим кормчим (один из ранних примеров — в «Правде» от 24 сентября 1934 г.) — так же, как св. Иоанн Златоуст назвал Бога в «Беседах на Книгу Бытия»[318].
Можно считать, что такой переход — «от Эля Лисицкого к Ефимову» — полностью соответствует концепции В. Паперного: происходит вытеснение монтажных приемов и распространение имперской «Культуры Два», основанной на «реалистической» фигуративности и имитации континуального мимесиса. Однако и на выполненном в 1932 году коллажном плакате Густава Клуциса фигура Сталина — тоже самая большая и становится визуальным центром изображения. По-видимому, эстетический «вождизм» не противоречил монтажной стилистике, но существенно изменял ее.
На плакатах художников авангардистской выучки в 1930-х годах монтажный контраст масштабов используется прежде всего для того, чтобы резко, пугающе выделить фигуры Сталина и других советских вождей[319]. См., например, не только работы Клуциса, но и плакат Генриха Футерфаса «Сталинцы! Шире фронт стахановского движения!» (1936)[320]. В то же самое время в Италии инновационный дизайнер Ксанти Шавински (1904–1979) печатает аналогичного вида агитационный фотомонтажный плакат, изображающий Муссолини, «вырастающего» из моря трудноразличимых лиц (1934).
В Советском Союзе выживание монтажа в максимально идеологизированном виде стало возможным благодаря усилиям Г. Клуциса. 11 марта 1931 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О плакатной литературе»[321], по которому была установлена очень жесткая цензура любых изображений, рассчитанных на тиражирование, а контроль за публикацией любых плакатов передавался Отделу агитации и массовых кампаний ЦК. После принятия этого постановления Клуцис развил бурную деятельность, в публичных дискуссиях и в печати доказывая: лучшим способом идеологического «улучшения» советских плакатов станет усиление в них монтажной составляющей[322]. Художник добился того, что его точка зрения была признана в качестве допустимой[323] — но только временно. Доля монтажных плакатов в общей советской «продукции» в 1930-х все же уменьшалась, и уже в предвоенные годы, насколько можно судить, рисованный псевдореалистический плакат стал господствующим видом тиражной графики. Однако монтажный метод официально не был заклеймен, а лишь постепенно «вытеснен» из публичного поля.
В плакатах Клуциса 1930-х сохраняются следы авангардной стилистики, свойственной этому автору в более ранний период «бури и натиска», но изображение часто уже цветное, а не черно-белое — то есть в нем минимизирована условность, в высокой степени присущая монтажному искусству 1920-х. Плакат 1932 года свидетельствует о динамичности роста советской экономики, но вовсе не о ее «недостроенности» — напротив, на нем помещен лозунг: «Победа социализма в нашей стране обеспечена. Фундамент социалистической экономики завершен».
Напрямую ни о каком насилии плакаты Клуциса и Футерфаса не говорят, но такие и подобные коллажи, равно как и плакаты вроде ефимовского (а выбранный Ефимовым стиль впоследствии повлиял на «большой стиль» плакатной графики 1930–1950-х), указывали на предопределенность исторического пути СССР, невозможность выбора вариантов дальнейшего развития. Более того, эти плакаты навязывают — с помощью монтажных методов! — мысль о том, что развитие СССР персонифицировано в фигуре «вождя».
На эстетику клуцисовских плакатов 1930-х повлияла, полагает А. Фоменко, эстетика иконописи: в этих работах красный фон словно бы «выталкивает» фигуры вперед[324]. Есть и другой возможный источник — советские рекламные киноплакаты, где в центре часто находилось лицо «звезды», а в остальной части плаката использовался интенсивный простой цвет. Впрочем, эти влияния не исключают друг друга.
Четвертая модальность представления истории в советском монтаже — стоическая и/или критическая, но в любом случае выражающая некоторое этическое дистанцирование от насилия. (У Маяковского в стихотворении «Солдаты Дзержинского» такого дистанцирования нет вообще, у Брюсова насилие совершенно безлично и поэтому не требует этической оценки.) Произведения, где эта модальность была доминирующей, даже если они и выражали сочувствие «строителям нового мира», все же демонстрировали иррациональность насилия, действующего всюду в истории, и/или его фатальную неизбежность. Эта интонация стоического оправдания свойственна в равной степени описанию литературной эволюции в статьях Тынянова, который показывал, как «дети» свергают «отцов» и получают наследство от «дедов» или «дядей», и изображению Гражданской войны в монтажном романе Артема Веселого «Россия, кровью умытая» (1927–1928, окончательная редакция — 1936), особенно в приложениях, которые не публиковались при жизни автора[325]. Характерен мрачный финал романа, описывающий крах одного из крестьянских восстаний начала 1920-х годов:
Из города на все стороны двинулись обозы с мануфактурой, кожами, железом и всякой всячиной. По дорогам на обозы нападали шайки дезертиров и грабили их. В деревнях молились бабы. Из далеких больших городов, встречь хлебным маршрутам, в дребезжащих теплушках катили красные полки. На грязных вокзальных стенах, под ветром, трепетали обрывки плакатов, газет с приказами призывами революции. Под Клюквиным ударились[326]. Город подмял деревню, соломенная сила рухнула… Восстанцы, бросая по дорогам вилы, пики, ружья, на все стороны бежали, скакали и ползли, страшные и дикие, как с Мамаева побоища… Страна родная… Дым, огонь — конца-краю нет![327]Примерами критического осмысления скрытого в истории насилия с помощью монтажных образов можно считать роман того же Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» (1929) и вторую серию фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» (1946).
Представление истории как насилия в культуре 1920-х годов апеллировало к коллективному чувству надежды на то, что историческая травма исцелима и что будущее в этом смысле спасительно. Именно это чувство эксплуатировали в своей пропаганде большевики, и оно было настолько сильным, что создавало эффект своего рода массового гипноза.
Стоило сделать еще один шаг, радикализуя критическую позицию, — и монтаж резко менял свою функцию. Он мог свидетельствовать о травматическом разрыве в истории, который невозможно было искупить никакой будущей утопией. Здесь и возникает пятая модальность представления истории как насилия: постутопический монтаж.
Уже в 1920-е годы гипнозу можно было не поддаваться и считать, что наносимая историей травма не излечивается автоматически и что история травматична по самой своей сути — во всяком случае, в XX веке. В немецкой культуре к этому выводу пришел Вальтер Беньямин (ср. его тезисы «О понятии истории», 1940), в русской — Осип Мандельштам — как в стихах, так и в прозаических сочинениях. Исследователи уже писали о том, что историософские взгляды Беньямина глубинно связаны с монтажной природой его эссеистики — произведениями «Берлинское детство» и «Улица с односторонним движением»[328]. Эстетику автобиографических сочинений Мандельштама и Беньямина сравнил в своей монографии историк культуры Евгений Павлов[329].
В русской культуре к позиции Мандельштама был в некоторых отношениях близок Тынянов, но он не ставил себе задачи разработать особую литературную эстетику, соответствующую идее разорванной истории и разорванной биографии. Мандельштам такую эстетику создал.
Комментируя переход Мандельштама от стихов к прозе во второй половине 1920-х годов, М. Л. Гаспаров пишет:
Стиль этой прозы продолжает стиль стихов: […] такая же отрывистость пропущенных звеньев, такой же монтаж фрагментов, как в «Домби и сыне» или в «Нашедшем подкову», такое же «остранение», как в бытовых стихах «Камня» («формальная школа» в поэтике, выдумавшая этот термин, была близка Мандельштаму…)[330].
Мандельштам тоже был склонен к утопизму, однако примерно с 1921 года пришел к мысли о том, что утопия недостижима, потому что революция привела не к изменению сознания, а к рождению нового государства. «Но пишущих машин простая сонатина — / Лишь тень сонат могучих тех», — писал он в стихотворении «1 января 1924 года», подразумевая под «пишущими машинами» бюрократическое окостенение новой России, а под «могучими сонатами» — надежды романтиков XIX века на преобразование общества и укрощение аппетитов «голодного государства»[331] (ср. в «Шуме времени» Мандельштама: «…и патетический в своем западничестве Герцен, чья бурная политическая мысль всегда будет звучать, как бетховенская соната»[332]). Под словами Мандельштама «Ты в каком времени хочешь жить? — Я хочу жить в повелительном причастии будущего, в залоге страдательном: в „долженствующем быть“» («Путешествие в Армению», 1931–1932), вероятно, подписался бы Эрнст Блох. Но не подписался бы его оппонент конца 1920-х и 1930-х годов Георг Лукач или тем более советские писатели[333].
В послереволюционном творчестве Мандельштама очень большое значение приобретают образы разорванного времени и, наоборот, времени как силы, которая разрывает субъекта, — и то и другое можно видеть, например, в стихотворении «Нашедший подкову» (1923)[334].
Дети играют в бабки позвонками умерших животных. Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу. […] Эра звенела, как шар золотой, Полая, литая, никем не поддерживаемая, На всякое прикосновение отвечала «да» и «нет». […] Время срезает меня, как монету, И мне уж не хватает меня самого…На протяжении 1920-х годов литературная позиция Мандельштама становилась все более обособленной: в то время как большинство его современников настаивало на том, что историческая травма исцелима или уже исцелена революционными преобразованиями, Мандельштам с этим не соглашался[335]. С его точки зрения, отношения человека с историей после революции стали гораздо менее определенными и более рискованными.
Этот редкий, если не уникальный тип исторического сознания логически привел Мандельштама к монтажной прозе. Дискретность образов и композиции заметны в «Египетской марке» (1927) и еще больше — в «Четвертой прозе» (1930), где он провозглашает свой разрыв с литературой как со специфически советским социальным институтом.
Было два брата Шенье — презренный младший весь принадлежит литературе, казненный старший сам ее казнил.
Тюремщики любят читать романы и больше, чем кто-либо, нуждаются в литературе.
На таком-то году моей жизни бородатые взрослые мужчины в рогатых меховых шапках занесли надо мной кремневый нож с целью меня оскопить. Судя по всему, это были священники своего племени: от них пахло луком, романами и козлятиной.
[…]
Здесь разный подход: для меня в бублике ценна дырка. А как же быть с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка останется.
Настоящий труд это — брюссельское кружево, в нем главное — то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы[336].
В «Четвертой прозе» Мандельштам исподволь формулирует идею, которая много позже оказалась ключевой для неподцензурной литературы: осознание своей травмированности, приводящее к изгойству, есть этическая норма, а отказ от этого осознания способствует социализации, но нарушает этос художественного действия. Метафорическим обозначением такого изгойства в «Четвертой прозе» становится еврейское происхождение поэта.
В 1930-е годы Мандельштам, как известно, испытал колоссальное психологическое давление со стороны советских писателей и репрессивных органов. Поэтому и его осмысление монтажа стало более подвижным, а в текстах появились другие модальности монтажного изображения истории как насилия: от прославления Сталина в духе Клуциса или Футерфаса в «Оде» (1937)[337] — до трагического образа мировой истории как бесконечной войны в «Стихах о неизвестном солдате», написанных в том же 1937 году параллельно с «Одой»[338]:
— Я рожден в ночь с второго на третье Января в девяносто одном Ненадежном году — и столетья Окружают меня огнем[339].Однако сама возможность постутопического монтажа, открытая в русской культуре именно Мандельштамом, сохранилась как потенция дальнейшего развития, которая позже и была реализована. На первых порах, в 1940-х, эту «эстафету» подхватили авторы, вряд ли планировавшие развивать эстетические традиции Мандельштама. Об этом пойдет речь в следующей главе.
От революционного модернизма — к соцреализму: оптика современников
В статье «Золотой край» (1931) Виктор Шкловский писал:
Люди нашего времени, люди интенсивной детали — люди барокко. […]
Барокко, жизнь интенсивных деталей — не порок, а свойство нашего времени, наши лучшие живые поэты борются с этим свойством[340].
В 1932 году, после того как основные течения литературного авангарда были разогнаны или «самораспустились» под давлением РАППа и ЦК ВКП(б), Шкловский опубликовал статью «О людях, которые идут по одной и той же дороге и об этом не знают. Конец барокко». В этом сочинении он утверждал, что в творчестве С. Эйзенштейна, И. Бабеля, О. Мандельштама и Ю. Тынянова сохраняется авангардная эстетика, которая теперь, в 1932 году, выглядит малоплодотворной, — и провозглашал: «Время барокко прошло. Наступает непрерывное искусство»[341].
Параллели между барокко и авангардом бурно обсуждаются в российской истории культуры со второй половины 1970-х годов, когда сопоставление этих художественных систем стало предметом нескольких монографических исследований И. П. Смирнова[342]. Тогда же и художники, и исследователи различных видов искусства в странах Европы и Америки заговорили о «возвращении барокко»; наиболее яркой была концепция «необарокко», созданная итальянским семиотиком Омаром Калабрезе[343].
Шкловский не предвосхитил в своем диагнозе постановку вопроса, характерную для конца 1970-х годов, — проблема, которую он решал, была специфически советской и нехарактерной для других культур начала 1930-х.
В статье Шкловского барокко сравнивается не со всеми аспектами авангардной стилистики. Под «барочностью» Шкловский имел в виду именно паратактичность (составление произведения из отдельных «кусков») и порожденную ею автономию образов, обилие самоценных деталей, которые в «паратактических» произведениях оказываются, по его мнению, важнее целого. Целое же в новых условиях «великого перелома», как утверждал автор, должно быть важнее деталей, представать неукрашенным и «деловитым». Из его статьи следует, что устаревшим нужно считать не только изобилие соположенных друг с другом образов и текстовых «кусков», но и гротескное или парадоксальное впечатление от составленного ими целого. Так Шкловский предсказывал наступление соцреализма, искусства «непрерывного», то есть лишенного «монтажных склеек».
На эту статью резко возразил Ю. Тынянов. В письме Шкловскому от начала августа 1932 года он заявил, что его адресат, сам придерживающийся новаторской стилистики, которая в изменившихся условиях стала опасной, пытается выгородить себя (подразумевалось: оправдаться в глазах власти), переложив ответственность на других. Тынянов прочитал в статье глубинную интенцию Шкловского: очень разных авторов, использующих принципы паратаксиса и монтажной композиции, Шкловский объединил под условным именем барокко — для того чтобы объявить устаревшими те авангардные и модернистские эксперименты, которые были основаны на представлении об автономии искусства. «Эйзенштейн у тебя [в статье] похож на Мейерхольда, Мейерхольд на Олешу, Олеша на меня, а Бабель на Мандельштама. Даже непонятно, кто где. И кто что пишет, представляет, печатает. Убедительно»[344].
Для того чтобы понять, почему Шкловский объединил всех этих авторов в рамках единого эстетического течения, необходимо прояснить смысл его словоупотребления. К каким конкретным текстам и концепциям восходит представление Шкловского о барокко, еще предстоит выяснить. Возможно, Шкловский взял этот термин у Эйзенштейна, который хорошо знал европейское искусство соответствующей эпохи и внимательно читал работы Г. Вёльфлина[345]. Кроме того, режиссер признавался, что, снимая в 1930 году фильм «Да здравствует Мексика!», воспринимал эстетику мексиканского барокко как психологически близкую:
При встрече моей с Мексикой она мне показалась во всем многообразии своих противоречий, как бы проекцией вовне всех тех отдельных линий и черт, которые, казалось бы, в подобии комплекса-клубка я носил и ношу в себе.
Простота монументальности и безудержность барокко — в двух его аспектах, в испанском и ацтекском…[346]
Авангард XX века Эйзенштейн несколько раз называл «вторым барокко». В неопубликованном фрагменте «Внутренний полижанризм», написанном между 1933 и 1935 годами, режиссер объясняет, что руководствовался при построении фильма «Октябрь» принципами эстетики барокко и Джойса[347].
Вёльфлин, развивавший идею циклического возвращения «больших стилей», и Эйзенштейн, поддерживавший эту концепцию, скорее всего, повлияли на формирование выдвинутой Шкловским концепции «советского барокко». Германский искусствовед, например, упоминал об «античном барокко»[348], а Эйзенштейн полагал, что отношение готики к романскому стилю функционально соответствует соотношению барокко и ренессанского искусства[349].
Однако представление Шкловского о барокко довольно далеко отстоит от вёльфлиновского. Вёльфлин подчеркивал, что барокко, в отличие от ренессансного искусства, приносит выразительность деталей в жертву общему впечатлению от целого[350]. Эта мысль прямо противоречит утверждениям Шкловского. Однако критик мог обратить внимание на другие фрагменты книги «Ренессанс и барокко» — там, где Вёльфлин говорит о том, что для барокко характерны «усложненная композиция» и «обилие заглушающих друг друга мотивов» (ср. «жизнь интенсивных деталей» в статье «Золотой край»), что произведения, созданные в этом стиле, производят впечатление «оглушающего и опьяняющего изобилия»[351].
Шкловский хорошо понимал, в каком — единственно допустимом — направлении руководство ВКП(б) определило развиваться искусству. Более простодушный Иеремей Иоффе в 1933 году все еще предполагал, что соцреализм станет новой инкарнацией любимого им художественного авангарда. Свою точку зрения он пересмотрел только в 1937 году, провозгласив, что на место полифонического «энергетического монтажа», свойственного творчеству Эйзенштейна и в целом эстетике 1920-х годов, приходит гомофонический «гуманистический монтаж»[352].
В своих эссе первой половины 1920-х Шкловский то и дело жаловался: «И вся моя жизнь из кусков, связанных одними моими привычками…»[353] или «Жизнь течет обрывистыми кусками, принадлежащими разным системам»[354]. Это состояние жизни он воспринимал сначала как новое, продуктивное — а позже скорее как утомительное, по сути временное[355]. Вероятно, в начале 1930-х ему тем легче было уговорить себя, что «барочное» искусство не нужно, что фрагментарность и «острый монтаж» ему к тому времени казались изжитыми, пользуясь формалистским языком — автоматизированными приемами.
Позже — возможно, под воздействием бесед со Шкловским — и Эйзенштейн назвал наивной и устаревшей «барочную» стилистику своего фильма «Октябрь» — в статье «Диккенс, Гриффит и мы» (1942)[356].
Полемику с точкой зрения Шкловского, согласно которой «барочные» элементы в советском искусстве отмерли якобы сами собой, вела в своих записях и неподцензурной эссеистике Лидия Гинзбург. Она ясно видела, что распад модернистской парадигмы и отказ от модернистских форм мимесиса в начале 1930-х годов был во многом обусловлен внешним давлением, а не внутренней логикой развития культуры. В своих текстах она сохраняла и развивала монтажные принципы до 1980-х годов. Она не использовала ассоциаций своего стиля с барокко и не обращалась к циклическим схемам для объяснения судьбы модернистских методов письма в СССР[357].
Называние нового официально утвержденного искусства «непрерывным» — по-видимому, по аналогии с непрерывными производственными неделями 1929–1940 годов[358] — имело героические коннотации: Шкловский неявно уподобил перестройку искусства массовой мобилизации рабочих, ради которой в СССР была введена схема непрерывного производства. Напротив, Иоффе, как и Б. Пастернак («Столетье с лишним — не вчера…», 1931) и многие другие писатели и художники, надеялся: после мобилизационной истерики и массовых репрессий государство и общество станут более гуманными, пусть и более «гомофоническими». Эти надежды оказались тщетными.
В своей статье «О людях, которые идут по одной дороге…» Шкловский сублимирует свое вынужденное согласие с репрессивной политикой власти в терминах циклической истории культуры à la Вёльфлин. Подобный способ сублимирующего объяснения был выработан не только Шкловским, но и некоторыми другими авторами, связанными с русским модернизмом, — в частности, Георгием Шенгели. Этого поэта глубоко заботила эстетика изображения современности адекватными для нее средствами. Ученик Шенгели Арсений Тарковский[359] писал о нем: «…он обучал меня современности»[360].
В 1937 году Шенгели написал стихотворение «Философия классицизма». Его сюжет — восхищение тем, как прекрасны люди и вещи, увиденные на миг в освещенном окне. Краткий взгляд обобщает черты, возвышает их, убирает «ненужные» подробности и бытовой сор — напомню, что Шкловский в своей статье «О людях, которые идут по одной дороге…» обвинял современных ему модернистов именно в «не деловитом» паратактическом нагромождении «слишком» детально описанных предметов и явлений.
…Лишь Эрмитаж достоин Клод Лоррена Или Брюллова. В быт идут оглодки, — Мазня, где нет рисунка, цвета, формы, Где вместо содержанья — сентимент, Сей маргарин души. А пролетая, Ты видишь золотой клинок багета, Лазури клок, иль крон зеленых сгусток, Иль плавный выгиб женского бедра. Опять — лишь суть: обрывок спектров жгучих, Плоть радуги!.. А люди! Незаметны Ни скулы грубые, ни узкий лоб, Ни плоские — облатками — глаза; Не слышно глупых шуток, злобных вскриков, Видны тела лишь в их прекрасной сути; Лицо, чело, движенья умных рук…[361]Циклическая схема истории культуры стала значимым элементом сознания советской интеллигенции, генеалогически связанной с эстетикой модернизма, и задавала координаты для объяснения культурной динамики. Сама структура этой схемы оставляла возможность для обратного хода: теоретически можно было себе представить, что появится смелый, не боящийся возможных репрессий автор, который объявит устаревшим уже и стиль социалистического реализма и провозгласит возвращение к «барочной эстетике», означающей новую волну интереса к монтажу, к нагромождению физиологически выразительных деталей и т. п. Такой ход в самом деле был использован во время Второй мировой войны, в 1943 году. Подробнее об этом эпизоде речь пойдет в одной из следующих глав.
Монтаж как деконструкция советского взгляда на историю
Всем названным выше модальностям противостоит особый тип монтажа, который можно назвать рифмующим: он представляет различные эпизоды истории как «рифмующиеся», структурно аналогичные. Наиболее известный пример такого монтажа — фильм Д. У. Гриффита «Нетерпимость».
Проанализированные выше образы истории в советской монтажной культуре почти всегда были основаны на важнейшем допущении: в истории не бывает повторяющихся сюжетов. Однако фильм Гриффита, во многом повлиявший на советскую культуру монтажа, представляет историю именно как серию «несинонимичных» повторений. События прошлых эпох в нем ценностно не менее (а в случае евангельских эпизодов — и более!) важны, чем современные.
(Упрощенную версию рифмующего монтажа «Нетерпимости» создал режиссер Сесил Б. де Милль в фильме «Десять заповедей» (1923), для которого он даже использовал «вавилонские» декорации, построенные для фильма Гриффита в Голливуде в 1915 году[362]. Опус де Милля состоит всего из двух половин — «современной» и «библейской», которые просто следуют одна за другой, а не переплетаются в монтажном соединении.)
Такое представление истории вызвало отповедь Сергея Эйзенштейна. В программной статье «Диккенс, Гриффит и мы» (1942) Эйзенштейн доказывает, что советским кинематографистам совершенно необходимо взять у Гриффита технику монтажа и крупных планов, но призывает ни в коем случае не ориентироваться на сюжет «Нетерпимости», так как — очень важный аргумент — представленные в фильме эпохи не имеют ничего общего между собой, а смысл истории американский режиссер понимает гораздо хуже, чем Карл Маркс.
…Четыре взятых Гриффитом эпизода действительно несводимы.
И формальная неудача их слияния в единый образ Нетерпимости есть лишь отражение ошибочности тематической и идейной.
Неужели крошечная общая черта — общий внешний признак метафизически и неосмысленно взятой Нетерпимости — с большой буквы! — способна объединить в сознании такие вопиющие исторически не сводимые явления, как религиозный фанатизм Варфоломеевской ночи и стачечная борьба в крупнокапиталистической стране! Кровавые страницы борьбы за гегемонию над Азией (намек на «вавилонский» эпизод. — И.К.) и сложный процесс внутриколониальной борьбы еврейского народа в условиях порабощения римской метрополией?
И здесь мы сталкиваемся с ключом к тому, почему именно на проблеме абстракции не раз спотыкается метод гриффитовского монтажа.
Секрет здесь не профессионально-технический, но идеологическо-мысительный. […]
[Гриффит] …не способен на подлинно осмысленное абстрагирование явлений: на извлечение обобщенного осмысления исторического явления из многообразия исторических фактов[363].
Эйзенштейн в этой статье вел спор о важнейших идеологических смыслах советского монтажа — в частности, той его версии, которую режиссер создал сам. Установление переклички разных исторических эпох и культур с помощью монтажа его категорически не устраивало, так как отменяло идею прогресса и не давало надежды на трансформацию человеческой природы.
В раннесоветском искусстве рифмующий монтаж был использован минимум трижды: в рассказе Льва Лунца «Родина» (1922), в стихотворении Михаила Светлова «Рабфаковке» (1925) и в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (1929–1940). В двух случаях из трех — у Лунца и Булгакова — этот тип монтажа был использован для критики большевистской историософии, с которой Эйзенштейн был согласен, хотя и по другим причинам, чем большевики, — он надеялся не на социально-политическое, а на психологическое преобразование общества и каждого индивидуального сознания.
Я уже писал о монтажной репрезентации истории как серии повторяющихся сюжетов в цикле стихотворений М. Волошина «Путями Каина». В том же 1922 году, когда Волошин заканчивал работу над этим циклом, Лев Лунц написал рассказ «Родина», по структуре тоже перекликающийся с фильмом Гриффита. Его герой-рассказчик Иегуда находит в синагоге дверь, ведущую из пореволюционного Петрограда (Иегуда упорно называет этот город Петербургом, как до 1914 года) в Вавилон VI века до н. э., откуда евреи, отпущенные завоевателем-Киром, уже начинают возвращаться в Палестину.
Образы бывшей столицы империи и Древнего Вавилона в рассказе Лунца «смонтированы» по принципу контраста и одновременно сходства. Так, оба города описываются очень похожими фразами: «Великий город, прямые и стремительные улицы, прямые точные углы и огромные спокойные дома» (Вавилон) — «Стремительные, как солнечные лучи, улицы и огромные спокойные дома» (Петербург). Сознание рассказчика словно бы разорвано пополам, он не чувствует своей родиной Петербург — но и до Иерусалима там, в прошлом, он не дошел и был убит за знак на руке — в Петрограде 1922 года это знак прививки, в Вавилоне — клеймо, по которому героя узнают как вероотступника. Вот цитата из финала рассказа, которая, на мой взгляд, свидетельствует об использовании Лунцем монтажной эстетики:
…Я увидал — на ступеньке передо мной лежали: мое платье, платье Веньямина и Веньямина левая рука. Медленно сочилась из плеча еще теплая кровь и победно белели треугольником три оспины, вечная печать мудрой Европы. <…>
Я вышел на улицу. Старый мой любимый пиджак, любимые старые брюки закрывали изодранный хитон и изодранное тело. Больно мне не было[364].
Аналогичный композиционный принцип использован в построении романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», где персонажи переходят из современной Москвы в Иерусалим начала I века н. э. и обратно, и между двумя городами, как и между развертывающимися в них сюжетами, существует сложная система соответствий. Подобно тому как у Лунца в сходной лексике описаны Вавилон и Петербург, — у Булгакова этот же прием словесных «подхватов» — лейтмотивов использован в описаниях Иерусалима («Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город…», — гл. 25) и Москвы («Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город…», — гл. 29).
Собственно в развертывании повествования Булгаков почти не пользуется монтажными приемами, но чередование иерусалимских и московских сцен как композиционный принцип, на мой взгляд, может быть адекватно понято именно в контексте рифмующего монтажа.
Еще одна перекличка между двумя произведениями, уже не связанная с монтажом, состоит в том, что и в «Родине», и в «Мастере…» один из главных героев чувствует себя неудачником, опоздавшим к сакральному событию, описанному в Библии. В «Родине» это — Иегуда, который с трудом догнал евреев, возвращавшихся в Иерусалим, но был побит камнями, в «Мастере…» — Левий Матвей, который опоздал к началу казни Иешуа.
Вопрос о возможном влиянии Гриффита и Лунца на «Мастера и Маргариту»[365] исследован пока недостаточно, хотя о сходстве сюжетов «Нетерпимости» и «Мастера…» кратко упоминал еще Б. М. Гаспаров в своей работе[366], уже ставшей классической, а связи между другими произведениями Лунца и Булгакова — соответственно «Исходящей № 37» и «Дьяволиадой» — были прослежены в работах пятигорского филолога А. Ф. Петренко[367]. В Советской России фильм Гриффита показывали с вырезанными евангельскими эпизодами, поэтому не вполне понятно, повлияли ли на Булгакова общие принципы исторического сюжетосложения Гриффита, или он знал о евангельских эпизодах от знакомых, побывавших за границей и посмотревших фильм там[368], или, наконец, Булгаков испытал влияние в равной степени фильма Гриффита и повести Лунца с ее «иудейским» колоритом[369]. Подробные описания Древнего Иерусалима, для написания которых Булгаков пользовался специальной исторической литературой, могли быть продиктованы «древними» сценами Гриффита с их грандиозными декорациями.
Важное отличие рассказа Лунца и романа Булгакова, с одной стороны, от фильма Гриффита, с другой, состоит в модальности восприятия истории. Гриффит — программный оптимист. Основа его оптимизма — надежда на то, что в конце времен мир будет спасен Богом и Его ангелами от бесконечных повторений, в которое ввергает человеческое общество нетерпимость. Лунц и Булгаков — оба — пишут из позиции разочарования. Современное общество для них — менее подлинное, чем действительность библейских времен (для Лунца — VI в. до н. э., для Булгакова — I в. н. э.), хотя описание земной жизни Иисуса Христа у Булгакова и является делом рук современного героя — Мастера, который «всё угадал»[370].
Произведения Булгакова и, с некоторыми оговорками, Лунца могут быть отнесены к неподцензурной литературе. О судьбе романа Булгакова хорошо известно, а повесть Лунца была напечатана в независимом «Еврейском альманахе» (Пг.; М., 1923) и в 1977 году перепечатана в самиздатском журнале «Евреи в СССР» (№ 18). Лунц умер в 1924 году, находясь в Германии (он ехал в Испанию, куда был командирован Петроградским университетом для научной работы), и после смерти его произведения в советской печати было принято оценивать как «реакционные»[371].
В советских легальных произведениях мотив «взаимно отражающихся эпох» встречается редко, однако можно привести один важный пример — стихотворение Михаила Светлова «Рабфаковке», написанное именно методом монтажа, структурно аналогичного фильму Гриффита: в нем чередуются аналогичные эпизоды из разных исторических эпох. В нем — четыре сюжета, посвященных самопожертвованию молодой женщины: истории Жанны д’Арк, Марии-Антуанетты, собирательной «красной» героини Гражданской войны и современной студентки, для которой реализация права женщины «из низов» на получение высшего образования требует такой же самоотдачи, как для ее предшественниц — вооруженная борьба за спасение Франции или мужество перед лицом палачей.
Несмотря на то что одна из героинь стихотворения — казненная революционерами королева Франции, это стихотворение в советской критике всегда оценивалось высоко[372]. Причина этого парадокса состоит в том, что «рамочными» для Светлова являются именно советская прогрессистская историософия и идея самопожертвования. «Рифмует» же он — с помощью монтажа — истории женщин, жертвующих собой ради идеи. Уравнивание женщин из разных эпох в 1920-е годы с их риторикой женской эмансипации, вероятно, воспринималось скорее как высказывание об универсальной социальной роли женщины, а не о равной значимости современности с прежними историческими эпохами. Если бы Светлов в своем стихотворении уравнял, например, историю советского юноши-рабфаковца с судьбой французского короля Генриха IV Наваррского, критическая реакция на его стихотворение наверняка была бы совсем иной. Светловский «извиняющийся» вариант рифмующего монтажа мог быть включенным в советский канон.
Другой возможной, но во многом «вытесненной» в 1920-е годы семантической функцией монтажа было представление мира как игры, не имеющей ни начала, ни конца. Монтажная техника в рамках такой концепции приобретала черты хаотичной, спонтанной, импровизированной деятельности. Такой подход к монтажу был свойствен А. Крученых, в том числе в его домашних самодельных книгах[373]. Нарочитая импровизированность заметна и в коллажах А. Родченко к поэме В. Маяковского «Про это». Но в целом этот мотив, весьма распространенный в советской культуре 1920-х годов[374], редко связывался с монтажами или коллажами.
Почему эта ассоциация была блокирована, можно понять, если рассмотреть примеры из искусства тех стран, где она получила развитие. Монтаж как демонстрация хаотичности истории и повседневной жизни регулярно использовался авангардистами и крайне левыми поэтами, прозаиками, художниками для критики «больших идей» политиков — например, идеи патриотизма. Напомню, что с подобного использования монтажа начинали дадаисты во время Первой мировой войны. «В забытом ныне небольшом [американском] журнале тридцатых годов левый поэт выразил свое явно отрицательное отношение к Америке, опубликовав стихотворение, в котором содержались следующие строчки:
My country ‘tis of thee Sweet land of liberty Higgledy-piggledy my black hen[375]. Моя страна, это о тебе, Прекрасная страна свободы, Шаляй-валяй моя черная курочка.…Намерением [автора] было, очевидно, высказать антипатриотическую декларацию, но понятно, что нет ничего антипатриотического ни в отдельно взятых первых двух строчках, ни в третьей строчке самой по себе. Антипатриотическое чувство выражено исключительно при помощи их соединения»[376].
Внешне это стихотворение выглядит импровизацией, даже дурашливой игрой.
В СССР такой подход был табуирован в культуре так же сильно, как и прямые антибольшевистские высказывания, — он дискредитировал не только верховную власть страны, но и культ политических «больших идей», сложившийся в России еще в XIX веке. Наиболее последовательно это табу нарушили обэриуты — едва ли не первая в русской культуре поставангардная группа, чья эстетика была основана на критике использования повседневного и литературного языка. Однако, поскольку монтаж был общим языком советской культуры конца 1920-х, когда формировалась эстетика обэриутов, они подвергли критике и его — отчетливо понимая его модернистскую генеалогию. Так, например, рассказ Даниила Хармса «Связь» (1937) состоит из нумерованных фраз, как «Симфония 2-я» Андрея Белого[377], и по внешним признакам выглядит монтажной прозой. Хармс показывает, что разорванный мир в действительности является внутренне глубоко связным, вот только взаимообусловленность событий, окружающих человека, для него или для нее непостижима, по своей природе абсурдна и не обусловлена никакими общеисторическими причинами.
2. Один скрипач купил себе магнит и понес его домой. По дороге на скрипача напали хулиганы и сбили с него шапку. Ветер подхватил шапку и понес ее по улице. 3. Скрипач положил магнит на землю и побежал за шапкой. Шапка попала в лужу азотной кислоты и там истлела. 4. А хулиганы тем временем схватили магнит и скрылись. 5. Скрипач вернулся домой без пальто и шапки, потому что шапка истлела в азотной кислоте, и скрипач, расстроенный потерей своей шапки, забыл пальто в трамвае. 6. Кондуктор того трамвая отнес пальто на барахолку и там обменял на сметану, крупу и помидоры. 7. Тесть кондуктора объелся помидорами и умер. Труп тестя кондуктора положили в покойницкую, но потом его перепутали и вместо тестя кондуктора похоронили какую-то старушку. 8. На могиле старушки поставили белый столб с надписью: «Антон Сергеевич Кондратьев». […] 19. И вот они едут поздно вечером по городу: впереди — скрипач и сын хулигана, а за ними вагоновожатый, бывший кондуктор. 20. Они едут и не знают, какая между ними связь, и не узнают до самой смерти[378].
Такие построения, говоря формалистским языком, остраняют и эстетику монтажа, и идею случайности. Из-за того что советский монтаж был в целом весьма историософски ориентированным по семантике, его использование для критики самого принципа историософских объяснений оказалось затруднительным: вместе с эстетикой репрезентации истории Хармсу «пришлось» деконструировать и монтаж как особый метод репрезентации.
Глава 4 Эпическое полифоническое политическое искусство: монтаж как мост между советской культурой и радикальными западными движениями
Монтаж в литературе 1930-х: развитие эпических форм
Некоторые европейские и американские модернисты в 1930-е годы сохранили интерес к специфически монтажной стилистике, а именно — те, кто воспринимал переживаемое время как переходное, — например, Дж. Дос Пассос, Б. Брехт, А. Дёблин, К. Чапек, Э. Паунд. Своеобразную параллель на территориях тоталитарных государств им составляли С. Эйзенштейн и Лени Рифеншталь. Вероятно, по мере нарастания катастрофических тенденций в европейской и мировой политической жизни монтаж представлялся им все более подходящим методом для выражения ситуации исторической неопределенности. В завершающем трилогию «США» романе Дос Пассоса «Большие деньги» монтажные принципы даже заметнее, чем в предыдущих двух частях этого цикла, — на что тогда же обратил внимание критик Хорэс Грегори[379]. Таким образом, Дос Пассос форсировал применение этих принципов в то время, когда эксплицированные формы монтажа все более теряли популярность в кино и изобразительном искусстве.
Среди последователей эстетики монтажа в 1930-е были и такие, кто, как К. Чапек и Дж. Дос Пассос, не представлял себе ясно траектории переживаемых исторических изменений. См., например, нарочито «агностицистский» финал сатирического фантастического романа-антиутопии Чапека «Война с саламандрами» («Válka s mloky», 1936):
— […] Саламандры погибнут.
— Все?
— Все до одной. Это будет вымерший род. От них останется только старый энингенский отпечаток Andrias’a Scheuchzeri.
— А что же люди?
— Люди? Ах да, правда… Люди… Ну, они начнут понемногу возвращаться с гор на берега того, что останется от континентов; но океан еще долго будет распространять зловоние разлагающихся трупов саламандр. Постепенно континенты опять начнут расти благодаря речным наносам; море шаг за шагом отступит, и все станет почти как прежде.
Возникнет новый миф о всемирном потопе, который был послан Богом за грехи людей. Появятся и легенды о затонувших странах, которые были якобы колыбелью человеческой культуры; будут, например, рассказывать предания о какой-то Англии, или Франции, или Германии…
— А потом?
— Этого уже я не знаю…[380]
Джон Дос Пассос по убеждениям был социалистом, но в 1937 году отошел от прежних убеждений и просоветских симпатий. Он стал резко критиковать сталинский режим за политические репрессии и вмешательство в гражданскую войну в Испании. Непосредственной причиной трансформации его мировоззрения стало исчезновение на контролируемой республиканцами территории Хосе Роблеса Пасоса, его друга, переводчика его романов на испанский и левого активиста[381].
Тем не менее Дос Пассос и в свой «социалистический» период был критиком капитализма, но не сторонником насильственного переворота. Например, в трилогии «США» Дос Пассос пишет о том, что американскому обществу угрожают социальные «ураганы», но не революции, к которой эти «ураганы» могут его привести. Первому роману трилогии, «42-я параллель», предпослан эпиграф из «Американской климатологии» Э. У. Ходжинса. Пол Жиль предполагает, что, возможно, такой книги не существовало и текст придуман самим Дос Пассосом[382].
Эти ураганы — предмет неиссякаемого интереса всех исследователей американской метеорологии, и много труда было потрачено на различные гипотезы о законах, ими управляющих. Некоторые из этих законов, в частности те, которые определяют их внешние признаки и главные направления, могут считаться вполне установленными; основные проявления их настолько очевидны и так часто повторяются, что самое несовершенное наблюдение не могло не привести к некоторым выводам…[383]
Последний роман трилогии «Большие деньги» завершается сценой, изображающей главного героя, оставшегося в одиночестве и без денег на дороге посреди степи, вдали от города. Юноша пытается «поймать» машину и ощущает себя на пороге важной перемены в жизни, однако, что это за перемена, ни автор, ни читатель не знают. Такой финал можно определить как намеренно антителеологический:
Молодой человек ждет на обочине дороги; самолет улетел; большой палец чуть выгибается дугой, когда автомобиль со свистом проносится мимо. Его глаза ищут глаза водителя. Сто миль по дороге. Крутится голова, подводит живот, желания одолевают его, раздражают, как муравьи, ползущие по коже;
он ходил в школу — книги сулили ему кучу возможностей, объявления в газетах обещали быстрое процветание, собственный дом, призывали затмить своего соседа, вкрадчивый голос эстрадного певца по радио шептал о девушках, мириадах серебристых девушек, которых соблазняют на киноэкране, цифры миллионных доходов от акций чертили мелом на досках объявлений в офисах, зарплата в конвертах в руки желающих трудиться, чистый, с тремя телефонами, без бумаг стол исполнительного директора,
он ждет, голова кружится, здорово подводит живот, безработные его руки немеют, мимо несется, набирая скорость, поток машин.
Сто миль по дороге[384].
Другие авторы, использовавшие монтаж в 1930-е годы — такие, как Б. Брехт и С. Эйзенштейн, — имели четкий социальный ориентир: построение бесклассового общества. Однако в конце 1930-х, в ситуации наступления нацизма и заключения договора между Гитлером и Сталиным даже Брехт воспринимал историю как неопределенную, потерявшую направление. В стихотворении «На добровольную смерть беженца В.Б.» (1941) (В.Б. — Вальтера Беньямина) он писал:
Reiche stürzen. Die Bandenführer Schreiten daher wie Staatsmänner. Die Völker Sieht man nicht mehr unter den Rüstungen. So liegt die Zukunft in Finsternis, und die guten Kräfte Sind schwach. All das sahst du Als du den quälbaren Leib zerstörtest[385]. Державы рушатся. Главари банд, Стало быть, выходят в государственные мужи. Народы Уже не различимы за вооружением. Будущее во мраке, а силы добра Слабы. Все это ты увидел, Прежде чем уничтожил измученное тело.Имела исторический ориентир и Лени Рифеншталь, переосмыслившая монтаж в эстетике «нацистского авангардизма»: она прозревала в будущем построение великой Германии как места воскрешения античной красоты, но такой, которая приобрела бы невиданную прежде динамику, соединилась бы с современной техникой и получила бы массовое распространение.
В 1920–1930-е годы Брехт выработал теорию нового театра, который он сам называл эпическим[386]. В своих работах он неоднократно объяснял смысл этого термина: новый театр высказывает критическое отношение к социальному порядку, показывает различие межчеловеческих отношений, которые воспринимаются в обществе как естественные, и их потенциального образа в других условиях. Подобно исполнителю эпических сказаний, актер или актриса в брехтовском театре не отождествляется с героем, которого он или она играет, а говорит о нем заинтересованно, но со стороны.
Однако слово «эпический» можно понимать и иначе: оно указывает на произведение, в котором жизнь конкретного человека всегда представлена как часть движения истории, пусть местом наблюдения за этим движением и оказывается современность. Брехтовские пьесы в этом смысле эпичны даже в тех случаях, когда они построены как притчи: в таких его произведениях, как «Добрый человек из Сычуани» (где активно используются монтажные принципы) или «Кавказский меловой круг», представлена, если можно так сказать, действующая модель социальных механизмов истории на внеисторическом материале.
Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen Den Vorhang zu und alle Fragen offen. […] Wir können es uns leider nicht verhehlen: Wir sind bankrott, wenn Sie uns nicht empfehlen! Vielleicht fiel uns aus lauter Furcht nichts ein. Das kam schon vor. Was könnt die Lösung sein? Wir konnten keine finden, nicht einmal für Geld. Soll es ein andrer Mensch sein? Oder eine andre Welt? Vielleicht nur andere Götter? Oder keine? Wir sind zerschmettert und nicht nur zum Scheine! Der einzige Ausweg wär aus diesem Ungemach: Sie selber dächten auf der Stelle nach… («Der gute Mensch von Sezuan», 1939–1941[387]) Опущен занавес, а мы стоим в смущенье — Не обрели вопросы разрешенья. […] Провал нас ждет — без вашей похвалы! Так в чем же дело? Что мы — не смелы? Трусливы? Иль в искусстве ищем выгод? Ведь должен быть какой-то верный выход? За деньги не придумаешь — какой! Другой герой? А если мир — другой? А может, здесь нужны другие боги? Иль вовсе без богов? Молчу в тревоге. Так помогите нам! Беду поправьте И мысль и разум свой сюда направьте. («Добрый человек из Сычуани», пер. Б. Слуцкого)[388]Отчасти эти вопросы были риторическими — Брехт точно знал, что нужен «другой мир», «вовсе без богов» («keine Götter»). Но ему было важно сохранить и эстетически выразить ситуацию совместной дискуссии театральной труппы и зрителей о будущем, полилога разных «голосов» в публике. Вероятно, за этим стояло убеждение Брехта в том, что разумные люди, если подумают, в ходе обеспечиваемой драматургом, режиссером и актерами «майевтики» сами дойдут до понимания истинности марксистского представления о современном мире — подобно тому, как герои диалогов Платона под влиянием вопросов Сократа неизменно доходят до понимания истинного устройства мира, как его представлял себе Платон.
Совершенно иным образом пришел к идее эпического монтажного искусства Эзра Паунд.
«Будучи в Париже, 1 июня 1923 г. Паунд посетил лекцию художника Лежэ об использовании техники и машины в искусстве. […] Леже познакомил Паунда с поэтом Блэзом Сандраром, и втроем они обсуждали проблемы симультанного или синхронного искусства, когда неожиданные „наплывы“, крупные планы и монтаж кадров, как в кино, мгновения наивысшей концентрации мысли и чувства неожиданно сменялись в повествовании резкими сдвигами без плавных переходов и объяснений. Подобный метод Паунд использовал и в своих „Cantos“»[389]. Философ Джордж Сантаяна пояснил, что Паунд не имеет в виду «любые частности, иначе ваша тенденция к скачкам столь непреодолима, что связь частных деталей, между которыми вы прыгаете, будет не всегда очевидной. […] Если вы не хотите описывать мелочи, видимо, нужна какая-то скрытая классификация или скрытая генетическая связь между ними»[390].
Собственно, работа Паунда в «Cantos» во многом и строится на прослеживании таких связей между чрезвычайно разнородными событиями. «Cantos» может быть описан как новый эпос, в котором мировой истории придается смысл с помощью политико-экономического объяснения, столь же тотального, как и марксистское: история — вечная борьба с человеческой алчностью (авторский термин Паунда для обозначения этого качества — «узура»). К сожалению, это объяснение во многом обусловлено тем, что в начале 1920-х Паунд увлекся идеями итальянского фашизма. Впоследствии он работал на муссолиниевском радио и в своих комментариях приписывал качество «алчности» преимущественно евреям. Лишь в 1960-е годы он отрекся от своего антисемитизма — и то после того, как именно усилия американских писателей еврейского происхождения помогли освободить Паунда из многолетнего заключения в психиатрической больнице: после того как американские войска вступили в Италию в 1945 году, Паунд был арестован, судим как коллаборационист и признан невменяемым.
Путем противостояния нивелирующему действию алчности Паунд считал индивидуализацию смысла каждого явления, но эта индивидуализация, согласно «Cantos», никогда не приводит к установлению окончательного и единственного смысла человека, слова или поступка[391].
Александр Генис полагает, что «…непосредственной причиной возникновения „Cantos“ послужила Первая мировая война. Паунд и его друзья, прежде всего Т. С. Элиот, считали войну симптомом еще более страшной болезни — распада единого культурного образования, которым на протяжении веков был Запад. Новое время родило новые народы. Лишенные общего языка, культуры и веры, они обречены воевать. Исторические катаклизмы вызваны не политическими причинами, а утратой внутренних ценностей: мир, забывший о красоте и благодати, становится жертвой бездуховного технического прогресса.
История — главная героиня „Cantos“, но прежде, чем отразиться в зеркале поэзии, ей следовало воскреснуть»[392].
«Эпос — это стихотворение, вмещающее в себя историю», — писал Паунд в книге «Make It New» («Сотворить заново»)[393].
Норман Уэкер описывает «Cantos» как эпос нового типа — многоголосый, внутренне разноречивый, подрывной — то есть направленный против общепринятых представлений о власти, о структуре общества, о священном[394]. В этом смысле «Cantos» структурно противостоят фашистскому и вообще характерному для тоталитарных государств требованию единогласия. Уэкер отмечает, что его взгляд не совпадает с представлениями Михаила Бахтина, который считал эпос монологическим и коллективистским произведением. Однако возможен и другой тип эпоса, восходящий к Вергилию с его сложным, скрыто противоречивым отношением к римской государственности. В истории новоевропейской поэзии перелом в понимании эпоса происходит в творчестве Блейка: его «Бракосочетание Неба и Ада» — «мифологическая антисистема», совокупность многих голосов, спорящих между собой и подрывающих общепринятое понимание христианства.
Можно предположить, что в конце 1920-х и в 1930-е годы формируется особое международное направление, которое условно можно назвать эпическим полифоническим политическим искусством (ЭППИ). Оно развило историософские потенции монтажа, намеченные в фильме Гриффита «Нетерпимость» и развитые в 1920-е годы в искусстве СССР и Германии — помимо драматургии Брехта, необходимо назвать еще театр Эрвина Пискатора и прозу Альфреда Дёблина с его романами «Горы моря и гиганты» (sic!) («Berge Meere und Giganten», 1924), «Берлин, Александерплац» («Berlin Alexanderplatz», 1929) и тетралогией романов о революции в Германии «Ноябрь 1918» («November 1918», 1937–1943).
Вот основные черты описываемого направления:
— центральным персонажем и одновременно сюжетом произведения является история, воспринимаемая как безличный поток энергии, сплошное становление (поэтому такое направление может быть названо эпическим);
— исторический процесс, воплощенный в этом потоке энергии, осмысляется как телеологически направленный и основанный на конфликте сил, неизбежно действующем сегодня и устранимом только в очень далекой перспективе;
— телеологическая направленность исторического процесса может и должна быть объяснена в рамках «большой» политической идеологии (поэтому такое направление может быть названо политическим);
— формой эстетического проявления исторического конфликта являются локальные, частные образы, своей яркостью и парадоксальностью словно бы останавливающие время — и в то же время концентрирующие в себе пафос исторического момента;
— действующим лицом истории является разнообразное, дискретное множество людей, наделенных противоречащими друг другу волями и интересами; произведение «дает слово» представителям разных борющихся сил — поэтому такое направление может быть названо полифоническим.
ЭППИ было одним из направлений политизированного модернизма 1930-х годов, ставшего новым этапом в развитии модернистского искусства. Этот этап относительно хорошо изучен[395], но изменение семантики монтажного метода, который за собой повлекла новая политизация модернизма, требует дальнейшего обсуждения — равно как и сопоставление роли левых и крайне правых авторов в этом процессе.
Эпическое: генезис новой эстетики
Новое монтажное искусство было названо эпическим именно потому, что отказывалось от традиционного мимесиса, в том числе от сюжета, который центрирован вокруг фигуры главного героя и завершается катарсисом. Слово «эпический» впервые было использовано для описания новых форм театрального искусства в 1924 году — по-видимому, практически одновременно немецким режиссером Эрвином Пискатором и драматургом Бертольтом Брехтом. Впоследствии Пискатор фактически отказался спорить с Брехтом за приоритет в использовании термина «эпический театр»[396]. Возможно, настоящим автором термина «эпический театр» был заведующий литературной частью пискаторовского театра Лео Ланиа (настоящее имя Лазарь Херман, 1896–1961). В своей статье в венской «Рабочей газете» («Arbeiter Zeitung») он еще 2 мая 1924 года призывал к тому, чтобы современный театр преодолел привычную сюжетность — вслед за романами А. Дёблина, Дж. Джойса, Дж. Дос Пассоса и первыми пьесами Бертольта Брехта[397]. Характерно, что Ланиа перечислял именно «монтажных» авторов — таким образом, монтажные приемы и преодоление сюжетности он воспринимал как две стороны единой эстетической трансформации.
Пискатор объяснял в своих публичных выступлениях: эпический театр стал необходим потому, что после Первой мировой войны безвозвратно погибло «старое „я“», то есть старое представление о личности, и на первый план выдвинулись движения общественных групп. «Не индивид с его частной, личной судьбой, а само время, судьба масс стали героическими факторами новой драматургии»[398] (курсив источника) — а, по словам Пискатора, и нового театра.
Вскоре после этого Брехт писал в неоконченной работе «Диалектическая драматургия» (1929–1930), подхватывая мысли Ланиа и Пискатора: «Новая драматургия постепенно перешла к эпической форме (в чем ей, между прочим, помогли произведения одного из романистов, а именно Дёблина). […] Индивидуум перестает быть центром спектакля. Отдельный человек не порождает никаких отношений, значит, на сцене должны появляться группы людей, внутри которых или по отношению к которым отдельный человек занимает определенную позицию; их-то и изучает зритель…»[399]
Ср. также у Эйзенштейна: «[Ремарка Пушкина] „Народ безмолвствует“ имеет три-четыре интерпретации в ту или иную сторону… Не хочу говорить о том, как этот расчлененный образ массы, который выступает в конце, разверстан между всеми возможными типами действующих лиц, которые проходят по трагедии»[400].
Окончательно новое значение слова «эпический» закрепил Альфред Дёблин в своей работе 1929 года «Der Bau des epischen Werks» («Структура эпического произведения»), выполняющей роль одновременно филологического исследования и личного манифеста. Дёблин сравнивает тот тип современного романа, к которому относит свои книги, с музыкальной симфонией — таким образом, Дёблин был едва ли не первым, кто соединил в своем исследовании современной культуры «эпическое» и музыкальное (ср. далее о полифоническом). Дёблин писал:
…Форма рассказа — железный занавес, отделяющий читателя от автора. Этот железный занавес я советую поднять. […] Вправе ли автор в эпическом произведении со-говорить, вправе ли сам запрыгнуть в этот мир? Ответ: да, и вправе, и должен, и даже обязан. И сейчас я припоминаю, что это означает, что сделал Данте в «Божественной комедии»: он сам прошел сквозь свою поэму, он простукивал своих персонажей, вмешивался в события — и совсем не «понарошку», а на полном серьезе; и каждый персонаж, в свою очередь, понял его — в важнейшем месте посвященной ему песни. Данте принимал участие в жизни своих персонажей. Он, подобно царю Давиду, плясал перед победоносным воинством своих героев….
Не дело авторов — воровать факты из газет и вставлять их в свои произведения; этого недостаточно. Погони за фактами и фотографирования их недостаточно. Самому быть фактом и создавать себе для этого пространство в своих произведениях — вот что отличает хорошего автора, и потому сегодня я рекомендую ему, если речь идет об эпосе, сбросить давящую маску рассказа и делать внутри своего произведения все то, что он сочтет нужным[401].
Значение идеи эпического у Дёблина изучено довольно подробно[402]; стоит обратить внимание на генезис этой идеи у Пискатора, который провозгласил поворот к «эпическому» искусству раньше и который в более явном виде, чем Дёблин, считал «эпическое» эстетическим эквивалентом «политического».
Пискатор начинал свои эксперименты в конце 1910-х годов, будучи дадаистом по эстетическому сознанию и коммунистом и пацифистом — по политическим убеждениям. Собственно, коммунистом он стал именно вследствие своего пацифизма и категорического неприятия Первой мировой войны, которую он воспринимал как мировую катастрофу. Его книга «Политический театр» (1929) открывается набранной курсивом фразой: «Мое летосчисление начинается с 4 августа 1914 года»[403] — то есть со дня его призыва в германскую армию. После демобилизации, в 1919 году, Пискатор приехал в Берлин и был введен в круг дадаистов своим тогдашним другом, журналистом Виландом Херцфельде (1896–1988), незадолго до того, в 1916-м, основавшим авангардистское издательство «Malik-Verlag», впоследствии — одно из самых знаменитых немецких арт-издательств XX века. Виланд был родным братом Джона Хартфилда, чье настоящее имя, напомню, было Хельмут Херцфельд. Георг Гросс позже вспоминал, как Пискатор руководил «Дадаистским утренником» в 1920-м, «стоя на высокой режиссерской лестнице, словно на капитанском мостике»[404]. Даже в конце 1920-х, уже став твердокаменным коммунистом (как выяснилось впоследствии, не слишком надолго[405]), Пискатор защищал дадаизм как метод критики «буржуазного» общества и предрекал: «Мы увидим, как в грядущую войну снова будет торжествовать лживость буржуазного искусства»[406].
Уже в первых постановках 1920 года Пискатор начал использовать элементы, сознательно разрывавшие традиционные представления о театре: так, в постановке коллективно написанной пьесы о русской революции «День России» события комментировались с помощью висевшей на сцене карты. По словам Пискатора, спектакль должен был обращаться не только к эмоциям зрителя, но и к его рассудку[407] — впоследствии эту мантру Брехт повторял на протяжении нескольких десятилетий.
Период собственно эпического театра в творчестве Пискатора начался в 1924 году — сразу как монтажный — с постановки пьесы Альфонса Паке (1881–1944) «Знамена», о забастовке рабочих в Чикаго в 1880 году. Спектакль состоял из отдельных сцен, во время которых на сцене демонстрировались фрагменты кинофильмов, а с колосников спускались статистические таблицы и картины[408].
Сценическая техника Пискатора быстро эволюционировала и усложнялась. Его многочисленные эксперименты 1920-х стали возможными во многом потому, что режиссер обнаружил недюжинные таланты (как сказали бы сегодня) фандрайзера и находил щедрое финансирование для антибуржуазных постановок. В 1927 году он создал один из самых впечатляющих своих спектаклей — «Распутины, Романовы, война и восставший против них народ», сценарная основа была переработана из немецкого перевода новейшей на тот момент пьесы Алексея Толстого и Павла Щёголева «Заговор императрицы» (1927) — с учетом нашумевших воспоминаний посла Франции в Петрограде Жоржа-Мориса Палеолога «La Russie des Tsars pendant la grande guerre» (1922), которые произвели на Пискатора сильное впечатление[409].
Характерно, что в дневниковых записях склонный к эффектному стилю Палеолог называет историю «драматургом». Этому метафорическому отождествлению было суждено большое будущее в эстетике авангарда, к которому Палеолог, впоследствии обладатель кресла № 19 во Французской академии, не имел никакого отношения[410]. В 1960-е годы отдаленно похожие метафоры были актуализированы в формулировках наподобие такой: «Эйзенштейн, как и Маяковский, и Брехт, и Пикассо, был среди тех художников, которые сделали пружиной действия, конфликтом, сюжетом произведения искусства саму историю»[411].
«Театрально-историческая» метафорика предполагает именно кризис традиционной сюжетности, на смену которой приходит конструирование сюжета нового типа — из фрагментов и лейтмотивов, прообразами для которых становятся исторические события, не имеющие очевидных начала и конца, открытые в будущее.
В спектакле о Романовых и Распутине была применена «сегментно-глобусная сцена» (термин Пискатора): посреди сцены возвышалось огромное полушарие с двумя рядами откидных люков[412]. Оно вращалось и по очереди представляло зрителям отдельные сцены спектакля, разворачивавшиеся на двух уровнях — внутри сфера была двухэтажная[413]. Одновременно на экранах, которые спускались с колосников, демонстрировались кинофрагменты — художественные, снятые специально для спектакля, научно-популярные, с комментариями к биографиям действующих лиц и фактическим аспектам российской истории, и политические, объясняющие — с коммунистических позиций — смысл происходящих исторических событий (инженеры по заказу Пискатора разработали специальный синхронизатор для киноаппаратов, установленных в разных частях зала[414]). Столкновение и сопоставление кинематографических и театральных сцен и комментариев стало театральным эквивалентом монтажной эстетики.
«Я увидел, — писал Пискатор, — что нельзя объяснить ни одной малейшей политической интриги, ни одного шахматного хода Распутина без того, чтобы не обратиться к английской политике в Дарданеллах или к военным действиям на Западном фронте. Во мне жило навязчивое представление о земном шаре, на котором тесно переплетались все события, определенным образом связываясь друг с другом»[415].
В 1934 году Эзра Паунд опубликовал сборник стихотворений «Одиннадцать новых Cantos». Впоследствии вошедшие в него произведения он включил в окончательную редакцию «Cantos» как раздел «Кантос Джефферсона — Nuevo Mundo». Основные сюжеты этих Cantos взяты из американской истории XVIII–XX веков, но одно из стихотворений в значительной части является переводом канцоны Гвидо Кавальканти «Donna mi priegha», написанной около 1290 года[416]. В этих стихотворениях создается образ всеобщей политической связи, о которой говорит и Пискатор, политически — радикальный оппонент Паунда. Только Пискатор сделал одним из своих главных персонажей Распутина, а Паунд — Бэзила Захароффа (1849–1933), международного авантюриста, политического лоббиста и торговца оружием. О Захароффе говорили, что в конце XIX — начале XX века он подпитывал военные конфликты, чтобы продавать оружие обеим сторонам. Именно с Захароффа Паунд начинает в «Canto XVIII» свою галерею отрицательных персонажей, символизирующих ад, называет этого авантюриста Зеносом Метевски — одним из имен, под которыми, как считалось, Захарофф осуществлял свои тайные операции.
Чтобы показать, как именно Паунд строит эту связь с помощью монтажных приемов, необходимо привести длинную цитату.
…в тот год Метевски отправился в America del Sud (а Папа манерой держаться смахивал на мистера Джойса, Ватикан многому научил его, — прежде он не был таким) Маркони, как в старину, преклонил колени, ну просто Джимми Уокер во время молитвы. Его Святейшество учтиво полюбопытствовал, наблюдая, как Его Высочество выпускал электрические щелчки в атмосферу. Лукреции нужна была кроличья лапка, и он, Метевски, сказал одной из сторон (трое детей, пять абортов, пятый загнал ее в гроб) сказал им: «те ребята взяли больше оружия (так рабочие сигарных фабрик, чьи движения чересчур монотонны, могут производить необходимые операции почти машинально, и в то же самое время слушать чтецов, приглашенных, чтобы развлечь их во время работы; Декстер Кимбалл, 1929) Не покупайте, пока не дождетесь нас». И он пересек границу и сказал другой стороне: «У них больше оружия, не покупайте, пока не дождетесь нас». […] И два афганца оказались в Женеве, Хотели выяснить, не продается ли оружие по дешевке, Так как слышали, что некто должен разоружаться. («Canto XXXVIII», неопубликованный перевод Я. Пробштейна[417])Паунда невозможно считать участником движения ЭППИ в том же смысле, в каком ими были Дж. Дос Пассос или Вс. Вишневский, при всем различии между ними, так как тексты Паунда намного сложнее, чем у остальных участников ЭППИ. Тем не менее «Одиннадцать новых Cantos» довольно заметно перекликаются с тогдашними произведениями авторов ЭППИ сразу по многим признакам.
«Эпическая глобализация» была характерна для всего направления ЭППИ, вплоть до его последнего представителя — Александра Солженицына.
* * *
Слова «эпос» и «эпическое» в 1920–1930-е годы и в советской критике, и в европейской левой эстетике использовались в двух разных значениях, которые первоначально были близки, но со временем все более расходились. Одновременно с авангардными теориями Ланиа, Пискатора, Брехта и Дёблина в СССР появились призывы создать «новый эпос» как историческую мифологию «победившего класса». Историю этого советского понимания слова «эпос» исследовал Константин Богданов. «О необходимости „большого эпоса“ в пролетарской литературе рассуждал, в частности, А. Луначарский, приветствуя в 1924 году на страницах журнала „Октябрь“… появление больших поэм Александра Жарова и Ивана Доронина. […] Единомышленники Луначарского и Безыменского, группировавшиеся вокруг журнала „Октябрь“, настаивают на жанровых и поэтических достоинствах эпоса, не имеющего себе равных в литературе по объективности, широте замысла и величественности»[418].
В советском, как и в левом западноевропейском контексте слово «эпос» обозначало искусство антиперсоналистическое, не центрированное вокруг фигур одного или нескольких главных героев. В обоих случаях «эпос» понимался как реакция на исторические катаклизмы, которые требовали для своего понимания новой организации нарратива.
Но советское понимание эпоса было антиавангардистским и антианалитическим. Для Брехта и Дёблина архаическая мифология была материалом, требующим при использовании критического взгляда. Для советских «эпиков», включая таких изощренных философов культуры, как живший тогда (в 1933–1945 годах) в СССР Георг Лукач и его младший друг Михаил Лифшиц, современная действительность, возрождавшая на новом уровне черты архаического общества, была местом буквального сотворения новой мифологии[419].
Это второе понимание слова «эпос» было необходимо не для преобразования модернистской эстетики, а для ее вытеснения из советской культуры. Попутно «советская эпичность» заслонила модернистскую концепцию новой эпичности, которая в СССР была усвоена лучше всего в фотографических экспериментах по созданию монтажных серий, документирующих повседневную жизнь «обычного» человека. Двойственности значения слово «эпос» не учитывает А. Фоменко: он полагает, что «концепция „нового эпоса“» в советском искусстве может быть интерпретирована в контексте или авангарда, или соцреализма[420]. Однако в действительности, по-видимому, «эпичностей» в тогдашнем искусстве было несколько.
Полифоническое: предыстория
Гриффит называл свой фильм «Нетерпимость» «кинематографической фугой», чтобы подчеркнуть его аналогии с жанром полифонической музыки, в котором несколько голосов повторяют тему, часто варьируя ее.
В русской культуре первым «музыкальные» метафоры к монтажу применил, по-видимому, Дзига Вертов. В 1928 году он писал о своем фильме «Шестая часть мира», что в нем «…надписи как бы вынесены за скобки картины и выделены в контрапунктически построенную слово-радио-тему»[421], тогда же написал заявку на сценарий «Человека с киноаппаратом», где охарактеризовал будущий фильм как «зрительную симфонию»[422]. Вспоминая в 1929 году свою работу предшествующего десятилетия, он писал: «Большинство „киноглазовских“[423] фильмов строилось либо как симфония труда, либо как симфония всей Советской страны, либо как симфония отдельного города»[424]. В 1930 году Вертов снял первый свой звуковой фильм — как и прежние, документальный — с программным названием «Энтузиазм: симфония Донбасса». О музыкальных метафорах, введенных Дёблином в работе «Структура эпического произведения», уже сказано.
Чуть позже, в 1930-х, метафору полифонии, как уже сказано, для объяснения монтажа использовал Иеремей Иоффе — возможно, с оглядкой на вертовскую «Симфонию Донбасса».
Современный киновед Н. И. Клейман обращает внимание на структурное сходство монтажных принципов Эйзенштейна и многоголосия в музыке. Режиссер испытал прямое влияние работы Альберта Швейцера о музыкальной эстетике Баха[425].
Центральными фигурами ЭППИ являются Сергей Эйзенштейн и Бертольт Брехт. Лени Рифеншталь приспосабливает основные принципы ЭППИ к собственной эстетике, сильно видоизменяя: в ее фильмах исторический конфликт предстает как уже преодоленный, оставшийся в прошлом (ср. с тем, насколько в пьесах Брехта и фильмах Эйзенштейна значимо изображение врагов главных действующих лиц). Например, «Триумф воли» (1935) открывается титрами: «Через 20 лет после начала мировой войны, / Через 16 лет после начала страданий немецкого народа, / Через 19 месяцев после начала немецкого возрождения…»
Эквивалентом осмысления страданий, характерного для фильмов Эйзенштейна, или психологического кризиса, своего рода «метанойи» пьес Брехта, — у Рифеншталь становится телесный экстаз. Действующее в ее фильмах множество людей не полифонично, но это отсутствие полифоничности — «минус-прием»: персонажи сливаются в многоликое коллективное тело, совмещающее черты древности и современности: ср., например, сцены коллективного умывания полуголых юношей, или факельные марши в «Триумфе воли», или сцены прыжков, тренировок, совместных медитаций обнаженных спортсменок в «Олимпии».
Без упоминания Рифеншталь список будет, видимо, неполным, так как даже из ее фильмов видно, что главным «архетипическим» событием в произведении ЭППИ является революция — понимаемая не как политическая трансформация, но как антропологическая утопия. Если же причислять Паунда и Рифеншталь к этому направлению, становится ясно, что ЭППИ, при всей своей революционности, не обязательно связано с левой мыслью марксистского толка.
Философским предвосхищением ЭППИ были концепции Анри Бергсона, противопоставившего реальность как нерасчлененное творческое становление — и ее восприятие человеком в виде отдельных кинематографических «кадров». История влияния Бергсона на русскую культуру исследована пока не слишком подробно[426], однако в научной литературе уже обсуждалось воздействие работ философа и его диалектики непрерывного и прерывистого на русских формалистов, в частности на их представления о кино[427].
Связь поэтики Эйзенштейна с философией Бергсона Жиль Делёз проанализировал в первом томе своей книги «Cinéma»: «Сингулярное [в кинематографе] берется из произвольного, им может быть что угодно, лишь бы оно было попросту необычным или незаурядным. Сам Эйзенштейн ясно указал, что „пафос“ предполагает „органичность“ как организованную совокупность произвольно взятых моментов, где должны пройти разрывы»[428].
Философия Бергсона была одним из путей критического преодоления гегельянского прогрессизма и телеологизма. ЭППИ стало своего рода реваншем телеологизма в эпоху модернистского искусства и прививкой прогрессизма к бергсоновской эстетике. Даже Паунд, несмотря на свою программную тягу к средневековью и к идее возвращающихся сюжетов в истории, тоже был не чужд прогрессизму.
Политическое: семантика и прагматика
О политизации искусства, прежде всего модернистского, в XX веке написано огромное количество работ[429]. Две причины этого процесса хорошо изучены — это развитие массовых политических движений и усилившееся вовлечение писателей и художников в политическую деятельность — в том числе и в такую, которая предполагает прямое использование насилия (революция, терроризм, гражданские войны)[430]. Однако у этой трансформации сферы искусства были и другие, менее очевидные причины.
Первая треть XX века стала временем резко усилившегося участия масс в политических изменениях и, шире, в историческом процессе. Эта трансформация была направлена и использована идеологами массовых революционных движений, например, В. И. Лениным и Л. Д. Троцким, которые анализировали и пропагандировали собственные практические достижения (Ленин — «Две тактики социал-демократии в демократической революции», 1905; «Государство и революция», 1917; Троцкий — «Наша революция», 1906), позже — обсуждена социальными мыслителями 1920-х — начала 1930-х годов. Тогда же был опубликован ряд работ, самые известные из которых — «Восстание масс» (1929) Х. Ортеги-и-Гассета и — при всей одиозности этой книги — «Рабочий. Господство и гештальт» (1932) Э. Юнгера. Журналисты, социологи, философы указывали на историческую новизну участия «человека толпы» в политических событиях, но меньше замечали, что для этого человека само участие было пугающим, непривычным, стрессовым переживанием. Новый коллективный опыт вступал в сложные, часто конфликтные отношения с устоявшимися в XIX — начале XX века практиками повседневной жизни.
По-видимому, одним из первых это понял Альфред Дёблин — еще до Первой мировой войны! — размышляя над результатами Синьхайской революции 1911–1912 годов в Китае, в результате которой в стране была свергнута власть династии Цин и установлена республика. Это стало возможным благодаря участию огромных масс населения. В 1912–1913 годах Дёблин написал свой первый роман, стилистически новаторский, но еще не вполне монтажный[431] — «Три прыжка Ван Луня», — сюжетом которого стало восстание китайской религиозной секты «Учение белого лотоса» под руководством Ван Луня — историческое событие, произошедшее в 1774 году.
Понимание «массовизации истории» было бы еще крайне затруднительным даже для наиболее трезво мыслящих об истории людей XIX века — например, для А. И. Герцена, который еще в середине столетия размышлял об участии масс во Французской революции 1848 года и полагал резкую границу между собой и «человеком толпы»:
Народы, массы — это стихии, океаниды; их путь — путь природы, они, ее ближайшие преемники, влекутся темным инстинктом, безотчетными страстями, упорно хранят то, до чего достигли, хотя бы оно было дурно; ринутые в движение, они неотразимо увлекают с собою или давят все, что попало на дороге, хотя бы оно было хорошо[432].
Впечатляющий контраст к этому высказыванию составляет статья утонченной модернистки Вирджинии Вулф «Почему искусство сегодня следует за политикой», опубликованная в левой газете «The Daily Worker» 14 декабря 1936 года. По тогдашнему мнению Вулф, существует скрытый договор между художником и обществом, его «казначеем и патроном»: «…даже если его усилия остаются безрезультатными, он не равнодушен. […] Художник так же взволнован, как и другие граждане, когда общество в хаосе, но беспокойство влияет на него иначе, чем на других». У него или у нее нет другого выбора, как реагировать на политические события, так как при обострении политической ситуации и наступлении диктатуры под вопросом оказывается выживание самого художника и его/ее искусства[433].
Вулф писала с точки зрения свободного человека, осознанно выбравшего политическое участие. Значительная часть модернистов 1930-х годов считала себя поставленными на службу тому или иному политическому движению — прежде всего коммунизму или фашизму. Их произведения не только подталкивали людей к политическому действию, но также оправдывали его и помогали справиться с разрывом прежних социальных связей.
Наиболее распространенным, хотя и не единственным методом коллективной терапии стало отождествление политического участия с обращением в новую религиозную веру, которая дает индивиду новое чувство «я» и новых братьев и сестер — единоверцев. (Как показали Эрик Фёгелин и другие философы, некоторые влиятельные политические идеологии XX века, в первую очередь тоталитарные, могут быть названы по типу своего воздействия на личность «политическими религиями»[434].) Однако эта «терапия» не помогала до конца преодолеть когнитивный разрыв между новыми и старыми практиками социального участия — в частности, потому, что и в межвоенном обществе этот разрыв сохранялся и воспроизводился.
Монтаж был одним из важнейших методов реструктурирования мира в искусстве. В политических произведениях искусства это реструктурирование имело моделирующую функцию: оно было призвано организовать в новом порядке идеологические знаки, элементы старого и нового опыта — социального, исторического и эстетического.
Принципы такой организации хорошо видны, например, в драматургическом творчестве Всеволода Вишневского (1901–1951). Его пьеса «Последний решительный» (1931, название — аллюзия на строки русского перевода «Интернационала»: «Это есть наш последний / И решительный бой…»[435]) построена по монтажному принципу. Ее открывает пародия на «матросскую оперу», а эту пародию резко сменяет агитационная пьеса-утопия. На сцену выбегают «настоящие» матросы и с шутками прогоняют «оперных», после чего разыгрывается сюжет, состоящий из отдельных сцен-фрагментов. Двое матросов в увольнении на берегу увлеклись молодой женщиной, опоздали к перекличке и посажены под арест; в это время империалистические государства начинают войну против СССР. Моряки начинают сражаться против превосходящих сил противника и погибают. Действие перебивается репликами «ведущего», или «вестника» (этот прием — участие в пьесе «ведущих», исполняющих функции хора в греческой трагедии или комедии, — Вишневский использовал и в прологе к «Оптимистической трагедии» (1932)).
Вестник. Отряд идет! Отряд идет!
…Ритм, боевой ритм. Алая линия, мерно вздрагивая, идет к границе, видимой на огромной карте…
Вестник: Тревога! Тревога! По Союзу тревога, товарищи. Бойцы первой пограничной линии одни лицом к лицу с армиями врага.
Второй вестник: Одни ли?
И тогда на карте вспыхивают алые, горящие точки городов… Загораются десятки точек… Пульсируют линии. Горят гневом боя промышленные районы, потом Волга, Урал, Сибирь, Дальний [Восток]. Весь СССР!
Карта стала экраном. Как глыбы, как скалы, как горы высятся индустриальные массивы… На камни улиц выходят рабочие… Старики красноармейцы возвращаются в боевые ряды, ведя с собой сыновей[436].
(В постановке Вс. Э. Мейерхольда действие не один раз, как в пьесе, а пятикратно прерывалось кинофрагментами, в чем можно усмотреть очевидное влияние Эйзенштейна и Пискатора[437].)
Вишневский прямо показывает, что частная жизнь без разрешения военного командования опасна и преступна, так как не учитывает интересов страны — «осажденного лагеря». Частная жизнь, интрижка двух моряков, в пьесе предстает таким же вредным увлечением, как и мелодраматические вкусы: женщина, обворожившая героев, называет себя Кармен, они — Жан Вальжан и Анатоль Эдуард. Задача «Последнего решительного» в авторском предисловии определена так:
В пьесе я ставил ряд военно-политических задач, стремящихся направить массового зрителя и читателя в русло верных эмоциональных и идеологических движений, сопряженных с моментами военной опасности, так отчетливо-грозно определяющейся сейчас.
В пьесе я ставил себе и ряд чисто драматургических, литературных задач. […] Пьеса есть отрицание оперных форм. […]
…Я стремлюсь к предельной активизации и, следуя основной задаче — военизации зрителя…[438]
Пьеса должна была, по замыслу Вишневского, завершаться реальным военным смотром, в котором грань между игрой и реальностью исчезала, а авторские ремарки программируют реакцию публики:
Выходит посланец Красной армии — командир корабля — краснознаменец[439], проводивший охотников:
— Застава номер шесть и охотники краснофлотцы и пограничники погибли. Нам нужно других. От имени командования обращаюсь к вам всем. Сделаю поверку боеготовности всех присутствующих здесь в зале. Буду вызывать по группам и вызванных прошу вставать. Первыми прошу встать краснознаменцев, далее бывших красногвардейцев и красных партизан!
Они встают — старейшие бойцы Революции.
— Далее прошу встать всех присутствующих здесь командиров, политработников и рядовых бойцов Красной Армии и Красного Флота.
Они встают. […]
— Прошу встать, наконец, наравне с бойцами, всех женщин и всех, готовых к защите Союза! Вставайте, вставайте все!
В зал льется свет…
Встают все.
— Прошу встать, наконец, работников данного театра!
Встают сделавшие спектакль товарищи, с оружием в руках[440].
Такой финал — крайний, но не случайный пример политизации искусства и соединения политического искусства и монтажа. По-видимому, в первой половине 1930-х Вишневский считал себя одновременно военным специалистом, работающим в литературе по заданию Реввоенсовета[441], и участником международного левого культурного движения. Это странное двойственное самосознание имело прямые последствия в литературном поведении драматурга. Вишневский известен своими грубыми печатными нападками на Михаила Булгакова (в романе «Мастер и Маргарита» он выведен под прозрачным псевдонимом Мстислав Лаврович[442]) — менее известно, что «забияка Вишневский» (как его назвали И. Ильф и Е. Петров) помогал деньгами ссыльному Мандельштаму, а в 1936 году, будучи в Париже, попросил Джойса о встрече и рассказывал тому, что в СССР переведены и обсуждаются его основные произведения. По возвращении Вишневский напечатал в журнале «Знамя» благожелательный отчет о своих парижских встречах, в том числе и с Джойсом.
Уверяя Джойса в том, что в СССР его знают и любят, Вишневский не лгал, но говорил полуправду. С одной стороны, К. Радек в своем выступлении на Первом съезде писателей задал риторический вопрос «Джеймс Джойс или социалистический реализм?»[443], после которого любое сравнение советского писателя с Джойсом стало формой идеологического доноса, с другой стороны — уже после этого разговора, в 1937 году, в Москве в самом деле вышел сборник рассказов Джойса «Дублинцы»[444], после чего Джойса в СССР не печатали на протяжении нескольких десятилетий.
Можно было бы счесть, что Вишневский просто стремился использовать символический капитал Джойса для привлечения симпатий к СССР — если бы не предшествующие их встрече события. Так, конкурент Вишневского в советской драматургии Владимир Киршон, рецензируя в «Известиях» его пьесу «На Западе бой» (1933), клеймил коллегу за подражание Джойсу, которого автор пьесы якобы даже и не читал, а знал в пересказе[445]. Дотошный Вишневский, вероятно, именно на это обвинение в верхоглядстве обиделся сильнее всего. Он ответил Киршону в личном письме:
Ты грубо ведешь себя… Попробуй прочесть Джойса (трех периодов: 1912, 1922, 1932–1933 гг.), дай анализ и выступи с публичной оценкой объекта, который вас так тревожит и раздражает… Ты долбишь в запале о классическом наследстве. Очевидно, где-то наследство внезапно кончается (на Чехове?) и дальше… идет всеобщая запретная зона! «Тут плохо, и не ступите сюда»… Но как все-таки быть: существует мир, человечество, классы, идет борьба. Есть искусство (Чаплин, Гриффит, Джойс, Пруст, Барбюс, Жироду, Ремарк, Роллан, Уэллс, Тагор, Киплинг и др.). Оно сложно, в нем непрерывные столкновения и изменения… Не было «запретных» книг для Маркса, Ленина. В познании жизни надо брать все. (Дело уменья, конечно)[446].
Вишневский с детства в совершенстве владел немецким (он провел много времени в немецком предместье Риги[447]), уже взрослым человеком выучил французский и английский и «Улисс», насколько можно судить, прочитал в подлиннике в 1932 году[448]. В 1920-х годах он много читал современную ему европейскую литературу, в первую очередь немецкую[449], и этим принципиально отличался от других рапповских писателей — в том числе от своего многолетнего оппонента В. Киршона. Впоследствии, в 1949-м, Вишневский написал одиозную соцреалистическую пьесу «Незабываемый 1919-й» (к 70-летию И. В. Сталина), поощренную Сталинской премией I степени. В этом опусе он сознательно отказывался от любого соотнесения своего творчества с новой западноевропейской культурой: пьеса, в отличие от прежних сочинений Вишневского, лишена всяких апелляций к условному театру и монтажу, ее стиль — прямолинейно-дидактический, повествование — линейное. Пьеса даже разделена на акты, как и принято в классической драматургии, а не на эпизоды или фрагменты, как довоенные сочинения Вишневского, Киршона и других более или менее инновативных драматургов.
Раннее творчество Вишневского, в особенности пьеса «Последний решительный», может быть рассмотрено как своего рода полюс, крайняя точка ЭППИ. По своему прагматическому смыслу эпическое монтажное искусство 1930–1940-х годов располагается между двумя задачами: 1) прямой мобилизации читателя и зрителя, как у Вишневского, и 2) критического осмысления социальной действительности — как это было в случае Дёблина. Но у этих задач есть общая смысловая основа: их решение возможно при условии анализа и реструктурирования всего прежнего социального опыта адресата художественного произведения. Направление этого реструктурирования могло определяться партийной принадлежностью, конкретной политической идеологией или критическим настроем автора, требовавшим установления более справедливого общества — как это было в случае А. Дёблина или Дж. Дос Пассоса.
Предположение о том, что существовало эстетическое движение, в которое можно было бы включить таких несовместимых авторов, как Всеволод Вишневский и Эзра Паунд, выглядит натяжкой. Однако стоит обратить внимание на то, что оба они высоко ценили Джойса. Джойс как пример специфически современного художника был для ЭППИ своего рода «пустым центром»: в «Улиссе» он дал эстетические средства для политизированных художников, но сам в том же произведении отказался от телеологического взгляда на историю, который несла с собой политизация искусства. В тот период, когда его хвалил милитарист Вишневский, Джойс работал над «Поминками по Финнегану» — одним из самых герметичных произведений в литературе XX века.
«Смягченный» авангард как периферия соцреализма
Предположение о существовании пусть и размытого, но все же имеющего общие черты международного движения ЭППИ позволяет пересмотреть концепцию истории советского искусства, которая получила широкое признание после выхода в 1980-х годах работ Владимира Паперного и Бориса Гройса. И Паперный, и Гройс показывают, что произошедший в 1930-е годы в советском искусстве отказ от распространенной в 1920-е годы авангардной эстетики был тотальным.
Выводы обширных исследований Паперного и Гройса были предвосхищены в эскизных работах левых антитоталитарных критиков 1930-х годов — например, «Авангард и китч» Клемента Гринберга (1939). Американский искусствовед настаивал: авангард, идеологически связанный с социалистическим движением, не может существовать в условиях советского, равно как и фашистского тоталитаризма[450].
В работах, опубликованных после книги «Стиль Сталин», Б. Гройс задался вопросом, что пришло на смену авангарду: только ли тоталитарная соцреалистическая эстетика, или же ее дополняли некоторые нетоталитарные исключения, существовавшие вне официального контекста? Одним из таких исключений Гройс счел позднее творчество Казимира Малевича, которое в 1930-е годы, по его мнению, теряет авангардность, но приобретает «предпостмодернистские» черты — например, в нем появляется постоянный мотив игры с переосмысленными художественными стилями давно ушедших эпох[451]. Однако Гройс, интересуясь в первую очередь общими закономерностями развития культуры, не стал обсуждать, стоят ли за работой позднего Малевича и других аналогичных авторов какие-то «правила исключения», — как по другому поводу выразился Михаил Айзенберг:
…Новейшая история литературы, искусства, да и жизни страны в критической точке перелома (в 1950-е годы. — И.К.) — это история сравнительно небольшого числа людей, решившихся на какое-то необщее состояние, на другое качество жизни. Им нужно было оттолкнуться от любого существующего или существовавшего «образа и подобия». Нужно было найтись там, где никто никогда не искал.
Искусство здесь легло в основу особой жизненной позиции, позволяющей нарабатывать какие-то навыки существования внутри общества, но не по его законам. Новые авторы (они же — новые люди) искали не правила и не исключения, но — правила исключения[452].
Поскольку монтаж принято считать авангардистским приемом или методом, до недавнего времени неоднократно высказывалось мнение о том, что в 1930-е годы он был вытеснен из искусства или в единичных случаях поставлен на службу тоталитарному режиму, так как в самой его эстетике были заложены насильственные, в предельном выражении — тоталитарные потенции; иначе говоря, эстетический авторитаризм оказался побежден или (по мысли А. Жолковского) интегрирован политическим тоталитаризмом[453].
Сюжеты, описанные в этой главе, позволяют оспорить это общее представление об эволюции авангарда и монтажа по трем пунктам.
1. Монтаж в советской культуре 1930-х встречается гораздо реже, чем в 1920-х, но его использование в целях сталинистской пропаганды было не исключением, а скорее правилом. Адептами монтажа оставались не только Эйзенштейн, но и многочисленные художники-плакатисты.
2. Монтаж и в 1920-е, и в 1930-е годы не был связан только с авангардом, тем более с идеологизированным авангардом. Именно «другие» типы существования монтажа составляли ресурс развития новаторских эстетик, генетически связанных с модернизмом.
3. Традиция авангардного монтажа в русской культуре 1930–1940-х годов продолжала развиваться — хотя и в очень «усеченном» виде.
Исследования, позволяющие обсудить применимость концепции «общего конца авангарда», появились в 2000-е годы[454]. Чтобы продолжить эту дискуссию, имеет смысл проследить специфические преломления авангардной эстетики в разных видах искусства: ведь выводы Паперного сделаны на материале истории архитектуры, а выводы Гройса — на материале истории визуальных искусств, и их перенос на развитие других видов искусства не может быть «автоматическим». Так, Евгений Добренко в своей книге «Музей революции: Советское кино и сталинский исторический нарратив» показывает, каким образом элементы авангардной эстетики в переосмысленном виде сохранялись у некоторых режиссеров советского кино — и не только у Сергея Эйзенштейна, но и, например, у Марка Донского и Михаила Ромма.
Подобная ситуация сложилась и в советской музыке, где кроме таких «табуированных», почти не исполнявшихся композиторов, как крайне левый по своим взглядам Николай Рославец[455], в публичном пространстве присутствовали — хотя и регулярно подвергались официальным нападкам — авторы, активно развивавшие традиции авангардной эстетики 1920-х, прежде всего Дмитрий Шостакович.
В поэзии конца 1930-х авангардные формы в рамках тоталитарной в целом эстетики стремились воспроизводить ученики конструктивистов Ильи Сельвинского и Владимира Луговского — Михаил Кульчицкий, Павел Коган, ранний Михаил Луконин и некоторые другие[456].
Авторы ЭППИ оказали влияние на Шостаковича (см. особенно его Седьмую симфонию[457]) и участвовали в выработке международного языка левого искусства. Это был не единственный и не последний случай участия советских художников в международных арт-движениях, связанных по происхождению с левыми политическими группами: в 1950-е годы, при гораздо меньшей информации о том, что происходило на Западе, несколько молодых поэтов в СССР создали движение авторской песни — неожиданно совпав в своих поисках с левыми французскими шансонье и американскими «songwriters». Их идеологические и эстетические переклички и возможные причины их появления изучил Росен Джагалов[458].
Вероятно, В. Паперный и Б. Гройс правы в том, что в «мейнстриме» советского искусства переход к тоталитарной культуре имел характер «вытеснения» авангардной эстетики. Однако это вытеснение даже в рамках легальной культуры (не говоря уже о неофициальной) никогда не было полным. Некоторые авангардные авторы отказались быть соцреалистами и относились к соцреализму резко критически — прежде всего обэриуты — Д. Хармс и А. Введенский[459], а также генетически связанные с авангардом Андрей Егунов, Всеволод Петров[460] и др. В последние предвоенные годы в русской литературе появилось еще более необычное явление — поэты и прозаики, выросшие уже при советской власти и выработавшие несоветские формы письма. Творчество этих людей (Я. Сатуновского, П. Зальцмана, А. Белинкова и др.) стало новым этапом в развитии русского модернизма и русской неподцензурной литературы советского времени[461]. ЭППИ в СССР может быть рассмотрено как своего рода компромиссный, промежуточный вариант между радикализмом неподцензурной литературы и сервильностью соцреализма.
Этот компромисс между двумя типами эстетики, впрочем, не был единственным. Другие варианты компромисса представляют, например, проза Ильи Эренбурга («Буря», 1947) или Веры Пановой («Времена года», 1953) с их нетривиальными, по меркам официальной литературы, психологизмом и социальной аналитичностью.
Советская эстетика сталинского времени не могла быть толерантной, но она была многосоставной. «Смягченный авангард» допускался на ее периферии по многим причинам: от необходимости для властей поддерживать «экспортный» вариант советского искусства (на это обстоятельство применительно к музыке Шостаковича и Прокофьева указывал Юрий Елагин еще в 1952 году[462]) до согласия Сталина и его окружения до поры до времени позволять ограниченные эстетические эксперименты тем авторам, кого они воспринимали как проводников официальной пропаганды. Прежде всего это относится к Эйзенштейну до 1946 года. Сам он, кажется, сохранял утопические взгляды, характерные для эпохи раннего авангарда, но к господствующей эстетике и действиям сталинского режима в последние годы жизни относился, насколько можно судить, резко критически. В январе 1946 года в ответ на поздравление актера Михаила Кузнецова со Сталинской премией за первую серию «Ивана Грозного»: «Старик, наше дело правое!» — он спокойно ответил: «Ошибаешься, Мишаня. Наше дело левое, но случайно оказалось правым»[463].
Левые варианты ЭППИ, сложившиеся в 1930-е годы, в западном контексте оказались способом рефлексии наследия авангарда начала XX века с помощью критики господствующих идеологий. Однако левые художники, развивая идеи ЭППИ, наталкивались здесь на психологический барьер: они не считали для себя возможным публично критиковать СССР или отказаться от поддержки коминтерновских партий (не от фактического расхождения с официальными взглядами коммунистов; декларативный отказ от солидаризации с ними был более сильным жестом). Дёблин никогда не отождествлял себя с коммунистами, и поэтому для него такого препятствия не было, но биографии Дж. Дос Пассоса и Б. Брехта демонстрируют действие этого психологического барьера: разрыв Дос Пассоса с просоветскими симпатиями стал переломом в его литературной биографии, а Брехт так и не решился обнародовать свои критические заметки об СССР. В записях конца 1930-х годов, сделанных во время Московских судебных процессов для философского трактата «Ме-ти. Книга перемен», Брехт в иносказательной форме защищал позицию СССР и Коминтерна и критиковал Сталина. Драматург стилизует в этом трактате свои размышления под записи ученика китайского философа Ме-ти, или Мo-Цзы (ок. 470 — ок. 391 до н. э.) — подобно своему старшему коллеге Дёблину, который считал свой роман «Три прыжка Ван Луня» приношением Ле-Цзы[464]. Согласно записям учеников исторического Мо-Цзы, он проповедовал всеобщую любовь друг к другу и необходимость отказа от завоевательных войн, а также призывал отказываться от напрасных трат и считал бессмысленными занятия музыкой.
Ме-ти («философская ипостась» Брехта. — И.К.) порицал Ни-эня [Сталина] за то, что при проведении судебных процессов против своих врагов внутри Союза он требовал от народа чересчур много доверия. Он говорил: если от меня требуют, чтобы я (без доказательства) верил в нечто доказуемое, то это все равно, что требовать от меня, чтобы я верил в нечто недоказуемое. Я этого не сделаю. Ни-энь, возможно, принес пользу народу, удалив своих врагов из Союза, но он не доказал этого. Бездоказательным процессом он нанес ущерб народу. Ему следовало бы научить народ требовать доказательств, и в особенности от него, как человека, в общем, столь полезного. […] Ни-энь вел себя, точно какой-то царь. В этом еще раз проявилась отсталость страны Су [России], о которой постоянно говорил Ми-энь-ле [Ленин][465].
Этот трактат так и не был закончен, а издан только посмертно — в 1965 году.
В советском контексте ЭППИ стало формой выживания авангардистской эстетики. Существование в легальном пространстве таких авторов, как Эйзенштейн и Шостакович, показывает, что тоталитарная культура, не переставая быть тоталитарной, никогда не становилась полностью закрытой — в ней были «зоны», формально допускавшие участие художников в более широких международных движениях леворадикального характера. Но вот тем, кто стремился к такому участию на деле, приходилось очень несладко — или они, подобно Вишневскому и во многом В. Шкловскому, были вынуждены полностью сдавать прежние позиции.
ЭППИ vs «социалистический неоклассицизм»
Позволю себе сделать отступление, необходимое для более точного описания скрытых дискуссий внутри соцреализма. ЭППИ, подрывавшее «Культуру Два» «слева», не было единственным международным движением, в котором участвовали художники сталинского времени. Другим таким направлением — но уже не в искусстве, а в эстетике — стала философская концепция, разработанная Георгом Лукачем и Михаилом Лифшицем и оппозиционная «Культуре Два» «справа», — ее можно назвать социалистическим неоклассицизмом. Лукач яростно спорил с Брехтом и Блохом (который в юности был его ближайшим другом) и в своих статьях обвинял первого — в «абстрактности» и в неоправданном рационализме, а второго — в проповеди релятивизма[466].
И Лукач, и Лифшиц были противниками авангардного искусства и защитниками консервативно мыслящих художников, от О. де Бальзака до Ф. И. Тютчева. На страницах журнала «Литературный критик» Лукач и Лифшиц доказывали, что произведение может быть «народным» вопреки «реакционной» позиции его автора — как, например, романы роялиста Бальзака. Их оппонентов, более соответствовавших «генеральной линии», называли «благодаристами». «Благодаристы» полагали (в частности, на примере творчества Виктора Гюго), что произведение может быть «прогрессивным» только благодаря «правильной» позиции его автора[467].
Особенность тоталитарной ситуации состояла в том, что в ней любое публичное отклонение от «генеральной линии» воспринималось как революционное. В документальном фильме «Подстрочник» переводчица и писательница Лилиана Лунгина вспоминала о том, что на публичных диспутах «вопрекистов» с «благодаристами» в Институте философии, литературы и истории (ИФЛИ) в 1940 году молодые люди, претендовавшие на наследование революционных традиций, поддержали именно «вопрекистов», которые были настроены против авангардного искусства, но обосновывали возможность обращения к более широкому, чем было допущено в конце 1930-х, диапазону эстетических образцов[468].
Наряду с социалистическим неоклассицизмом Лукача и Лифшица, эклектической имитацией классических и маньеристских форм в архитектуре соцреализма[469] и описанным выше ЭППИ в 1930-е годы продолжали развиваться и различные варианты авангардной эстетики, в том числе и использовавшие монтажные принципы. Однако выжить они могли только в условиях неподцензурной литературы.
ЧАСТЬ II Постутопический монтаж
Глава 5 Подземные ручьи: постутопический монтаж в неподцензурной литературе
Эта глава посвящена творчеству авторов, которые продолжили в конце 1930-х и в 1940-е годы эстетику постутопического монтажа. Их было совсем немного — и каждый из них в своей эстетической и исторической рефлексии был далеко не так последователен и радикален, как В. Беньямин или О. Мандельштам. Однако все они писали, не принимая во внимание цензурные ограничения своего времени и почти или совсем не рассчитывая на публикацию. Три параграфа этой главы посвящены трем, на мой взгляд, наиболее репрезентативным фигурам в истории переосмысления эстетики монтажа: Владимиру Луговскому, Аркадию Белинкову и Даниилу Андрееву.
Владимир Луговской: эпос потерпевших
Общественная репутация Владимира Луговского (1901–1957) менялась несколько раз — как при его жизни, так и после смерти. В 1920-х годах он был членом ЛЦК — Литературного центра конструктивистов. К его ранним стихам с одобрением относился Борис Пастернак. В 1930 году Луговской опубликовал стихотворную книгу «Страдания моих друзей», в которой обрушился на своих бывших единомышленников с нападками за мещанство и непонимание героического начала, определяющего советскую жизнь, вышел из ЛЦК, был включен в руководство РАПП, стал одним из организаторов ЛОКАФ (Литературного объединения Красной армии и флота) — и заслужил среди хоть сколько-нибудь независимых писателей репутацию конформиста и карьериста. Историк Леонид Максименков высказал предположение, что Луговской мог быть секретным сотрудником НКВД и выполнять задание «органов» во время своей поездки в Западную Европу в 1936 году — тогда он побывал в Лондоне, Париже и Берлине[470]. Однако, несмотря на все его попытки сотрудничества с властью, в постановлении правления Союза писателей СССР 1937 года стихи Луговского были заклеймлены как антипатриотические. Луговской публично покаялся в инкриминированных ему идеологических прегрешениях. В 1941 году поэт стал фронтовым корреспондентом, но тяжело заболел и был отправлен в эвакуацию в Среднюю Азию. Константин Симонов, видевший его в Москве после возвращения с фронта, впоследствии писал в частном письме литературоведу Льву Левину, что Луговской пережил затяжной душевный кризис из-за тех ужасных картин, что увидел на фронте.
Писатель-диссидент Владимир Корнилов утверждал, что Луговской, руководивший поэтическим семинаром в Литературном институте им. Горького, где занимался Корнилов, в 1948 году написал на него донос в ректорат. Причиной доноса стала поэма Корнилова, в которой описывался героический подвиг, совершенный во время войны старым евреем-партизаном: Луговской обвинил молодого поэта в «еврейском буржуазном национализме». Корнилова спасло от исключения из института только то, что мэтра вскоре после отправки доноса самого уволили с работы «за моральное разложение и пьянство»[471].
В 1958 году, через год после смерти Луговского, был опубликован его цикл поэм «Середина века». Эти тексты в значительной части были написаны «в стол» в 1930–1940-е годы, доработаны в последние годы жизни и демонстрировали последовательное этическое дистанцирование от сталинского режима и от покорного ему общества.
Однако значительная часть написанного Луговским в 1930–1950-е годы в книгу не вошла. Эти стихотворения и прозаические наброски — в целом более радикальные политически, этически и/или эстетически, чем включенные в «Середину века», — публиковались потом в различных изданиях на протяжении 1960-х годов. Некоторые из них настолько «непроходимы» по советским меркам[472], что факт этих публикаций можно объяснить только восприятием Луговского как стропроцентно советского поэта. История создания этой книги и не вошедших в нее, но близких по поэтике текстов была тщательно реконструирована Иосифом Гринбергом и Еленой Быковой[473], на их работе и основаны дальнейшие выводы.
Среди произведений, не вошедших в «Середину века», было, например, радикально антисталинистское стихотворение «Дорога в горы», по словам Луговского, описывавшее реальное историческое событие — «арест группы руководящих партийных работников одной из республик Северного Кавказа»[474].
О, год тридцать седьмой, тридцать седьмой! Арест произойдет сегодня ночью. Все кем-то преданы сейчас. А кто Кем предан понапрасну — я не знаю. («Дорога в горы», 1945–1957[475])Эти поэмы вызвали интерес и уважение поэтов-«шестидесятников» — об этом можно ретроспективно судить хотя бы по краткому предисловию Е. Евтушенко к подборке Луговского в составленной Евтушенко и Е. Витковским поэтической антологии «Строфы века» (предисловие относится к концу 1980-х, когда вошедшие впоследствии в антологию подборки печатались в составе авторской рубрики Евтушенко в журнале «Огонек»)[476].
Возможно, антисталинистские пассажи появились в стихах Луговского только после смерти диктатора — поэт вспоминал, что «летом 1956 года… переписал [„Середину века“] два раза»[477]. Однако Гринберг и Быкова показывают, что значительная часть текстов «Середины века» была вчерне написана уже в 1930–1940-х годах. И в этих набросках есть мотив, не менее неожиданный для бывшего члена ЛОКАФ, чем прямые выпады против диктатора, — разочарование в телеологическом ходе истории. «История как осмысливание бессмыслицы. Всё наврано, есть одна реальность: карточки, коровы, судьба, радио, дождь» (из прозаического наброска для стихотворения «Берлин 1936»)[478].
Психологический облик столь противоречивого человека попытался реконструировать лично знавший Луговского Наум Коржавин:
…Полученное в детстве [в интеллигентной дворянской семье] воспитание осталось при нем, что усложняло его психологическую ситуацию и в двадцатые… годы. […] …Приспособление к «республике» казалось — не только Луговскому, но и его товарищам и читателям, — приспособлением не только к духу времени, но и, хоть они так не выражались, к Духу и Истине вообще… А отпадение от «республики» — отпадением от Духа. Если это был конформизм, то неосознанный. А в те годы из-за частой смены «правящих идеологизмов» он (точнее, оно, это психическое состояние. — И.К.) не всегда был приспособленчеством — с ним можно было и срок огрести[479].
По-видимому, ситуация обстояла еще сложнее. Внутренне Луговской в 1930–1950-е годы метался между попытками сохранить верность раннесоветской («ленинской») революционной идеологии и историософии и экзистенциалистским по духу признанием абсурдности исторического процесса — и при этом надеялся на публикацию; подобные сложные психологические комплексы были свойственны многим советским писателям (Л. Гинзбург писала блестящие эскизы, анализирующие эту борьбу мотивов по внешним поведенческим проявлениям[480]), но, кажется, именно Луговской эксплицировал эти метания. Например, в его записных книжках подряд идут два варианта поэмы «Москва», которые Елена Быкова датирует 1956 годом. Первый не имеет никаких ссылок на советскую идеологию:
То было человечество. Не надо Шутить и балагурить о таком Большом предмете. Это, сударь мой, Явление занятное. Как прежде, Оно стремится что-нибудь постичь, Придумать телефон, сортир, подтяжки, И в смертном ужасе перед последней пулей Кричать: нет, нет, — и все понять, и к черту. […] …Теперь Бомбардировщики плывут, как рыбы, По воздуху моей родной планеты, Значительно и скупо сокращая Мой нестерпимо медленный рассказ.[481]Немедленно вслед за этим Луговской записывает еще один вариант поэмы, где появляется Ленин как спаситель смысла истории — «испорченного», как можно судить по глухим намекам, в том числе и Сталиным. Можно предположить, что написание этого второго варианта для Луговского было актом одновременно самоуговаривания и подготовки стихотворения к подцензурной печати:
Величье Ленина всегда над нами. Его мы не уступим злым, бетонным, Неубедительным в своей тоске. […] Когда я молод был — я видел брови Чуть рыжеватые. Я видел глаз, Направленный в грядущее — я видел Незабываемые отсветы лица. Он все глядел на блеклый абрис башни. Мы думали — он может возвратиться. Он возвратился. Да, он возвратился.[482]Тем не менее, чтобы оправдать мрачно-стоические фрагменты своих поэм, Луговской объяснил, что его метод — это «шекспиризация (sic!) деятелей истории, творцов революции»[483], дозволительная после XX съезда КПСС. (В набросках к поэме «Город снов», описывающей жизнь эвакуированной интеллигенции в Алма-Ате, Луговской дал портрет разуверившегося, впавшего в пессимизм мастера, страдающего «нехваткой воли», — в первоначальном наброске он был назван по имени: Эйзенштейн[484]. Вероятно, Луговской первоначально надеялся отвести от себя обвинения в «пессимизме», но в 1956–1957 годах то ли махнул рукой на возможность таких обвинений, то ли принял во внимание начавшуюся реабилитацию Эйзенштейна.)
Восприятие истории как насилия было свойственно раннему Луговскому в очень высокой степени, хотя в этот период он не был откровенным сторонником монтажной эстетики. Советская республика представала в произведениях Луговского как наивысшее выражение (если перефразировать Коржавина) духа истории, которому следует пожертвовать «ветхое» человеческое «я», чтобы вместо него было создано новое. К советскому государству — как и многие люди его поколения, Луговской называл СССР просто «республикой» — он обращался со стихами, напоминавшими экстатическую молитву высшей силе:
Такие, как я, срывались и гибли наперебой. Я школы твои, и газеты, и клубы питал собой. Такие, как я, поднимали депо, и забой, и завод, — Возьми меня, переделай и вечно веди вперед. […] Три поколенья культуры, и три поколенья тоски, И жизнь, и люди, и книги, прочитанные до доски. Республика это знает, республика позовет, — Возьмет меня, переделает, Двинет время вперед. («Письмо к Республике от моего друга», 1929[485])Совершенно иную картину дают посмертно опубликованные сочинения. Во всех этих текстах гораздо резче и заметнее проявились принципы монтажной эстетики, но при этом в них до минимума редуцирована идея персональной жертвы «республике» и «духу истории». Все эти тексты представляют собой длинные монологи, написанные белым пятистопным ямбом и в качестве жанрового и стилистического образца явно ориентированные на стихотворения Александра Блока из цикла «Вольные мысли» (1907) и на уже упомянутый цикл поэм Максимилиана Волошина «Путями Каина»[486]. Уже в блоковском цикле есть фрагменты, композиция которых напоминает резкую смену кинематографических планов, дальнего и ближнего:
К нему уже бежали люди. Издали, Поблескивая медленными спицами, ландо Катилось мягко. Люди подбежали И подняли его… И вот повисла Беспомощная желтая нога В обтянутой рейтузе. Завалилась Им на плечи куда-то голова… («О смерти» [ «Всё чаще я по городу брожу…»])[487]Тем заметнее отличие поэтического мировоззрения «Вольных мыслей» и «Середины века». Идеи и образы блоковского цикла обнаруживают явную связь с ницшевской философией всеобщего становления, с ее сильным акцентом на переживании не истории, но современности. Так, например, процитированное стихотворение «О смерти» перекликается по мысли со следующим рассуждением из работы Ницше «О пользе и вреде истории для жизни» (1874):
…Исторические люди верят, что смысл существования будет все более раскрываться в течение процесса существования, они оглядываются назад только затем, чтобы путем изучения предшествующих стадий процесса понять его настоящее и научиться энергичнее желать будущего; они не знают вовсе, насколько неисторически они мыслят и действуют, несмотря на весь свой историзм, и в какой степени их занятия историей являются служением не чистому познанию, но жизни. […] Кто не пережил некоторых вещей шире и глубже всех, тот не сумеет растолковать чего-либо из великого и возвышенного в прошлом[488].
В противоположность идеям Ницше и Блока, главным героем книги Луговского становится именно история. Она изображена глазами человека, чья судьба безнадежно деформирована историческими катаклизмами, — и в этом смысле историософия Луговского в ее «стоическом» варианте явственно перекликается с историософией Волошина.
Огонь родил убийства и напасти, Он сам, лоснясь тяжелой медной мордой, Входил клубами в раскаленный дом. (В. Луговской, «Сказка о печке», 1944[489]) Из кулака родилось братство: Каин первый Нашел пристойный жест для выраженья Родственного чувства, предвосхитив Слова иных времен: враги нам близкие. (М. Волошин, «Кулак», цикл «Путями Каина»)На одном из последних публичных выступлений, 31 января 1957 года, Луговской объяснял свою книгу как систему лейтмотивов, связывающих обобщенные образы исторических событий, — метод, близкий к волошинскому:
Это не попытка соединить воедино какие-то исторические события, это как бы душа некоторых событий… Вся книга… сделана по принципу «цепи». Цепь эта перезванивает: иногда перезванивают образы, иногда одна и та же строка, иногда это одно и то же действующее лицо или это потомок того лица, которое действовало раньше. […] Здесь — еще раз повторяю — попытка обобщить время[490].
Вступление к книге «Середина века» прославляет Октябрьскую революцию 1917 года и манифестирует веру в прогресс (на жаргоне советских редакторов такие идеологически правильные стихотворения, предварявшие подборку, назывались «паровозами» — Луговской, по признанию Гринберга, написал его буквально за несколько дней до отправки книги в печать[491]), но повествование в значительной части поздних поэм Луговского посвящено или предчувствию Первой или Второй мировых войн[492], или демонстрации разрушительности и бесцельности насилия, которое несет с собой история. Один из героев стихотворения «Новый год» (1957) — вызывающий у автора безусловную симпатию поэт — провозглашает:
…Мой Одиссей — есть символ всех времен. Вы все подохнете, он передаст Ветвь человечества грядущим людям. А вы, ребята, просто матерьял Для прихоти истории всемирной И нет у вас ни речи, ни лица, Ни выдумки. Простые организмы, Назначенные лишь для истребленья Других, сложнейших[493].Луговской приводит литературный инструментарий в соответствие со своим изменившимся взглядом на историю и начинает использовать элементы, влияние которых в советской культуре 1930-х годов было ограничено, — принципы монтажа (логически не связанные друг с другом назывные предложения и резкая смена масштабов изображения, от «крупного плана» — к «общему») и сложную, физиологически окрашенную метафорику, явственно напоминающую стихотворения О. Э. Мандельштама периода сборника «Tristia»[494]. Эта перекличка не случайна: в прозаический набросок, ставший основой для стихотворения «Берлин 1936» и написанный в 1936–1943 годах (по-видимому, в два приема: основная часть — в 1936-м, меньшая — в 1943-м[495]), Луговской включил дословную цитату из стихотворения Мандельштама «Декабрист» (1917): «Шумели в первый раз германские дубы»[496].
В отличие от поздних Клуциса или Эля Лисицкого Луговской не ресемантизирует монтаж как средство прославления Сталина и советского строя, но усиливает его способность представлять кризисные состояния индивидуальной биографии и истории общества.
За ширмами лежит полуяванка — Лет девяти. Восстание на Яве, Дожди и пулеметы. Очень дики Вот здесь зубные щетки, паста, мыло… […] Альбомы, подвиги, потоки света, Что некогда упали на людей, Сидящих рядом. Подвиги былые В суровом оформленье. Те же лица На фотографиях. Последний час Перед расстрелом. Избавленье. Ветер. Машина. Гавань. Южная заря. А на стене — рекламы пароходов. Лиловый сумрак дальнего причала. Великолепье Зондских островов. («Обычная гостиница», 1943–1956[497]) …Ночь Берлина, Дурацкие седые лампионы, Висюльки фонарей, собачья старость И сон о девятнадцатом столетье, Могучем, толстом, радостном уюте, Достойно бородатом. «Stille Nacht» — Святая ночь. Раскормленные елки… […] Кружились вальсы. Маленькие руки Бродили по горшочкам с резедой. Кипела вся германская кастрюля, И шейки там гусиные носились В безумном кипятке, и Вагнер пил Стаканами спокойное столетье. («Берлин, 1936 год» [первоначальное название — «Берлин 1936»], 1943–1956[498])Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о том, насколько такая «нарезка» вообще характерна для композиции больших стихотворений, писавшихся по-русски белым пятистопным ямбом после «Вольных мыслей». В целом резкие смены темы в таких стихотворениях можно наблюдать и у других авторов — современников Луговского: у Анны Ахматовой в «Северных элегиях», у Георгия Шенгели в стихотворениях 1920–1930-х годов. Однако только у Луговского чередующиеся фрагменты настолько невелики по объему, а контраст между ними настолько подчеркнут, что повествовательный метод в его стихотворных монологах может быть осмыслен как монтаж.
На аналогичном принципе основаны и прозаические наброски Луговского, напоминающие сценарную «раскадровку» неигрового — или, как бы сказали тогда, видового фильма:
Волшебная ночь Ореанды[499]. Зацветание мира. Синий колодец луны и пятна от нестерпимого света…
Дом, обдуваемый весенним ветром. Всюду дзоты, обрушившиеся, гнилые. Глина на откосах…
Москва-река. Маячок на канале — зеленая могилка. Шлюзы. Голосок поезда. Сосны и синицы.
Верба и ее зацветание. Днем первые лиловые тени. Далекие трубы радио. Вечером далекие самолеты и вспышки ракет…
А снег растаял и растаяла снежная баба с морковными губами. Снегурочка. Рано, рано куры запели[500]. Зеленые переходы снов…
(Из прозаического наброска к поэме «Снег»[501])Иосиф Гринберг показывает, что при доработке стихотворений, не имевшей идеологического смысла, Луговской еще усиливал в них контрастность «монтажных склеек». Так, при переработке прозаического наброска в стихотворение «Снег» Луговской ввел в текст контрастную «склейку»:
Бомбоубежища, шаги, ворота, И вдруг салют в неистовом полете Шипящих, страстных, радужных огней[502].По-видимому, Луговской осмыслял монтажные принципы поздних стихотворений как текстуальную проекцию особого, дискретного переживания реальности.
Мне ничего не надо. Я хочу Лишь права сказки, права распадаться На сотни образов, на тысячи сравнений, На миллионы маленьких вещей, Откуда снова возникает цельность, Большие руки ласковых героев И чудеса и песни. Нестерпимо Горит луна над поворотом дач. (Из первого варианта поэмы «Москва»[503])Само «оправдание» монтажной поэтики в этом стихотворении перебивается по принципу монтажа резким визуальным образом горящей над дачным поселком луны.
Аркадий Белинков: «необарочное» сопротивление
Второй автор, чье творчество знаменует перелом в развитии советской семантики монтажа, — Аркадий Белинков. Если Луговской входил в ЛЦК, то Белинков в 1939–1944 годах учился в Литературном институте[504] сначала в семинаре по поэзии бывшего лидера ЛЦК, Ильи Сельвинского, потом — в семинаре по прозе Виктора Шкловского, некогда — главного адепта монтажа, потом — противника «советского барокко».
В 1942–1943 годах Белинков написал роман «Черновик чувств», который предполагал подать в качестве своей дипломной работы[505]. 29 января 1944 года литератор, за чьим вольнодумным поведением к тому времени уже следили на уровне ЦК ВКП(б), был арестован органами госбезопасности и через полгода приговорен Особым совещанием при НКВД СССР к 8 годам исправительно-трудовых лагерей за «контрреволюционную агитацию». Основным материалом для обвинений послужили произведения молодого литератора[506].
За написанные уже в лагере повести и пьесу в 1950 году Белинков получил второй — теперь 25-летний — срок. После реабилитации и освобождения в 1956 году он стал известным критиком и литературоведом, в 1968 году вместе с женой, Натальей Белинковой, бежал через Югославию в США, где в 1970 году умер от инфаркта. В 1996 году Наталье Белинковой из архива Федеральной службы безопасности (бывшего КГБ СССР) были переданы тексты, изъятые у Белинкова при обысках в 1944 и 1950 годах, — в том числе роман «Черновик чувств». В 1998–2000 годах они были опубликованы.
Роман Белинкова опровергает привычные представления о русской литературе 1940-х. Его стилистика может быть описана как продолжение и усложнение тенденций монтажной, насыщенной метафорами прозы 1920-х — начала 1930-х годов[507] — от «Zoo, или Письма не о любви» Шкловского (этот роман, вероятно, был для Белинкова одним из стилистических образцов) до «Египетской марки» Мандельштама. Роману предпослан эпиграф из этого произведения — с фразой, ключевой для мандельштамовского понимания монтажа: «Странно подумать, что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда».
Вот фрагмент описания второго военного утра — 23 июня 1941 года:
Толстая, черная машина вдруг кругло затормозила и упруго припала к асфальту.
Репродукторы расстреливали автомобили.
Гравий из репродуктора легко пробивал воздух и забивался в рот и за ворот.
Автомобили неожиданно круто тормозили и удивленно приседали на задние колеса.
Глубокие горсти репродукторов слегка пошатывало. Слова и еще не отлетевшее от них дыхание просыпались во все стороны. Они сыпались на крыши и на тротуар. Некоторые закатывались под ноги, под дома и автомобили и пропадали.
Потом вдруг зажегся фонарь. Несколько секунд бессмысленно погорел. Потом мигнул и поспешно погас.
Дома покачивало. Сорвалась какая-то рама и билась об стену, звонко вырываясь из рук испуганной девушки.
Тверская громоздилась говором.
Откуда-то появлялись новые люди и автомобили, становились выпуклыми и круглыми, этим выдавая свою довоенную некомпетентность[508].
Радикальному противнику советской власти Борису Садовскому монтаж был необходим для построения ретроспективной утопии — точнее, для представления времени Александра III как сбывшейся утопии, противостоявшей «мнимой» утопии большевизма. У Белинкова же монтаж представал как способ изображения действительности, потерявшей универсальную телеологическую осмысленность. Героев разлучает мать героини, которая запрещает дочери выйти замуж за писателя-инакомыслящего. Несчастная любовь становится для героя важнейшим свидетельством невозможности найти общий язык с обществом. Главный герой и его возлюбленная Марианна понимают, что в войне, которую ведет Советский Союз с Германией, у его родины нет безусловной моральной правоты, но и противник ее ужасен.
Я говорил тихо и смотрел ей в ресницы. Но я уже знал, что Марианне это неинтересно.
Она посмотрела в окно и сказала:
— Вот, Ника бежит досдавать сессию. Экзамен довоенный. Немецкие романтики еще не предшественники наци. Теперь уже нельзя так. Это все политика партии в области художественной литературы. Как это у них сказано, так, кажется, — нашим бедным писателям мы позволяем писать в любой манере, но хорошо бы, конечно, соц. реализм имени пролетарского писателя Горького[509].
Финал романа, сообщающий о крахе любви героев, прямо отсылает к любимому тропу апологетов монтажа 1920-х годов — резкому повороту изображения на 90 градусов[510]}:
Запахло гарью. Потом улица легла на бок. Автомобили стекали по отвесно повисшей стене, обрывая крылья и стекла об острую хвою звезд[511].
От романа в письмах Шкловского «Zoo» роман Белинкова принципиально отличался утверждением автономии художника и его критического взгляда, которая, по Белинкову, является единственно возможной позицией для создания произведения искусства (впоследствии Белинков много раз эксплицировал эту позицию в своих критических и публицистических работах). Роман «Zoo» заканчивался тем, что в условиях несчастной любви художник отказывается от автономии в пользу служения своей стране, ибо возвращение из эмиграции он понимает именно как отказ от автономии и сдачу позиций. Недаром последнее письмо в романе адресовано ВЦИКу — органу государственной власти:
Я не могу жить в Берлине.
Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией. Умею работать только для нее. […]
Аля — это реализация метафоры. Я придумал женщину и любовь для книги о непонимании, о чужих людях, о чужой земле. Я хочу в Россию.
Все, что было — прошло, молодость и самоуверенность сняты с меня двенадцатью железными мостами. Я поднимаю руку и сдаюсь[512].
Композиция «Черновика чувств», если можно так выразиться, дважды полемична по отношению к «Zoo». Шкловский настаивает на тождественности героя и автора: герой на последней странице пишет за автора заявление с просьбой разрешить (им обоим?) вернуться в Россию. Белинков вставляет в середину своего романа «Малую декларацию…»: «…мы, герой этого сочинения и его автор, в этой своей Малой декларации заявляем: отныне, с этой страницы, о некоторых вопросах и действиях мнение автора и его героя утрачивают свою идентичность»[513]. В последней же фразе романа герой вновь — в воюющей стране! — осознает, что его главной, хотя и не слишком надежной опорой является не общество, а мировая культура:
Было тихо и значительно настороженно. Тучи терлись о воздух. И был ветер и дождь. И настежь распахнутые двери музея[514].
Возрождение эстетических принципов 1920-х, осуществленное Белинковым и Луговским, имело свои политические причины. По-видимому, именно в 1943-м Луговской и Белинков имели некоторые основания надеяться, что их необычные по своей эстетике для соцреалистической эпохи произведения смогут пройти цензуру. В этом году в советской печати, как показывает М. О. Чудакова, произошла кратковременная «оттепель»[515] — под влиянием этого послабления М. Зощенко завершил и даже успел частично опубликовать свою «непроходимую» в СССР при любых других условиях автобиографическую повесть «Перед восходом солнца»[516]. По-видимому, примерно тогда же, в 1943–1944 годах, Луговской включил в прозаический набросок к поэме «Город снов» строки:
…Именно сейчас жду огромного расцвета искусства. Ибо все отношения изменились, открылась новая протяженность мира, сорвались с петель старые законы…[517]
21 апреля 1943 года Илья Эренбург, выступая на вечере Семена Гудзенко, объявил о возможности пересмотра и переосмысления печально знаменитых обвинений в формализме и натурализме — неотъемлемой части советского цензурно-критического инструментария с начала 1936 года (после публикации в «Правде» 28 января 1936 года статьи «Сумбур вместо музыки»). Эренбург предположил, что стилистика, за которую руководящий орган ЦК ВКП(б) заклеймил Шостаковича, теперь станет определяющей для поэтов, которые вернутся с фронта:
В ней [в поэзии Гудзенко] есть то, что есть в музыке Шостаковича, то, что было названо в свое время (т. е. в статье «Сумбур вместо музыки». — И.К.) смесью формализма с натурализмом, что является смесью барокко с реализмом…[518]
«Смесь барокко с реализмом», по мнению Эренбурга, — это стиль, который будет органически продолжать традицию советского искусства, деформированную в результате «борьбы с формализмом». Само это выражение отсылает к культурной ситуации до 1936 года, когда модернизм в СССР еще не был окончательно разгромлен.
В том же 1943 году, когда Эренбург произнес свою речь, Белинков создал в Литинституте литературную группу «Необарокко»; правда, местом ее функционирования был не институт, а созданный Белинковым домашний литературоведческий семинар, который, кроме него, посещали еще семь человек, преимущественно студенты того же института. Несмотря на то что эта группа и само слово «необарокко» упоминаются во всех работах о Белинкове и в протоколах его допросов в НКВД[519], кажется, никто из исследователей не попытался пояснить, почему Белинков дал своей группе такое название. Попробую предпринять такую попытку.
Прежде всего, «барокко» в московской интеллектуальной среде на рубеже 1930–1940-х годов вообще было «словом-сигналом». Лилиана Лунгина рассказывает о том, как ее 4 октября 1939 года вызвали в НКВД на Лубянку, пытаясь завербовать как тайного осведомителя — она отказалась, и, к счастью, без последствий. Следователь спрашивал ее о лекциях, которые читал в ИФЛИ молодой тогда Л. Е. Пинский:
— А никаких аллюзий там [в курсе лекций Пинского] нет?
Я говорю:
— Какие аллюзии? Какие могут быть аллюзии, когда речь идет о Возрождении, о барокко?
А весь курс барокко был построен у Пинского на аллюзиях, полностью. Он нас учил думать. Не выходя никогда в политику, но так ставя вопросы того времени, что невозможно было самим не проводить ассоциации и не начать думать о том, что происходит с нами. […]…Я именно тогда научилась проводить какие-то аналогии. Под влиянием даже не Возрождения, а барокко. Дисгармоничный барочный мир очень хорошо накладывался на нашу действительность, и это были настоящие уроки по раскрытию той социальной среды, в которой мы жили[520].
Если внимательнее приглядеться к опубликованным протоколам допросов Белинкова, становится заметно, что арестованный писатель почти буквально пересказывает следователю теорию Г. Вёльфлина: «…историю искусств я рассматривал как историю стилей, утверждая, что стиль есть категория только литературная, независимая от окружающей среды и действительности, и что он периодически повторяется не в качестве отражения реальной действительности, а по закону реакции»[521]. Вёльфлин строил свою систему циклического возвращения Ренессанса и барокко на основе ряда антонимов: на смену тектоническому членению зданий, характерному для Ренессанса, приходит атектоническое, на смену закрытой форме — открытая и т. д.
В «Черновике чувств» главный герой, в этот момент близкий к автору, говорит:
…То, что происходит в нынешнем [советском] искусстве, уже не неоклассицизм. Это уже нечто худшее. Это неоклассицизм из вторых рук. Поэтому у нас никогда не будет Анри де Ренье и Андре Жида…[522]
По-видимому, Белинков полагал — с опорой на Вёльфлина и теорию литературного развития, созданную Тыняновым, — что на смену советской служивой (или, как сказал бы его учитель Шкловский, «деловитой») литературе может прийти творчество, намеренно дистанцирующее себя от любых поставленных властью задач — или, на тогдашнем официальном языке, «аполитичное». Или, говоря сегодняшним языком, неподцензурное[523].
Вероятно, Белинков помнил если не о статье «Конец барокко», то о других высказываниях Шкловского на эти темы[524]. Изменение главных публично принятых эстетических ориентиров, произошедшее на переломе от советских 1920-х годов к 1930-м, у Шкловского описано как «антонимический» перелом, то есть как перемена знаков на противоположные.
Возражая Шкловскому, Белинков провозгласил возврат к новому барокко. Такой циклический поворот, по-видимому, мыслился Белинковым не как обращение к европейскому стилю XVII века, а как возобновление линии стилистического развития, насильственно оборванной в 1930-е годы. По-видимому, в близкой модальности полемики со Шкловским формулировал свой тезис и Эренбург.
Белинков описывает июнь 1941 года фразой: «…в пору, когда Симонов, Алигер и Долматовский становились такими же древнерусскими безнадежностями, как праздная попытка переписать заново стихи поэтов допушкинской эпохи…»[525] Это значит, что он, так же как и Эренбург, связывал возникновение необарокко с началом войны, которая могла отменить прежние культурные обязательства советских писателей.
Возобновление прерванного развития, однако, оказалось иллюзорным — как чаще всего и бывает в истории культуры. «Барокко», которое предполагали возродить Эренбург и Белинков, имело мало общего с той эстетикой, о которой писал Шкловский в своих работах конца 1920-х — начала 1930-х годов. Из контекста (стихотворения Гудзенко и собственный роман Белинкова) становится понятно, что и Эренбург, и Белинков понимали под барокко не фрагментарные, состоящие из многочисленных автономных «кусков» произведения, но, скорее, патетические опусы, образы которых пронизаны разрывами и конфликтами[526]. Барокко в их представлении было таким же «пестрым», как и в представлении Шкловского, — но программно напряженным и драматичным.
Белинков написал о своей привязанности к эстетике 1920-х уже выйдя из лагеря — в книге «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» (1958–1968). Эта работа завершается подробным обсуждением посмертного издания фрагментарной книги Ю. Олеши «Ни дня без строчки» и роли В. Шкловского в ее составлении. Одна из главных претензий Белинкова к Шкловскому заключается в том, что Шкловский смонтировал (Белинков использует именно слово «монтаж») записи Олеши по темам, а не хронологически, и тем самым придал книге внешнюю, содержательно не обусловленную упорядоченность и лишил ее противоречивости, которую она могла бы иметь. Согласно Белинкову, избрав такой принцип компоновки, Шкловский предал эстетические идеалы своей молодости.
…в годы, когда Олеша писал свои лучшие вещи, далекие от записной книжки, Шкловский с ожесточением, блеском и правом на победу настаивал на разрушении канонических жанров, далеких от записной книжки.
Юрий Олеша писал записную книжку, а Виктор Шкловский старается сделать из нее традиционное «художественное произведение». […]
Виктор Шкловский убедился, что писать толстые, настоящие книги гораздо лучше, чем ненастоящие, составленные не из глав или там частей, а из каких-то кусочков… […]
Зачем было записки человека (остаток не уничтоженных в десятилетия, когда ночью вскакивали с постели, жгли, рвали, спускали в клозет всякую исписанную бумагу), его записную книжку, дневник, его спор с самим собой, бормотание, отчаяние, его горе, боль, крик превращать в так называемое «художественное произведение»? Откуда эта горячечная страсть к высаживанию на грядку, выстраиванию во фрунт, вытягиванию в линию? Откуда это судорожное обожание производственной дисциплины?[527]
Вероятно, ироническая аттестация «ненастоящие [книги], составленные не из глав или там частей, а из каких-то кусочков…» относится именно к паратактическим произведениям, вырастающим из традиции модернизма, — слово «куски», как мы помним, было для Шкловского и Тынянова (ср. «кусковая конструкция» в анализе поэтики «Голого года» Пильняка) почти терминологическим по смыслу. Отказ от этой традиции, продиктованный внешним давлением, Белинков и считал предательством. Скорее всего, Белинков намекает здесь либо на статью Шкловского «Конец барокко», либо на подобные ей устные высказывания критика на семинарах в Литинституте или в приватных разговорах с Белинковым.
Приговор, вынесенный в книге «Сдача и гибель…», поставил точку в дискуссиях о советском барокко — по крайней мере тех, которые были инициированы Шкловским в начале 1930-х, в статьях «Золотой край» и «О людях, которые идут по одной дороге…».
Вопрос о том, кто первым в 1943 году связал новую тенденцию в советском искусстве с памятью о «советском барокко», — Эренбург или Белинков, — требует отдельного исследования. Однако уже сегодня можно видеть, что предполагавшееся возвращение к приемам революционного модернизма и авангарда уже тогда, в 1940-х, было основано на изменении семантики этих приемов, вызванном знанием о Большом терроре, идеологическом цинизме властей (в том числе при подписании пакта Молотова — Риббентропа) и лишениях первых лет войны. Большой террор и союз между СССР и нацистской Германией — важные вехи на длинном пути разочарований в советской утопической идеологии, постепенно охвативших и многих лояльных советских интеллектуалов, и прокоммунистически настроенных наблюдателей из Западной Европы. И те и другие связывали с надеждой на успех советского эксперимента прежде всего «левую» эстетику 1920-х годов, необходимым составным элементом которой был монтаж. Художник, потерявший такую надежду, нуждался уже, вероятно, и в другом типе монтажной эстетики.
Даниил Андреев: мистический экспрессионизм
Более радикальным, чем у Луговского и Белинкова, оказалось переосмысление семантики монтажа в творчестве еще одного автора тоталитарной эпохи, вовсе не соотносившего себя с цензурой, — поэта, философа и мистика-визионера Даниила Андреева (1906–1959)[528]. В 1950–1956 годах, в период пребывания во Владимирском централе, Андреев написал драматическую поэму «Железная Мистерия». Жанровыми и стилистическими источниками этого сочинения послужили, по-видимому, роман Евгения Замятина «Мы», «Мистерия-Буфф» Маяковского и кинематограф немецкого экспрессионизма. Название поэмы, скорее всего, было полемической отсылкой к названиям романа А. Серафимовича «Железный поток» и, возможно, к той же «Мистерии-Буфф».
Андреев не смягчал монтажные принципы 1920-х, а, наоборот, форсировал их и строил на их основе огромные, монументальные произведения, по своему размаху напоминающие опусы поэтов сталинского времени — кроме «Железной Мистерии», здесь следует назвать завершенный в тюрьме в 1953 году огромный цикл стихотворений «Русские боги» (авторское определение жанра — «поэтический ансамбль»). Андреев словно бы старался перекричать «Культуру Два», противопоставив ей нечто столь же всеобъемлющее, как она, но противоположное по идеологии и эстетике.
Первая половина «Железной Мистерии» аллегорически изображает историю СССР и восхождения Сталина как историю робота-«Автомата», который постепенно увеличивается в размерах, приобретает все большую мистическую мощь и порабощает все население страны. Вторая часть — сцены чудесного освобождения СССР от власти Автомата в ходе иностранного военного вторжения (!) и участия возрожденной России в ансамбле великих культур человечества. Приведу сцену из первой части.
Гул заводов, работающих на полную мощность. Шум уличного движения.
Возбужденные голоса, в одной из очередей перед магазинами:
— Без очереди!.. Он врет! — Не пустим! — Ступайте в ряд. — Вот от таких — весь вред… — Стоит, точно в землю врыт!В один из магазинов подвезли товар.
Очередь напирает. Задние смяли передних.
Гвалт
— Пять-сорок… держи… Дай… — Хозяин… — талон… да! — Не прите… — украл! — Стой! — Спасите… Мне рёбр… ой!!![529][…]
Голос Автомата, из внутренности Цитадели:
Подцветить хилость; Подкормить малость; Поднабить полость… Показать жалость!Наместник, подхватывая:
Но великий вождь Любит, чтоб народ Гладок был, здоров, Сыт. Нынче — всем на час Отдых от работ! Радость да войдет В быт!Общий вздох облегчения.
Агитаторы:
— Как он любит всех: самого малого! — Как объемлет всех: смелого, хилого… — Как он знает счет дел его, сил его! — Как он видит все: голову, тулово![530]Советской идеологии Андреев во всех своих зрелых произведениях противопоставлял собственную оккультную утопию — идею общемирового синтеза культур и религий, после которого станет возможным окончательное преодоление греховности человечества и его присоединение к Богу в процессе сотворения новых вселенных[531]. Хотя Андреев испытал влияние философии Владимира Соловьева и теософии, его, по-видимому, можно считать одним из первых в мире представителей движения нью-эйдж, которое утверждало синтез религий и индивидуальную духовную работу как важнейший путь к построению гармоничного общества будущего.
Монтажные принципы, использованные в «Железной Мистерии» и других крупных произведениях Андреева (например, в поэме «Симфония городского дня» (1950)), демонстрируют современную писателю историческую эпоху как воплощение насилия, источник которого — не только общество в целом, но и порабощающие его потусторонние демонические силы.
Во вдохновении и в одержании, не видя сумерек, не зная вечера, Кружатся ролики, винты завинчиваются и поворачиваются ключи, Спешат ударники, снуют стахановцы, бубнят бухгалтеры, стучат диспетчеры, Сигналировщики жестикулируют и в поликлиниках ворчат врачи. Они неистовствуют и состязаются, они проносятся и разлучаются, В полете воль головокружительном живые плоскости накреня, И возвращаются, и возвращаются, и возвращаются, и возвращаются — Как нумерующиеся подшипники, детали лязгающего дня. […] И к инфильтратам гигантских мускулов по раздувающимся артериям Самоотверженными фагоцитами в тревоге судорожной спеша, Во имя жизни, защитным гноем, вкруг язв недугующей материи Ложатся пухнущими гекатомбами за жертвой жертва, к душе душа. («Симфония городского дня»)[532]Название этой поэмы и ее сюжет с высокой степенью вероятности отсылают не только к «симфониям» Андрея Белого, но также к названию и сюжету авангардного документального фильма немецкого режиссера Вальтера Руттмана (1887–1941) «Берлин — симфония большого города» («Berlin — Die Sinfonie der Großstadt», 1927). Основа этого фильма — как и в «Человеке с киноаппаратом» Дзиги Вертова[533] (1929) — показ одного дня большого города. Но у Руттмана, как и у Андреева, особую роль играет изображение городских толп и совмещение в едином монтажном «потоке» образов людей разных физических типов и разных профессий.
Монтаж в творчестве Андреева оказался нужен для того, чтобы показать разноречивость, принципиальную множественность исторического процесса. Эта множественность, которой может управлять только божественное провидение, демонстрирует преходящий характер любых утопий, которые создаются людьми и способствуют только возрастанию страдания в мире.
Религиозно мотивированный оптимизм принципиально резко отличает Андреева от одного из его учителей, Евгения Замятина: роман «Мы» завершается фразой «…потому что разум должен победить»[534], которая звучит горькой насмешкой писателя над героем и над изображенным в романе псевдорационалистическим обществом. Однако, хотя Андреев был несомненным утопистом, семантика монтажа в его произведениях была так же, как у Луговского и Белинкова, отчетливо постутопической.
Джазовая нарезка: поздний Анри Матисс
Персонаж этого раздела составляет разительный контраст с авторами, о которых говорится в трех предшествуюших частях. Анри Матисс (1869–1954) жил не в СССР, а в относительно свободной Франции, хотя в годы нацистской оккупации ему и пришлось непросто: в 1944 году его жена и дочь были арестованы гестапо за участие в движении Сопротивления и смогли вернуться домой только после того, как войска союзников освободили Францию, а во дворе его дома разорвался снаряд, выпущенный артиллерией наступавших англо-американских войск[535]. Тем не менее собственная вилла в Ницце, даже и обстреливаемая, — это, конечно, не тюрьма. Матисс в 1930–1950-е годы был признанным мэтром, а не безвестным заключенным, как Андреев или Белинков, и не сочинителем, вынужденным самые важные для себя произведения писать «в стол», как Луговской.
Эстетика Матисса никогда не ассоциировалась у критиков и зрителей с монтажными методами — в отличие от работ его друга и вечного критика Пабло Пикассо. В историю искусства Матисс вошел как новатор, но не авангардист. Тем не менее в этой книге его стоит упомянуть из-за особой техники, к которой он обратился в последние десятилетия жизни, — аппликации, или декупажа. Аппликации позднего Матисса примыкают по своей эстетике к постутопическому монтажу.
В конце 1919 года Матисс создал эскизы костюмов и декораций к балету С. Дягилева «Песня соловья». Они были склеены из кусочков бумаги, тонированной самим художником. Начиная с 1930-х годов Матисс использует этот метод все чаще, и далеко не только в прикладных работах: он готовит бук-артистскую книгу «Джаз» (она была издана в 1947 году, но работа над ней шла с начала 40-х), публикует аппликационные композиции в журнале «Verve» (с 1937 года), украшает огромными бумажными фигурами стены собственной виллы в Ницце[536]. Важнейшим произведением своей жизни Матисс считал проект капеллы Чёток для женского монастыря в Вансе, которая была достроена и освящена в 1951 году. Эскизы витражей выполнены в той же технике: предварительно раскрашенные гуашью — в тщательно продуманные смешанные цвета — листы бумаги разрезаны на фигуры, которые потом наклеены на тонированный фон, иногда состоящий из отдельных окрашенных фигур.
Современники считали, что Матисс стал работать с бумагой и ножницами потому, что здоровье уже не позволяло ему рисовать огромные композиции кистью на холсте. Однако здоровье Матисса ухудшилось в 1941 году после операции на кишечнике, а доля аппликаций в его творчестве вырастает уже во второй половине 1930-х. В 1970-е годы и позже искусствоведы стали писать о том, что для Матисса аппликации стали не вынужденным шагом, а новым методом, который позволил ему прийти к синтезу линии и цвета.
Общеизвестно, что для эстетики Матисса центральное значение имел цвет. В контексте его эстетики контраст между цветами наклеенных фигур и цветом фона приобретает смысл столь же резкого столкновения, каким является в авангардистском монтаже заметное несовпадение фактур или масштабов изображения в соседствующих фрагментах.
По той последовательности и энергии, с которой Матисс обратился в 1930-х годах к аппликации, он сравним только с дадаистами — например, Джоном Хартфилдом. Матисс по своей эстетике очень далек от дадаизма, однако следует заметить, что первую аппликацию он сделал тогда же, когда дадаисты стали выставлять свои фотоколлажи, — в 1919 году, возможно под влиянием историко-социальных катаклизмов почувствовав, как и молодые немецкие радикалы, интерес к соединению готовых форм. Искусствоведы предполагают, что, несмотря на кажущуюся герметичность его произведений, Матисс с интересом следил за авангардистскими опытами — например, за сюрреалистами — и реагировал на их творчество в своих работах[537]. Можно предположить, что и с коллажами дадаистов он тоже мог вступить в диалог.
Однако аппликации Матисса по своему смыслу прямо противоположны дадаистским «нарезкам». В основе этих нарезок лежит телеологический жест: нарезка приводила к случайному или целенаправленному изменению смысла сополагаемых элементов. Элементы аппликаций Матисса часто абстрактны и постоянно повторяются, особенно часто — растительные орнаменты, напоминающие причудливо разрезанные листья монстеры. Эти орнаментальные аппликации не-телеологичны. Кажется, не случайно одной из первых больших работ Матисса в новой технике стала книга «Джаз»: джаз — не-телеологическая форма музыки, джазовые пьесы не должны иметь логически организованной структуры.
Гунда Луйкен предположила, что поздний Матисс оказал большое влияние на Энди Уорхола, особенно на его представления о цвете: Уорхол прямо признавался в любви к творчеству французского мэтра[538]. Можно предположить, что Матисс стал одним из первых художников, неявно соединивших эстетические идеи монтажа и серийности, не предполагающей завершения. В этом смысле его аппликации могут быть сопоставлены с произведениями авторов, использовавших постутопический монтаж.
Глава 6 Традиция «книги памяти» от 1920-х к 2000-м[539]
«Черная книга»: генезис жанра
В советской и постсоветской культуре существует особый вид монтажа, который отличается от описанных выше видов рядом парадоксальных особенностей. С момента своего возникновения он был историзирующим, а не изображал современность или ближайшее будущее. В этом смысле он никогда не был утопическим. Однако с 1920-х годов вплоть до настоящего времени он имеет приблизительно одну и ту же функцию — компоновку материальных следов сакрализованного события. Поэтому можно сказать и наоборот — он до сих пор сохраняет энергию утопизма.
Речь идет о монтажной исторической книге. Ее социальная эволюция соответствует траектории развития других видов монтажа: из мейнстримного и официального жанра исторический монтаж стал полуофициальным или вовсе подпольным предприятием, сохранив, однако, свою тень в официальной советской культуре — подобно каракатице, выпустившей чернильное облако, повторяющее форму ее тела.
В отличие от других глав я позволю здесь отступить от последовательной исторической логики. Перелом в развитии жанра книги-монтажа был не постепенным, а резким. Точкой этого критического поворота стало составление «Черной книги» памяти жертв Холокоста, осуществленное в 1944–1947 годах редакционной коллегией под руководством Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга[540]. Я начну с анализа «Черной книги», а потом перейду к ее историческим предпосылкам и последствиям.
Впервые на использование в этой книге монтажных приемов обратила внимание Аня Типпнер, германский филолог и историк культуры, однако она не обсудила их генезис[541]. Для того чтобы контекстуализировать это произведение, напомню о фактической стороне вопроса[542].
Во время Второй мировой войны Илья Эренбург получал огромное количество писем. Среди них были многочисленные свидетельства об уничтожении евреев (Шоа) на территории СССР. Эренбург решил подготовить антологию этих материалов; как полагает И. Альтман, первоначальный совет писателю дал Альберт Эйнштейн. Эренбург привлек к работе Гроссмана и организовал Литературную комиссию при Еврейском антифашистском комитете (ЕАК). С ней сотрудничало несколько десятков известных писателей и журналистов, большей частью, но не исключительно, этнических евреев: например, в этот коллектив входили Лидия Сейфуллина и Всеволод Иванов, которые евреями не были. Авторы, участвовавшие в работе Литературной комиссии, редактировали документальные тексты (дневники и стенограммы рассказов выживших), писали очерки об истории Шоа в отдельных городах и целых «союзных республиках» СССР и в оккупированной нацистами Польше.
Была подготовлена книга-коллаж, включавшая в себя 118 материалов, написанных по-русски или переведенных с идиша. Помимо материалов перечисленных жанров, в «Черную книгу» вошли предсмертные письма, переданные узниками тюрем и гетто, и документы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов (ЧГК) — показания свидетелей, исполнителей и организаторов убийств, статья немецкого антифашиста Бернарда Бехлера о политике Гиммлера, документы гитлеровцев — протоколы и донесения — о массовых казнях и терроре и, наконец, работа советского юриста, члена ЧГК, академика Ильи Трайнина о расовой политике и антисемитизме нацистов.
Небольшая подборка свидетельств о Шоа была опубликована под заголовком «Народоубийцы» в журнале «Знамя»[543], на основе собранных комиссией документов был издан двухтомный сборник на идише «Мердер фун фелкер» («Убийцы народов») (М.: Дер Эмес, 1944). Перепечатка «Черной книги» была разослана в 10 стран и передана советским обвинителям на Нюрнбергском процессе. Сокращенная версия в переводе на английский была издана в США в 1946 году. Русская, основная версия так и не вышла.
3 февраля 1947 года заведующий Управлением пропаганды ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александров написал А. А. Жданову докладную записку, в которой доказывал, что «Черную книгу» издавать не нужно, так как в ней утверждается, что нацисты из всех народов истребляли именно евреев, а «содержание книги не подтверждает этого»[544] (что было прямой ложью). Несмотря на попытки членов ЕАК «пробить» издание книги, их усилия были заблокированы: в СССР начиналась антисемитская кампания под лозунгами борьбы с «космополитизмом»; впрочем, упоминания в советской печати об истреблении евреев и во время войны подвергались цензуре[545].
В 1948 году гранки книги были конфискованы (чудом уцелел один экземпляр верстки), набор — рассыпан. 20 ноября 1948 года ЕАК был распущен решением Бюро Совета министров и закрыт «как центр антисоветской пропаганды». В конце 1948 — начале 1949 года большинство членов ЕАК было арестовано. При подготовке к судебному процессу над ними в 1952 году, по свидетельству Эренбурга, использовались обвинения в причастности к написанию «Черной книги». По итогам суда 13 обвиняемых были приговорены к смертной казни и расстреляны. В 1965 году Эренбург попытался договориться с чиновниками о выходе книги в СССР, но потерпел поражение.
На основе одной из перепечаток, посланных в 1946 году за границу, в 1980 году «Черная книга» была издана в Иерусалиме, в 1991 — в Киеве и Запорожье. В 1993 году дочь Эренбурга Ирина получила сохранившуюся в единственном экземпляре верстку издания, не вышедшего в 1947-м, и подготовила к публикации в Вильнюсе том, в который вошли и собственно верстка, и материалы, исключенные цензурой на предыдущих стадиях подготовки книги[546].
«Черную книгу» нельзя назвать монтажной в строгом смысле слова, так как все вошедшие в нее тексты являются законченными нарративами. Однако многие элементы монтажной эстетики в ней все же заметны: разнородность текстов, постоянная смена масштаба (от индивидуальных историй — к обобщающим очеркам и обратно), описание одного и того же события глазами — и в стилистике — разных людей. См., например, рассказы А. М. Бурцевой, И. А. Ревенской и Б. И. Тартаковской о массовом расстреле евреев 13 октября 1941 года в Днепропетровске. Все три текста редактировал киносценарист Георгий Мунблит.
Очерк Веры Инбер «Одесса», как указывает Аня Типпнер, построен по принципу коллажа: в нем короткие заметки самой Инбер чередуются с репликами выживших (напомню, что Инбер была родом из этого города).
Из сотен тысяч выжило всего несколько десятков. От них мы и узнали подробности зверской расправы.
Во всех устных и письменных рассказах уцелевших очевидцев, в их письмах и воспоминаниях, мы встречаемся с одним и тем же утверждением, что изобразить пережитое им не под силу.
«Надо обладать кистью художника, чтобы описать картины ужаса, который творился в Доманевке», — рассказывает одесская женщина Елизавета Пикармер. «Здесь погибали лучшие люди науки и труда. Сумасшедший бред этих людей, выражение их лиц, их глаз потрясали даже самых сильных духом. Однажды тут на навозе, рядом с трупами, рожала двадцатилетняя Маня Ткач. К вечеру эта женщина скончалась».
У В. Я. Рабиновича, технического редактора одесского издательства, мы читали: «Много-много можно написать, но я не писатель, и нет у меня сил физических. Ибо я пишу и вижу это вновь перед глазами. Нет той бумаги и пера, чтобы все описать в подробностях. Нет и не будет человека, который нарисовал бы картину нечеловеческих страданий, перенесенных нами, советскими людьми».
Но они не могут молчать, они пишут, и к тому, что они поведали, ничего не нужно прибавлять[547].
Последнюю процитированную фразу следует понимать в смысле, противоположном буквальному. Инбер не только монтирует, но и очень многое «прибавляет», иначе говоря, комментирует воспоминания тех, кто пережил Шоа в Одессе, направляя читательское понимание. Из ее текста неясно, насколько большой процент попавших в ее руки воспоминаний остался за пределами очерка. Возможно, монтаж в этом случае выполняет функции не только структурирования «многоголосого» текста, но и цензурного «вытеснения» наиболее шокирующих сцен или идеологически «неправильных» пассажей, которые могли находиться в воспоминаниях пострадавших.
Вопрос о жанре «Черной книги» до сих пор не изучен. Во время Второй мировой войны в СССР вышло несколько пропагандистских сборников о преступлениях СС, нацистской армии и армий стран — союзниц Германии[548]. Все они содержали официальные документы, показания свидетелей и справки общего характера, а также разного рода пропагандистские тексты — например, «Протест немецких военнопленных против зверского обращения немецких властей с советскими военнопленными»[549]. Эренбург и Гроссман явно ориентировались именно на этот жанр. Однако книга у них получилась и самой объемной из всех работ подобного типа, и наиболее разнородной, и в наибольшей степени ориентированной на выявление и представление отдельных, частных человеческих голосов и историй.
Иначе говоря, из всех «сборников о зверствах» «Черная книга» в наибольшей степени ориентирована на поэтику монтажа. Этому можно дать простое объяснение: в ее подготовке участвовали многие литераторы и журналисты, в 1920-е годы увлекавшиеся «левым» искусством. Однако все же и генезис жанра «Документы обвиняют», и те изменения, которые внесли в него Эренбург и Гроссман, заслуживают более пристального внимания.
Откуда взялась эта эстетика и что изменило ее при составлении «Черной книги»?
Позволю себе изложить предварительную рабочую гипотезу.
Сам жанр «следовательско-обвинительного сборника документов» в России возникает в конце 1910-х — начале 1920-х годов при публикации многочисленных материалов расследований о последних предреволюционных годах имперского режима: протоколов Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства (ЧСК; обратим внимание на сходство ее названия с ЧГК)[550] и книги Александра Блока «Последние дни императорской власти» (1918[551]) с ее документальными приложениями. Во время работы над этой книгой Блок написал поэму «Двенадцать», где монтажная структура очень заметна, однако, кажется, все же «Последние дни…» он мыслил как научно-исторический труд традиционного типа — возможно, с оглядкой на исторические изыскания А. С. Пушкина как на прецедент.
По-видимому, главную роль в оформлении нового политико-пропагандистского жанра сыграл историк, публицист и общественный деятель Павел Щёголев (1877–1931), который был членом ЧСК и готовил к печати уже упомянутые сборники показаний, данных этой комиссии, а в 1927 году — книгу воспоминаний и документов об отречении императора от престола[552] и сборник о провокаторах в революционном движении[553]. Параллельно, уже как историк, он составил двухтомное издание документов о жизни М. Лермонтова, в котором письма и фрагменты мемуаров чередуются со стихами[554], — и трехтомный сборник о петрашевцах[555], в первом томе которого собраны фрагменты воспоминаний и художественных произведений о деятельности кружка, во втором — сочинения самих петрашевцев, в том числе автобиографические, в третьем — доклад Генерал-аудиториата о следственном и судебном деле и приговоры по делу.
Щёголев был самым политизированным и имевшим наиболее впечатляющую политическую биографию среди всех авторов исторических монтажей — жанра книги и типа исторического высказывания, влиятельного в 1920-е годы, но доныне, кажется, не описанного как цельное явление. Авторы «Черной книги», насколько можно судить, заметно сместили использованный ими жанр к другой и намного более отрефлексированной ветви этой традиции — литературной. В 1930-е годы эта ветвь не то чтобы заглохла, но стала гораздо менее заметной в культурном контексте.
Возвращение к полузабытому жанру в «Черной книге» оказалось возможным по трем причинам: из-за интереса составителей к частным трагедиям, из-за огромного количества документов, поступивших в распоряжение Эренбурга и Гроссмана, и из-за того, что эти два писателя лучше, чем составители «сборников о чудовищных злодеяниях», понимали — или, может быть, чувствовали — ту жанровую традицию, в которой они работали.
Помимо сборников под редакцией Щёголева, в 1920-е годы в свет вышли многочисленные книги В. В. Вересаева, Н. С. Ашукина, В. А. Фейдер, Н. Н. Апостолова, А. Г. Островского, Н. Л. Бродского[556] и других, построенные по одному и тому же принципу. Они организованы как «нарезки» из воспоминаний, писем, документов, посвященных творчеству какого-нибудь русского писателя или культурному движению предшествующей эпохи. Современники называли такие издания монтажами и отмечали, что этот новый тип книг пользовался большим читательским спросом.
Исследование этого жанра было предпринято, насколько мне известно, всего один раз — в манифестарной статье филолога Соломона Рейсера (1905–1989) «Монтаж и литература». Эта работа была помещена в качестве предисловия к еще одной книге подобного рода — «Литературные кружки и салоны», — которую Рейсер составил вместе с другим филологом, Марком Аронсоном (1901–1937) под редакцией Бориса Эйхенбаума[557]. В коротком тексте Рейсер сумел эскизно описать и методологические, и социологические, и эстетические особенности нового жанра.
Эпидемическое распространение новых книг филолог связал с интересом ученых и широкого читателя к «литературному быту». Этот термин был введен филологами-формалистами старшего поколения, но понимался ими по-разному. Рейсер и Аронсон занимались в семинарии Эйхенбаума по литературному быту в Государственном институте истории искусств (Рейсер был и. о. секретаря этого семинария) и, соответственно, понимали «быт» по Эйхенбауму — как совокупность социальных институций, внутри которых производятся и осознаются литературные произведения, и персональных, индивидуальных биографий, формирующих жизнь этих институций[558].
Рейсер пишет:
Монтаж отличается от мемуаров значительно большей емкостью своего материала… […]…в монтаж легко входят материалы, которые не укладываются в мемуары, всякий документ — проект, протокол, устав, отзыв постороннего свидетеля-современника и т. д. […] …Монтаж является не только эквивалентом переставшей удовлетворять беллетристики, но и своеобразной научной формой.
[…] Будущий историк сможет установить генезис этого явления. Он укажет, может быть, на влияние киноискусства, воздаст должное приоритету Вересаева, быть может, заглянув в «праисторию», вспомнит историко-литературные хрестоматии [Василия] Покровского[559], сборники критических материалов [Василия] Зелинского[560] — но все это дело будущего[561].
Предположение Рейсера о «влиянии киноискусства» показывает, что здесь мы имеем дело не с омонимией слова «монтаж», а с тем же явлением монтажной эстетики, что и в кино, литературе и театре 1920-х годов.
Восприятие монтажных исторических сборников как инновации из сегодняшнего дня выглядит странным. Подобного рода сборники были глубоко укоренены в традиции популярных исторических изданий — и столь образованные люди, как формалисты, несомненно, должны были об этом знать[562]. Уже в XVIII веке в России формируется жанр компендиума, составленного из цитат и документов. По-видимому, он выкристаллизовался из иноязычных образцов (которые еще требуется выявить — но такое выявление выходит за пределы задач этой книги) и первых русских исторических сводов документов — как, например, «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам» (1788–1797) И. И. Голикова (12 томов самой книги и 18 томов «Дополнений»). В 1827 году историк и писатель Н. Д. Иванчин-Писарев публикует двухтомное собрание фрагментов «Дух Карамзина, или Избранные мысли и чувствования сего писателя, с прибавлением некоторых обозрений и исторических характеров»[563]. В первой половине XIX века в России выходят издания, посвященные Суворову, Вольтеру, Фридриху Великому, составленные из фрагментов писем, анекдотических изречений и выдержек из произведений их современников. Сам этот книжный жанр был настолько хорошо известен и в России, и в Западной Европе, что само приложение к нему модного в 1920-е слова «монтаж» кажется неоправданным.
Для того чтобы жанр «книги выписок» стал восприниматься как новый, должны были измениться его социальные функции и, соответственно, читательское восприятие. «Рамочным» условием осознания такого типа книги как нового жанра было превращение монтажа в «большой стиль» советской культуры 1920-х годов. Но, по-видимому, было еще одно, менее очевидное обстоятельство.
Общей чертой книг-коллажей было описание истории как своего рода многофигурной динамической композиции без главного действующего лица (ср. выше об «эпичности» ЭППИ). Множественность документов представала в них как множественность точек зрения на одно и то же событие или на одну и ту же личность. Поэтому, хотя основой этих книг чаще всего был «монтаж эпизодов» (каждый документ представлял один сюжет), функционально сопоставление текстов в рамках общего корпуса работало как «монтаж планов»: важнейшим конструктивным элементом книг-монтажей был переход между разными точками зрения. В период, когда в СССР интенсивно формировался режим личной диктатуры, использовавший риторику «уклонов» и «генеральной линии», — такая диверсификация взгляда, вероятно, воспринималась как более демократическое представление если не современной политической ситуации, то хотя бы истории культуры.
Книги «нового-старого» типа удовлетворяли совершенно новый и очень острый интерес читателей и исследователей к взаимодействию «большой» истории и частной личности или небольшого кружка частных лиц. Этот интерес, в свою очередь, существовал в двух модальностях, которые можно было бы назвать следовательской и культурософской.
Следовательская модальность предполагала стремление максимально подробно описать и рационализировать действующих лиц репрессивно-карательной системы имперской России — чтобы потом точнее определить степень их исторической вины. На протяжении всех 1920–1930-х годов в СССР выходят сборники документов, показывающих психологию действующих лиц дореволюционных полиции, армии, секретных служб и крайне правых общественных организаций, которые считались их союзниками: «Союз русского народа. По материалам Чрезвычайной следственной комиссии 1917 года» (1929)[564], «Царизм в борьбе с революцией 1905–1907 гг.» (1936)[565], «Ленские прииски: Сборник документов» (1937)[566], «Восстание 1916 г. в Киргизстане» (1937, под редакцией бывшего участника этого восстания, видного казахского функционера ВКП(б) Турара Рыскулова; в 1938 году Рыскулов был расстрелян по сфальсифицированному обвинению[567]).
Рейсер включает Щёголева в составленный им список авторов книг-монтажей, но не обращает внимания на специфику его работ — возможно, потому, что, как вообще было свойственно большинству формалистов в период расцвета движения, он мало интересовался прямыми связями между литературой и политикой[568]. Монтажи Щёголева охватывали область «быта» политических элит и спецслужб (если использовать современную терминологию). Включенные в его книги высказывания представляли разные личные взгляды на политические события, в том числе закулисные.
Культурософская модальность опиралась на стремление части интеллигентов 1920-х годов понять, как человек может противостоять давлению социально-исторической среды; это стремление манифестировано во вступлении к роману Ю. Н. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». Документальная реконструкция литературного быта в этих условиях приобретала политический смысл: она позволяла проследить выживание культуры через сохранение независимости ее акторов. Смысловым центром таких сборников становилась частная личность.
Успех книг-монтажей после «великого перелома» в 1929 году имел уже во многом ностальгическую и скрыто-нонконформистскую природу — читатели тосковали по независимым структурам производства смысла, оставшимся в прошлом.
Жанр разоблачительного политико-пропагандистского монтажа, изобретенный Щёголевым, в 1930-е годы мутировал и стал важным элементом официальной пропаганды. Издавая такой сборник, советские идеологи либо говорили о дореволюционной истории, либо ставили себя в ретроспективную позицию судьи, привлекающего тщательно подобранных свидетелей уже совершенного преступления (сборники военных лет). Роль обвинителя «передоверялась» идеологизированным или тщательно «отфильтрованным» документам, которым приписывалась способность быть «объективными». Таким образом, монтаж текстов в таких сборниках чем дальше, тем больше выполнял функцию цензуры, отсечения всего «неудобного».
Монтажные книги по истории литературы в 1930-е готовили в первую очередь те же авторы, кто создал этот жанр десятилетием раньше. Например, к торжественно отмечавшемуся в СССР юбилею смерти Пушкина (1937) В. В. Вересаев подготовил двухтомную композицию «Спутники Пушкина», составленную в 1934–1936 годах. В том же году в больших и малых городах и селах СССР ставились многочисленные «монтажи» — разложенные на голоса рассказы о биографии поэта с вкраплениями стихотворений. Сценарии таких «монтажей» печатались в газетах и журналах[569]. Этот жанр возник еще в 1920-е годы, но с начала 1930-х удерживался в советской публичной сфере прежде всего как важный элемент празднеств по случаю юбилеев писателей или иных выдающихся деятелей.
И профессиональные филологи, и даже историк-популяризатор Щёголев отзывались о творениях Вересаева неизменно скептически, считая их не слишком удачными с собственно научной точки зрения[570]. Но «монтажные» книги 1920–1930-х оказали влияние не столько на науку, сколько на общественное сознание. Первоначальной функцией таких книг была десакрализация исторических фигур и демифологизация разного рода тайных политических интриг, но в 1930-е годы косвенным последствием выхода таких сборников оказывалась сакрализация культуры. Многочисленные персонажи этих книг оказывались прославленными или, напротив, демонизированными в силовом поле центральных персонажей, литературных кружков или культурных движений. Особое, подчеркнутое значение приобретали их повседневные поступки, вкусы, привязанности. Результат подобной сакрализации ясно описан Анной Ахматовой в ее «Слове о Пушкине» (1961):
Вся эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу стала называться пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и не-аншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а затем просто опочили в картотеках и именных указателях (с перевранными датами рождения и смерти) пушкинских изданий[571].
С самых первых месяцев войны И. Эренбург выработал новый жанр — статьи-коллажа из комментированных цитат из дневников и писем гитлеровских солдат и офицеров. Эти коллажи призваны были показать советскому читателю убожество духовного мира тех, кто вторгся на территорию страны. Эти статьи-коллажи — но с инверсией цели, от насмешки к оплакиванию — стали одним из жанровых прототипов «Черной книги».
Статьи Эренбурга сосредоточены на текстах одного, редко троих-четверых людей. На создателей «Черной книги» повлияла память о «многофигурности» исторических книг-монтажей. Оба писателя следили за литературными дискуссиями (Эренбург — с 1910-х годов, Гроссман — с конца 1920-х) и могли помнить о книгах-монтажах с большей вероятностью, чем составители пропагандистских сборников времен войны. Но возвращение к жанру книги-монтажа, где представлены множественные точки зрения, обернулось новым отношением к исторической памяти — желанием дать слово всем, кто запомнил события Шоа, и вспомнить максимальное количество индивидуализированных жертв, уничтоженных вместе с их частной жизнью.
«Блокадная книга»: рефлексия, приглушенная соцреализмом
Жанр политических пропагандистских монтажей возродился в период «оттепели»[572]. Многие эстетические традиции 1920-х годов даже в подцензурном искусстве тогда получили новое развитие, часто — неожиданное и творческое. Однако жанр книги-монтажа был воссоздан сразу в том полуокаменевшем виде, который он приобрел ко второй половине 1930-х. Монтаж использовался в подобных изданиях для общего «оживления» картины истории, локального отхода от обобщенных, переполненных идеологическими клише исторических схем сталинского периода — но и для цензурирования, отсекания нежелательных разделов от любых документов и мемуаров, заново вводимых в поле общественного сознания. Вплоть до 1970-х годов жанр книги-монтажа воспроизводился, пользуясь формалистским языком, как совершенно автоматизированный — и с точки зрения книжной структуры, и с точки зрения методологии исторического исследования. В нем могли быть локальные новации, вроде «оттепельной» книги «Подсудимые обвиняют» (1962[573]), но в целом оптика таких книг и их общественная функция оставались приблизительно одной и той же.
Ситуация стала меняться в 1970-е, когда стали появляться подцензурные художественные произведения и беллетризованные биографии, в которых документы призваны были создавать экзотизирующий колорит эпохи, — тем самым они вступали в конфликт с основным текстом по лексике, стилю и модальности и создавали композицию, подобную монтажной. Спектр функций таких документальных вставок очень сильно колебался — от откровенной условности, как в поэме Андрея Вознесенского «Авось» (1970)[574], до научно-отрефлексированного использования, как в биографии Евгения Баратынского, написанной Алексеем Песковым и возрождающей на новом уровне формалистские принципы 1920-х[575].
Перелом в отношении к потерявшему историческую динамичность жанру книги-свидетельства произошел в СССР не в русской, а в белорусской литературе. В 1975 году в Минске была издана книга, написанная в соавторстве Алесем Адамовичем, Янкой Брылем и Владимиром Колесником «Я из огненной деревни…»[576], немедленно вслед за тем переведенная и на русский язык[577]. Эта книга-коллаж содержала в себе не официальные документы, а записанные авторами свидетельства частных лиц — бывших партизан, или жителей деревень, которые были сожжены немецкой армией, отрядами СС или коллаборационистами в ходе антипартизанских операций в Беларуси во время Второй мировой войны.
Короткие фрагменты воспоминаний авторы «прослаивали» обширными историческими идеологизированными комментариями. Свой метод они описывали так:
Правда этих рассказов — прежде всего психологическая. Что и как было с ним самим, как чувствовал, воспринял, видел он это сам, — человек помнит настолько точно, что правда эта не только убеждает тебя, но звучит… просто невыносимо.
[…]
Психологическая правдивость этих рассказов — немалая гарантия и всякой другой точности, фактической — также. Здесь возможны, понятно, и ошибки, провалы памяти (когда что происходило, фамилии людей, последовательность событий). В таких случаях мы старались уточнять рассказы[578].
По своей исторической концепции книга полностью соответствовала сложившемуся к 1970-м годам канону изображения Второй мировой войны в советских литературах[579], но у нее было несколько особенностей. При всей общей сглаженности и идеологизированности стиля, авторы все же попытались передать различия в личных манерах высказывания разных «героев» книги:
В Литвичах немцы приехали молодежь брать в Германию, а партизаны подползли и стали там их уже бить. А они опять в воскресенье раненько приехали в Литвичи. А уже тогда приехали к нам в двенадцать часов. Тогда уже приказали они… У нас был Жаворонок, староста, местный. Как партизаны подойдут, так он собирал им что надо, а как немцы подойдут, дак он и немцам тоже. Ну, они приказали старосте этому, чтоб собрал яиц… Ну, люди ж боятся сильно… Я тоже одна была с двумя девочками своими, дак тоже боялась. Я из хаты не пошла. Сильно их, этих немцев, боялась. (Смеется.)[580]
Описания насилия в книге были шокирующе подробными. Собеседники авторов упоминали о многочисленных коллаборационистах из Украины и стран Балтии, участвовавших в уничтожении деревень, что придавало повествованию особенно трагические обертоны. Тема коллаборационизма в советской печати не была табуирована, но тщательно дозировалась, — Адамович, Брыль и Колесник несколько вышли за молчаливо подразумеваемые рамки.
Эта книга стала стилистическим и этическим образцом для двух произведений, которые актуализировали жанр книги-монтажа уже в русской литературе — «Блокадной книги» и документальной пенталогии Светланы Алексиевич «Голоса утопии».
Вскоре после выхода «Я из огненной деревни…», в 1977–1981 годах, Алесь Адамович в соавторстве уже с русским писателем Даниилом Граниным написал «Блокадную книгу»[581], посвященную блокаде Ленинграда. В нее включены фрагменты дневников выживших и погибших горожан и записи интервью о мучительно тяжелой жизни города, отрезанного от Большой земли. Особая роль быта как места предельного испытания, о которой шла речь при обсуждении выставки «Героическая оборона Ленинграда», в этой книге акцентирована вновь. Авторы приводят многочисленные свидетельства о том, сколь трудными были для жителей блокадного города любые, сколь угодно обыденные действия.
Декларации Адамовича и Гранина еще больше, чем рефлексивные автокомментарии в книге «Я из огненной деревни…», напоминают манифесты «литературы факта» 1920-х годов: «Единственное, в чем мы были уверены, так это в самоценности „материала“, который определил и сам характер, жанр книги»[582].
В некоторых главах авторы соединяют «встык» свидетельства разных людей об одних и тех же сторонах жизни блокадного города — о том, как они относились к работе, друг к другу, к постоянному чувству опасности.
Название «Блокадная книга» недвусмысленно отсылает к «Черной книге» (можно предположить, что инициатором этой «отсылки» был Даниил Гранин). Так же как и «Черная книга», и «Я из огненной деревни…», «Блокадная книга» изображает коллективную трагедию. Но в одном отношении работа Гранина и Адамовича гораздо больше напоминает «Я из огненной деревни…», а не «Черную книгу», гетерогенную по жанру и написанную многими авторами: «Блокадная книга» — единый авторский текст, в котором введение цитат всякий раз мотивировано, использованные фрагменты отредактированы, а читателю предложены «правильные» выводы и обобщения, сделанные авторами и использовавшие советскую официозную риторику:
Что же можно было противопоставить такому голоду? Довольно скоро многие почувствовали спасительную силу товарищества, старались соединиться, быть вместе. Происходило это и организованно, под руководством партийных комитетов[583].
Известно, что тема блокады Ленинграда в СССР была полузапретной[584]. О ней писали очень много, но односторонне — как об акте коллективного героизма. Тяготы блокадной жизни, стрессы и психические отклонения, вызванные голодом, преступность в осажденном городе, чувство обреченности — говорить и писать обо всех этих явлениях, хорошо памятных жителям города, не дозволяла цензура. «Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург с их острой рефлексией психологического опыта блокады не были приняты к печати и вышли только в 1989 году.
Книга Адамовича и Гранина считалась и с идеологическими предписаниями, и с цензурными правилами, но все же нарушала большее количество негласных табу, чем «Я из огненной деревни…». Авторы подробно рассказывают о голоде и сравнивают чувство коллективного недоедания, пережитого ленинградцами, с индивидуальным опытом, описанным в романе Кнута Гамсуна «Голод» (1890). Во включенных в книгу интервью они обсуждают, хотя и очень выборочно, условия, в которых делались дневниковые записи их героев, — то есть обращаются к историко-антропологической рефлексии:
— Дневник писался, когда вам было девятнадцать лет?
— Да, мне было девятнадцать.
— Скажите, с какой мыслью вы его писали?
— Трудно сказать. Вероятно, все-таки события были таковы, что как-то остаться незафиксированными они просто не могли. Самая главная мысль была та, что когда-то, когда все это кончится (а в этом сомнения не было, раз мы писали такие вещи), вот когда все это кончится, и самой читать, и, очевидно, прочесть тем, кто этого не видел.
— А до войны вели дневник?
— Ну, школьный, какой-то там ерундовый…[585]
По-видимому, помимо двух упомянутых книг-предшественниц, авторы «Блокадной книги» испытали влияние эстетики телевизионных документальных фильмов, в которых рассказ о событиях чередуется с интервью их участников.
Для того чтобы объяснить предпринятое ими нарушение табу, авторы использовали один из немногих легитимных в позднесоветской идеологии аргументов — демографический:
…Если вчера, может, и стоило щадить израненные войной души соотечественников, то сегодня новым поколениям, наверное, как раз и нужно как можно полнее, подробнее узнать, ощутить, что было до них. Надо же им знать, чем все оплачено, надо знать не только о тех, кто воевал, но и о тех, кто сумел выстоять, об этих людях, не имевших оружия, которые могли лишь стойкостью своей что-то сказать миру. Надо знать, какой бывает война, какое это благо — мир…[586]
Из-за нарушения цензурных табу и частичной, очень ограниченной, но все же предпринятой авторами рефлексии травм, связанных со Второй мировой войной, «Блокадная книга» произвела оглушительное впечатление на советскую аудиторию. Ее авторитет доныне остается почти неоспоримым. Издавая ранее неизвестный дневник девочки-блокадницы Лены Мухиной[587], сотрудники издательства «Азбука-Аттикус» в аннотации к этому тексту назвали «Блокадную книгу» Адамовича и Гранина «Ленинградским Евангелием»[588]. Тем не менее цензурные функции монтажа в «Блокадной книге» более заметны, чем в «Черной», которая была составлена во времена более свирепой государственной цензуры (правда, и не вышла в СССР).
Основой книги являются дневники троих людей — школьника Юры Рябинкина (который во время блокады умер), архивиста Георгия Князева и домохозяйки Лидии Охапкиной. Дневники Рябинкина Адамович и Гранин включили в книгу почти целиком[589], дневники Князева были очень велики по объему и только совсем недавно вышли отдельным изданием[590]. Фрагменты из дневников в книге чередуются — так, чтобы создать цельное представление о все более страшной трагедии города, — и сопровождаются выдержками из других документов и обширными авторскими комментариями. Эти комментарии в большинстве случаев имеют смысл «завершающего слова» (по М. М. Бахтину). Д. Гранин и А. Адамович подчеркивают, что и они, и вместе с ними — современный читатель видят лучше и дальше, чем авторы включенных в книгу дневников.
Юрин план разгрома под Ленинградом немецких армий, который он мог бы осуществить на пару с главнокомандующим [ — ] не последний всплеск предвоенного детства и предвоенной психологии. Будут и еще всплески такого вот понимания, наивных, а порой и нелепых представлений, не говоря уж о проявлениях детского эгоизма, с которым немало намучится совесть Юры[591].
Ограниченность обзора Г. А. Князева и плохая информация мешали ему знать истинное положение с ополчением. Он мог лишь гадать — и не всегда верно[592].
Особенно интересно отношение Адамовича и Гранина к Юре Рябинкину: в большинстве комментариев они подчеркивают «детскость» его взгляда, но одновременно представляют именно этого подростка как нормативный образец самовосприятия блокадников, в том числе взрослых:
Из всех виденных нами дневников дневник Юры Рябинкина наиболее сильно выразил потребность блокадника не только других, но и себя оценить правдиво, даже жестко[593].
В некоторых случаях комментарии имеют откровенный директивно-идеологический характер:
Горькие дни переживал Г. А. Князев. Ему казалось, что в огне войны ненависть испепелила в людях всякую человечность, гуманностью стало лишь уничтожение немецких захватчиков. Человечность ушла из мира, сетовал он… […] Ненависть к фашизму и любовь к человеку не сразу, не просто сопрягались в наших душах.
Уничтожение фашизма и было любовью к ближнему, было гуманизмом, было всем тем, о чем тосковал старый историк-романтик[594].
Приводя выдержки из дневника ленинградца, который после блокады надолго потерял веру в светлое начало в человеке, Адамович и Гранин поясняют, что эту «неполноценную» точку зрения можно привести только для того, чтобы ее оспорить — отчасти корректируя сталинистский лозунг «Нельзя предоставлять трибуну врагу», отчасти следуя его логике:
…Для того чтобы полемизировать с этим человеком, необходимо изложить и его точку зрения. Ее нельзя опровергнуть, ей можно противостоять. Откровенность этого человека была для нас поэтому ценной[595].
Конечно, можно сказать, что такого рода комментарии были частью негласного пакта с цензурой, заключенного Адамовичем и Граниным, как и многими другими подцензурными писателями, — без «завершающего слова» фрагменты из дневников бы не напечатали. Но результат здесь не менее важен, чем интенция авторов, «прочитываемая» людьми с советским опытом. Из историзирующего монтажа оказалось «вынуто» его смысловое ядро — самостоятельное значение и странность (остраненность) слова другой эпохи и другой культуры. Слово героев «Блокадной книги» не самоценно, оно по умолчанию нуждается в завершении составителей. Комментарии авторов и их принципы извлечения фрагментов из более обширных текстов (например, дневников Князева) с необходимостью работают не только на возможность опубликовать книгу, но и на душевный комфорт читателей — потому что цензура заботилась о том, чтобы оградить граждан от любых шокирующих впечатлений. Особенно от тех, что были связаны с советской историей.
В результате «Блокадная книга» получилась промежуточной как в эстетическом, так и в политическом смысле[596]. Эстетически она приближается к наиболее либеральным по духу советским журналистским книгам 1970-х, однако и название, и апелляция к «самоценному „материалу“», и другие следы выдают скрытое влияние более ранней эстетики. Характерно, что впоследствии различные авторы попытались сделать более монтажными, эстетически заостренными либо всю книгу Адамовича и Гранина, либо отдельные ее концептуальные ходы, словно бы перенося «затуманенную» эстетику книги в контекст намного более радикальной культурной традиции, повлиявшей на ее замысел.
В 2009 году режиссер Александр Сокуров снял документальный фильм «Читаем блокадную книгу» (без кавычек, это принципиально!) — к 65-й годовщине снятия блокады. Несмотря на умение Сокурова работать со сложными световыми и пространственными трансформациями, этот фильм в основной своей части снят максимально просто: жители современного Петербурга, сменяя друг друга, в радиостудии читают фрагменты из книги Адамовича и Гранина эмоционально-нейтральным тоном, чтобы усилить воздействие самого текста. Среди них — и «звезды», как, например, актеры Олег Басилашвили и Лариса Малеванная, и люди, неизвестные «широкой публике». «Артисты, пенсионеры, инженеры, студенты, военные, — характеризует их Сокуров во вступительном закадровом тексте, который читает сам. — Мы можем только догадываться, что именно чувствовал и думал каждый из них»[597]. Читают они не объяснения Адамовича и Гранина, а только тексты дневников и воспоминаний, включенных в книгу[598]. Изредка изображение людей в студии сменяется на экране фотографиями или фрагментами кинохроники военного времени. В финале фильма голоса, зачитывающие свидетельства, начинают повторяться, словно эхо, их записи наложены друг на друга.
Фильм Сокурова в минимальной степени использует приемы «острого» монтажа (Сокуров вообще к такого рода композиционным жестам относится крайне отрицательно), однако текст «Блокадной книги» в нем предстает намного более монтажным, чем его сделали Адамович и Гранин, — и еще более «персоналистическим», скорее в духе «Черной книги».
Один из жестов Адамовича и Гранина переоткрыл и радикализовал петербургский поэт Сергей Завьялов, принадлежавший к неподцензурной литературе и максимально далекий от умеренно советской стилистики авторов «Блокадной книги». В его поэме «Рождественский пост» (2010; подробнее о ней сказано в гл. 10) «встык» соединены медицинские описания ленинградской дистрофии, справки о блокадных нормах питания и указания об ограничениях в питании для монахов во время Рождественского поста. Да, это не голод автобиографического героя Гамсуна, который в США надеялся разбогатеть, а остался без работы, но Завьялов тоже сравнивает два рода голода: добровольный и трудный, но выносимый для решившихся на монашество; и недобровольный и невыносимый, смертельный.
Политически судьба книги Адамовича и Гранина оказалась тоже промежуточной. Книга, как, видимо, и надеялись авторы, немного расширила пространство цензурно дозволенного в СССР. Главы из нее публиковались в периодике[599]. В 1979 году отдельным изданием вышла только первая часть произведения, основная часть текста «Блокадной книги» была напечатана в 1982 году, но и в этом издании были цензурные изъятия (вырезанные куски Гранин публиковал в прессе уже в 1990-х[600]). Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов, известный своим агрессивным отношением к любому политическому инакомыслию, считал сочинение Гранина и Адамовича «недостоверным» и, по слухам, запрещал публиковать его в Ленинграде отдельным изданием. Даже в интервью 2004 года отставной функционер обрушился с нападками на «Блокадную книгу»[601]. Она вышла в Лениздате в 1984-м — через год после того, как Романов отправился на повышение в Москву.
Идейный и жанровый генезис «Блокадной книги» нуждается в дальнейшей реконструкции. В своих недавних мемуарах Гранин утверждает, что идея книги была подсказана ему Пантелеймоном Пономаренко — вероятно, психологически самым нетривиальным человеком из ближайшего окружения Сталина начала 1950-х годов. По словам Гранина, он встречался с Пономаренко в Амстердаме в начале 1960-х годов. Высокопоставленный партийный чиновник, не допущенный в «команду» Н. С. Хрушева, был отправлен послом в Нидерланды[602]. Там Пономаренко, по словам Гранина, якобы «начал работать над историей Великой Отечественной войны [где] рассматривал историю военных операций с точки зрения потерь воюющих сторон. […] При таком подходе, как убедился Пономаренко, совершенно иначе выглядят наши прославленные полководцы»[603].
Никаких сведений о том, что Пономаренко написал такую работу, нет, но разговор с ним заставил писателя пересмотреть свои — как он полагал, общепринятые — взгляды: «Всю войну, а я провоевал почти все четыре года, я провел в твердом убеждении, что защищать рубеж надо до последнего человека, не считаясь с потерями, двигаться вперед, наступать надо любой ценой».
Как ни странно, точка зрения, которую Гранин приписывает Пономаренко, согласуется с основной мыслью «Тезисов о понятии истории» Беньямина: история нуждается в том, чтобы быть переписанной с точки зрения побежденных и забытых. Такое представление могло косвенно способствовать тому, что Гранин и Адамович обратились к монтажной структуре в книге, посвященной беззащитным гражданам, оставленным на голодную смерть в городе во многом из-за просчетов и сознательного пренебрежения советского руководства.
«Даниэль Штайн, переводчик»: вымысел как высший род документальности
Монтажные работы Щёголева и Вересаева, «Черная» и «Блокадная» книги построены как разноголосица свидетельств о сакрализованном явлении — революции, гениальном писателе, «культурном наследии», жертвенных страданиях невинных людей. Эта традиция — книги-монтажа как соединения материальных свидетельств сакрализованного события, ни одно из которых не может претендовать на монополию, — неожиданно возродилась через много лет в русской литературе 2000-х годов — в романе Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» (2006). Произведение это хорошо известно современному читателю — но все же позволю себе напомнить фактические сведения.
В основе романа — история Освальда Руфайзена (1922–1998, имя при рождении — Шмуэль Аарон Руфайзен, имя в монашестве — брат Даниэль Мария) — католического монаха ордена кармелитов, еврея по происхождению. Он родился в Польше в нерелигиозной семье, с детства говорил на нескольких языках. Во время Второй мировой войны, скрыв свою национальность, он поступил в белорусскую полицию села Мир, подчиненную нацистскому командованию. До войны Мир был большим и известным еврейским местечком, и нацисты, как и везде, планировали уничтожить всех евреев, живших там. Пользуясь своим положением, Руфайзен способствовал побегу из села нескольких сотен евреев. Когда его разоблачили в 1942 году, Руфайзена спрятали католические монахи. В монастыре он добровольно крестился. После окончания войны получил в Польше духовное образование и принял монашество в кармелитском ордене. В 1962 году Руфайзен пытался получить израильское гражданство как еврей, но получил отказ министерства внутренних дел Израиля, судился с министерством и проиграл процесс — тем не менее все же получил гражданство, но не как еврей, а как иноверец, помогавший евреям во время Шоа. В Израиле он был пастырем общины евреев-христиан в Хайфе, разработал проект католического богослужения на иврите и поддерживал дом престарелых для Праведников народов мира — людей нееврейского происхождения, участвовавших в спасении евреев от нацистов.
Даниэль Руфайзен написал свою автобиографию (на польском языке) и дал ряд автобиографических интервью. Роман Улицкой о Штайне опирается на серьезную источниковую базу (отчасти перечисленную в авторских «acknowledgements» в послесловии), но это — повествование о вымышленном персонаже. Композиция романа имеет монтажный характер: о Штайне и о событиях, которые разворачивались вокруг него в Белоруссии, Польше и Израиле, рассказывают он сам (Улицкая сильно переработала автобиографические рассказы монаха) и многочисленные люди, которые с ним были связаны близко или косвенно. Их монологи чередуются и могут внезапно обрываться. Сама Улицкая использует соответствующую терминологию: «Безумной сложности монтажные задачи. Весь огромный материал толпится, все просят слова, и мне трудно решать, кого выпускать на поверхность, с кем подождать, а кого и вообще попросить помолчать»[604].
В книгу включены письма Штайна к младшему брату, чьим очевидным прототипом стал брат о. Даниэля Арье Руфайзен[605], отрывки из газет, путеводителей и официальных документов. Время действия переносится из 2000-х в 1940-е и обратно, из одной страны в другую: США, Польша, Россия, Израиль. Важным элементом книги являются то ли фикциональные, то ли реально отправленные письма автора, Людмилы Улицкой, к своей подруге Елене Костюкович, известной как главный переводчик Умберто Эко на русский язык[606]. В них «Улицкая» (как персонаж) обсуждает сложности работы над романом с его необычной, по ее мнению, композицией.
Одна из главных задач произведения Улицкой — показать разнообразие и «штучность», неподводимость под общие критерии всех людей, связанных со Штайном[607].
Мало кто заметил, в каком направлении Улицкая изменила исторические факты. Например, она радикализует положение Даниэля Руфайзена в 1941 году: ее герой становится переводчиком не в белорусской полиции, а в гестапо, то есть служит, хоть и из благих целей, но в откровенно преступной организации.
Роман вызвал чрезвычайно бурную дискуссию — не столько литературного, сколько религиозного характера. Российские консервативные критики сочли его антихристианским, легко перенося это обвинение с героя романа на его автора и на исторического о. Даниэля[608]. Напротив, рецензент «Washington Post», писатель Мелвин Дж. Бакайет, обвинил писательницу в неуважении к Израилю и в желании изобразить обращение максимального числа евреев в христианство[609].
В пылу этой национально-религиозной полемики потерялся вопрос о том, почему, собственно, Улицкая не просто избрала для своего романа монтажную форму, но и подчеркивает ее значимость и отрефлексированность в «письмах к Елене Костюкович»: «Я не настоящий писатель, и книга эта не роман, а коллаж. Я вырезаю ножницами куски из моей собственной жизни, из жизни других людей, и склеиваю „без клею“ — цезура! — „живую повесть на обрывках дней“»[610].
Улицкая цитирует стихотворение Б. Пастернака «Памяти Рейснер» (1926):
Лариса, вот когда посожалею, Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней. Я б разузнал, чем держится без клею Живая повесть на обрывках дней[611].Пастернак изображает в мемориальном стихотворении «кусковое», фрагментарное эстетическое мироощущение 1920-х. Писательница помнит о давнем происхождении примененного ею метода.
Автор книги приписывает себе роль «монтажера», впадая в очевидное противоречие — кажется, совершенно сознательно. В одном из писем к Костюкович «Улицкая» объявляет придуманные ею документы еще более правдивыми, чем настоящие, тщательно ею изученные[612]. «Оправдание мое в искреннем желании высказать правду, как я ее понимаю, и в безумии этого намерения»[613] — вот завершающая фраза книги. Сочиненные тексты, подобно дневникам и письмам, включенным в монтажные книги, словно бы говорят за «составителя», тем самым уводя в тень вопрос о том, каков собственный голос автора. (Я полагаю, что эта принципиальная непроясненность позиции стала одной из главных причин критических нападок на Улицкую. Анна Наринская написала доброжелательную статью о романе, но характерно, что для того, чтобы объяснить, в чем главное его достоинство, она сочла необходимым сначала отрефлексировать за автора причины и обстоятельства ее высказывания[614].)
По-видимому, Улицкая синтезировала в своем романе сразу все стадии развития исторического и мемориального коллажа — от литературных антологий 1920-х годов до «Черной» и «Блокадной книги». «Даниэль Штайн, переводчик» — роман о вымышленном персонаже, а не сборник реальных документов о Руфайзене, поэтому произведение Улицкой — не завершение или продолжение жанровой традиции, а ее использование в качестве готового языка. Однако гетерогенность традиции в романе не отрефлексирована, и созданное Улицкой метаповествование «по умолчанию» воспроизводит характерные мотивы и эстетические черты, свойственные монтажам из подлинных цитат.
От «Черной» и особенно от «Блокадной» книг ее роман унаследовал установку на преобразование документов для усиления художественного впечатления и сознательную непроясненность позиции автора, который и сам оказывается словно бы составителем, дающим лишь самые обобщенные, безадресные этические оценки, чтобы не называть точно свое экзистенциальное «место».
…[Руфайзен] всей своей жизнью втащил сюда целый ворох неразрешенных, умалчиваемых и крайне неудобных для всех вопросов. О ценности жизни, которая обращена в слякоть под ногами, о свободе, которая мало кому нужна, о Боге, которого чем дальше, тем больше нет в нашей жизни, об усилиях по выковыриванию Бога из обветшавших слов, из всего этого церковного мусора и самой на себя замкнувшейся жизни[615].
(Ср. аналогичный по степени обобщенности монолог автора, объясняющего свои задачи, в начале фильма Сокурова «Читая блокадную книгу».)
Центральным, но скрытым мотивом романа «Даниэль Штайн, переводчик» становится сакрализация прошедшего события, которое интерпретируется как этическое задание на будущее — автору и читателям. Этот мотив — общий для обсуждаемой традиции.
На жанровую схему «сакрализующего многолюдного монтажа» в романе Улицкой наслаиваются другие влияния, анализ которых не входит в задачу этой книги. По-видимому, среди этих воздействий — разнообразные монтажные композиции в американской прозе, в диапазоне от «Мартовских ид» Торнтона Уайлдера (1948, русский перевод — 1981) до романа Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (1968, русский перевод — 1970).
«Обеззараживание» и повторная эстетическая радикализация монтажа в послевоенной советской культуре
Составители «Черной книги», по-видимому, первоначально не считали ее текстом, хоть сколько-нибудь критическим по отношению к официальной идеологии. Они планировали создать еще один сборник материалов о преступлениях нацистов — может быть, несколько необычный по структуре, но поэтому — и особенно пригодный для пропаганды на заграницу. Запрет книги стал для них сильным ударом, хотя, в отличие от других участников ЕАК, входившие в него Эренбург и Гроссман не были ни арестованы, ни даже отлучены от печати. Послевоенные публикации Гроссмана, пьеса «Если верить пифагорейцам» (написана — 1940, опубликована — 1946) и роман «За правое дело» (1952) были обруганы официальными инстанциями, Эренбург же вышел из конфликта вокруг «Черной книги» почти без потерь: в 1948 году он получил Сталинскую премию за роман «Буря», в 1952-м — еще одну, новоучрежденную Сталинскую премию «За укрепление мира между народами».
Тем не менее работа Эренбурга и Гроссмана стала переломной в истории советской книги-монтажа. В 1940-е годы, в ходе многочисленных и непредсказуемых смен вектора идеологических кампаний (прославление социалистической Югославии — разрыв отношений с режимом Тито, новое торжество «марристов» в 1948–1949 гг. и последующий разгром «нового учения о языке» в книге Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», официальные нападки попеременно то на композиторов-модернистов, то на критиков-космополитов, то на евреев вообще), резко потеряло актуальность представление о том, что документы могут «говорить сами за себя» — даже идеологически проверенные. Некто А. Холопов обратился к Сталину с вопросом: не противоречат ли новые утверждения «вождя» его же собственным прежним «марристским» декларациям. Сталин в ответном письме обозвал своего корреспондента «талмудистом и начетчиком», пояснив, что в своем докладе имел в виду нечто совершенно другое, чем предполагал Холопов[616].
В этих условиях на место монтажа документов приходит их пересказ и тщательное препарирование. Эта тенденция не была господствующей — например, уже в 1950-е годы в СССР были изданы полные протоколы Нюрнбергского процесса — но все же смена культурной доминанты была достаточно ощутима. Неотредактированный, аутентичный исторический документ воспринимался как нечто опасное, он был насыщен потенциально запретными именами и значениями.
В конце 1960-х среди молодых историков культуры и особенно литературы распространяется мода на архивные исследования и публикацию забытых текстов. Наибольшее внимание вызывала эпоха «серебряного века». Эта мода осознавалась как имеющая отчетливо нонконформистский смысл.
В период «оттепели» и позже публиковались многочисленные документы, связанные с историей Великой Отечественной войны, некоторые — в составе вполне научных, добросовестных изданий[617]. Но все же возрождение жанра монтажной книги, осуществленное Адамовичем и Граниным, было нарушением культурных конвенций. Природу этого нарушения предсказали Борис Эйхенбаум и Соломон Рейсер, которые писали, что монтажная книга о писателе «проявляет» литературный быт. Традиция монтажной книги вообще была, как видно из сегодняшнего дня, очень сильно связана с репрезентацией частной жизни, которая при советской власти была предметом идеологически сомнительным и отчасти табуированным, потому что и «просто» частная жизнь, сама по себе, была в СССР репрессирована и затруднена.
Мотива частной жизни не было у сборников документов о зверствах нацистов, но он был в «Черной книге»: она демонстрирует постоянное столкновение бесчеловечной силы нацизма и повседневных дел и радостей всех тех, кто писал и говорил о себе и своих близких для этого собрания документов. Даже столь осторожный по стилистике текст, как «Блокадная книга», говорил о значимости страшного блокадного быта.
Эстетика книги-монтажа сама по себе запрещена не была. Но те идеи, на которых она была основана, «вытолкнули» связанный с ней тип книги в сторону неофициального или не совсем официального письма. Поэтому на смену «Черной книге» столь долго — до конца 1970-х — не приходило ничего подобного, даже и на совершенно другую тему. Только сейчас становится понятно: дело было не только в запретной еврейской теме, но и в жанре.
Об укорененности сюжета романа Улицкой в проблематике неофициальной культуры 1970-х пишет Анна Наринская:
…Идеи Даниэля Руфайзена (и списанного с него Даниэля Штайна) об общности иудаизма и христианства, куда более важной в духовном отношении, чем различия между ними, за которые так держатся клерикалы с обеих сторон, должны по-настоящему волновать только тонкий слой людей в России. Людей, близких к Людмиле Улицкой по возрасту и кругу. Тех, кто, придя в семидесятые — начале восьмидесятых к христианству, не захотел «забыть» о своем еврействе как о национальности. (В творческих кругах того времени таких людей было довольно много.) И вот тогда эти неофиты, привыкшие презирать советское государство с его официальным антисемитизмом, сталкивались с антисемитизмом церковным.
Проблематика «Штайна» во многом — продолжение разочарований и споров тех лет. Людмила Улицкая смогла вывести эти переживания и вопросы в прямом смысле слова из тесных кухонь на свежий воздух и заставить подумать о них тех, кому, скорее всего, ничего подобного никогда и в голову не приходило[618].
Жанр книги-монтажа имел, однако, одно скрытое ограничение. Он не предполагал в качестве обязательной операции рефлексию аутентичности использованных в книге языков. Это ограничение действовало тем сильнее, чем более советским по своей эстетике становился жанр, — иначе говоря, чем больше он был основан на том, что документ или авторский голос представляют последнее, «завершающее» слово об историческом событии.
В «Блокадной книге» рефлексия аутентичности используется только в тех случаях, когда результаты такой рефлексии обещают быть идеологически допустимыми. Людмила Улицкая, осознающая эту проблему, создала в «Даниэле Штайне» вместо языков источников — языки вымышленных героев.
Дальнейшее развитие описываемой жанровой традиции, по-видимому, возможно в случае, когда монтажность вновь резко усиливается и дополняется антропологической рефлексией, не «завершающей» использованные тексты. Эта трансформация происходит в творчестве русско-белорусской писательницы Светланы Алексиевич — автора книг, подготовленных на основе автобиографических нарративов — устных и письменных — участников или свидетелей травмирующих событий, в диапазоне от Второй мировой войны до неудавшегося самоубийства. Алексиевич, кажется, в равной степени согласна представлять себя как писателя и антрополога, исследующего травмы, порожденные советской жизнью[619]. Написанный ею в 1980–2010-х годах цикл из пяти книг называется «Голоса утопии». Целиком он был издан в 2013 году в московском издательстве «Время».
В беседе с литературным критиком Натальей Игруновой Алексиевич говорит:
Я тридцать с лишним лет писала эту «красную» энциклопедию. Все началось со встречи с Алесем Адамовичем. Я долго искала свой жанр — чтобы писать так, как слышит мое ухо. И когда прочитала книгу «Я из огненной деревни…», поняла, что это возможно. Меня всегда мучило, что правда не умещается в одно сердце, в один ум. Что она какая-то раздробленная и рассыпана в мире. Как это собрать? И тут я увидела, что это можно собрать[620].
Я просто хотела организовать весь этот хаос. Общество распалось, атомизировалось, множество разных идей работает на этом пространстве. Моя задача была выбрать главные направления жизненных энергетических потоков и как-то оформить их словесно, сделать это искусством. […] У меня все говорят — и палачи, и жертвы[621].
Эволюция метода Алексиевич от первых книг пенталогии к ее завершению заслуживает отдельного исследования. Здесь я позволю себе высказать лишь краткие предварительные замечания. По-видимому, на протяжении «Голосов утопии» дискретность текста нарастает. В первой книге, «У войны не женское лицо» (1983, опубл. 1985[622]), приведены многочисленные монологи советских женщин, воевавших на фронтах Второй мировой войны, — без всяких идеологических и «завершающих» комментариев, которые были в работах Адамовича с соавторами. В завершающей книге «Время секонд-хэнд», посвященной краху СССР, монологи, по-видимому, отредактированы, но Алексиевич подчеркивает, что ее герои не могут осмыслить произошедшее в рамках целостного нарратива и поэтому противоречат сами себе. Поэтому в ее записях много отточий. Вот характерный фрагмент одной из участниц книги — бывшей партийной чиновницы районного масштаба. Описывая перестроечные митинги конца 1980-х, она говорит:
…тут не колонны, а стихия. Не советский народ, а какой-то другой, незнакомый нам. И плакаты другие [чем на первомайских демонстрациях советского времени]: «Коммунистов под суд!» «Раздавим коммунистическую гадину!» Сразу вспомнился Новочеркасск… Информация была закрытая, но мы знали… как при Хрущеве голодные рабочие вышли на улицы… их расстреляли… Тех, кто остался в живых, рассовали по лагерям, до сих пор их родные не знают, где они… А тут… тут уже перестройка… Стрелять нельзя, сажать тоже. Надо разговаривать. А кто из нас мог выйти к толпе и держать речь? Начать диалог… агитировать… Мы были аппаратчики, а не ораторы[623].
Алексиевич в 1970–1980-е годы работала советской журналисткой, но ее пенталогия, и особенно завершающая книга, перекликается по методу с неподцензурной литературой и, отчасти, с формалистскими монтажами. Переклички выражаются в твердом отказе от комментирующего, завершающего авторского слова — как можно видеть из беседы с Н. Игруновой, этот отказ имеет для Алексиевич мировоззренческий и общеэстетический смысл — и в нарастающем интересе к дискретности, внутренней противоречивости человеческого мышления, несводимости его к идеологическому цельному нарративу. Таким образом, несмотря на идеологическую «правильность» книги «Я из огненной деревни…», после того как Адамович, Брыль и Колесник возродили жанр книги-монтажа, он стал неуклонно смещаться из советского смыслового пространства в сторону неподцензурной литературы, что нашло завершение в творчестве Улицкой и особенно Алексиевич.
В 2010-е годы, одновременно с завершением пенталогии Алексиевич, и Улицкая — скорее всего, независимо от нее — приходит к идее монтажа подлинных, хотя и сильно отредактированных чужих текстов. В том же 2013 году она подготовила к печати книгу «Детство 45–53: а завтра будет счастье», составленную из фрагментов воспоминаний о повседневной жизни детей в послевоенном СССР. Эти воспоминания были написаны специально по просьбе Улицкой, которая в специальных объявлениях в прессе призвала людей своего поколения рассказать о временах своего детства — и получила, по ее собственным словам, более тысячи писем. Книга состоит из разделов «Ели…», «Пили…», «Мылись…», «Одевались…», «Играли…». Критик Наталья Кочеткова замечает, что книга способствует остраненному восприятию исторического периода, который кажется вроде бы хорошо знакомым: «В этих записках говорится… как, например, мать и дочь на лето шили себе по одному платью и ходили в нем весь сезон. Иными словами, о жизни странной, незнакомой и из сегодняшнего дня трудно представимой»[624].
Глава 7 «Оттепель»: персонализация монтажа
Возвращение к монтажным принципам: советский кинематограф 1960-х
Переосмысление семантики монтажа в 1940-е годы в творчестве В. Луговского, А. Белинкова, Д. Андреева происходило в постоянном диалоге с эстетическими традициями 1920–1930-х годов. Произведения этих авторов 1940-х и начала 1950-х стали скрытым, «подземным», не имевшим выхода к читателю развитием довоенных тенденций русской культуры.
Следующий этап истории монтажа в советской культуре начался в середине 1950-х, в первые годы «оттепели», однако те авторы, которые по разным причинам обращались к монтажу как приему и методу, вступали в диалог не с «потаенными» поэтами и писателями 1940-х, а напрямую с эстетикой революционных модернистов и авангардистов 1920-х. Как уже не раз отмечали исследователи, традиции этой эстетики в «оттепельной» культуре оказались радикально переосмыслены.
Для советской культуры 1960-х был характерен, по точному выражению Александра Прохорова, «антимонументалистский тренд»[625], полемический не только по отношению к монументализму «Культуры Два» 1930-х — начала 1950-х годов, но и к масштабным проектам революционной «Культуры Один». На короткое время — в продолжение второй половины 1950-х — некоторые инициативы партийно-государственного начальства совпали по своей культурной семантике с проектами, стихийно появлявшимися в среде интеллигенции.
На смену огромным архитектурным сооружениям пришли панельные дома-«хрущевки» с убогими, но индивидуальными квартирами: застройка окраин Москвы и других городов пятиэтажками началась в 1955 году[626]. Чуть раньше, в 1954-м, во время подготовки II съезда советских писателей и во время самого съезда, литераторы попытались реабилитировать лирическую поэзию — жанр, который был на тот момент едва ли не единственной возможностью представления мыслей и чувств частного человека[627]. И лирика, и «хрущевки», и «оттепельные» романы и фильмы — в том числе и роман И. Эренбурга, давший название историческому периоду, — насколько можно судить и по прессе тех лет, и по позднейшим мемуарам, воспринимались как разные части единого процесса — выдвижения частного, отдельного человека в центр внимания государства и общества. Современные историки показали, что интенции тогдашних партийных элит и интеллигенции, равно как и других общественных групп, в действительности не совпадали, но внешне социально-культурные инициативы разных акторов «оттепели» на протяжении нескольких лет казались близкими по направлению.
Одновременно с поворотом культуры к «искренности», «правде», декларативному отказу от заданных тем и от эмблематичности усилился интерес к эстетическим методам 1920-х, в том числе и к монтажу. На этот интерес оказывало влияние и аналогичное, хотя и имевшее другие причины, культурное движение в странах Запада — возрождение моды на киностилистику и авангардные, экспериментальные приемы 1920-х.
В «оттепельном» советском кино возрождение монтажных методов привело к очередному изменению их семантики: теперь монтаж мог демонстрировать неустойчивость и относительность любой идеологии и — в продолжение традиции 1910-х годов, «вытесненной» в 1920-е, — импровизационность, не-телеологичность произведения. По сравнению со сталинской эпохой в конце 1950-х — начале 1960-х резко усилилось восприятие современной жизни как особенно динамичной, быстрой, насыщенной калейдоскопически сменяющимися образами. Монтаж, вновь получивший распространение в советском кино, был нужен для выражения этой современности.
Критика советской идеологии и идеологизированного искусства с помощью эстетики монтажа в период «оттепели» велась с двух сторон — кинокомедии и кинопублицистики. Кинорежиссер Леонид Гайдай (ученик Григория Александрова) начал снимать комедии, основанные на резком, очень заметном монтаже, в целом пародирующие стилистику немых кинокомедий 1910–1920-х годов. В центре этих короткометражных фильмов стояла троица постоянных гротескных персонажей — Балбес, Трус и Бывалый, — а первые комедии («Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики» — оба 1961) сознательно строились как «немые» и сопровождались музыкой Н. Богословского, составленной из популярных мотивов и имитировавшей игру тапера в кинотеатре 1920-х. Сюжет первых фильмов Гайдая представлял цепочку гэгов, организованных скорее по принципу «нанизывания», чем причинно-следственной связи[628].
В публицистическом кино эстетика монтажа была использована в фильме Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» (1965), созданном на основе перекомпонованных кадров из пропагандистских фильмов, снятых в нацистской Германии, — в первую очередь той же Лени Рифеншталь, — и фотографий, найденных в захваченном советскими войсками бункере Гитлера, в оставшемся там архиве Геббельса. Ромм в этом фильме выступил как ученик известного авангардного режиссера и монтажера Эсфири Шуб. В 1920-е Шуб, помимо «обычного» кино, создавала идеологизированные фильмы, обличавшие императорскую Россию; они состояли в значительной степени из дореволюционных хроникальных кадров, перемонтированных в другом порядке, и комментирующих их «идеологически выверенных» титров: «Падение династии Романовых» (1927), «Россия Николая II и Лев Толстой» (1928) и др.[629]
Формально Ромм выполнял практически ту же задачу, что и Шуб: демонстрировал, сколь жалок и отвратителен был репрессивный режим, побежденный Советским Союзом. Но, по воспоминаниям мемуаристов, сам Ромм при монтаже фильма постоянно замечал, насколько похожа была нацистская пропаганда на сталинскую, и старался вырезать кадры, где это сходство особенно бросалось в глаза. Один из авторов сценария фильма, Майя Туровская, в интервью журналу «Искусство кино» утверждала, что уже до начала монтажной работы понимала перекличку между двумя тоталитарными диктатурами[630]. Еще одно отличие картины Ромма от фильмов Шуб состояло в том, что «Обыкновенный фашизм» обличал не поверженный режим, а, как утверждал закадровый комментарий, распространенную во всем мире идеологию. Таким образом, фильм связывал историю и современность, а не отделял одно от другого непроходимой границей, как это делало советское искусство 1920-х.
Несмотря на советский по своей риторике сопроводительный текст Михаила Ромма, стилистика комментария была необычной для советского документального кино — сам режиссер читал его хрипловатым, не слишком «сценическим» голосом, с подчеркнуто «приватной», ироничной интонацией. Финал фильма вообще является радикально не-советским, одновременно и эстетским, и более гуманистическим, чем требовали советские идеологические догмы: за кадром маленькая девочка рассказывает сказку о курочке Рябе, а в кадре сменяют друг друга статичные фотографии нацистских вождей и неизвестных людей (с особым акцентом на глаза) и подвижные кинокадры детей, играющих в детском саду. Этот монтажный ряд иллюстрировался замечанием режиссера-ведущего: «Все зависит от того, что мы с вами вылепим из этих детей».
В подходе Гайдая и Ромма к монтажу можно заметить некоторую функциональную эквивалентность — для обоих режиссеров произведение искусства (фильм) представало не как цельное, готовое, заведомо телеологичное, но как становящееся и создающееся на глазах у зрителя. Поэтому для фильма Ромма была важна скорее ассоциативная, чем нарративная логика — режиссер подчеркивал это в своих воспоминаниях[631], а Гайдай сознательно усиливал импровизационность монтажа и всего действия своих комедий. Однако ни тот ни другой режиссер не эксплицировал этих — безусловно модернистских по своему происхождению — особенностей своих фильмов.
Уже на излете «оттепели» на советские экраны вышел фильм, в котором связь монтажа и импровизационности выведена на уровень эстетики — «Айболит-66» (1967) Ролана Быкова, снятый по сценарию режиссера и Вадима Коростылева. В первой части фильма в кадре постоянно присутствует съемочная группа, сам сюжет разыгран как творящаяся на глазах зрителя импровизация — но остраненная изощренным монтажным построением и необычными ракурсами съемки. Экран меняет форму — становится то узким, то более широким. Дети-актеры кладут на пол голубые ленты и с их помощью изображают волны — но как только хор за кадром несколько раз пропевает «магические» слова «И море всерьез, и корабль всерьез!», на следующем же кадре Айболит и его друзья плывут на «настоящем» паруснике по реальному морю.
В каждом из перечисленных случаев — фильмы Гайдая, Ромма и Быкова — монтаж имеет различный историко-стилистический смысл. Так, в фильме Быкова, в отличие от Ромма и Гайдая, монтаж служит принципиальному уравниванию социальной реальности и мира игры и поэтому может быть охарактеризован как постмодернистский. Однако, хотя вопрос об исторической типологии монтажа в целом важен для моей книги, здесь необходимо обратить внимание на то, что сближало, а не разделяло использование монтажа у этих трех режиссеров. Этот метод был у них так или иначе специально мотивирован: у Гайдая и Быкова — откровенной эксцентрикой, у Ромма и Гайдая — отсылками к эстетике раннего кино (у Гайдая — к немой комедии с ее условными типажами, у Ромма — к фильмам Шуб и, возможно, Дзиги Вертова), у Быкова — пародийными аллюзиями на новейшие тогда эксперименты европейского кинематографа, прежде всего — фильм Фредерико Феллини «Восемь с половиной» («Otto e mezzo», 1963). Однако в «оттепельном» СССР был вид искусства, в котором монтажные принципы использовались чаще, чем в кино, но при этом без специальных мотивировок. В поэзии приемы, эквивалентные киномонтажу, стали в 1960-е годы в первую очередь знаком современности — во всяком случае, для подцензурных авторов.
«Легальные шестидесятники» в поэзии
Монтажная эстетика в литературе 1960-х была представлена несколькими, ранее не использовавшимися в этой функции приемами. Наиболее характерным из них была приблизительная рифма — или «корневая ударная рифма», как ее назвали в статье-манифесте 1959 года учившиеся тогда в Литинституте поэты Юрий Панкратов и Иван Харабаров[632] (после публикации их опуса, где рифма провозглашалась одним из главных показателей новизны в поэзии, остряки в московских писательских кругах говорили, что самая авангардная рифма сегодня — это рифма «Панкратов — Харабаров»[633]).
Сложные, составные, неточные рифмы, ориентированные на традицию Маяковского, использовали поэты, начинавшие в конце 1930-х (М. Кульчицкий, М. Луконин, Н. Глазков и другие), — тогда эти рифмы отсылали к продолжению революционно-футуристической поэтики вопреки «затвердеванию» новой литературной догмы. В этом кратком и эскизном обзоре нет возможности обсуждать особенности приблизительной рифмовки 1960-х годов, тем более что на материале подцензурной поэзии их уже обследовали Д. С. Самойлов, позже — М. Л. Гаспаров, который добавил к изучаемым текстам стихотворения И. А. Бродского[634]. Здесь необходимо отметить только один важнейший аспект «новой» рифмовки — она нарочито «денатурализовала» течение стиха, которое в подцензурной поэзии 1940–1950-х годов должно было ощущаться как «естественное»[635], — потому тогда в ней преобладали рифмы точные или основанные на усечении; вторые уже в 1960-е воспринимались как старомодные[636], а первые — как стилистически маркированные, «не-современные». На эту же «денатурализацию» работали многочисленные, подчеркнутые, часто навязчивые аллитерации в стихотворениях «шестидесятников».
Таким образом, в 1950–1960-е приблизительные рифмы стали знаком продолжения революционной традиции, или, пользуясь риторикой, заданной XX съездом КПСС, «возвращения к ленинским нормам» — но приобрели гораздо более явную, чем в конце 1930-х, коннотацию — раскрепощения литературы, расширения границ дозволенного, намеренной игры с читателем, «сопряжения далековатых идей»[637]. Впечатление раскрепощенной звуковой игры создавалось паронимической аттракцией и метафоническими заменами, инверсиями и пропусками согласных в рифмующих словах.
Она была первой, первой, первой Кралей в архангельских кабаках. Она была стервой, стервой, стервой, С лаком серебряным на коготках. Что она думала, дура, дура, Кто был действительно ею любим? …Туфли из Гавра, бюстгальтер из Дувра И комбинация с Филиппин. (Е. Евтушенко, «Баллада о стерве»[638]) Состав с арбузами пришел из Астрахани! Его встречают чуть ли не с астрами! Студенты — грузчики такие страстные! Летают в воздухе арбузы страшные, и с уважением глядит милиция и на мэитовца и на миитовца. (Е. Евтушенко, «Москва — Товарная»[639]) Я — Горе. Я — голос войны, городов головни на снегу сорок первого года. Я — Голод. Я — горло повешенной бабы, чье тело, как колокол, било над площадью голой… Я — Гойя! (А. Вознесенский, «Я — Гойя»[640]) Я Мерлин, Мерлин. Я героиня самоубийства и героина. (А. Вознесенский, «Монолог Мерлин Монро»[641])Как видно из приведенных примеров, неточная рифма в поэзии 1960-х несла повышенную смысловую нагрузку: она призвана была подчеркивать антонимичность, смысловой контраст или, наоборот, сближение (по принципу паронимической аттракции) рифмующих слов; см. в цитатах из Евтушенко: «кабаках — коготках», «дура — Дувра», «Астрахани — астрами», «страшные — страстные», «милиция — миитовца», из Вознесенского: «горе — голос — голод — горло — голой — Гойя», «героиня — героина». В поэзии конца 1950-х — начала 1960-х постоянно использовались рифменные сопоставления литературного слова — с жаргонизмом и просторечием и вообще слов из разных стилистических регистров. Функционально «новая» рифма была подобна кинематографическому монтажному стыку.
Монтажную природу имели и другие приемы поэзии «легальных шестидесятников», в частности описание события или объекта через набор броских, эффектных образов-«кадров» — как, например, в обращении к аэропорту в стихотворении Андрея Вознесенского «Ночной аэропорт в Нью-Йорке» (1961)[642]:
Как это страшно, когда в тебе небо стоит в тлеющих трассах необыкновенных столиц! […] В баре, как ангелы, гаснут твои алкоголики, ты им глаголешь! […] Ждут кавалеров, судеб, чемоданов, чудес… Пять «Каравелл»[643] ослепительно сядут с небес! Пять полуночниц шасси выпускают устало. […] Стонет в аквариумном стекле небо, приваренное к земле[644].«Легальная» поэзия 1960-х была общественной, часто — острополитической по своей тематике. По сути, она решала нелитературные задачи — создания языка для выражения коллективных эмоций, для перформанса новой идентичности советской молодежи[645]. Но использованные в этой поэзии приемы, напоминавшие монтаж, напротив, подчеркивали автономию текста, его «отделенность» от окружающего мира и повседневной речи.
Этот видимый парадокс объясняется тем, что фонетический облик стихов и их политизированная тематика были внутренне связаны одновременно двумя семантическими конструкциями: 1) отсылкой к постфутуристическому авангарду 1920-х — прежде всего, конструктивизму Сельвинского и Луговского, но также к поэзии позднего Маяковского, послереволюционного Асеева и Семена Кирсанова, и 2) апологией советского интеллигентского сознания и интеллигенции в целом. Советский лояльный, но при этом мятущийся, полный драматических противоречий интеллигент (см. «Пролог» Е. Евтушенко, «Параболическую балладу» А. Вознесенского и др.) представал в поэзии Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулиной и их последователей как творец автономного мира искусства, более подлинного, чем советская повседневность.
Поэзия «шестидесятников» декларировала, что может преобразовать эту повседневность и осмыслить ее как эпизод прогрессивного развития человечества (см. особенно поэмы Е. Евтушенко «Казанский университет» и «Братская ГЭС»). За новым подходом к стиху стоял новый проект советской лояльности — не подневольной, а энтузиастической.
Мы столько послевременной досады хлебнули в дни недавние свои. Нам не слепой любви к России надо, а думающей, пристальной любви! (Е. Евтушенко, «Станция Зима», 1955[646])Этот проект был выработан в 1954–1956 годах партийными элитами, в первую очередь — Г. М. Маленковым, Н. С. Хрущевым[647] и А. И. Микояном именно для того, чтобы стимулировать население СССР для энергичной работы и поддержки нового руководства страны после пересмотра репрессивной политики Сталина, освобождения политзаключенных и закрытия многих лагерей ГУЛАГа. Составными частями этого проекта стали мобилизация молодежи для освоения целинных земель, ослабление давления на крестьянство (улучшение снабжения деревни, резкое повышение закупочных цен на колхозную продукцию, начало денежной оплаты за крестьянский труд), массовое жилищное строительство, принудительное насаждение «социалистического соревнования», а также открытие многочисленных интернатов, в которых дети из неполных и полных семей воспитывались бы в «новом» духе; впрочем, этот последний проект, поддержанный Хрущевым, быстро провалился, хотя первоначально для его реализации были приняты значительные организационные меры[648]. Разумеется, у каждого из этих мероприятий было и собственное значение, как экономическое, так и политическое, но в совокупности они оказывали влияние и на становление «новой лояльности». Эта программа была провозглашена в отчетном докладе Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС:
Партия уверена, что наша славная молодежь и впредь будет горячо откликаться на ее призывы. Молодежь знает, что ее труд на замечательных стройках коммунизма имеет величайшее значение не только для нашего, но и для грядущих поколений[649].
…Мы должны формировать [в закрытых учебных заведениях] не кастовый слой аристократии, глубоко враждебной народу, а строителей нового общества, людей большой души и возвышенных идеалов, беззаветного служения своему народу, который идет в авангарде всего прогрессивного человечества (Продолжительные аплодисменты)[650].
Чуткий к начальственным настроениям Евтушенко успел уже в 1955 году дать броскую афористическую формулу, как бы санкционирующую изменившуюся политику ЦК от лица молодых, но укорененных в литературной традиции[651] интеллигентов.
Поэтика «легальных шестидесятников» оказывалась основана на негласной договоренности авторов с властями и цензурой, с одной стороны, и интеллигентной аудиторией — с другой. Это давало представителям «эстрадной поэзии» очень большие возможности влияния на читателей и слушателей, но блокировало введение в стихи о современности дискомфортного опыта, который бы смутил цензуру или поклонников: такой опыт мог упоминаться только в случае, если он условно прикреплялся к «иностранной жизни». Ср. «Монолог битника» (1961) и «Монолог Мэрлин Монро» (1963) А. Вознесенского:
Невыносимо, когда насильно, а добровольно — невыносимей! Невыносимо прожить, не думая, невыносимее — углубиться. Где наша вера? Нас будто сдунули, существованье — самоубийство, самоубийство — бороться с дрянью, самоубийство — мириться с ними, невыносимо, когда бездарен, когда талантлив — невыносимей…[652]Склонность авторов 1960-х так или иначе подчеркивать автономность своих произведений — хотя и в рамках советской цензуры — и стремление к эмоциональному контакту с аудиторией привели к тому, что программный утопизм их творчества оказался словно бы апроприированным, присвоенным. Главным носителем надежд на светлое будущее в их стихах предстало не советское государство, а лояльная к нему интеллигенция. О стоическом восприятии истории как безличного насилия в этих новых условиях и речи быть не могло — наоборот, герои «шестидесятников» яростно выступали против любого насилия, любых исторических прецедентов насилия, противостоящих гуманистическим веяниям настоящего:
Все прогрессы — реакционны, если рушится человек. […] В жизни главное — человечность — хорошо ль вам? красиво? грустно? (А. Вознесенский, «Оза. Тетрадь, найденная в тумбочке дубненской гостиницы», 1964[653])Эти политические аспекты культуры «оттепели» имеют самое непосредственное отношение к возрождению монтажа. В этот период представители разных видов искусства стали активно интересоваться тем, как можно изобразить универсалистски понятый современный мир и современное сознание. В 1940-е годы такие вопросы интересовали только столь радикальных авторов, как Аркадий Белинков и Даниил Андреев. На роль одного из важнейших методов представления современности в период «оттепели» вновь был выдвинут монтаж — но уже сильно переосмысленный.
Поверх барьеров
Если описывать максимально схематично, то в 1950-х и начале 1960-х годов были выработаны две главные программы вестернизации советского общества. Одна, умеренно консервативная, принадлежала Хрущеву и в целом партийным элитам, которые полагали, что советская молодежь должна получать научно-техническую квалификацию на уровне новейших мировых достижений и не выглядеть слишком культурно отсталой при общении с иностранными сверстниками. Такая функциональная «вестернизованность» была нужна, чтобы подготовить новое поколение ИТР, способных участвовать на равных в военно-техническом соревновании с Западом вообще и с США в частности. Главным свойством этой программы, однако, было наличие мощных идеологических и цензурных фильтров, действие которых делало знакомство и усвоение достижений Запада весьма дозированным и избирательным[654].
Вторая, радикальная, программа была стихийно выработана культурными элитами более или менее нонконформистских или «либеральных» (по советским меркам) взглядов. Хотя разнообразие вариантов этой программы, сформулированных в лояльных или неофициальных кругах, было очень велико, в целом она предполагала преодоление культурной изоляции СССР, длившейся с конца 1920-х годов, большую открытость страны для современных культурных течений и большую свободу художественного высказывания, в том числе критического. В некоторых интерпретациях эта программа предусматривала реабилитацию российских модернистских традиций, восходящих к 1910–1920-м годам, а в наиболее последовательных версиях — и возможность экспорта в СССР всего разнообразия новейших западных течений, включая авангардные и контркультурные.
Две эти программы находились в состоянии глубокого конфликта, так как советский административный аппарат стремился контролировать любые связи советских людей с Западом и «фильтровать» информацию, приходившую извне страны. Конфликт изредка вырывался наружу — это проявилось в скандальных выпадах Хрущева в адрес художников-новаторов на выставке к 30-летию Московского отделения Союза художников СССР[655] или персонально в адрес Андрея Вознесенского на встрече с советской интеллигенцией (первое событие произошло в 1962 году, второе — в 1963-м). Однако, как ни странно, несмотря на конфликт, между этими программами не было непроходимой границы, и некоторым авторам и культурным группам в конце 1950-х — начале 1960-х удавалось работать в рамках двух этих программ одновременно. Среди них были и лояльные ученые и инженеры, которые способствовали ускоренному развитию фундаментальных и прикладных исследований, в ряде случаев имевших двойное — военное и мирное — назначение, — и, с другой стороны, такие поэты, как Евтушенко и Вознесенский. Вознесенский, как известно, в своих стихах первой половины 1960-х изображал американских битников невольными обличителями моральных язв американского общества — это был испытанный еще в 1920-е годы способ легализации западных культурных новаций.
Шокирующие сведения о сталинских репрессиях, известия о разгроме венгерского антикоммунистического восстания в 1956 году — все эти «открытия» приводили многих людей к размышлениям о смысле и направлении истории. При использовании монтажа результаты этих размышлений, высказанные в произведении искусства, оказывались сформулированы более радикально или, как минимум, более эффектно. Когда монтаж становился не только техникой, но и методом, он изображал текучую и многосоставную современность и в то же время связывал читателя/зрителя с прошлым, которое было отделено от современности десятилетиями террора: через отсылку к прошлому, поскольку сам монтаж воспринимался как перефразированная цитата, передача эстафеты от 1920-х. Чем меньше тот или иной автор ориентировался на цензуру, тем более свободным и нелицеприятным мог быть его диалог с культурными традициями 1920-х, следовательно, тем более историзирующим было его понимание монтажа: именно таким образом понимает монтаж А. Белинков в своей неподцензурной книге «Сдача и гибель советского интеллигента». Но эта связь с прошлым проходила поверх разрыва эпох.
В 1920-е годы разрыв между (тогдашней) современностью и дореволюционным периодом воспринимался как неизбежность, которую можно принимать или не принимать. В 1960-е представление о разрыве стало иным: речь шла уже не о промежутке в несколько лет, а о примерно двух десятилетиях, отделявших современность от «времени истока», 1920-х. Этот разрыв был травматическим и требовал психологической и эстетической нормализации — или выработки средств, которые бы помогли переживать его, не нормализируя. Литература 1960-х дает примеры и той и другой стратегии: к нормализации последовательно прибегали «легальные шестидесятники» (особенно Е. Евтушенко и А. Вознесенский, в гораздо меньшей степени — Б. Ахмадулина и Б. Окуджава), неподцензурные писатели и поэты не «сшивали» разрыв, а пытались описать его и художественно исследовать его психологическую природу, работая сквозь боль травмы и поверх барьеров.
«Бойня номер пять» в советской культуре 1970-х
Для того чтобы прояснить природу ненормализующего подхода к проблематике разрыва и соответствующей ему концепции монтажа, следует обратиться к наиболее яркому примеру из иностранной литературы той эпохи. В 1969 году американский писатель Курт Воннегут опубликовал роман «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей». Имя его главного героя, Билли Пилгрима, — прозрачный намек на Pilgrim’а, Паломника, главного героя трактата Джона Беньяна о духовной жизни «Путь Паломника» (1678). По словам рассказчика,
…Билли Пилгрим отключился от времени.
Билли лег спать пожилым вдовцом, а проснулся в день свадьбы. Он вошел в дверь в 1955 году, а вышел из другой двери в 1941-м. Потом вернулся через ту же дверь и очутился в 1964 году. Он говорит, что много раз видел и свое рождение, и свою смерть и то и дело попадал в разные другие события своей жизни между рождением и смертью.
Так говорил Билли.
(Перевод Р. Райт-Ковалевой)В романе создается новый образ истории — петляющей, не имеющей ни направления, ни финального смысла. Этот новый образ прямо обусловлен тем, что герой романа стал свидетелем бомбардировки Дрездена англо-американской авиацией и усомнился в том, что история имеет смысл. Сама бомбардировка представлена в романе как метафизическая и антропологическая катастрофа, оказывающая влияние не только на выживших свидетелей, но и на тех, кто пытается понять значение этого события.
Роман написан с интенсивным применением монтажа — или, как характеризует это рассказчик, «телеграфически-шизофреническим стилем» — и системы лейтмотивов, из которых главные — стоическая ремарка ‘So it goes’ (в переводе Р. Райт-Ковалевой — «Такие дела») и птичий посвист ‘Poo-tee-weet?’ («Пьюти-фьют?»).
Подобные «ателеологические» образы исторического процесса стали складываться и в неофициальной части советской культуры 1950–1960-х, хотя редко они были выражены столь экспрессивно, как у Воннегута. В целом, однако, использование монтажных методов, начиная от Ромма и заканчивая неподцензурными авторами, о которых пойдет речь дальше, в значительной части имело своим источником постановку вопросов о смысле и направлении истории. Монтаж мог использоваться для изображения уже не только и даже не столько современности, сколько прошлого — но увиденного из сегодняшнего дня.
Еще раз повторю, что подхват монтажных принципов советской культуры 1920-х годов осуществлялся в поэзии 1960-х годов — как легальной, так и неподцензурной — почти без оглядки на опыт неофициальной литературы 1940-х, даже на Луговского, чья книга «Середина века», как уже говорилось, произвела очень сильное впечатление на «шестидесятников». Использование монтажа в его поэмах, кажется, не получило никакого продолжения ни у Евтушенко, ни у Вознесенского, ни у Беллы Ахмадулиной. Наиболее прямо традицию длинных историзирующих стихотворений Луговского — «Как человек плыл с Одиссеем», «Новый год», «Берлин 1936» — продолжили стихотворения Иосифа Бродского, написанные на античные темы тем же белым пятистопным ямбом — «Одиссей Телемаку» (1972) и «Бюст Тиберия» (1981). В своих беседах с Соломоном Волковым в ответ на негативный отзыв Волкова о Луговском Бродский возражает: «…я помню у Луговского целую книжку, называлась „Середина века“. Это были белые стихи, которые сыграли определенную роль в становлении — по крайней мере, чисто стиховом — нашего поколения»[656]. Однако стихотворения Бродского, наиболее сильно отражающие влияние Луговского, были созданы после завершения 1960-х как культурной эпохи. К тому же в них заметна близость скорее к историософии героев-пессимистов Луговского, чем к монтажным принципам его поэм.
Еще меньшее влияние могли оказать на позицию «шестидесятников» ранняя проза Белинкова и произведения Даниила Андреева. Тексты Белинкова лежали вне всякой доступности в архивах КГБ. Их реабилитированный автор упоминал в книге «Юрий Тынянов» о том, что в романе «Смерть Вазир-Мухтара» используется метод «киномонтажа»[657], но, кажется, его читателей эти замечания на полях интересовали в последнюю очередь. Инвективы Белинкова против «антимонтажной» редактуры, которой Шкловский подверг записные книжки Ю. Олеши, не были опубликованы — книгу «Сдача и гибель советского интеллигента» могли прочитать в 1960-е годы только знакомые автора[658]. Сочинения же Даниила Андреева привлекали в те годы только немногочисленных любителей оккультизма или тех, кто интересовался религиозной философией.
Неподцензурная поэзия: Генрих Сапгир
Позицию легальных «шестидесятников», равно как и ассоциативно с ней связанные приемы монтажа в поэзии, деконструировал Генрих Сапгир в своих ранних стихотворениях, включенных в цикл «Голоса» (1958–1962). В стихах авторов «лианозовской школы» — Евгения Кропивницкого, Яна Сатуновского, Генриха Сапгира, Игоря Холина, в меньшей степени Всеволода Некрасова — советский повседневный опыт представал как нередуцируемая психологическая травма, которую невозможно было считать моментом исторического развития, хотя бы и отягощенного «трагическими противоречиями». Среди участников «лианозовской школы» именно Сапгир наиболее последовательно использовал приемы монтажа для демонстрации «открытой», «не заживающей», не поддающейся оправданию травмы. Столкновение «монтажных планов» в его стихах было не просто контрастным, а абсурдным, ставившим под вопрос любые причинно-следственные связи. В этом смысле композиционные принципы стихотворений Сапгира из цикла «Голоса» отдаленно соотносимы с композиционными принципами еще не написанного на тот момент романа Воннегута «Бойня номер пять…».
Мост И в солнце облака. Запрокинутые лица Конвоиров, Офицера. Там Воздушный пируэт — Самолет пикирует. Бомба массою стекла Воздух рассекла — УДАР………… Наклонился конвоир, Офицер, Санитар. …еще живет. …нести. Разрывается живот, Вывалились внутренности. Сознания распалась связь… Комар заплакал, жалуясь. Вьется и на лоб садится, Не смахнуть его с лица… По участку ходит мрачен, Озабочен: На доме прохудилась крыша, На корню Засохла груша, Черви съели яблоню. Сдох в сарае боров, Нет на зиму дров. А жена? Жена румяна — На щеках горят румяна, Она гуляет и поет, — Никого не узнает. Говорит: «Чудные вести: Пропал без вести, Пал героем, Расстреляли перед строем!» («Смерть дезертира», между 1958 и 1962[659])Постоянный прием Сапгира — проникнутое язвительной иронией сопоставление образов механического и живого, которое по ассоциации тоже приобретает черты машины («Икар»), иррационального насилия и истерического веселья («Предпраздничная ночь»), или образов, ассоциативно связанных то с сексуальностью, то с паническим страхом («Одиночество»).
Очень частый у раннего Сапгира тип рифмы — диссонансная, при этом ассонансными или метафоническими, или неравносложными, как у «легальных шестидесятников», он почти не пользовался[660]. До Сапгира диссонансная рифма была опробована в послевоенной подцензурной поэзии только в одном, но получившем большую известность стихотворении — социальном памфлете «Иероним Босх» (1957) Павла Антокольского, в котором носителем тоталитаризма был провозглашен не тиран, а все общество. Характерно, что в этом произведении заметна не просто ирония, но даже, пожалуй, издевка над самим понятием прогресса.
Проснулись торгаши, монахи, судьи. На улице калякали соседи. А чертенята спереди и сзади Вели себя меж них как господа. Так, нагло раскорячась и не прячась, На смену людям вылезала нечисть И возвещала горькую им участь, Сулила близость Страшного суда. Художник знал, что Страшный суд напишет, Пред общим разрушеньем не опешит, Он чувствовал, что время перепашет Все кладбища и пепелища все. Он вглядывался в шабаш беспримерный На черных рынках пошлости всемирной. Над Рейном, и над Темзой, и над Марной[661] Он видел смерть во всей ее красе. Я замечал в сочельник и на пасху, Как у картин Иеронима Босха Толпились люди, подходили близко И в страхе разбегались кто куда, Сбегались вновь, искали с ближним сходство, Кричали: «Прочь! Бесстыдство! Святотатство!» Во избежанье Страшного суда[662].В тогдашней подцензурной культуре представление о том, что носителем тоталитарной психологии может быть общество в целом, иногда высказывалось (стихотворение А. Вознесенского «Довольно околичностей…» (1956), некоторые эпизоды фильма Ромма «Обыкновенный фашизм»), хотя очень редко оказывалось сформулировано последовательно: будучи высказанным вслух, оно подрывало возможность исторического оптимизма, характерного в целом для «шестидесятников». Среди немногих исключений, существовавших в легальном поле, кроме произведения Антокольского, можно назвать роман А. и Б. Стругацких «Трудно быть богом» (1963): не случайно для обоих этих произведений авторы выбрали стилизованный «позднесредневековый» антураж.
Возможно, ассоциация антипрогрессизма и диссонансной рифмы не совсем случайна: рифма этого типа и у Антокольского, и у Сапгира проблематизирует идею согласованности рифмующих слов и — метонимически — представление о любой заведомо осмысленной, «прогрессивной», предсказуемой последовательности.
По-видимому, стихотворение Антокольского оказало на Сапгира долговременное воздействие. Примененная Антокольским схема рифмовки используется, хотя и с заметными изменениями, в некоторых стихотворениях написанного через тридцать лет после «Босха» цикла Сапгира «Терцихи Генриха Буфарева» (1984–1987)[663]. Легко видеть, однако, что у Антокольского рифмовка и строфика гораздо более упорядочены, чем у Сапгира. Это не случайно: Антокольский, прошедший через влияния французской поэзии XIX — начала XX века[664] (он переводил П. Ж. Беранже, Ш. Бодлера, Г. Аполлинера и других) и русского акмеизма, стремился уравновесить изображаемый им социальный хаос не только иронической интонацией, но и ясной, логически организованной строфикой. Сапгир, напротив, подчеркивал, что этот хаос требует для своего осмысления соответствующей псевдохаотической структуры текста. Его ирония — иная, чем у Антокольского: это отношение напоминает позицию не романтика, а скорее экзистенциалиста, который не отделяет себя от изображаемого им мира.
Неподцензурная проза 1960-х: Александр Солженицын и Павел Улитин
Наиболее радикально поэтику монтажа в 1960–1970-е годы в России переосмыслили два прозаика, при этом один из них, Павел Улитин, не рассчитывал на публикацию своих произведений в СССР в принципе, а другой, Александр Солженицын, как известно, после обнародования нескольких ярких рассказов оказался вытеснен из советской печати.
Фигура Александра Солженицына общеизвестна. Творчество Павла Улитина (1918–1986) — очень значительное явление литературы, но оно до сих пор не введено в научный оборот — его произведениям посвящен ряд критических статей, есть несколько мемуаров о нем самом, но академических исследований, насколько мне известно, не существует.
Две следующих главы книги посвящены анализу монтажных принципов у этих авторов. Если не считать того важного обстоятельства, что оба этих писателя были неприемлемы для советской цензуры, сегодня они выглядят полными антиподами: Улитин — авангардист и экспериментатор, критик любой идеологизации литературы, не обращавшийся к сколь-либо широкой аудитории, Солженицын — писатель-идеолог, автор монументальных исторических романов, явственно стилизовавший себя и в публичном, и в творческом поведении под русских классиков второй половины XIX века — но в действительности, по справедливому замечанию Александра Гольдштейна, продолживший на новом уровне эстетику жизнетворчества, характерную для «серебряного века»[665]. В целом можно сказать, что в контекст более поздней неподцензурной литературы Улитин входит органически, а Солженицын — не «вписывается», именно из-за своего идеологизма. Однако если рассматривать их как современников, то сходств между ними оказывается куда больше, чем кажется на первый взгляд.
Солженицын о творчестве Улитина, возможно, вообще не знал, Улитин же внимательно следил за публикациями автора «Одного дня…» — как подцензурными, так и «тамиздатскими». Ср., например, намеки на опубликованные рассказы Солженицына «Матренин двор» (1960[666]) и «Случай на станции Кочетовка» (1962)[667] в книге П. Улитина «Путешествие без Надежды» (1970–1971): «У Матрены во дворе росла лебеда. На станции Шепетовка нам пришлось разоблачить одного хорошего человека. У нас брака не бывает. Так надо»[668]. В одном из своих произведений, «Ворота Кавказа», Улитин иронически назвал Солженицына Робеспьером Исаевичем Правдиным[669].
Оба они родились в одном и том же, 1918, году на охваченном Гражданской войной юге России: Улитин — в донской станице Мигулинской, Солженицын — в Кисловодске, но, как и Улитин, вырос в Ростове-на-Дону. У них было много возможностей познакомиться[670]. Еще одна неожиданная перекличка в их биографиях связана с тем, что оба рано потеряли отцов: отец Солженицына погиб на охоте до его рождения, отец Улитина был убит бандитами, когда будущему писателю было два года.
В произведении «Ворота Кавказа», видимо, скрыты упоминания о довоенном Ростове и о «землячестве» Улитина и Солженицына: «ворота Кавказа» — давний парадный «титул» Ростова-на-Дону, доныне употребительный на туристических сайтах в Интернете. В тексте «Ворот…» немотивированно возникает фраза: «…про печенегов было в первом узле», то есть в романе «Август Четырнадцатого» — первом «узле» исторической эпопеи «Красное колесо».
Еще раз дар Макса Кагановича[671].
«И у вас там какой-нибудь полковник. Разве полковники ходят с обыском?»
про печенегов было в первом узле
Голосом Алены Старицы говорила мать Манефа[672].
Очевидно, Улитин имел в виду фразу из гл. 4 романа «Август Четырнадцатого»: «Сестру и брата то и объединяло, что только двое они во всей семье [Томчаков] имели критические, передовые взгляды. Остальные были дикари, печенеги»[673]. С «матерью Манефой», возможно, сравнивается героиня[674]. Поскольку героиня учится на курсах агрономов, у Улитина эта фраза отсылает к теме женского образования в предреволюционной России, которую он обсуждает в «Воротах Кавказа», вспоминая о своей матери — враче. Исторические печенеги кочевали на тех землях, где стоит нынешний Ростов-на-Дону, — вероятно, это учитывали и Солженицын, и цитировавший его Улитин.
Оба писателя перед Второй мировой войной учились в московском Институте философии, литературы и истории (ИФЛИ) — правда, там их пути не пересеклись, так как Солженицын поступил на заочное отделение этого института в 1939 году, а Улитин за год до этого, в декабре 1938-го, был арестован в общежитии ИФЛИ сотрудниками НКВД, приговорен к расстрелу за участие в подпольной антисталинской группе, чудом остался жив и впоследствии даже вышел на свободу.
Однако самое главное и самое поразительное сходство состоит в том, что два этих автора, хотя и с совершенно разными целями, разработали в своих произведениях сочетание приемов, которое может быть названо гипермонтажом.
ЧАСТЬ III Историзирующий монтаж
Глава 8 Александр Солженицын: элегическое завершение раннесоветского политического искусства
Имя Александра Солженицына — автора, которого еще при жизни называли классиком и наследником традиций русской литературы XIX века, — выглядит парадоксальным в ряду авангардистов и радикальных модернистов, которые обсуждаются в этой книге. Однако парадокс здесь — иллюзорный: культурный статус Солженицына, достигнутый им во многом благодаря собственным усилиям, и претензии на роль «великого русского писателя — властителя дум» вплоть до настоящего времени затрудняют адекватную интерпретацию его эстетики. «…Солженицын научился применять модернистские средства ради достижения антимодернистских целей», — отмечает в одной из своих недавних статей Ричард Темпест[675].
Одним из скрытых внутренних сюжетов творчества Александра Солженицына была многолетняя полемика с фильмами и эстетической позицией Сергея Эйзенштейна. Столь обостренная реакция Солженицына на творчество знаменитого режиссера была обусловлена острым, но до сих пор мало замеченным сходством в интерпретации задач искусства и характера его воздействия на человека. (Можно даже предположить, что и сами представления о задачах и воздействии искусства выработались у Солженицына отчасти под влиянием фильмов Эйзенштейна.) В центре внимания обоих — один и тот же круг вопросов: русская история, смысл революции, значение насилия в революции. Оба воспринимали историю с ироническим остранением[676].
Однако при большом количестве эстетических и тематических схождений Солженицын был непримиримым идеологическим противником Эйзенштейна. Эйзенштейн — утопист, надеявшийся на революционную трансформацию человеческой психики с помощью искусства. История для него — экстатический порыв слабых per aspera ad astra. Солженицын, напротив, надеялся с помощью искусства заставить человека вспомнить его забытую подлинную природу. Те периоды русской истории, которые он описывал (раскол, реформы Петра I, обе революции 1917 года, Гражданскую войну, да и всю советскую эпоху в целом), он считал периодами деградации, взывающей о восстановлении изначальной «чистоты».
Рассмотрение поэтики Солженицына и Эйзенштейна в контексте истории монтажа позволяет выдвинуть предположение, что оба они принадлежали к одному и тому же международному эстетическому движению — ЭППИ, эпическому полифоническому агитационному искусству, которое было охарактеризовано в гл. 3. Солженицын стал завершителем этого движения, радикально трансформировавшим его первоначальные задачи.
Марш освобождения: киносценарии Солженицына
Связь Солженицына с киноавангардом наиболее интересно проследить, анализируя его киносценарии. Сохранились два его произведения в этом жанре: первое — «Знают истину танки» (далее — ЗИТ)[677] — было создано осенью 1959 года без внешних поводов, второе — «Тунеядец» — по заказу киностудии «Мосфильм» в ноябре 1968-го. Режиссер Владимир Наумов смог устроить так, что сценарий был официально заказан Солженицыну, на тот момент не имевшему легального литературного заработка. Эти сценарии принципиально различаются и по жанру, и по поэтике.
ЗИТ, повествующий о восстании заключенных в лагере, полемически инвертирует жанр историко-революционного кино с массовыми сценами. О том, что сам Солженицын воспринимал свой сценарий как изображение именно революционных событий средствами кино революционной эпохи, можно судить, например, по таким ремаркам, как «Марш освобождения!» (с. 409), «Музыка нарастающей революции!» (с. 432) или по авторскому восклицанию (напоминающему титр немого кино) «Тираны мира! Трепещите!» (с. 439).
«Тунеядец» — лирико-сатирическая комедия всего с двумя главными героями, сочетающая, насколько можно судить, стилистику «шестидесятнических» комедий о стихийных нонконформистах (в диапазоне от «Королевы бензоколонки» (1962, реж. Алексей Мишурин и Николай Литус) до «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!» (1964, реж. Элем Климов) и снятых тогда же психологических фильмов о молодых интеллектуалах — например, «Мой младший брат» (1962, реж. Александр Зархи) по повести Василия Аксенова «Звездный билет». Изображенная с мягкой иронией главная героиня фильма носит модное имя Эльвина (Эля), в ее внешности, вкусах, манере поведения подчеркнуты «модность» и «современность»[678], противостоящие поляризированному по принципу «свой» — «чужой» обществу провинциального города, в который она попадает в результате автомобильной аварии.
Два эти сценария демонстрируют совершенно разное отношение к языку кинематографа. В «Тунеядце», несмотря на диссидентский радикализм сюжета (одна из ключевых сцен фильма — издевательски изображенные «выборы» в Верховный Совет СССР), соблюдены стилистические нормы современной Солженицыну советской лирической кинокомедии. Солженицын обнаруживает здесь полное понимание «правил игры» современного ему кинематографа: длинные, «повествовательные» планы, «неконфликтный» монтаж[679], нарастание эротического suspense’а между героем и героиней, длинная эффектная сцена автомобильной погони…
В ЗИТ сознательно воссозданы приемы советского монтажного кино 1920-х годов, а стилистика советского кино 1950-х соблюдена только в «рамочной» новелле, изображающей общение вернувшегося из лагеря заключенного со своими новыми, не знающими о лагерях знакомыми. Сценарий ЗИТ противостоит социальной действительности не только по сюжету, но и по тому киноязыку, который потребовался бы для его реализации.
Эстетическое и жанровое продолжение в последующих произведениях Солженицына, насколько можно судить, получил только его первый сценарий. В наибольшей степени напоминает ЗИТ сцена рабочей демонстрации в гл. 26 романа «Октябрь Шестнадцатого» (1971–1981), которую можно считать «ремейком» или компендиумом важнейших элементов раннего киносценария. В начале сцены почти буквально повторяется описание «кадра» из ЗИТ: внутренняя тюрьма лагеря с окружающим ее высоким деревянным забором (этот забор становится одним из важнейших «визуальных лейтмотивов» сценария) — «Заводские корпуса, темно-кирпичные, / как они видятся поверх высоких кирпичных оград»[680]. Изменения «эмоционального сюжета» в сцене демонстрации фиксируются изменениями формы экрана, которые описаны в авторских ремарках: «Экран пошире… Самый широкий экран… Круглое малое сужение, как в трубу… Ближе, крупней, расширяясь…»[681] Впервые «экран переменной формы» Солженицын предлагал использовать в ЗИТ: само это выражение входит в подзаголовок его сочинения («киносценарий для экрана переменной формы»). Содержание сцены — демонстрация забастовщиков, к которой неожиданно присоединяются военные и помогают рабочим бить полицейских, — зеркально противоположно сюжету ЗИТ: НКВД (тайная полиция) призывает на помощь танковые и пехотные части (армию), чтобы утопить в крови восстание трудящихся-заключенных.
Субверсия за «шторками»
ЗИТ инвертирует не просто жанр историко-революционного кино, но два совершенно конкретных образца этого жанра — фильмы Сергея Эйзенштейна «Стачка» (1923) и «Броненосец „Потемкин“» (1927). Помимо сюжетной канвы, общей для всех трех произведений, на это указывают и другие важные линии преемственности: сценарий Солженицына, как и оба фильма Эйзенштейна, изображает завершившееся поражением, потопленное в крови, но героическое восстание группы людей, которые живут в очень тяжелых условиях (как в фильме «Броненосец Потемкин») и доведены до крайности постоянными унижениями со стороны администрации (как в фильме «Стачка»).
Но наиболее разительно сходство формальных элементов. Фильм «Стачка» основан на использовании экрана переменной формы. Для изменения формы экрана — сужения в вертикальную полосу, в маленький квадратик, в ромб — используются шторки; шторка может делить экран на два кадра, как это описано и у Солженицына[682]. В ключевых точках сюжета ЗИТ использованы характерные именно для Эйзенштейна крупные планы, представляющие патетически выделенные детали: рука засыпанного заключенного, торчащая из песка (с. 372), или серебристое кашне зам. начальника лагеря по режиму, повисшее на краю стола во время панического бегства администрации лагеря (с. 431). Этот второй «кадр» — прямая аллюзия на знаменитый кадр из «Броненосца…» — пенсне судового врача, зацепившееся за снасти. Описание крупного плана засыпанных песком рук в финале сценария, возможно (но это более гадательно), отсылает к кадру с руками обреченных рабочих, которых расстреливают войска в финале «Стачки». К «Броненосцу…» в ЗИТ отсылает описание «Каждого убитого подносят четверо заключенных на куске брезента, прибитом к двум палкам…» (с. 460) — ср. у Эйзенштейна сцену расстрела матросов, накрытых брезентом.
Финал ЗИТ прямо воспроизводит финал «Стачки». В фильме Эйзенштейна после изображения лесной лужайки, покрытой трупами расстрелянных рабочих (эпизод «Разгром»), появляются титры: «И кровавыми, незабываемыми рубцами легли на теле пролетариата раны: Лены, Талки, Златоуста, Ярославля, Царицына, Костромы. / Помни, / Пролетарий». Сценарий Солженицына завершается строками:
Сыпется, сыпется желтый песок забвения.
Наискосок по нему, налитыми багровыми буквами, проступает строка за строкой посвящение фильма:
ПАМЯТИ ПЕРВЫХ, ВОССТАВШИХ ОТ РАБСТВА, — ВОРКУТЕ, ЭКИБАСТУЗУ, КЕНГИРУ, БУДАПЕШТУ, НОВОЧЕРКАССКУ…[683]Очевидно, что перед нами — не цитата и не полемика, но сознательное использование наиболее ярких приемов предшественника в «подрывных», субверсивных целях. Ближайший аналог такой субверсии — осуществлявшаяся во время Гражданской войны в России «перелицовка» песен, когда на мелодию белогвардейской песни создавались новые, «красные» стихи или, наоборот, заменялся текст, изначально положенный на «красноармейскую» музыку[684].
Кроме того, в сценарии Солженицына есть элементы, не являющиеся цитатами определенных кадров или титров Эйзенштейна, но ориентированные на его кинопоэтику. Таковы парадоксальные образы, демонстрирующие «переворачивание» социального порядка, — убитый стукач, сидящий в кресле начальника лагеря (с. 404), революционное воззвание, вывешенное на стенде для лживой газеты «Правда» и оказывающееся подлинной правдой (с. 409), номер заключенного, который юродивый зэк Кишкин прижимает руками к причинному месту (с. 416). Таковы «аттракционы» — например, дважды оживающая девушка, изображенная на крышке бандуры, причем первый раз она оживает в воображении заключенного, в обрамлении наивной картинки с хатой и подсолнухами, а второй раз — в реальной сцене встречи узников мужского и женского лагерей. Таково и совмещение контрастных образов, когда, например, на экране, разделенном косой шторкой, изображены барак с заключенными и кабинет лагерного начальства[685].
Некоторые элементы сценария ЗИТ напоминают не Эйзенштейна, а, скорее, общие черты советского кино 1920-х, но в любом случае — именно раннего кино, а не кинематографа конца 1950-х. Таковы, например, образы-лейтмотивы, при первом появлении отсылающие к материальному явлению или предмету, а в дальнейшем функционирующие как метафора. В ЗИТ таким лейтмотивом становится песок: он появляется в начале и конце повествования, «сшивая» действие — сначала засыпает реальных заключенных, а потом превращается в метафору исторического забвения. Ср., например, образ-лейтмотив гармошки в сцене крушения поезда в фильме Александра Довженко «Арсенал» (1928): сперва это просто инструмент, на котором играет подгулявший солдат, а затем — метафора анархической стихии, захлебнувшейся в собственном разгуле.
В предыдущей главе уже шла речь о снятом в 1967 году, через 8 лет после создания ЗИТ, «монтажном» фильме Ролана Быкова «Айболит-66». Здесь важно отметить, что Быков применил в своей комедии экран переменной формы — с теми же целями, с какими он используется и в сценарии Солженицына: для выделения главного элемента действия. Однако если в ЗИТ Солженицын использует не только формальные приемы, но и методы выражения авторской позиции, характерные для раннего кино, то Быков эти методы откровенно пародирует.
Колесо истории в текстах и на экранах
Одним из важнейших выразительных элементов эпопеи Александра Солженицына «Красное колесо» (1971–1991) являются фрагменты, озаглавленные «Экран», — по сути, мини-сценарии эпизодов, которые читатель должен себе представить в виде фильма, — и графически оформленные иначе, чем остальной романный текст. Они записаны «в столбик», как верлибр, с большим, как при публикации стихов, отступом от левого края страницы — каждая новая строка указывает на смену плана. Ремарки, указывающие на звуковое сопровождение сцены («Общий рев и стук», «Звон», «Голоса из детского хора»), даны отдельными строками с небольшим отступом от левого края. Резкая смена плана или новая сцена отмечены знаком равенства (=) в начале строки.
Небольшие по объему, эти фрагменты, однако, чрезвычайно важны по смыслу, располагаются в «ударных» точках повествования. В каждом из «экранных» отрывков представлен визуальный образ одного события, внутренне противоречивый и метафорически[686] выражающий главный скрытый конфликт того или иного «узла», ту общую историческую коллизию, которая стоит за событиями[687].
Образ «красного колеса» возникает в одном из «экранных» фрагментов романа «Август Четырнадцатого» (1969–1980)[688] — в главе 30, в сцене пожара, когда российские пехотинцы начинают по ошибке стрелять в своих же драгун:
= Раскатился зарядный ящик — люди прыгают прочь.
Чистая стала дорога от людей,
только набросанное топчут лошади,
перепрыгивают, переваливаются колеса…
И лазаретная линейка — во весь дух!
и вдруг — колесо от нее отскочило! отскочило на ходу —
и само! обгоняя! покатило вперед!
колесо!! все больше почему-то делается,
оно все больше!!
Оно во весь экран!!!
КОЛЕСО! — катится, озаренное пожаром!
самостийное!
неудержимое!
все давящее!
Безумная, надрывная ружейная пальба! пулеметная!!
пушечные выстрелы!!
Катится колесо, окрашенное пожаром!
Радостным пожаром!!
Багряное колесо!!!
= И — лица маленьких испуганных людей: почему
оно катится само? почему такое большое?
= Нет, уже нет. Оно уменьшается. Вот, оно уменьшается.
Это — нормальное колесо от лазаретной линейки,
и вот оно уже на издохе. Свалилось.
= А лазаретная линейка — несется без одного колеса,
осью чертит по земле…[689]
Аллегорически эта сцена предвосхищает «красное колесо» двух революций 1917 года и Гражданской войны, во время которой междоусобица, «стрельба по своим» стала, по мысли писателя, уже не локальной трагедией, а общей катастрофой России[690].
Замысел «Красного колеса» в момент его зарождения в 1937 году, как впоследствии описывал его сам автор эпопеи, также был основан на идее выражения целого через фрагмент, pars pro toto. Солженицын хотел показать влияние Первой мировой войны на историю России через самсоновскую катастрофу августа 1914 года, которая сделала возможной будущую революцию[691]. Этот метод Солженицын использовал и в «Одном дне Ивана Денисовича»: жизнь «России, которая сидела» (выражение Анны Ахматовой) показана в рассказе через один, и не самый плохой день одного, ничем не выдающегося заключенного[692].
В «экранных» сценах «Красного колеса» — как и в ЗИТ — подхватываются черты поэтики и повествовательные приемы Эйзенштейна. Почти все эти фрагменты описывают массовые действия — бои, уличные волнения, демонстрации, самосуд и т. п., — в которых участвуют обобщенные представители социальных сил — студенты, полицейские, солдаты, казаки, рабочие и т. д. В «Августе Четырнадцатого» в первых «экранных» эпизодах среди многочисленной «массовки» изредка появляются герои романа, названные по именам, но в последующих романах эпопеи у персонажей этих сцен нет имен, даже если их поведение индивидуализировано (например, старый мастер, раненный толпой за отказ присоединиться к демонстрации, в гл. 2 романа «Март Семнадцатого»), — они предстают только как социальные типы, а содержанием сцены всегда является конфликт социальных сил. «Экранные» фрагменты нарочито депсихологизированы — и этим составляют заметный контраст «основной» части повествования, в которой мотивы и цели героев либо подробно описываются «всевидящим» автором, либо показаны «изнутри» сознания героя/героини, через его/ее самоописание. В «экранных» сценах мы видим только поведение героев, а мотивы их действий никак не комментируются[693]. Все эти особенности напоминают поэтику ранних фильмов Эйзенштейна.
Многие детали «экранных» фрагментов «Колеса» могут быть истолкованы как реминисценции из конкретных фильмов Эйзенштейна. «Круглое малое сужение, как в трубу» («Октябрь Шестнадцатого») используется в «Стачке» как метод фокусировки зрительского внимания. «Живот мертвой лошади с крупными мухами, оводами, комарами над гниющими вытянутыми внутренностями…» («Август Четырнадцатого», «экранный» фрагмент из гл. 58)[694] напоминает другой знаменитый кадр из «Броненосца…» — мясо, покрытое червями.
К протокинотекстам «экранных» сцен, помимо «Стачки» и «Броненосца…», по-видимому, следует отнести и «Октябрь». Именно для этого фильма характерны «острые», необычные ракурсы съемок, придающие образам экспрессию и в то же время словно бы «остраняющие» (в формалистском смысле) картину исторических событий, — таковы изображения статуй, являющиеся лейтмотивом фильма, или выступление Ленина с броневика, снятое резко сверху или резко снизу. В «Красном колесе» аналоги таких «острых» ракурсов создаются словесными средствами:
…драгуны по полудюжине разъезжаются крупным шагом,
и так по полудюжине, в одном месте, в другом,
наезжают на тротуары! прямо на публику!
конскими головами и грудями, взнесенными как скалы!
а сами еще выше!
но не сердятся, не кричат, и никаких команд, —
а сидят там, в небе, и наезжают на нас!
(«Март Семнадцатого», гл. 2[695])Подробнейшее описание искусственно раздутых левыми партиями фактически несуществующих проблем с подвозом хлеба в Петербург в начале «Марта Семнадцатого» (гл. 2–3) — возможно, полемика не только с советской пропагандой в целом, но и с одной из первых художественно-пропагандистских версий революции — изображением очереди голодных, осунувшихся женщин за хлебом в начале «Октября».
Можно выделить общие для ЗИТ и «Красного колеса» мотивы и образы, которые соединяют сценарий 1959 года с исторической эпопеей. Таков, например, образ матроса-садиста: в ЗИТ появляется отличающийся особым изуверством солдат-каратель, который ходит в матросской форме и бескозырке, а в «экранной» сцене 418-й главы романа «Март Семнадцатого» — «свирепо безпощадные» (sic!) матросы, расстреливающие пожилого адмирала. Об одном из этих персонажей повествователь замечает: «революционный матрос с плакатов, из кадров, которые мы будем видеть, видеть, видеть»[696] (курсив мой). Образ революционного матроса формировался в значительной степени именно в фильмах Эйзенштейна (сцена с кронштадтскими матросами в «Октябре» и весь «Броненосец „Потемкин“»), а в дальнейшем был идеологически и эстетически «канонизирован» в фильмах 1930-х годов (например, «Мы из Кронштадта» Ефима Дзигана по сценарию Всеволода Вишневского (1936)). Эта параллель дает основания предположить, что в ЗИТ образ матроса может быть полемическим по отношению и к конкретным фильмам Эйзенштейна, и ко всей традиции раннесоветского «революционного» кинематографа.
Сам образ «красного колеса», каким он появляется в «Августе Четырнадцатого», восходит к метафорике «колеса истории», очень характерной для советской культуры 1920-х годов[697], — например, в стихотворении Сергея Обрадовича «III Интернационал»: «…На полдороге не встанет, не встанет / Революций огненное колесо!..» Однако, вероятно, наиболее востребованным этот образ был в раннесоветском кинематографе. «Колесо во весь экран» появляется в фильме Эйзенштейна «Стачка» — еще не как метафора движения времени, а как «аттракционное» орудие восставших рабочих: огромное металлическое колесо висит на стреле подъемного крана, этим грузом заговорщики ударяют по голове пожилого директорского стукача.
Образ «колеса истории» появляется у Эйзенштейна в фильме 1927 года «Октябрь» (там это колеса танка); у Всеволода Пудовкина — в фильме «Конец Санкт-Петербурга» (1927); у Фридриха Эрмлера — в «Обломке империи» (1929), где унтер-офицер, потерявший память во время Гражданской войны и вспомнивший свою жизнь в 1928-м, видит огромное, угрожающее колесо паровоза; у Александра Довженко в «Арсенале» и т. п. (Впрочем, поскольку сначала центральный образ возникает в эпопее Солженицына как колесо телеги-линейки, здесь возможна аллюзия еще и на начало и финал первого тома «Мертвых душ» Гоголя (колесо брички Чичикова и «птица-тройка»).) По-видимому, главным источником этих образов стала метафора Маркса «революции — локомотивы истории», в 1920-е годы постоянно использовавшаяся в советской политической риторике[698]. Однако смысловыми центрами переосмысления эстетики раннесоветского кино в «Красном колесе» являются именно «эйзенштейноподобные» сцены.
Во всех «экранных» сценах «Красного колеса» используется описанная выше авторская система условных обозначений и графической разметки, не соответствующая стандартам сценарного письма конца 1950-х и впервые примененная именно в ЗИТ. Согласно авторскому предисловию к тексту 1959 года, Солженицын, не надеявшийся, что его сценарий возможно будет экранизовать в СССР, применил эту систему указаний для того, чтобы читатель мог легче вообразить себе готовый фильм. Можно предположить, что и в дальнейшем Солженицын считал необходимым применять подобную систему записи цельных произведений, которые представлял себе как кинофильмы[699], или отдельных эпизодов, которые должны были восприниматься как кинематографические «вставки» в повествовательный текст.
Как ни удивительно, больше всего примененный Солженицыным способ записи напоминает графику текста в опубликованном в 1943–1944 годах сценарии фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный»[700]. В 1920–1930-е годы сценарии делились на пронумерованные фрагменты-планы — так оформлены и ранние сценарии Эйзенштейна, и, например, опубликованные сценарии В. Маяковского. А сценарий «Ивана Грозного» состоит из коротких ненумерованных строк, напоминающих верлибр-репортаж с записью того, что должен увидеть зритель. Таким же образом устроены и текст ЗИТ, и «экраны» «Красного колеса».
Бежит Иван, задыхаясь, по лестницам. В светлицу терема Анастасии вбегает…
Все по-прежнему в светлице.
Воздуха, руками царицы расшитые…
Над постелью дугой лампады неугасимые…
Кубок на столе,
как пред смертью
царицыной стоял…
Только нет царицы — в могиле давно…
На колени пред лампадами царь бросается. «Да минует меня чаша сия…» — молится.
«Не минует! — за спиной царя Федор говорит. — Хотя чаши иные ядом полны…»
Вскочил Иван, глянул:
пред иконою чаша стоит.
Чаша, что пред смертью сам Анастасии подавал. «Чаша…»
Глядит Иван на чашу глазами безумными:
«Отравили?» — шепчет.
«Отравили? — кричит — юницу мою?!!»[701]
Еще в 1929 году Эйзенштейн написал статью-манифест «О форме сценария», в которой настаивал на том, что первоначальный вариант замысла фильма должен быть изложен не в виде формализованного протокола (Эйзенштейн называет такой протокол «дребухом» — от немецкого Drehbuch, сценарий, буквально — «съемочная книга»), а в форме эмоционально окрашенной «киноновеллы»:
Сценарий ставит эмоциональные требования. Его зрительное разрешение дает режиссер.
И сценарист вправе ставить его своим языком.
Ибо, чем полнее будет выражено его намерение, тем более совершенным будет словесное обозначение.
И, стало быть, тем специфичнее литературно.
[…]
Вот почему мы против обычной формы номерного протокольного сценария («Дребуха»), и почему за форму киноновеллы[702].
По-видимому, Солженицын в создании своих киносценариев руководствовался такой же логикой.
«Не говорите, что гений!»
Весь довольно значительный массив «эйзенштейновских» цитат, отсылок и «методологических аналогов», который закладывается у Солженицына в ЗИТ и потом на протяжении десятилетий развивается, обогащаясь все новыми смыслами, глубоко парадоксален по своей природе. ЗИТ был написан в 1959 году, всего через несколько месяцев после завершения основной работы над рассказом «Один день Ивана Денисовича» (май — июнь), в котором Солженицын в первый, но не в последний раз высказал крайне отрицательное отношение к Эйзенштейну.
Нападки на фильмы режиссера переданы в двух разных сценах[703]. Сперва об Эйзенштейне в рассказе критически отзывается кавторанг («Офицеры [в фильме „Броненосец „Потемкин““] все до одного мерзавцы… — Исторически так и было! — А кто ж их [солдат] в бой водил?..»[704]), а затем — очень давно сидящий интеллигентный старик Х-123: «…не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!»[705] В обоих случаях мы имеем дело с оценкой, данной персонажами, но не автором. Однако следует обратить внимание на два обстоятельства.
1) Защитник Эйзенштейна Цезарь Маркович, разговаривая с Х-123, одновременно ведет себя высокомерно и неблагодарно по отношению к Ивану Денисовичу, который приносит ему поесть: «…оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, словно каша сама приехала по воздуху…» — и покурить Ивану Денисовичу не оставил, «совсем о нем не помнил, что он тут, за спиной». Оправдание Эйзенштейна с эстетской точки зрения («…искусство — это не что, а как…») оказывается в рассказе такой же отрицательной характеристикой Цезаря Марковича, как и его снобистское отношение к Шухову.
2) Впоследствии Солженицын высказался об Эйзенштейне уже от своего собственного лица минимум дважды — и в обоих случаях почти в тех же словах, что и Х-123. В статье 1983 года «Фильм о Рублеве» творчество этого режиссера было определено как «заказное» (по словам писателя, в фильме «Александр Невский» Эйзенштейн «грубо выполнял социальный заказ режима»[706]) и искажающее русскую историю. Более развернутое утверждение можно найти в книге «Двести лет вместе», опубликованной в 2000–2002 годах. Солженицын пишет о большой роли режиссеров еврейского происхождения в становлении советского кино. Однако имена этих режиссеров в основном просто перечислены. Эйзенштейн — единственный, кто удостоен развернутой характеристики[707] — как объясняет автор, из-за масштаба дарования:
…Крупнейшая фигура всего раннесоветского кино — Сергей Эйзенштейн. Он привнес в искусство «эпичность, монументальную масштабность массовых сцен, их чередование с крупными планами, эмоциональную насыщенность монтажа и ритма»[708]. Однако использовал он свой дар — по заказу. Мировая громовая слава «Броненосца „Потемкина“», таран в пользу Советов, а по сути своего воздействия на широкую публику — безответственное вышивание по русской истории, взвинчивание проклятий на старую Россию, с измышленным «кинематографическим аксессуаром»: как будто накрыли толпу матросов брезентом для расстрела (и вошло в мировое сознание как исторический факт), да «избиение» на одесской лестнице, какого не было. (Потом понадобилось услужить Сталину на тоталитарной идее, потом и на национальной, — Эйзенштейн тут как тут.)[709]
Таким образом, на протяжении нескольких десятилетий — почти всей своей литературной жизни! — Солженицын находился в активном творческом диалоге с Эйзенштейном, но все эти годы отзывался о его творчестве негативно, считая его заслуживающим не содержательной полемики, а только вынесения твердой этической оценки. Это противоречие требует объяснений.
Контексты 1958-го
До сих пор недооценен, хотя и замечен тот факт, что диалог Цезаря Марковича и Х-123 в рассказе, претендующем на максимальную достоверность, ни при каких обстоятельствах не мог бы происходить в действительности. Действие «Одного дня…» относится, как прямо сказано в тексте, к январю 1951 года. Однако вторая серия «Ивана Грозного», которую обсуждают персонажи, сразу после съемок была запрещена, и «обычные» представители интеллигенции видеть ее не могли.
На это несоответствие впервые указал чехословацкий публицист и историк кино Любомир Линхарт (Lubomír Linhart, 1906–1980) на конференции по творчеству Эйзенштейна, прошедшей в московском Доме кино в 1968 году. В своем выступлении он сказал также, что удивлен и расстроен тем, что потенциальные эстетические союзники Эйзенштейна, такие как Солженицын, обрушиваются на покойного режиссера с крайне субъективными нападками, и определил такую ситуацию в советской культуре как скрытое продолжение Гражданской войны[710].
Напомню фактическую канву. Эйзенштейн закончил работу над второй серией 2 февраля 1946 года и отправил готовый фильм в ЦК ВКП(б). После правительственного просмотра Сталин и Берия отозвались об этой серии крайне резко, после чего, разумеется, на экраны она выпущена не была. Публичным событием этот запрет стал после того, как вторая серия была осуждена в постановлении ЦК от 4 сентября 1946 года «О кинофильме „Большая жизнь“»[711]. Эйзенштейн, узнавший о запрете с большим опозданием (режиссер лежал в больнице после сердечного приступа, и друзья боялись ему сообщать дурную новость), добился встречи со Сталиным, которая состоялась в ночь с 24 на 25 февраля 1947 года. В беседе также участвовал актер Николай Черкасов, сыгравший в фильме заглавную роль. «Вождь» еще раз высказал свои претензии, согласился на то, чтобы фильм был переделан, и разрешил показать непеределанную версию узкому кругу писателей и кинематографистов и студентам семинара Эйзенштейна во ВГИКе. Как полагали Л. М. Рошаль и Л. К. Козлов, перерабатывать фильм Эйзенштейн уже в момент этой беседы не планировал: в споре со Сталиным он считал себя правым и полагал, что со своим больным сердцем и проживет еще недолго, а самоцензура — крайне нервное занятие — наверняка ускорит его смерть. Встреча со Сталиным, по мнению Козлова, была нужна режиссеру в первую очередь для того, чтобы диктатор не распорядился уничтожить готовый фильм[712]. Эйзенштейн и в самом деле скончался вскоре после этих событий — 11 февраля 1948 года.
На экраны в СССР вторая серия вышла в августе 1958-го, несмотря на сопротивление консервативной части ЦК КПСС. Снятию запрета во многом способствовали усилия Михаила Ромма. Можно предположить, что в рассказе Солженицына изображены споры не 1951-го, а осени и зимы 1958 года[713].
Хотя еще в 1956 году был издан сборник статей Эйзенштейна, а в 1957-м в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) в Москве открылась первая выставка рисунков режиссера, именно 1958-й стал годом его явной реабилитации и возрождения публичного интереса к его творчеству. С Эйзенштейна было снято идеологическое клеймо. До этого начиная с 1946 года о нем публиковались преимущественно отрицательные отзывы, осуждавшие его как «формалиста», так и не сумевшего преодолеть многочисленные «ошибки»[714].
К 60-летнему юбилею режиссера во ВГИКе была проведена первая конференция, посвященная его творчеству, на которой было объявлено о начале работы над собранием сочинений (оно публиковалось в 1964–1971 годах), в свет вышел посвященный ему номер журнала «Искусство кино». В Доме кино, Доме ученых, Центральном доме литераторов и Доме архитекторов прошли вечера, посвященные юбилею[715]. На этих вечерах можно было увидеть ранние фильмы Эйзенштейна, в том числе «Стачку» (пока еще без записанной звуковой дорожки и с неотреставрированной пленкой). Дополнительным аргументом в пользу реабилитации прежде опального «формалиста» стал тот факт, что в том же году на Всемирной выставке в Брюсселе «Броненосец „Потемкин“» был признан жюри критиков лучшим фильмом в истории мирового кинематографа.
Несмотря на высокий кредит доверия, вторая серия «Ивана Грозного» озадачила многих — в первую очередь профессиональных кинематографистов, даже учеников Эйзенштейна младшего поколения, таких как Михаил Швейцер. «Простые» зрители, не связанные «корпоративными» ожиданиями, насколько можно судить, не испытывали при оценке фильма особого дискомфорта[716]. Однако будущие «шестидесятники» встретились с серьезной проблемой. Сами они ориентировались на идею «жизненной правды», представленной в поэтическом или эпически-экспрессивном ключе, но обязательно имевшей социально-критический смысл. Перед ними же оказался фильм, полный гротескных образов, основанный на очень условном, откровенно эротизированном киноязыке и демонстративно нарушавший требования исторической достоверности[717]. Иван Грозный, изображенный в виде изъеденного рефлексией одинокого героя, напоминавшего пушкинского Бориса Годунова, у «шестидесятников» вызвал, может быть, не меньшее отторжение, чем прежде у Сталина, но если Сталина фраппировала попытка приписать его предшественнику память о детских травмах и сомнения в собственной правоте[718], то советскую либеральную интеллигенцию — сквозившее за этими сценами сочувствие к деспоту.
Для адаптации позднего Эйзенштейна к представлениям «шестидесятников» потребовалась перекодировка его произведения, которая позволила бы однозначно определить политический «message» картины. Михаил Ромм в статье «Вторая вершина» доказывал, что «Иван Грозный» — антитоталитарный памфлет: «Во второй серии Сергей Эйзенштейн в году наитягчайшего расцвета культа личности Сталина позволил себе замахнуться на этот самый культ. Вторая серия „Ивана Грозного“ — это картина о трагедии тирании. Атмосфера убийств, казней, разгула, тревоги, жестокости, подозрительности, лукавства, измен, предательств приводила в смятение первых зрителей картины…»[719] Нея Зоркая настаивала, что Эйзенштейн хотел следовать государственному заказу и оправдать тирана, но его талант оказался сильнее, «образная логика… постепенно… начинает приходить в противоречие с рациональной и официальной» — в результате оказывается, что фильм все-таки осуждает деспотизм[720].
Солженицын в «Одном дне…» занял гораздо более радикальную позицию — однако его точка зрения была вполне укоренена в контексте споров конца 1950-х. Писатель воспринял «Ивана Грозного» как фильм из ряда идеологических «заказных» произведений 1930–1940-х годов об образцовых авторитарных властителях, которых Сталин стремился представить как своих исторических «прототипов»: роман и пьеса «Петр Первый» и пьеса «Иван Грозный» Алексея Толстого, «Великий моурави» Анны Антоновской и снятый по этому роману фильм Михаила Чиаурели «Ираклий Саакадзе» и т. п.[721]
В 1946 году, когда вторая серия была запрещена, Солженицын уже сидел в лагере, заключенные которого занимались строительством жилых домов на Калужской заставе в Москве (сейчас — площадь Гагарина), — вряд ли у писателя там были возможность и желание читать «Культуру и жизнь» или «Литературную газету». А вот хвалебные отзывы о премьере первой серии «идеологически правильного» фильма Солженицын мог прочитать еще на свободе: премьера состоялась 20 января 1945 года, а арестован писатель был 9 февраля.
Весной 1957 года Солженицын, только что (в феврале) реабилитированный, поселился в Рязани. Там он и жил, изредка наезжая в Москву. Вторую серию «Ивана Грозного» он, как известно из его частного письма, посмотрел в кинотеатре осенью 1958-го. Кроме того, в том же году он мог попасть на юбилейный просмотр одного из ранних фильмов Эйзенштейна и участвовать в спорах о нем. 1958-й явно стал для писателя годом, когда завязалась его внутренняя полемика с Эйзенштейном. Вскоре после этого сначала была написана «внешняя» критика — два эпизода в «Одном дне…», затем — «критика делом», изображение инвертированной революции — ЗИТ.
Образ Эйзенштейна для Солженицына, судя по характеру реминисценций и отсылок в его произведениях, распадался надвое: на раннего и позднего. Вероятно, именно по этой причине в «Одном дне…» творчество режиссера обсуждается дважды. Кавторанг упрекает ранний фильм «Броненосец „Потемкин“» за историческую фальшь, а старик-интеллигент Х-123 обвиняет поздний фильм об Иване Грозном в тотальном — и поэтому безнравственном — эстетизме:
— Кривлянье! — ложку перед ртом задержа, сердится Х-123. — Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! […] …к чертовой матери ваше «как», если оно добрых чувств во мне не пробудит![722]
Ранний Эйзенштейн, от «Стачки» до «Броненосца…», был для писателя оппонентом и источником влияний, а поздний, начиная с «Александра Невского», — противником не только идеологическим, но и эстетическим. Будучи во многих чертах своего сознания «шестидесятником», Солженицын воспринимал ранние фильмы Эйзенштейна как тенденциозное, но впечатляющее изображение событий революции, «жизненной правды», а поздние — как аллегорическую апологию сталинизма.
По-видимому, «Иван Грозный» — вторая серия или весь фильм — стал в сознании Солженицына значимым отрицательным примером, который впоследствии оказывал воздействие и на другие эстетические оценки писателя: если какое-то произведение вызывало у него ассоциации с фильмом Эйзенштейна, оно оценивалось как дурное и нравственно неприемлемое. Так, в статье 1983 года Солженицын выступил с резкими и несправедливыми нападками на фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев»:
…Авторы сценария (Тарковский и Кончаловский) и режиссер Тарковский… затевали свою, не ими первыми придуманную, и не одними ими использованную, подцензурную попытку: излить негодование советской действительностью косвенно, в одеждах русской давней истории или символах из нее. […] Автору (Тарковскому. — И.К.) нужен лишь символ. Ему нужно превратить фильм в напряженную вереницу символов и символов, уже удручающую своим нагромождением: как будто ничего нам не кажут в простоте, а непременно с подгонкой под символ[723].
Единственный режиссер, кроме Тарковского, которого называет Солженицын в своей статье, — это Эйзенштейн. По словам писателя, оба они искаженно показывают в своих фильмах жизнь средневековой Руси: и у того, и у другого персонажи почти никогда не осеняют себя крестным знамением — даже при звуках колокольного звона. Но Эйзенштейн в этом искажении «грубо выполнял социальный заказ режима», а Тарковский, по мнению писателя, демонстрирует собственное историческое невежество (напомню, что и Эйзенштейн в постановлении ЦК был обвинен в «невежестве»).[724]
Конфликт и гротеск
Важнейшей задачей литературы Солженицын считал силовое психологическое воздействие, направленное в том числе и на тех, кто не согласен с произведением, — своего рода «перевербовку» во имя подлинной, открытой писателем правды. В Нобелевской лекции Солженицын сформулировал эту позицию вполне определенно:
…убедительность истинно художественного произведения совершенно неопровержима и подчиняет себе даже противящееся сердце. […] Произведения… зачерпнувшие истины и представившие нам ее сгущенно-живой, захватывают нас, приобщают к себе властно, — и никто, никогда, даже через века, не явится их опровергать[725].
Манифест Солженицына очень близок к эйзенштейновскому пониманию задач искусства. Режиссер полагал, что «монтаж аттракционов» необходим именно для силового психологического воздействия на зрителя, в том числе и на его бессознательное. Полемизируя с Дзигой Вертовым, Эйзенштейн говорил, что советскому кинематографу необходим не созерцающий «киноглаз», но «кинокулак», переделывающий сознание зрителя[726].
Ради чего нужна такая «перевербовка»? Эйзенштейн возвращался к ответу на этот вопрос во многих работах, и, несмотря на общую сложность его аргументации и существенные отличия трактовок, данных в разное время и при разных обстоятельствах, в общем, предложенный режиссером ответ выглядит достаточно цельным. Важнейшая задача искусства, по Эйзенштейну, состоит в том, чтобы выразить невыносимость мира, основанного на социальной розни, и сформировать сознание человека будущего, для которого такой розни существовать не будет: «…вторя прописи [эстетической] формы, всякий из нас психологически внедряет в себя такой тип сознания, которому неведомо ярмо классовости в его [сознания] создании и определении. […] Форма всегда апеллирует к Золотому Веку человеческого бытия»[727].
Для того чтобы создать произведение, прямо или апофатически свидетельствующее о развитии человечества от бесклассового первобытного общества через этап социальной розни к бесклассовому, но антропологически совершенному будущему, — согласно Эйзенштейну, необходим «двойственный процесс: стремительное прогрессивное вознесение по линии высших идейных ступеней сознания и одновременно же проникновение через строение формы в слои самого глубокого чувственного мышления»[728], то есть «спуск» к архаическим мифологическим сюжетам и символам. «Восхождение к атавизму первичных космических концепций, сквозящих через сегодняшнюю случайную ситуацию, всегда есть одно из средств для „вздыбления“ драматической сцены до высот трагедийности»[729].
Ответ Солженицына на тот же вопрос о «перевербовке» напоминает эйзенштейновский по своему этическому радикализму, хотя из всего, что мы знаем о Солженицыне, следует, что теоретических работ Эйзенштейна он, скорее всего, не читал. В уже цитированной Нобелевской речи писатель утверждает, что искусство необходимо для того, чтобы в мире, пересеченном идеологическими и культурными барьерами, утвердить универсальные этические критерии оценки исторических событий и человеческих поступков.
Я думаю, что мировой литературе под силу в эти тревожные часы человечества помочь ему верно узнать самого себя вопреки тому, что внушается пристрастными людьми и партиями: перенести сгущенный опыт одних краев в другие так, чтобы перестало у нас двоиться и рябить в глазах, совместились бы деления шкал, и одни народы узнали бы верно и сжато истинную историю других с тою силой узнавания и болевого ощущения, как будто пережили ее сами, — и тем обережены бы были от запоздалых жестоких ошибок. А сами мы при этом, быть может, сумеем развить в себе и мировое зрение: центром глаза, как и каждый человек, видя близкое, краями глаза начнем вбирать и то, что делается в остальном мире. И соотнесем, и соблюдем мировые пропорции.
Таким образом, задача искусства и по Эйзенштейну, и по Солженицыну может быть описана как конструирование сознания зрителя или читателя, который будет представлять себе разорванный (синхронически или диахронически) мир как требующий цельности, восстановления из распада[730].
Рискну предположить, что тенденция, во имя которой Эйзенштейн и Солженицын стремились к силовому психологическому воздействию на реципиента, была одной и той же. Вслед за Л. К. Козловым я определил бы ее как месть, направленную против «слепой отрицательности „надличных“ сил истории»[731]. В отличие от Эйзенштейна Солженицын полагал, что эти силы имеют явственное потустороннее происхождение:
Все удивлялись, как сразу, без мрака, разразилось всеобщее ликование.
И не видели, что ликование — только одежды великого Горя, и так и приличествует ему входить.
Все удивлялись, что для колоссального переворота никому не пришлось приложить совсем никаких сил.
Да, земных.
(«Март Семнадцатого», финал гл. 641[732])В отличие от других произведений Солженицына о лагерях («Один день Ивана Денисовича» и «В круге первом»), где герои могут победить своих охранников и мучителей только силой нравственного превосходства, в ЗИТ революция против карателей изображена совершенно в духе раннего Эйзенштейна. В «Красном колесе» сама революционная толпа оказывается коллективным монстром, а противостоящие ей полицейские, Николай II, императрица Александра Федоровна — бессильными жертвами. Главные вымышленные герои романа — Воротынцев, Андозерская, Варсонофьев, Саня Лаженицын — тоже жертвы, но готовые к сопротивлению[733].
Методом изображения конфликта «личных» и «надличных» сил истории становится монтаж, демонстрирующий контраст противоборствующих сторон и в то же время внутреннее единство исторического процесса, его скрытую «зарифмованность», возникающую благодаря формальным и смысловым перекличкам между малым и большим — локальными событиями и общими трансформациями. Благодаря монтажному принципу построения в произведении могут быть эстетически выделены моменты «пафоса» (термин С. Эйзенштейна) — образы, символически представляющие развитие, динамику конфликта. У Эйзенштейна этот метод — несомненно, главный, у Солженицына — один из главных. «Если Толстого, Пушкина или Тынянова интересовали главным образом взаимоотношения… нескольких персонажей друг с другом или с историческим процессом, Солженицын показывает, как действия и идеи большого количества людей формируют исторический момент», — пишет Э. Б. Вахтель[734]. Он полагает, что аналогом такого подхода является «Улисс» Дж. Джойса, но мне более точными аналогиями представляются романы Дж. Дос Пассоса и фильмы С. Эйзенштейна.
Философские основы «диалектического» монтажа проанализировал Жиль Делёз:
…Суть метода Эйзенштейна состоит в определении примечательных точек или привилегированных моментов [события]. […] Композиция, или диалектическое взаимодействие, включает не только органичность, то есть генезис и рост, но и пафос, или развитие. […] …Речь идет… не о формировании и продвижении вперед самих оппозиций по виткам [спирали развития], а о переходе от одной противоположности к другой или, точнее, в другую, по хордам: прыжок в противоположное[735].
Все «Красное колесо» в целом может быть описано как гипермонтаж, в котором сталкиваются фрагменты, различающиеся не только по фактуре — повествовательные, «экранные», историко-аналитические, документы, «нарезки» заголовков и отрывков из газет, пословицы-«титры», которые объясняют все происходящее, — но и содержательно: повествование переходит от описания испытывающей чувства одиночества и обреченности императрицы, предчувствующей будущую опасность для мужа и всей семьи монарха, — к готовящему революцию социалисту Суханову-Гиммеру (гл. 14–15 «Марта Семнадцатого»), от самоуверенных оценок министра внутренних дел Александра Протопопова (гл. 31 «Марта Семнадцатого») — к брезгливо-отстраненному восприятию того же Протопопова глазами генерала Спиридовича (гл. 32 там же) и т. п. Сам Солженицын подчеркивал значимость для него таких «монтажных» переходов: «…Стык глав [в „Красном колесе“] сам по себе работает, это как бы четвертое измерение, это еще новое восприятие»[736].
В известном телеинтервью Никите Струве (март 1976 года) писатель сообщил, что его концепция гипермонтажа восходит к роману Джона Дос Пассоса «1919», который Солженицын прочитал во внутренней тюрьме на Лубянке в 1945 году. В первую очередь он связывал с именем Дос Пассоса использование в эпопее коллажей из газетных текстов и «экранных» фрагментов. Однако, отвечая на упреки в слишком обширных заимствованиях у Дос Пассоса, Солженицын настаивал, что в его эпопее эти элементы играют существенно иную конструктивную роль, чем у американского писателя[737].
Безусловно, композиционные принципы Дос Пассоса оказали существенное влияние на поэтику «Красного колеса», однако важны и различия. Прежде всего, «кинообразных» фрагментов, аналогичных солженицынским, в романе «1919», как и во всей трилогии «США», нет! Солженицын считал, что его «Экраны» восходят к главам Дос Пассоса, озаглавленным в переводе Валентина Стенича «Киноглаз» (в оригинале — «Cinema Eye»), однако в действительности эпизоды, обозначенные как «Киноглаз», ничем не похожи на «экранные» сцены Солженицына. Они представляют «непосредственное», «неотобранное» восприятие «сырой» реальности — но не с помощью имитации киноизображения словесными средствами, а с помощью приема потока сознания, который организован несколько иначе, чем у Джойса[738]. «Cinema Eye» показывают персонажа не с абсолютно внешней, как «экранные» сцены «Красного колеса», а скорее с абсолютно внутренней точки зрения:
вспоминая о серых скрюченных пальцах густой крови капающей с холста о булькающем дыханье раненных в легкие о вонючих клочьях мяса которые вносишь в санитарный автомобиль живыми и выносишь мертвыми
мы сидим втроем на дне высохшего цементного бассейна в маленьком саду с розовой оградой в Ресикуре
Нет должен быть какой-то выход учили нас Страна свободы совести Дайте мне свободу или дайте мне Вот нам и дали смерть
солнечный полдень сквозь легкую тошноту оставленную горчичным газом я чувствую запах букса чайных роз и белых флоксов с пурпурным глазком…[739]
Очевидно, «Экраны» в «Красном колесе» названы по главам другого типа: «нарезки» газетных заголовков и заметок у Дос Пассоса называются «Экран новостей» (в оригинале — «Newsreel»). У Солженицына такие нарезки никак не называются, а главы, из которых они состоят, имеют особую маркировку: к их номеру присоединен картографический знак секунды (например, 534ʺ).
Дос Пассос не «монтирует» фрагменты по принципу контраста: в стыкующихся главах действуют разные герои, но их различия не выглядят драматическим противостоянием. «Контрастный монтаж» в ЗИТ и «Красном колесе» куда больше напоминает произведения не американского писателя, а советского режиссера.
По-видимому, для изображения революции — новой, антисталинской, праведной — в ЗИТ, или двух прежних, 1917 года — в «Красном колесе» Солженицын считал необходимым эйзенштейновский метод «монтажа оппозиций».
Характерно, что в двух романах эпопеи, в которых описываются собственно революционные события, — «Марте Семнадцатого» и «Апреле Семнадцатого» — можно видеть экспансию этого метода за пределы «экранных» сцен[740]. В романах есть главы, состоящие из хроникальных заметок и маленьких сцен или «кадров», демонстрирующих рост психологического противостояния и прямого насилия на всех уровнях общества (гл. 10, 24, 29, 41, 43 и др. «Марта Семнадцатого») или появление на исторической авансцене новых влиятельных сил — например, петроградских студентов. Вот два таких фрагмента целиком:
Солдат верхом и с револьвером в руке подъехал к офицеру и целится ему в лицо.
(гл. 111 «Марта Семнадцатого»)[741]или:
С клодтовских коней студенты убеждают проходящие манифестации:
— Не надо! Расходитесь! Вот-вот начинается общее заседание правительства, там всё и решится! Завтра узнаем!
(гл. 59 «Апреля Семнадцатого»[742])В двух предыдущих романах эпопеи ничего аналогичного таким подборкам коротких эпизодов нет[743].
Для изображения индивидуального нравственного сопротивления или сохранения от зла в условиях тоталитарного режима («Матренин двор») Солженицыну требовался не эйзенштейновский монтаж, а совершенно другие модальности высказывания. В его арсенале было несколько весьма разных модальностей, в диапазоне от «народного» лагерного эпоса в «Одном дне…» до злободневной социальной сатиры в киносценарии «Тунеядец». П. Вайль и А. Генис справедливо заметили, что раннее творчество Солженицына, в отличие от зрелого, крайне разнообразно не только по жанрам, но и по стилистике[744], — писатель экспериментировал и одновременно словно бы испытывал, на каком пути его могут ожидать большее признание и понимание.
Одним из прямых следствий эйзенштейновского метода монтажа является активное использование гротеска, необходимого для подчеркивания различий между сторонами конфликта, для «фокусировки» содержания и перспектив конфликта и для вынесения тенденциозных оценок. Гротеск такого рода постоянно использовал и Солженицын: ср. приведенный выше (и далеко не полный) перечень парадоксальных образов в ЗИТ. Однако писатель, полемизируя с режиссером, перенес смысловой акцент с карикатурного облика и мимики персонажей (постоянный элемент поэтики Эйзенштейна) на иррациональное поведение.
В фильме «Октябрь» агрессивно настроенные обыватели выглядят подчеркнуто вульгарно и все время смеются, радуясь «поражению революции» в июле 1917 года (или, говоря более исторически, провалу первой попытки большевистского переворота, после которого военные наконец выгнали большевиков из захваченного ими дома Матильды Кшесинской). В «Марте Семнадцатого» обыватели тоже постоянно смеются — но они составляют не контрреволюционную, а революционную и вполне благополучно выглядящую толпу, которая радуется избиению государственных служащих — полицейских или вагоновожатых — или притворно жалуется на несуществующий голод:
…придумали такую забаву, сияют лица курсисток, студентов: толпа ничего не нарушает, слитно плывет по тротуару, лица довольные и озорные, а голоса заунывные, будто хоронят, как подземный стон:
— Хле-е-еба… Хле-е-еба…
Переняли у баб-работниц, преобразили [из крика] в стон, и все теперь вместе, всё шире, кто ржаного и в рот не берет, а стонут могильно:
— Хле-е-еба… Хле-е-еба…
А глазами хихикают. Да открыто смеются, дразнят. Петербургские жители всегда сумрачные — и тем страннее овладевшая веселость.
А мальчишки, сбежав на край мостовой, там шагают-барабанят, балуются:
— Дай! — те! — хле! — ба! Дай! — те! — хле! — ба!
(Гл. 2)[745]Еще одна важная тема, которая, по-видимому, была для Солженицына ассоциативно связана с «эйзенштейнообразным» гротеском (то есть с приданием гротескного облика одной из сторон конфликта), — несвобода, которую ее охранители выдают за свободу. В этих случаях на униженных, притесняемых людей извне словно бы надевается гротескная «рамка» или маска. Так построены вставная новелла «Улыбка Будды» и финал романа «В круге первом» и пролог книги «Архипелаг ГУЛАГ».
В финале «В круге первом» узников «шарашки» перевозят в нарядном закрытом фургоне с надписью «Мясо» на четырех европейских языках. Надпись рассчитана не столько на москвичей, сколько на иностранных корреспондентов. Эта надпись — единственный фрагмент текста романа, выделенный графически: она записана «лесенкой» и отсылает к поэтике авангарда 1920-х годов.
Швыряясь внутри сгруженными стиснутыми телами, веселая оранжево-голубая машина шла уже городскими улицами, миновала один из вокзалов и остановилась на перекрестке. На этом скрещении был задержан светофором темно-бордовый автомобиль корреспондента газеты «Либерасьон», ехавшего на стадион «Динамо» на хоккейный матч. Корреспондент прочел на машине-фургоне:
Мясо Viande Fleisch Meat[746]Так оформлены фрагменты прозы Андрея Белого, Бориса Пильняка, Артема Веселого и воскрешавшего модернистские традиции Абрама Терца («Любимов»), а также один из титров в фильме Эйзенштейна «Октябрь». Вероятно, столь же неслучайно у Солженицына проза «лесенкой» впервые появляется в ЗИТ: «— Давят! / Танки! / Спасайся! / Спокойно…» (с. 456).
В прологе «Архипелага…» повествователь угадывает, что статья из журнала «Природа», рассказывающая о том, что ископаемые тритоны, найденные в вечной мерзлоте, оказались вполне съедобными, в действительности изображает изголодавшихся заключенных, пожирающих мерзлых архаических земноводных. Недавно было установлено, что на самом деле в пересказанной Солженицыным статье 1948 года речь шла не о тритонах, а о больших ископаемых рыбах. О тритонах же там говорится, что этих животных в замерзшем виде «находили рабочие при корчевании пней» и что тритоны «при оттаивании оживали», но о том, что ели и их, автор не сообщает[747]. С высокой степенью вероятности, упомянутые в статье «рабочие», корчующие пни на берегах Индигирки, тоже были заключенными, как и те, что нашли ископаемых рыб во взорванных глыбах льда: в бассейне этой реки (ныне — Верхнеколымский улус Якутии) находились многочисленные лагеря.
Расхождение между журналом и предисловием позволяет увидеть, как Солженицын форсировал гротеск в своем описании: коллективное поедание рыбы, даже ископаемой, не могло бы вызвать такого ужаса, жалости и сострадания, которые вызывает поедание тритонов[748].
«Белый Эйзенштейн»
Если аналогии между творчеством Солженицына и Эйзенштейна, о которых шла речь выше, не случайны и если допустима предложенная выше интерпретация этих аналогий, есть основания скорректировать существующие представления о генезисе эстетики Солженицына. Нет сомнений в том, что эта эстетика имеет модернистское происхождение[749]. В телевизионной беседе с Никитой Струве Солженицын, перечисляя любимых и наиболее значимых для него писателей, назвал Пушкина, позднего Льва Толстого (оговорив, что ценит его позднее творчество выше «классического»), Марину Цветаеву, Евгения Замятина и Джона Дос Пассоса[750]. Цветаева-прозаик, Замятин и Дос Пассос — вполне модернистский «пантеон», исторически связанный не столько с 1920-ми, сколько с 1930-ми годами: расцвет прозы Цветаевой приходится на это десятилетие, да и роман «1919» написан в 1932 году.
Можно заметить неожиданные переклички, в первую очередь формальные, между прозой Солженицына и сочинениями авторов-модернистов, идеологически ему враждебных. В «Красном колесе» русские пословицы, набранные по центру страницы крупным шрифтом, как лозунги или титры в кино, отделяют друг от друга большие фрагменты текста, задавая ритмическую организацию целого и одновременно — комментируя происходящее, как если бы его «объяснял» хор из древнегреческой трагедии («…Пословицами выражается словно бы голос народа», — замечает автор[751]). Содержательно эти пословицы больше всего напоминают заключающие каждую часть фразы «отбивки» в повести Бориса Садовского «Александр Третий» — они являются цитатами из христианских молитв («Да придет царствие Твое») или имеют столь же сакральное значение для автора-националиста, как и молитвы, — например, лозунг «Россия для русских», чье авторство часто приписывалось именно Александру III[752]. Но графически эти пословицы-комментарии в романе Солженицына — что уже менее предсказуемо — напоминают некоторые ремарки в пьесах Бертольта Брехта. Ср., например, идеологические надписи-пояснения, которые должны были появляться на киноэкране после каждого эпизода пьесы «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть» (1941).
Задача ремарок у Брехта и Солженицына диаметрально противоположна. Комментарии в пьесах Брехта — аналитические: так, в «Карьере Артуро Уи…» надписи аргументируют для зрителей метафорическое сходство между становлением нацистского режима и ростом американской мафиозной шайки[753]. «Титры» — пословицы в «Красном колесе» — натурализующие: они приведены с абстрактной точки зрения глубинной народной мудрости, от имени «настоящей» человеческой природы, от которой герои отчуждены, а повествователь — нет. В этом смысле ремарки Солженицына похожи на «отбивки» в повести Садовского — они тоже выражают голос высшего разума.
Мы ничего не знаем о том, читал ли Солженицын пьесы Брехта, хотя, скорее всего, видел поставленные по ним спектакли в московском Театре на Таганке. Однако он мог и вовсе не помнить о пьесах немецкого драматурга: здесь, в отличие от проанализированных выше перекличек с Эйзенштейном, важнее сходства и различия, обусловленные не генетически, а типологически.
Солженицын стал автором, завершившим — по крайней мере, на сегодняшний день — развитие ЭППИ, перевернувшим его общую идеологическую основу: в произведениях писателя революция предстает не как спасение человечества, а как антропологическая катастрофа, лишающая людей памяти. Сюжеты «Красного колеса» и «Архипелага ГУЛАГ» в равной степени могут быть интерпретированы как история деградации общества, руководимого тоталитарной властью (ср., например, название одной из частей «Архипелага ГУЛАГ»: «Архипелаг каменеет»), — и сопротивления одиночек и маленьких групп, всегда слабого, почти безнадежного. Единственное в его творчестве произведение, изображающее революцию положительно, — ЗИТ — видимо, первый ответ на эстетику Эйзенштейна, оказавшийся и самым прямолинейным: в сценарии изображена революция, но не советская, а антисоветская.
Говоря упрощенно, Солженицын стремился стать своего рода «белым Эйзенштейном», чтобы с помощью силового психологического воздействия на читателей всего мира «перетянуть» действие советской пропаганды времен «Культуры один», когда образ СССР в глазах всего мира был наиболее привлекательным, и показать всю бесчеловечность советского режима. Это «перетягивание» ему, к счастью, в значительной степени удалось.
Позволю себе высказать еще одно предположение. Огромное влияние, которое оказал «Архипелаг ГУЛАГ» на людей левых антитоталитарных убеждений в начале 1970-х годов, было вызвано не только тем, что это произведение вышло в переломный момент (крах «больших» идеологий после событий 1968 года и кризис веры многих коммунистов и социалистов в правоту СССР после вторжения стран Варшавского договора в Чехословакию) и имело огромную обобщающую силу. В отличие от большинства вышедших ранее на Западе книг, разоблачавших советский режим, «Архипелаг» использовал элементы международного языка «левого» искусства. Они были убедительны и эмоционально значимы для принадлежавших к самым разным культурам людей с левыми (в настоящем или в прошлом) убеждениями.
Трагедийный модус ЭППИ: Солженицын и Альфред Дёблин
Так как произведения ЭППИ предлагают разные модальности описания истории, к ним может быть mutatis mutandis применена классификация Хейдена Уайта, предназначенная для описания модальностей письма в научных исторических трудах: история как трагедия, комедия, реалистический роман и сатира. Применительно к творчеству Эйзенштейна такую модель интерпретации впервые предложили Кевин М. Ф. Платт и Дэвид Бранденбергер: они показали, что при формировании сталинского аллегорического нарратива истории разные политические и культурные группы стремились придать этому нарративу разные модальности, и эта разница в ожиданиях структурировала споры вокруг сценариев исторических фильмов, развернувшиеся в СССР во второй половине 1930-х и начале 1940-х годов[754].
Исследователи творчества Эйзенштейна, да и он сам, неоднократно писали о том, что в его фильмах, мемуарной и дневниковой прозе история интерпретируется как трагедия[755]. В финале первого варианта сценария даже такого «победительного» фильма, как «Александр Невский», заглавный герой погибал, отравленный завистниками-князьями во время поездки в Золотую Орду. Хотя сценарий режиссер писал в соавторстве с Петром Павленко, финал придумал лично Эйзенштейн — и очень им дорожил[756]. Однако Сталин, прочитав сценарий, провел красную черту под описанием мига наивысшего торжества Невского — и потребовал закончить фильм именно этой сценой, приказав передать Эйзенштейну его устную резолюцию: «Не может погибнуть такой хороший князь»[757].
В произведениях Солженицына история интерпретируется одновременно элегически и сатирически. Его сочинения — своего рода медитации на руины «правильного», «органического» состояния общества, совмещенные с сатирическим изображением как современного состояния этого общества, так и тех, кого Солженицын считал виновниками деградации. Даже в «обзорных» разделах «Красного колеса», имитирующих научно-исторический стиль, повествователь, выражающий точку зрения автора, постоянно вмешивается в цитируемые стенограммы заседаний Государственной думы и «перебивает» речи либеральных и левых депутатов издевательскими комментариями, демонстрирующими властолюбие или нечестность очередного выступающего[758]. Собственно «органическое» состояние общества — «до руин» — в прозе Солженицына избражается крайне редко: в воспоминаниях Ивана Денисовича и в первых, довоенных главах «Красного колеса» — где эта идиллия, впрочем, уже подточена предчувствиями будущей катастрофы. Солженицын сохранил во многих своих произведениях характерный для ЭППИ телеологизм, но изменил его смысл на противоположный — превратил из утопического в катастрофический.
Исторический аналог этого переворачивания, как оно представлено в «Красном колесе», — романная тетралогия Альфреда Дёблина «Ноябрь 1918. Немецкая революция», посвященная моральному поражению революции 1918–1919 годов в Германии. Этот цикл, написанный в 1937–1943 годах в эмиграции, состоит из четырех больших романов: «Буржуа и солдаты» (1939), «Преданный народ» (1940), «Возвращение фронтовиков» (1940) и «Карл и Роза» (1942–1943)[759]. Можно предположить, что Солженицын не знал о произведении Дёблина и сходство их эпопей — сугубо типологическое. Но оно достаточно значимо.
Дёблин отказался назвать свое сочинение романом или циклом романов и обозначил его жанр как «повествование» или «повествовательное сочинение» (Erzählwerk) — «Красное колесо», как известно, снабжено указывающим на жанр подзаголовком «повествование в отмеренных сроках». Каждый из романов дёблиновского цикла очень подробно описывает события, происходящие в течение нескольких исторически значимых дней по всей Германии (все действие эпопеи охватывает время с 10 ноября 1918 года до 15 января 1919-го — дня, в который были убиты Карл Либкнехт и Роза Люксембург), — аналогично, в каждом из романов «Красного колеса» описаны многочисленные события, происходящие в очень краткие промежутки времени (если не считать многочисленных отступлений в прошлое героев).
В статье 1929 года «Структура эпического произведения» Дёблин писал: «Произведения искусства непосредственно связаны с Правдой (Wahrheit)» (курсив источника)[760]. Солженицын, как известно, завершил свою Нобелевскую лекцию (1970) словами:
В русском языке излюблены пословицы о правде. Они настойчиво выражают немалый тяжелый народный опыт, и иногда поразительно:
ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ.
Вот на таком мнимо фантастическом нарушении закона сохранения масс и энергий основана и моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мира.
Нобелевскую лекцию Солженицын написал сразу после завершения работы над романом «Август Четырнадцатого» (март 1969 — октябрь 1970, премия писателю была присуждена 8 октября 1970 года) — первым «узлом» эпопеи «Красное колесо».
По-видимому, и Дёблин, и Солженицын имели в виду выразить в своих произведениях скрытую «правду» истории, хотя представляли себе ее совершенно по-разному. Это было связано с тем, что их творчество было основано на разных концепциях субъекта.
В статье «Исторический роман и мы» (1936) Дёблин писал, в некоторых отношениях прямо предвосхищая «Тезисы о понятии истории» Беньямина:
Он [автор] вовсе не предполагает рыться в… могилах подобно археологу, чтобы после обогатить какой-нибудь музей, но хочет уже погрузившееся в землю переместить — живым — в мир, мертвым — открыть уста, их иссохшим костякам — вернуть способность к движению. […] Автор… продумывает и прощупывает пядь за пядью свой материал, и когда хочет что-то ухватить — и ухватывает, — то подталкивает его к этому отнюдь не бессмысленное стремление к объективности, а единственная неподдельность, которая возможна для индивида на этой земле: пристрастность действующего. […] Куски истории, заимствованные из нее части становятся кусками его самого, и он их вы-ставляет, последовательно, один за другим, и так выстраивается особый, действительно вперед-живущий и до конца себя из-живающий мир (eine wirklich sich hinlebende und auslebende Welt). […] Ибо мы сделаны из того же теста, что и те, пребывающие в могилах, и обстоятельства, условия, в которых мы живем, позволяют нам на время приютить у себя и тех, кто, по видимости, совершенно отличен от нас.[761]
Солженицын явно перекликается с Дёблином в двух пунктах: его проза направляется стремлением «открыть уста мертвым» и выражает стремление вмешаться в историю с точки зрения «пристрастности действующего». Но он далек от идеи «приютить у себя и тех, кто, по видимости, совершенно отличен от нас», хотя и был уверен, что стремится к пониманию обеих сторон исторического конфликта (ср., например, его объяснения по поводу исторической книги о русско-еврейских отношениях «Двести лет вместе»). Кроме того, Солженицын не считал, что делает исторические события «кусками себя самого», так как воспринимал самого себя не как субъективного, а как объективного наблюдателя.
Несмотря на эти расхождения, переклички между принципами организации двух романных исторических эпопей — Дёблина и Солженицына — весьма значимы.
В дёблиновском цикле действуют многочисленные исторические лица под собственными именами — и вымышленные герои. Политические деятели, особенно социал-демократы, изображены очень иронически, а вся эпопея Дёблина описывает крах революции, руководство которой взяли на себя представители именно этой партии. В других эпизодах автор, оставляя насмешливый тон, патетически описывает происходящее как результат действия божественных и дьявольских сил. Особенно это заметно в последнем романе, который представляет историю убийства Розы Люксембург как высокую трагедию, приводящую к спасению души немецкой коммунистки — «искательницы богов» (определение Дёблина — «Göttersucherin»). И структура мира персонажей, и ироническая интонация, и религиозные объяснения происходящего — все это находит соответствия в эпопее Солженицына.
По-видимому, это сходство — конвергентное, и основано оно на сочетании «монтажной» выучки авторов этих двух эпопей и их политических убеждений. Солженицын, как и Дёблин, может быть назван разочарованным левым, или человеком, разочаровавшимся в революции. «…Первое время [после ареста, последовавшего в 1945 году,] в тюрьмах, особенно в Бутырке […] [Солженицын] продолжает [в спорах с другими заключенными] доказывать, что ленинизм — это готовая, верная истина»[762]. В дальнейшем Солженицын пришел в своем развитии к почвенно-националистическому мировоззрению. Дёблин к 1930-м годам стал левым либералом[763]. Однако оба писателя стали верующими людьми, объяснявшими историю как результат трансцендентного вмешательства и этического выбора, который обязан сделать каждый человек. Этнический еврей Дёблин во время работы над эпопеей заинтересовался католическим вероучением и крестился между завершением третьего и началом работы над четвертым, завершающим, томом — 30 ноября 1941 года. Солженицын был крещен в младенчестве, но долгое время не был церковным человеком и вновь обратился в православие, попав в лагерь в 1950 году.
В романном цикле Дёблина по сравнению с его самым известным романом «Берлин, Александерплац» роль монтажных построений уменьшена. Газетные статьи и заголовки активно используются, но, в отличие от «монтажной» литературы 1920-х, вводятся мотивированно: например, Дёблин описывает, как герой или героиня читают на улице газету, — и тогда уже цитирует статью из прессы, попавшуюся ему или ей на глаза. Повествователь, как это часто бывало в реалистической прозе XIX века, знает обо всех мыслях и переживаниях героев и пересказывает их[764]. Все эти поэтологические аспекты эпопеи дали основания литературоведу-германисту Клаусу Хофманну счесть, что «Ноябрь 1918», несмотря на модернистский генезис, — не модернистское произведение[765].
Солженицын, как можно видеть, тоже вводит фигуру всезнающего автора, но сохраняет гораздо больше из монтажной стилистики, характерной для культуры 1920–1930-х. Так, в его эпопее газетные заголовки вводятся немотивированно, создавая монтажный «информационный поток», как у Дос Пассоса.
Несмотря на инверсию философско-идеологической основы, структурные принципы ЭППИ в творчестве Солженицына сохранились полностью — в частности, выделение «моментов пафоса», противостоящих потоку сплошного становления: «В этой кривой истории — то есть в смысле математическом кривая линия истории, — есть критические точки, их называют в математике особыми. Вот эти узловые точки… я… подаю в большой плотности»[766]. У Солженицына эта локализация действия еще заметнее, чем у Дёблина, так как все действие «Красного колеса» охватывает почти четыре года (с августа 1914-го до апреля 1917-го, если не считать эпилога), а действие каждого романа занимает все равно всего несколько дней, как у Дёблина.
Возможно, и нетерпимость Солженицына в спорах, и его стремление идеологически заклеймить противника были генетически связаны не только с психологическими особенностями писателя, но и с методологией и стилистикой раннесоветского авангарда. Или, если угодно, психологические особенности Солженицына привели его к усвоению не только эстетики советского авангарда, но и характерных для него агрессивных методов ведения полемики.
«Вненаходимый» писатель
П. Вайль и А. Генис полагают, что в первой половине 1960-х, после публикации «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицын еще мог надеяться войти в подцензурную советскую литературу. Но со второй половины 1960-х годов он целенаправленно формировал свою репутацию как автора, не имеющего аналогов в советской литературе и противостоящего советской культуре в целом, а поэтому и не сравнимого ни с кем. Здесь можно воспользоваться термином Михаила Бахтина: Солженицын манифестировал свою «вненаходимость», то есть локализацию за пределами известного контекста.
Естественными союзниками Солженицына в формировании такой репутации стали первые внимательные интерпретаторы его творчества — критики-нонконформисты в диапазоне от Владимира Лакшина до Аркадия Белинкова. Для них отказ Солженицына от советских «правил игры» приобрел значение социального образца, новой утопической нормы культурного и этического самоопределения[767]. «Вненаходимость» Солженицына давала ему и сочувствующим его исследователям возможность связать его с традициями русской классической литературы, от которых были отчуждены советские авторы.
В дальнейшем писатель настаивал на своем уникальном положении и в эмигрантской литературе. В произведениях и жизнетворческих акциях (манера одеваться, стилистика публичных выступлений, уединенная жизнь в Вермонте, торжественная поездка по России при возвращении в 1994 году…) он выработал намеренно анахроническую культурную позицию, которая в еще большей степени затруднила определение его литературной генеалогии — притом что идеологическая генеалогия Солженицына прослежена довольно подробно как его противниками, так и доброжелательно настроенными аналитиками[768]. «Единственность» стала основой образа писателя в биографической книге Людмилы Сараскиной, что вызвало справедливые возражения — в частности, Елены Скарлыгиной[769].
Адепты автора «Архипелага ГУЛАГ» объясняют, что Солженицын вовсе не анахроничен, а оппоненты настаивают, что явная анахроничность свидетельствует об эстетической и гражданской несостоятельности литератора. Тем не менее до сих пор почти не исследован вопрос: почему писатель, живо откликавшийся на многие современные ему события, намеренно поддерживал в своем творчестве и поведении такую анахронистичность? Какими могли быть его художественные задачи?[770] На мой взгляд, обсуждение политических и этических концепций Солженицына сегодня если и имеет смысл, то как часть изучения выработанных писателем модальностей высказывания — а эти модальности связаны с особенностями его эстетической генеалогии.
Случай Солженицына — в самом деле, особый, но не уникальный, и у него есть своя родословная. Не уникален он и типологически: в 1920–1930-е годы такую же позицию «вненаходимости» в советской литературе стремился занять Михаил Булгаков. Существенно, что и «…Булгаков заявлял о своих консервативных ценностях, используя язык нового времени»[771].
Место Солженицына в русской культуре 1960–1980-х годов напоминает положение языка, не имеющего современных аналогов, — единственного сохранившегося потомка большой языковой семьи, причудливо сочетающего черты своих исчезнувших собратьев и ближайшего, но чужеродного ему окружения.
Глава 9 Павел Улитин: рождение новой прозы из постутопического монтажа
Постутопический монтаж, сформировавшийся в несколько этапов на протяжении 1930–1970-х годов, может быть рассмотрен с двух точек зрения. Он завершал и переосмысливал традиции «классического» монтажа 1910–1920-х годов — и открывал новый этап развития искусства. Постутопический монтаж стал одним из первых феноменов, предвещавших формирование нового типа культуры — постмодернистского.
Предметом изображения в произведениях, написанных или снятых с помощью этого типа монтажа, часто (хотя и не обязательно) становилась не современность, а недавняя история, представленная с точки зрения, которую автор понимал как современную. Для изображения исторических событий монтажные методы использовались и раньше — достаточно вспомнить фильм Д. У. Гриффита «Нетерпимость». Но Гриффит изображал историю как сложное соединение вечного возвращения и спасительного прогресса. В произведениях, использовавших метод постутопического монтажа, история оказывалась серией разрывов, и последний разрыв, самый значительный, отделял ее от современности.
Солженицын использовал переосмысленный — постутопический — монтаж для ревизии исторического нарратива в литературе. Созданный им образ исторического процесса был элегическим и сатирическим по модальности и утопически-консервативным по содержанию. Джозеф Пирс обоснованно сопоставил Солженицына с европейскими консервативными модернистами, такими как Дж. Р. Р. Толкин[772], но в этом ряду российский «нобелиат» по своей эстетической и политической позиции выглядит наиболее радикальной и в то же время наиболее архаичной фигурой — из-за общей идеологизированности значительной части его произведений и из-за избранной им позиции всеведущего автора-судьи.
Другой писатель, о котором и пойдет речь в этой главе, Павел Улитин, создал новый метод в литературе и использовал его для пересоздания другого типа нарратива — автобиографического. При этом он оказался одним из самых значительных новаторов среди тех, кто изменил европейское и североамериканское автобиографическое письмо в 1950–1970-е годы.
Улитин может быть рассмотрен как самый крайний из возможных оппонентов, оспаривающих позицию, общую для Эйзенштейна и Солженицына: он сделал гипермонтаж средством деконструкции истории как логически связного нарратива. Эта деконструкция и стала для него основой нового автобиографического письма.
Прежде чем перейти к анализу текстов, я дополню биографические сведения, изложенные в гл. 4[773]. Это необходимо потому, что, как я уже говорил, фигура Улитина изучена крайне мало.
Жизнь неофициального человека
Павел Улитин родился в станице Мигулинской Области Войска Донского в 1918 году. Его отец был землемером, мать — врачом, она окончила Высшие женские курсы и в 1912 году приехала работать в казачий край, где русских считали некоренным народом, а положение приезжих регулировалось специальным законодательством. Первое детское воспоминание Улитина, относящееся к времени, когда ему было три года: он просыпается ночью и видит рыдающую мать, которая держит в руках голову отца, отрубленную бандитами. (Психоаналитики, возможно, вывели бы из этой замещенной «первичной сцены» стремление будущего литератора создавать свои тексты одновременно целыми и разделенными на части.) В детстве мать учила его немецкому языку, который сама хорошо знала.
Литературные тексты начал писать еще в юности. В 1936 году, окончив школу, он поступил в Московский институт философии, литературы и истории (ИФЛИ). В 1938 году соученик Улитина Иван Шатилов уговорил его вступить в организованную им Ленинскую народную партию (ЛНП) — подпольный кружок, поставивший своей целью борьбу за идеалы «подлинного ленинизма» против сталинской диктатуры. (Улитин, впрочем, писал в автобиографическом эссе «Хабаровский резидент» (1961)[774], что стать членом группы он особенно не стремился и что Шатилов, имевший вождистский склад характера, в разговоре, пользуясь жаргонным выражением, «взял его на слабо».) Участники группы были арестованы, и о раскрытом «заговоре» — равно как и о разгроме еще нескольких молодежных кружков — 7 июня 1939 года Сталину рапортовал Л. П. Берия, ставший в ноябре 1938 года наркомом внутренних дел вместо Н. И. Ежова[775].
Одним из членов группы, не названным в этом донесении, был друг Улитина и знаменитый впоследствии поэт Павел Коган. Выжившие члены ЛНП Иван Шатилов и Павел Улитин безоговорочно считали его провокатором и секретным сотрудником НКВД. Об этой роли Когана, согласно эссе «Хабаровский резидент», рассказал сокамерникам Григорий Якубович, бывший заместитель начальника управления НКВД по Москве и Московской области, арестованный за несколько месяцев до Улитина и расстрелянный в 1939 году[776]. (При этом Улитин вплоть до 1970-х годов помнил и цитировал неопубликованные стихи Когана, которые его бывший друг ему когда-то читал[777].)
Это знание о Когане впоследствии до некоторой степени стигматизировало Улитина. Коган был кумиром «шестидесятников», в том числе и диссидентов, таких как Александр Галич, знавший его с юности. О нем вспоминали как о мягком, мечтательном человеке. Информацию о провокаторской деятельности Когана даже в неофициальных интеллигентских кругах Москвы категорически отторгали.
При этом ни Улитин, ни те, кто ему не верил, по-видимому, старались не думать о том, что некоторые молодые люди, публично (а возможно, и тайно) разоблачавшие «врагов народа» в конце 1930-х, делали это не из моральной низости, а по идейным соображениям — хотя их жертвам от этого легче не становилось. Иногда такие разоблачители со временем становились диссидентами и, бывало, глубоко раскаивались в том, что говорили и делали в молодости. Но Коган, ставший на войне командиром разведгруппы, погиб в 1942 году.
Улитин не «раскололся» на допросах, несмотря на пытки. Полуживого, со сломанной ногой, его бросили связанным в сырую камеру, у него начались гнойный плеврит и сепсис. В 1940 году его комиссовали — выпустили из тюрьмы, по-видимому, просто для того, чтобы он умер не в камере. Он вернулся на Дон к матери, которая его выходила, однако Улитин остался инвалидом, не был призван на фронт[778] и всю оставшуюся жизнь ходил с палкой, прихрамывая. Писатель был уверен, что не погиб в тюрьме только потому, что в институте много занимался конькобежным спортом и имел до ареста богатырское здоровье.
После окончания войны Улитин переехал в Подмосковье и поступил в экстернат Московского государственного педагогического института иностранных языков (МГПИИЯ). Летом 1951 года, будучи в отчаянии от ощущения того, что никогда не сможет реализоваться в СССР, он попытался пройти в посольство США в Москве, чтобы попросить политического убежища. Он выдавал себя за иностранца и заговорил с охранником из НКВД по-английски, но при этом, по собственному рассказу Улитина, в руках у него была авоська с парой коньков. Улитин был арестован, признан невменяемым и помещен в Ленинградскую тюремную психиатрическую больницу (ЛТПБ), откуда был освобожден в 1954 году. В ЛТПБ его научили профессии переплетчика, что в дальнейшем помогло ему изготавливать самиздатские книги.
При обыске в 1951 году у него были конфискованы рукописи его ранних произведений — один готовый роман и черновики еще двух незавершенных. В «столыпинском» вагоне, в котором Улитина везли в ЛТПБ, он впервые увидел Александра Асаркана (1930–2004), впоследствии — одного из самых проницательных и известных театральных критиков 1960-х[779], а в ЛТПБ познакомился и с Юрием Айхенвальдом (1928–1993), впоследствии известным поэтом, публицистом, диссидентом и культовым учителем литературы в одной из московских школ. Оба они стали близкими друзьями Улитина.
После освобождения Улитин жил в Ростове, затем в Москве. В 1957 году окончил заочное отделение МГПИИЯ. Работал продавцом в книжном магазине, давал уроки английского языка, переводил современную англоязычную прозу. Минимум два его перевода — по одному рассказу Дж. Джойса и американского писателя Джеймса Тёрбера — были опубликованы в советской печати.
В 1950–1960-е годы основным местом самореализации для Улитина стало знаменитое в Москве кафе «Артистическое», где он, сидя за столиком, произносил длинные безадресные монологи, в которых «обкатывал» свою прозу, или устраивал особого рода перформансы:
Улитина надо было видеть — скажем, в лучшие годы в кафе, а позже у него дома за бутылкой вина: обложенный записными книжками, с закладками на нужных страницах, с листочками, где выпечатаны были заранее заготовленные цитаты-шпаргалки, со страничками английских романов и почтовыми открытками, не считая картинок с подписями, вырезанных из иллюстрированных журналов. С бокалом кислого вина в одной руке и с авторучкой в другой (чтобы тут же записать промелькнувшее в разговоре слово, которое станет ключевым для будущего разговора, разговора в будущем о прошлом) он не говорил, а танцевал на пуантах цитат из прошлого, подхватывая сиюминутное высказывание собеседника как литературную цитату из классиков[780].
Так создавались произведения Улитина, имевшие значение как элементы его жизнетворческой работы — или, точнее, работы, в которой автобиографическое письмо было неотделимо от театрализации жизни и от устных импровизаций, благодаря которым Улитин осмыслял в кругу собеседников свое и общее прошлое.
Задача, которую поставил себе Улитин, была труднореализуемой, но в некотором смысле изоморфной его характеру: его младшие друзья вспоминают, что в быту он был эксцентричным и артистичным. Например, вечером по дороге из кафе домой он мог зайти на почту и отправить самому себе телеграмму, переиначивающую известное стихотворение Тютчева «А. Ф. Гильфердингу» (1869): «Приветствую Ваш неуспех, для Вас и лестный, и почетный, и назидательный для всех»[781].
В 1950-е годы дважды отсидевший Улитин вел себя, по тогдашним меркам, почти вызывающе — у него был широкий круг общения, он встречался с жившими в Москве иностранцами, по-видимому, получая от них новинки западных литератур. Самым заметным среди этих иностранцев был Эдмунд Стивенс (1911–1992) — журналист, представлявший в Москве различные американские издания с 1934 до конца 1980-х годов[782]. Стивенс жил в отдельном доме с садовником, устраивал пышные приемы, выполнявшие роль своего рода культурного салона. К Улитину и Асаркану Стивенс относился с интересом, Асаркану он предложил даже прочитать курс лекций для посетителей своего салона[783].
Еще одним колоритным — но в ту пору мало кому известным — иностранным знакомым Улитина в Москве была Салли Белфрейдж (Sally Belfrage) — молодая американка, которая в произведении Улитина «Детективная история» (1959) названа просто по имени, Салли. Белфрейдж несколько месяцев в 1957–1958 годах проработала переводчицей Издательства литературы на иностранных языках. Немедленно по возвращении в США она издала книгу «A Room in Moscow» (1958) — очерк о повседневной жизни в СССР и о самосознании советской молодежи, по нетривиальности наблюдений не утративший своего значения и сегодня. (Впоследствии Белфрейдж (1936–1994) стала видной американской правозащитницей и публицисткой, выступала с протестами против войны во Вьетнаме и жила в основном в Великобритании.) Книга произвела сильное впечатление на англоязычных критиков[784] и не меньшее — на сотрудников КГБ, которые стали расследовать московские связи Белфрейдж[785].
Однако пристальное внимание на Улитина КГБ обратил чуть позже — и не из-за Стивенса или Белфрейдж (хотя почти наверняка о контактах Улитина с жившими в Москве иностранцами спецслужбам было известно), а по другой причине. В 1962 году КГБ провел обыск в Минске у белорусского философа-диссидента Кима Хадеева (1929–2001); Хадеев был арестован, судим и получил второй в своей жизни тюремный срок[786]. Прежде Хадеев был в Ленинградской тюремной психбольнице вместе с Асарканом и Улитиным. У философа нашли подборку произведений Улитина «Анти-Асаркан» — и в Москву, по-видимому, ушла информация о необходимости провести обыски и у автора, и у «главного героя». О том, что произошло после обыска у Хадеева, Асаркан вспоминал в письме к М. Н. Айзенбергу:
…Я был в Ленинграде; в Москве на вокзале меня встретил Яник[787], сказал, что приходили к У[литину] и лучше бы мне сейчас домой не ехать. Я сказал что наоборот — надо ехать и почиститься, прежде чем они придут. Но они пришли через несколько минут после того как я вошел в квартиру. А брали во время обыска ВСЕ, ЧТО НАПИСАНО ОТ РУКИ ИЛИ НА МАШИНКЕ[788].
После обысков сохранились только те улитинские рукописи конца 1950-х — начала 1960-х годов, которые были подарены или переданы на сохранение знакомым. Писатель был очень травмирован этим вторжением и потерей многих своих зрелых произведений, о которых вспоминал много лет.
Он прожил до 1986 года, и этот последний период его жизни — после обыска — был относительно небогат событиями. Он много писал, по-прежнему следил за новинками литературы на основных европейских языках, проявляя острую литературную интуицию (например, читал не только модных в ту пору Джойса и Хемингуэя[789], но и мало кому в СССР известного Джеймса Болдуина[790], и постколониальных писателей Африки), однако в 1970-е он — как и Асаркан — почти перестал посещать «Артистическое». Два его произведения при жизни были опубликованы в «тамиздате».
Умер Улитин в 1986 году, неделю не дожив до 68 лет. Его произведения изредка печатались в 1990-е годы в периодике. Отдельные издания появились только в 2000-е.
Игры с отчуждением: основные черты поэтики П. П. Улитина
Произведения Улитина могут быть описаны как монтаж цитат из книг, буквальных или переиначенных записей чужих разговоров, фрагментов внутреннего монолога без указаний на повод этого «монолога». Сам Улитин словом «монтаж» для обозначения своего метода пользовался регулярно: «Моя проза на материале вашей книги: очень важен выбор и еще важней монтаж» («Разговор о рыбе», гл. «Каприз», 1967[791]). «Другими кусками монтаж [: ] сначала как будто глава, начинающаяся словами „Кусок урановой руды“, а потом почему-то „Дневник Понтия Пилата“. На конспект романа не похоже» («Татарский бог и симфулятор», 1975[792]).
По справедливому замечанию Михаила Айзенберга, произведения Улитина ставят под вопрос привычные представления о литературе. «Слишком нетривиален даже не жанр, а род этих вещей. Отвечая всем формальным признакам литературного текста, они, похоже, существенно переозначивают это понятие»[793].
Опубликованные произведения Улитина не позволяют в полной мере оценить степень «гипермонтажности» его творчества. Многие его опусы имеют специфически «рукодельную» природу. В авторских манускриптах Улитина, сохранившихся в частных архивах, чередуются тексты, написанные по-русски (большей частью), по-английски и по-немецки; машинописные и вписанные от руки (в том числе с копированием чужих почерков — писатель увлекался графологией[794]); напечатанные с черной и с красной лентой пишущей машинки; фрагменты с разным отступом от левого края (а иногда «в столбик», как стихи); страницы меньшего размера, намеренно вплетенные в манускрипт, и страницы обычного размера; наконец, текст и вклеенные в него фотографии. Такие коллажи любивший смысловые сдвиги Улитин называл «уклейками»[795]. Судя по всему, графика текста имела для Улитина первостепенное значение. Конечно, аутентичная публикация такого рода манускриптов — вероятно, изначально в принципе не предполагавших тиражирования — потребовала бы больших технических усилий и финансовых затрат.
Сюжета в общепринятом смысле в книгах Улитина нет. Сам он придумал термин «стилистика скрытого сюжета». Критик Андрей Урицкий пишет:
Единицей текста для Улитина была страница. […] Страница представляла собой законченное произведение, словесное и визуальное, книга являлась не просто механическим соединением страничек, отпечатанных за какой-то временной период, в книге присутствовал тот самый «скрытый сюжет», но и книга была лишь фрагментом. Фрагментом всего корпуса текстов, написанных автором[796].
Это визуальное отношение к книге прямо восстанавливает европейскую традицию, начатую поэмой Малларме «Бросок костей никогда не отменит случая». Скорее всего, на Улитина повлиял не сам Малларме, а восходящая к нему русская традиция футуристической самодельной книги, но Улитин словно бы задним числом усилил в этой традиции западноевропейские элементы.
Приведу фрагмент из уже упоминавшегося текста 1978 года «Ворота Кавказа», где монтажная структура выражена довольно ясно уже на уровне собственно текста:
Еще раз.
Тогда не надо волноваться. Просто вспомнить текст с красивой датой (7.7.77 был такой), и всё. Шекспир как козел отпущения. А у них Чехов. Вали кулем, а после разберем. Как БУДТО БЫ не было театра Таирова. Как будто не существовала великая актриса Алиса Коонен. Чего ж вы молчите, театральные критики и диссертанты? Увы, никто на это ОТВЕТА ДАТЬ НЕ МОГ[797]. Одни отцы хирургии 20 века, которые помалкивают и действуют. Действуют и помалкивают. Для 55 года это новая мысль. Для Саратова это четвертый закон диалектики[798]. Тоже не будет разговора.
Земский врач на холере. Атаман выплачивает двухмесячную зарплату и качает головой. Девчонка! За два месяца в четыре раза больше ЕГО!
Это был триумф Женского медицинского института в Российской империи 1912 года. «Я врач!» говорилось с интонациями «я великая княгиня» и подразумевалось: и этого я добилась сама!
(Какая мура получается из этого продолжения. 25 минут, не больше. Но сколько я ждал этого мгновенья.)
Странный был голос:
— Я тоже училась в ИФЛИ.
Но имя Сергея Черткова для нее ничего не значит. А я отправил открытку. Там было что-то жалобное насчет «и без помощи трех товарищей».
Сегодня мы провожаем в последний путь еще одного из трех товарищей по Усачевке[799]. Хороший был гад, приятно вспомнить. ДАТУ НЕ НУЖНО СТАВИТЬ.
По телефону было сказано: «А он ни с кем не общается».
И правильно делает.
ЧТО ТОТ СОЛДАТ, ЧТО ЭТОТ
Это было в 65 году. Ладно.
С тех пор не было разговора[800].
В этом относительно небольшом фрагменте соединены отсылки к событиям, относящимся к четырем периодам — к современности повествователя (1977–1978 годы), его относительно давнему «оттепельному» прошлому («Для 55 года это новая мысль»; «Это было в 65 году», упоминание пьесы Б. Брехта «Что тот солдат, что этот» и нашумевшего «шестидесятнического» спектакля по ней[801]), к предвоенному времени (общежитие ИФЛИ на улице Усачева, упоминание фильма «Три товарища»[802]) и к молодости матери Улитина, Ульяны Улитиной (1912 год, женщина-врач приезжает работать в земском учреждении в Область войска Донского).
Вся эта калейдоскопическая временная структура «сшивается» фразами-лейтмотивами — такие дальние переклички, осуществляемые с помощью возвращающихся образов, тоже характерны для принципов монтажа в кинематографе 1920-х: «Тоже не будет разговора» — «С тех пор не было разговора». В произведениях Улитина одна и та же фраза может возникнуть как реплика одного из участников беседы, потом стать заголовком фрагмента, потом появиться еще несколько раз. (Ср. лейтмотивный характер образа украинской девушки с крышки бандуры в киносценарии Солженицына «Знают истину танки!».)
Улитин пользовался для своего письма автобиографическими методами — вспоминанием и фиксацией эпизодов из своего прошлого, чаще всего в виде намеков. Однако он не ставил своей задачей создание цельной или фрагментированной автобиографии. Его проза трансформирует восприятие исторического времени и конвенциональное представление о человеческом «я». Механизмы этой трансформации и их работа хорошо различимы в самом откровенном произведении Улитина — «Хабаровский резидент» (1961), текст которого стал известен даже в ближнем кругу писателя только после его смерти. «Хабаровского резидента» имеет смысл обсудить потому, что это сочинение в наибольшей степени похоже на традиционный автобиографический нарратив. Тем заметнее оказываются отличия.
Это эссе (насколько к сочинениям Улитина применимы традиционные жанровые определения) повествует о том, как Улитин в 1958 году встретился со своим бывшим соучеником Иваном Шатиловым — лидером Ленинской народной партии — и обсуждал поведение обоих на допросах, а также вопрос о том, как и почему их выдал Павел Коган. «Хабаровским резидентом» в этом сочинении назван Шатилов, после выхода из лагеря поселившийся в Хабаровске (и, к возмущению Улитина, вступивший в КПСС). Два бывших однокашника не могут найти общего языка: Шатилов, сохранивший свои амбиции лидера («курносый фюрер»), призывает своего собеседника стать тем Улитиным, которого он знал в 1938 году. Улитин 1958 года изумлен таким предложением.
Финал эссе:
Идеальный герой оказался простаком. Обаятельный злодей был разоблачен как подлец самой идейной марки. Так вот в чем дело. Так вот как это все получилось. А простак опять мне дает советы:
— Подумай!
Подумаю. А то чем мне еще заниматься, как не подумать. Для того и пишется «Хабаровский резидент»[803].
Этот финал открыто демонстрирует — и такая экспликация встречается в творчестве Улитина едва ли не один-единственный раз, — что одна из важнейших задач его прозы — историческая и нравственная рефлексия. Предметом рефлексии является «я» — но не постоянное, а динамическое, негомогенное, множественное, реализующее разные возможности своего существования. Эта рефлексия неотделима от трансформации тех событий, что продумываются: они продолжают меняться каждый раз, когда о них вспоминают. М. Айзенберг отмечает склонность Улитина переигрывать и переосмыслять в своей прозе любую, в том числе и трагическую ситуацию — зачастую с помощью скрытых или явных цитат, помогавших избегать повторения уже известного и сменить ракурс взгляда[804].
Разнообразию «я» соответствует придуманная Улитиным система гетеронимов. Различные его рукописи и даже отдельные фрагменты рукописей подписаны именами Юл Айтн (вымышленный американский литератор Ul Itin) или Устин Малапагин. Это русское имя было произведено Улитиным от названия его любимого фильма — франко-итальянской картины «У стен Малапаги» («Le mura di Malapaga», 1949, реж. Рене Клеман, премия «Оскар» за лучший иностранный фильм), культового в театрально-кинематографических кругах Москвы 1950-х. В 1970–1980-е годы псевдонимом Устин Малапагин, совершенно независимо от Улитина, стал пользоваться один из штатных фельетонистов советской газеты «Известия», что еще более запутало дело.
Понятие «гетеронима» ввел в теорию литературы португальский поэт-модернист Фернанду Пессоа (1888–1935). Гетероним — это не просто псевдоним, а вымышленная литературная личность, имеющая собственный стиль, отличный от того, которым пишет его или ее «автор».
Историю гетеронимов в новой европейской литературе прослеживает в своей статье испанистка Мария Росселл[805]. Она справедливо указывает, что само это явление старше, чем творчество Пессоа, — вероятно, первым автором, который пользовался гетеронимами осознанно, был Сёрен Кьеркегор. Согласно Росселл, использование гетеронимов подрывает аристотелевскую традицию правдоподобия в литературе: то, что пишется от лица гетеронима, имеет статус «апокрифа» — не в религиозном смысле, а применительно к статусу истинности.
Слово «апокриф» было одним из излюбленных слов Антонио Мачадо (1875–1939) — испанского поэта, драматурга и мыслителя, также активно пользовавшегося гетеронимами. В «Детективной истории» (1959), написанной под именем Юл Айтн, Улитин часто упоминает Мачадо — скорее всего, под впечатлением от его книги «Избранное», вышедшей в Москве в 1958 году. В нее включены сочинения, написанные Мачадо от имени «апокрифического философа», близкого к экзистенциализму, Хуана де Майрены. «Неуверенность, ненадежность, недоверие — вот, пожалуй, наши единственные истины. И приходится держаться за них», — утверждал Майрена[806]. Эта мысль напоминает некоторые фрагменты Улитина.
Систему гетеронимов Улитин придумал, по-видимому, до чтения Мачадо, но мог опознать в испанском поэте эстетического и философского единомышленника. Для Улитина нет никакого противоречия между стремлением установить окончательную истину о прошлом, с документальной точностью воспроизводить события — и «апокрифическим» смешением реалий. Оба типа письма могут совмещаться у него в рамках одного текста, легко сменяя друг друга. Иногда он вместо описания реальных событий включает цитату из литературного произведения. Так, в «Хабаровском резиденте» он пишет, что на вопросы Шатилова отвечал следующим образом:
ш — Ты встречался с женой Павла Когана?
у — У него их было три, и ни с одной я не встречался.
ш — А кто твои друзья сейчас? Я не прошу фамилий, но кто?
у — Поэты, театральные критики, художники, журналисты, актеры.
Есть даже один министр.
Последняя реплика Улитина — перифраз реплики певицы Юлии Джули из пьесы Евгения Шварца «Тень» (1937–1940):
Женщина. Какое у вас доброе и славное лицо! Почему вы до сих пор не в нашем кругу, не в кругу настоящих людей?
Ученый. А что это за круг?
Женщина. О, это артисты, писатели, придворные. Бывает у нас даже один министр. Мы элегантны, лишены предрассудков и понимаем всё[807].
Эта цитата самоиронична. Она явно подчеркивает черты комического снобизма в поведении рассказчика.
В жизни Улитин мог рассказывать «от первого лица» события, которые происходили с его знакомыми, в том числе и во время допросов в НКВД. З. Зиник видит в этом «обобществлении опыта» этический и жизнетворческий смысл:
Все было у самого Улитина: и выбитые зубы, и сломанные ребра. Но он не хотел говорить про это своими словами. Он предпочитал коллективное арестованное «я» — пародию на допрос, где чужие слова приписываются следователем тебе, а твои слова будут использованы в чужом протоколе допроса[808].
Гетеронимы Улитина — это, как правило, не маркеры переключения стилей и не движущие силы этого переключения: стиль писателя мог резко меняться на протяжении абзаца[809]. Скорее, они были необходимы для артикуляции множественности авторских «я» и апокрифического статуса их потенциальных воспоминаний. Использование гетеронимов и поэтика гипермонтажа в случае Улитина были элементами единой эстетики.
Аналогичную эстетику разрабатывал и ближайший друг Улитина, Александр Асаркан[810]. На протяжении многих лет, помимо театрально-критических статей, он посылал друзьям открытки — чрезвычайно своеобразные образцы мэйл-арта[811], в которых склеенные в коллажи фрагменты разных фотографий, реклам, календарей и т. п. сопровождаются текстом, написанным ручками и фломастерами разного цвета. По сути, перед нами — возрождение дадаистских открыток-коллажей — с оговоркой, что дадаисты экспериментировали подобным образом с изображениями, но не с почерками, а совмещение изображения и текста у Асаркана довольно существенно изменяет дадаистскую эстетику.
О влиянии общения с Асарканом на стиль Улитина З. Зиник рассказывает в частном письме автору этих строк:
…Большая часть текстов Улитина (после возвращения из ЛТПБ в Москву) не была бы создана без театрализации общения в духе Асаркана… Его [Асаркана] коллажи — это импровизация и работа на ходу — хотя и растянутая по времени, когда в одну готовящуюся открытку добавлялись визуальные и словесные слои по мере накопления на протяжении нескольких недель. И в этом же духе работал Улитин, импровизируя, наслаивая, сопоставляя на ходу, и потом разыгрывал свои тексты… Его проза — в этом смысле — это общественная деятельность. И поэтому — политизирована… Проза Улитина, по-моему, не монтаж, а коллаж. Точно такой коллаж, где смыслы сливаются и наслаиваются друг на друга, пересекаясь краями и по подтексту, как в коллажах на открытках Асаркана: у него просвечивает один слой из-под другого — он «расщеплял» даже газетный лист на два слоя[812].
Система гетеронимов у Асаркана тоже была. Некоторые тексты он публиковал под фамилиями Налитухин, Вепринцев и Тамаев, принадлежавших следователям, ведшим его дело[813]. «Иногда Налитухин и Вепринцев в разных газетах между собой спорили, имея разные точки зрения на одно и то же явление искусства, спектакль например»[814].
Замечу, что и гетеронимы Асаркана Улитин обыгрывал, превращая выдуманных им персонажей в своих собственных. Налитухин появляется как действующее лицо в «Детективной истории» — наряду с Асарканом, который фигурирует там под собственным именем: «Ю. Иващенко по блату достает две командировки на Братскую ГЭС для А. Налитухина и Юл. Айтна»[815]. Для наименования Асаркана в прозе Улитина используется целая система обозначений — например, Ба Дзинь или Ба Дзинь-Дон. «Дзинь-Дон» — это, конечно, звукоподражание, а Ба Дзинь — псевдоним выдающегося китайского писателя Ли Яотана (1904–2005), которого в СССР 1950-х годов много переводили и печатали[816].
По сути, не только открытки Асаркана, но и проза Улитина могут считаться возрождением в русской литературе дадаистских принципов монтажа, которые в 1920–1930-е годы оказали на нее как раз слабое влияние — вследствие действия механизмов вытеснения, описанных в гл. 1 и 2. Но творчество этих двух авторов, по-видимому, не обусловлено прямым влиянием дадаизма. Черты сходства между коллажами дада и двумя московскими авангардистами 1950-х — конвергентное явление, вызванное решением сходных эстетических и политических задач.
В случае Улитина, а во многом и Асаркана этой задачей был радикальный подрыв идеи литературы как Большого Нарратива. В отличие от дадаистов наиболее резкую полемику Улитин вел с представлением о литературе, изображающей становление героя, которое органически включено в историю. Иначе говоря, объектом его прямой полемики была сформировавшаяся в XIX веке концепция романа — о кризисе которой прежде написал О. Э. Мандельштам в эссе «Конец романа» (1922)[817]. М. Н. Айзенберг поставил фрагмент этого эссе эпиграфом к своему эссе об Улитине «Знаки припоминания» (аллюзия на название произведения самого Улитина «Знаки претыкания»), тем самым указав на родство эстетических проблем, поставленных двумя писателями.
Из своего и чужого опыта Улитин сделал вывод, что органического включения биографии в историю не может быть, а связи между тем мнимым единством, которое мы воспринимаем как биографию, и тем нарративом, который мы привыкли считать историей, нуждаются в специальной художественной рефлексии. Методом этой рефлексии и стала «стилистика скрытого сюжета».
Впоследствии дадаистские принципы вновь использовала — и уже с более явной, чем Улитин, оглядкой на оригинальный дадаизм — ленинградская неподцензурная литературная группа «Хеленукты». Самое обширное сочинение «хеленуктической» прозы — монтажный роман Владимира Эрля «В поисках за утраченным Хейфом» (1965–1970) с аллюзией на русский перевод названия эпопеи М. Пруста «В поисках за утраченным временем».
Роман Эрля основан на коллажировании письменных документов (частных писем неизвестных людей к своим родственникам, отрывков из «Апрельских тезисов» Ленина, романов Франсуазы Саган, сочинений советских писателей Льва Никулина и Евгения Пермяка, студенческих конспектов…), но — в отличие от Улитина — не устных текстов или комментариев к неназываемым обстоятельствам[818]. Говоря заостренно, Эрлю интереснее всего показать слово, остановленное и омертвевшее в советском тотально-идеологизированном мире, а Улитину — живое, вступающее в диалог и ироническую игру с любым законченным дискурсом — как публичным, идеологизированным, так и приватно-бытовым. Однако для текста Эрля, как и для сочинений Улитина, принципиально значима авторская «самиздатская» графика.
скорее дам ей в морду чем отдам его портить я хочу перекроить его тольк о к своей свадьбе и это не скоро ду маю: скоро встретимся […] мы будем любить подобно брату работ ать возвращаясь из армии душевнобол ьным искалеченным человеком и сколь ко еще раз из отпуска разовой войны бернар и сопротивление. жаль только что сам процесс оказывается писател ем должности которой характерами не эстетических вопросов говорит о сущности гуманизма[819]Более подробное сопоставление методов Улитина и Эрля и их эстетических идей дается в одном из следующих разделов этой главы.
Автобиография против «большой» истории
Если не считать редких исключений вроде основной части «Хабаровского резидента» (то есть всего текста, кроме раздела «РЕМИНГТОН УВЛЕКАЕТСЯ ФОЛКНЕРОМ»), в своих сочинениях Улитин не откровенен и не стремится к максимальной открытости, его речь — всегда от чужого лица, точнее, от своего, которое становится чужим уже в момент высказывания. Однако всякий раз высказывание отчуждается от авторского «я» по-разному. Улитин выводит на первый план элемент, который в прежних типах монтажа всегда занимал подчиненное положение — модальность высказывания. Таким образом, ключевым смыслообразующим фактором становится контраст между фрагментами, в которых повествователи по-разному относятся к собственным словам. Высказывание в прозе Улитина — то воспоминание, то рефлексирующий комментарий к только что сказанному, то реплика по поводу (не названных, но угадываемых) новостей политики, или культуры, или спорта, то пародия на торжественную речь или какое-либо перформативное высказывание («Сегодня мы провожаем в последний путь…»), то лирические фрагменты:
От Гармодия до Аристогитона — только один шаг, не делайте этого шага. От Гармодия и Аристогитона до ближайшего леса — 40 минут на «Ракете».
Лес. И вода. Лес и вода приснитесь мне еще раз[820].У Улитина, который в основном пользовался формой несобственно-прямой речи, редко встречаются фразы, которые можно было бы считать выражением его литературного credo. Для обсуждаемого здесь вопроса, однако, уместно привести два таких высказывания:
…Милая моя маленькая трепещущая душа, как мало ты значила в мире, который мыслил другими категориями. Я хочу опять уйти в первую комнату. А на глаза постоянно лезет напоминание о второй комнате. Я с вами. Я с вами. Я с вами. Вы, которых никто не помнит, я с вами[821].
…But I want them to be read with my own intonation. Then read them yourself. But I want to hear my own voice. I’m sick and tired to hear somebody else’s voices[822].
Первая из этих цитат — почти визуальное (точнее, визуализированное) выражение отношения Улитина к истории. В истории для него важнее всего не значительные события, которые связываются в последовательный нарратив, а то, о чем «никто не помнит», — значение этих незаметных явлений и восстанавливает «маленькая трепещущая душа», которая тоже «мало… значит». Эти микроявления могут существовать только как изолированные фрагменты, в совокупности образующие ансамбль «забытых событий», организуемый с помощью монтажа. Но и повествователь их почти никогда не называет[823], а лишь намекает на их существование, тем самым представляя каждое из них не как легитимную часть «большой» истории, а как элемент травмированной частной памяти. «Большие» нарративы, напротив, Улитин воспринимал как отчуждающие человека от собственной истории и нуждающиеся в дешифровке.
Эту интерпретацию исторического процесса хорошо понимали и высоко ценили младшие друзья писателя. Зиновий Зиник пишет:
Проза Улитина — это приглашение, бесплатный пропуск в [нашу] собственную эпоху, куда нас не пускали не только тюремные решетки цензуры, но и намордники обличительных эпопей. Но пропуская нас в историю эпохи обманными ходами, он запутывал и историю своей собственной жизни[824].
Отношение к незаметным, мало кому памятным событиям, однако, у всех персонажей Улитина (если угодно, у всех «я», действующих в его прозе) было эмоционально различным, и поэтому ему был необходим «монтаж модальностей». «To be read with my own intonation» означало для Улитина не позу романтического «лирического героя», всегда равного самому себе, а, наоборот, беспрестанные попытки приблизиться к «я», до которого на самом деле никак не дойти (в ходе операции, напоминающей герменевтический круг), и одновременно — максимально деконструировать представление о цельности сознания, стоящего за текстом.
Возможно, сама эта английская фраза была скрытым ответом на фразу из романа Сэмюэля Беккета «Моллой» (французское издание — 1951, перевод на английский при участии автора — 1955):
And every time I say, I said this, or I said that, or speak of a voice saying, far away inside me, Molloy, and then a fine phrase more or less clear and simple, or find myself compelled to attribute to others intelligible words, or hear my own voice uttering to others more or less articulate sounds, I am merely complying with the convention that demands you either lie or hold your peace[825].
И всякий раз, когда я говорю, что сказал то или это, когда подаю голос, раздающийся где-то глубоко внутри, Моллой, а потом произношу прекрасную фразу, более или менее чистую и простую, или когда оказывается, что я должен объясниться с другими с использованием понятных им слов, или когда я слышу мой собственный голос, обращающий к другим более или менее разборчивые звуки — я всего лишь подчиняюсь установлению, которое требует от тебя или лгать, или держать язык за зубами.
Очень характерно для поэтики Улитина, что о страстном желании высказаться от своего собственного лица он написал на неродном языке и с использованием выражения, взятого из чужого текста.
В своем интересе к модальности Улитин действительно был наиболее радикальным из возможных оппонентов Солженицына, для которого ключевым элементом эстетики была психологическая типизация, создание характеров, социально нехарактерных и часто противоречивых, но всегда основанных на нескольких базовых эмоциях-«страстях». В рамках созданной Солженицыным эстетики модальность высказывания не могла становиться и не становилась предметом рефлексии и не обыгрывалась в монтажных композициях (хотя и менялась, как я попытался показать в предыдущей главе).
Обостренное внимание к модальности, последовательное выстраивание письма как серии пояснений к невидимому «скрытому сюжету» и неуверенность повествователя в том, что его текст может быть «read with his own intonation», имеют одну и ту же причину. Письмо Улитина — это письмо травмы.
Разрыв смысла как творческая сила
Письмо травмы стало еще с 1970-х годов предметом внимательного изучения психологов и филологов. Его постоянными признаками считают «вытеснение» самой травмы, которая не упоминается в тексте (или затрудненность разговора о ней), и непоследовательность в построении биографического нарратива[826].
Сегодня понятие «письмо травмы» применяется все более расширительно. Так часто происходит с научными терминами, которые связаны с быстро растущей областью гуманитарных исследований, — ср. судьбу слова «миф» в науке 1970-х годов, когда широко развернулись работы по мифопоэтике литературы и мифогенном потенциале медиа. Однако произведения Улитина можно считать письмом травмы в достаточно узком смысле слова. Они принадлежат тому типу письма, в котором повествователь, биографически и психологически близкий к автору, воспринимает себя как одного из многих «потерпевших» в результате исторической катастрофы, а литературное творчество — как форму рефлексии этой катастрофы и одновременно метод личностного спасения, потенциально пригодный и для читателя. К этому же типу произведений можно отнести прозу О. Э. Мандельштама и роман Курта Воннегута «Бойня номер пять»[827].
Методология исследования травматических нарративов в ее нынешнем виде основана на том, что существует прямое соответствие между 1) рассказами травмированных пациентов — психоаналитику и 2) произведениями о травматических событиях. Эта аналогия мне кажется не совсем точной. Психоаналитики имеют дело с пациентами, которые чаще всего не могут вспомнить, что с ними произошло, или, в других случаях, не знают, как об этом рассказать, потому что не имеют для этого языковых средств[828]. И Мандельштам, и Улитин, и Курт Воннегут имели собственные представления о том, что произошло с ними и с окружавшим их обществом, и потенциально обладали достаточным ресурсом уже опробованного ранее литературного инструментария — однако предпочитали создавать вместо существующих форм выражения — новые. Все три автора, по-видимому, поняли, что использование монтажных принципов в прозе помогает представлять травму через разрыв в повествовании, рекомбинацию элементов текста, создание гетерогенной пространственно-временной структуры.
Б. А. Успенский в работе «Поэтика композиции» (1970) описывает композицию как комбинацию сменяющихся точек зрения[829]. В произведениях этих трех авторов точки зрения не сменяются, разделяясь, но, скорее, континуально перетекают друг в друга: см. уподобление и расподобление Билли Пилгрима и рассказчика, «автора этих строк», в «Бойне номер пять»; у Мандельштама в «Египетской марке»:
Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него.
Ведь и я стоял в той страшной терпеливой очереди, которая подползает к желтому окошечку театральной кассы…[830]
У Мандельштама, Воннегута и Улитина повествование становится непредсказуемо дискретным, а точки зрения оказываются — столь же непредсказуемо — континуальными. Теперь монтаж — элемент мимесиса нового типа, который описывали Т. Адорно и Ф. Лаку-Лабарт (см. гл. 1): он открывает «я» навстречу сознанию Другого и текучей действительности, не имеющей постоянных устойчивых черт.
Проблема для всех этих авторов состояла не в том, что они не могли вспомнить событие, произошедшее с ними, и не в том, что они не могли его описать, — они не могли наделить его значимым смыслом, который бы открыл это событие будущему, связал бы его с другими, социально интегрируемыми фактами их биографии[831]. Такую связь каждый из трех писателей мог бы установить, если бы выстроил автобиографию по модели истории жертвы или мученика, но подобный нарратив их по разным причинам категорически не устраивал[832]. Поэтому они наделили социальной значимостью саму невозможность осмысления произошедшего, понимая этот феномен как приговор последовательному, жанрово и идеологически определенному историческому нарративу и/или столь же связному описанию человеческих социальных отношений.
Пока до обыска 1962 года Улитин позволял себе в прозе большую откровенность, чем после, он говорил о том, что не только произошедшее с ним и с другими репрессированными, но и засекреченность репрессий, табуированность темы и безнаказанность палачей сами по себе являются исторически значимыми:
Для вас, читателей 2158 года, все это будет банальность. Для меня, современника Москвы 1958 года, все это [ — ] галерея сейфов лубянских архивов: 58 тысяч папок-томов с надписью по-русски печатными буквами «Хранить вечно». Приблизительное представление может дать английская лексикография. Оксфордский Словарь, 16 томов — сочинения всех антисоветчиков на самих себя и на своих знакомых за 40 лет существования. Двухтомный краткий Оксфордский — это, скажем, то, что будет известно всем 200 лет спустя. «Консайз» — Сокращенный Оксфордский — это то, что в устных рассказах бытует по тюрьмам и лагерям сейчас. «Покит» Карманный Оксфордский носит в себе каждый, кто возвратился оттуда. Все эти виды построены по одному принципу.
У нас есть злые старики — но у нас нет Петэнов и нет Лавалей?[833] — но молодежь пошла еще злее.
(«Детективная история», фрагмент 1958 года)Невозможность смыслонаделения стала у Улитина отправной точкой прозы. Основные принципы его поэтики были выработаны им для того, чтобы сделать кризис осмысления конструктивным элементом эстетической игры. Такая игра позволила бы представить повествователя/повествователей его произведений не как жертв, а как победителей, превративших переживание травмы в метод понимания современности. Недаром в произведении «Татарский бог и симфулятор» Улитин назвал себя «зеркалом европейской революции». Это самоопределение лишь наполовину было шуткой.
В основе улитинских нарративов лежат умолчания, пробелы, пропуски, их содержание отчасти угадываемо, отчасти нет, и оно-то и образует в каждом случае «скрытый сюжет». Почти всё, из чего состоит проза Улитина, — комментарии к неназванным обстоятельствам, реплики одного собеседника в ответ на непроцитированные фразы другого, упоминания реальных людей, о которых читателю вряд ли может быть известно и о которых можно догадываться. Дмитрий Кузьмин назвал такие необъясненные реалии «зонами непрозрачного смысла»:
Общая функция зон непрозрачного смысла, отсылающих к приватному пространству автора, — верификация эмоциональной и психологической подлинности текста одновременно с указанием на невозможность для читателя полностью проникнуть во внутренний мир лирического субъекта, поскольку индивидуальный опыт последнего может быть выражен и воспринят, но не может быть прожит другим заново[834].
Кузьмин говорил об этом приеме как о значимом в первую очередь для русской словесности 1990–2000-х годов. Однако «зоны непрозрачного смысла» появляются в литературе намного раньше — по-видимому, в период 1900–1910-х годов. Именно тогда возникает практика обнародования интимных записей, в которых могли принципиально использоваться собственные имена, неизвестные аудитории, — фрагментарная проза В. В. Розанова, дневник М. А. Кузмина, который он регулярно читал знакомым. Этот же жест — намеренно не прояснять личные реалии — использовал А. Эрлих при публикации дневников И. Ильфа в 1939 году (подробнее см. далее). В прозе Улитина этот прием существует в уже совершенно сформированном виде.
Произведения Улитина, как уже сказано, демонстрируют сложную комбинацию событий, относящихся к разным биографическим и историческим периодам. В день своей смерти, 24 мая 1986 года, он записал свой сон:
— Я все-таки позвоню!
Мама удалялась в свой мир, где нет телефонной связи (а мне важно было примирить ее надежды со своими заботами), и это еще одна нелепость, но именно так все и происходило (в этом туманном сновидении). И Казанский вокзал, городская суета опять как «воспоминание о будущем»…
Она сказала как бы так: «Можешь не звонить, я и без этого буду знать о тебе все».
Но что было вокруг? Перрон, вокзал, аэропорт, гигантское «общежитие» или просто кортеж эвакуации? За 5 минут до отхода поезда:
— Позвони!
— Я буду звонить!
Это на тот свет-то? С того света на этот? Ждать звонка? Интересное кино[835].
Совмещение времен как преодоление смерти и сохранение ее травматичности — важный мотив и для этой записи, и для романа Воннегута «Бойня номер пять». Его герой, как известно, попадает на планету Тральфамадор, жители которой способны одновременно воспринимать прошлое, настоящее и будущее. В своем письме домой, на Землю, он рассказывает:
The most important thing I learned on Tralfamadore was that when a person dies he only appears to die. He is still very much alive in the past, so it is very silly for people to cry at his funeral. All moments, past, present and future, always have existed, always will exist. The Tralfamadorians can look at all the different moments just that way we can look at a stretch of the Rocky Mountains, for instance. They can see how permanent all the moments are, and they can look at any moment that interests them. It is just an illusion we have here on Earth that one moment follows another one, like beads on a string, and that once a moment is gone it is gone forever.
‘When a Tralfamadorian sees a corpse, all he thinks is that the dead person is in a bad condition in that particular moment, but that the same person is just fine in plenty of other moments. Now, when I myself hear that somebody is dead, I simply shrug and say what the Tralfamadorians say about dead people, which is «so it goes.»’[836]
Самое важное, что я узнал на Тральфамадоре, это то, что, когда человек умирает, нам это только кажется. Он все еще жив в прошлом, так что очень глупо плакать на его похоронах. Все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать. Тральфамадорцы умеют видеть разные моменты совершенно так же, как мы можем видеть всю цепь Скалистых гор. Они видят, насколько все эти моменты постоянны, и могут рассматривать тот момент, который их сейчас интересует. Только у нас, на Земле, существует иллюзия, что моменты идут один за другим, как бусы на нитке, и что если мгновение прошло, оно прошло бесповоротно.
Когда тральфамадорец видит мертвое тело, он думает, что этот человек в данный момент просто в плохом виде, но он же вполне благополучен во многие другие моменты. Теперь, когда я слышу, что кто-то умер, я только пожимаю плечами и говорю, как сами тральфамадорцы говорят о покойниках: «Такие дела» (перевод с англ. Р. Райт-Ковалевой[837]).
Мнимая примиренность этого сообщения отменяется дальнейшим ходом романа. В нем фраза «Такие дела» (в оригинале — «So it goes») регулярно используется как стоическая констатация, означающая: трагический ход событий изменить невозможно, придется действовать в существующих условиях. Поэтому роман Воннегута, как и проза Улитина, тоже демонстрирует «переигрывание» травмы и ее сохранение.
Улитинский жест умолчания является одновременно поэтическим и гносеологическим. Гносеологическим — потому, что в основе прозы Улитина, по-видимому, лежит убеждение: главные события, из которых состоит человеческая жизнь, описать с единственной, индивидуальной точки зрения невозможно. Кроме того, важнейшей частью этих событий является пережитое миллионами людей унижение и террор со стороны властей. Говорить о них тоже невозможно — но по другой причине: они лишают человека способности выносить суждение в кантовском смысле. Поэтическое значение умолчания состоит в том, что оно позволяет уйти от последовательного сюжета, превратить произведение в монтаж фраз, связывающих времена и разные психологические состояния субъекта, и тем самым — «переиграть» травму, сделать ее источником эстетического преображения реальности.
В случае Улитина преображение было основано на отказе от любых идеологически и культурно обусловленных нарративов. «Я хочу найти слова, которые не имеют прибавочной стоимости», — говорил Улитин[838]. Эту задачу он решал, помещая слова в новые смысловые отношения, которые остраняли и ставили под вопрос любые нарративные контексты, но максимально расширяли ассоциативное поле каждого слова.
Принципы линейного развертывания биографического нарратива и последовательной и однозначной фиксации событий повседневной жизни вызывали у Улитина эстетическое и этическое несогласие. К выражению и объяснению (насколько применительно к прозе Улитина можно говорить об объяснении) своего несогласия он несколько раз возвращается в произведении «Татарский бог и симфулятор»:
Напишите сами биографию, мир устал от биографий, их так много и все они похожи друг на друга, как четыре капли воды.
[…]
Тут важен дневник или бортовой журнал, как в настоящем детективе, чтобы все выяснить досконально. А что Вы делали в пятницу 23 февраля 1930 года? Он ответил. В высшей степени подозрительно: помнит все даты.
[…]
Радости немецких халтурщиков «Если бы Достоевский вел дневник». «Если бы Лев Толстой вел дневник». ЕСЛИ бы! ОН ВЕЛ ДНЕВНИК, но им нужно написать свой — покороче и по-своему. Если бы Карл Маркс вел дневник. Вот нахалы. Если бы Иисус Христос вел дневник[839].
Второй процитированный фрагмент наиболее эксплицитно разъясняет этическую позицию Улитина. Читатель традиционного типа автобиографии — да и биографии — в глазах Улитина был слишком похож на следователя, ставящего персонажа в положение подследственного. Сам жизнеописательный нарратив, согласно Улитину, был репрессивным и отчуждающим: стандарты биографического жанра делали всех «персонажей» слишком похожими и лишали их собственного голоса. Вернуть себе голос можно было бы только с помощью нарушения «законов жанра», на которое Улитин и пошел.
Трансформация послевоенной западной автобиографии: вторжение монтажа
Прозу Улитина продуктивно рассматривать в контексте послевоенной трансформации европейского и американского автобиографического письма. В эволюции автобиографии в 1950-е — 1970-е годы все большее значение приобретают художественные средства, необходимые для выражения, изживания и преобразования травматического опыта.
Это развитие состояло из двух этапов. На первом — в 1950–1960-х годах — была открыта сама проблематика травмы как фактора автобиографии, на втором — в середине 1970-х годов — были выработаны оригинальные жанры «травматической автобиографии».
У этой «двухтактной» эволюции послевоенной европейской автобиографии была своя предыстория. На протяжении XX века то «я», которое говорит о своем прошлом в автобиографии, становилось в прозе все более проблематичным, то есть неравным самому себе в социальном пространстве и во времени («я» публичное и «я» приватное, «я» детское, юношеское и взрослое). В нем обнаруживались психологические «зоны», неподконтрольные сознанию, — например, сексуальность или иррациональный страх. Причин у такого «расслоения» было несколько — ими стали открытия в психологии и философии субъекта (помимо перечисленных в гл. 1, необходимо особо отметить психоанализ), усложнение структуры «я» и постановка под вопрос самой возможности целостного «я» в эстетике модернизма[840]. Одним из важнейших произведений, повлиявшим на трансформации автобиографического письма, стала романная эпопея Марселя Пруста «В поисках за утраченным временем» (1913–1927), в которой хорошо заметно влияние всех названных факторов.
Чувство травмы резко усилилось в европейских литературах после Второй мировой войны, открытия опыта Холокоста и, несколько позже, ГУЛАГа. Мысль о том, что биография травмированного человека отличается от традиционной биографии (в прозе Варлама Шаламова[841] или в «Бойне номер пять» Курта Воннегута), стало открытием новой проблематики. Писатели показали, что элементы автобиографии, содержащей травматический опыт, невозможно «просто» соединить с описанием исторической эпохи, сколь бы в трагических красках она ни была изображена.
Третий этап трансформации наступил в 1970-е годы. В это время почти одновременно вышли четыре важных произведения, либо ставящих под вопрос жанр автобиографии в его традиционном виде — «Периодическая система» итальянского писателя и социального мыслителя Примо Леви (1975), «Ролан Барт о Ролане Барте» французского филолога, теоретика культуры и эссеиста Ролана Барта (1975), «W, или Воспоминание детства» французского писателя Жоржа Перека (1975), — либо, по крайней мере, нарушающие традиционные принципы автобиографического мимесиса: таков роман «Юность» (1976) немецкого писателя Вольфганга Кёппена, в котором паратаксис становится последовательно проведенным приемом, хотя сами паратактические конструкции Кёппен все время варьирует. В романе есть несколько бесконечно длинных предложений, каждое из которых занимает по нескольку страниц. Эти предложения — перечислительные, состоящие из описаний отдельных действий-сцен. Отдаленно такие перечисления напоминают ритмизованные описания из автобиографических сочинений Андрея Белого:
Sie stellen schon etwas vor, meine Mutter sagt es, ich ziehe ergeben meine Mütze, schwenke seiner Majestat Schiff, mache meinen tiefe Diener vor beliebten hageren rötlichen blassen kleinen großen gemütlichen polternden immer würdigen immer beleidigten Männern, die helfen die was hergeben die was anschreiben können die nichts hergeben und nichts anschreiben wollen, Männer die Vorurteile haben, vernichten, verhundern lassen, meine Mutter fürchtet die Schlangen…[842]
Вот они что-то собой представляют, говорит моя мать, я покорно снимаю шапку, размахиваю кораблем Его Величества, низко кланяюсь прославленным долговязым красноватым бледным маленьким большим уютным галдящим вечно достойным вечно обиженным мужчинам, которые помогают которые что-то дают которые могут продать в кредит которые не хотят ничего давать и не продают в кредит, мужчинам, у которых предубеждения, которые уничтожают, которые дадут умереть с голоду, моя мама боится змей…[843]
В «Периодической системе» Леви, химика по образованию и основной профессии, эпизоды его юности — включавшей длительное пребывание в нацистском концлагере — излагаются не в хронологическом порядке, главы обозначены названиями элементов таблицы Менделеева, и связь описываемых событий с элементом-«эпонимом» — всегда ассоциативная. Некоторые главы не автобиографичны, а представляют эссеистические рассказы о химических открытиях и свойствах веществ: так, глава «Углерод» — повествование об одном атоме углерода, который сначала долго странствовал по Земле, а затем оказался в мозге рассказчика. Несколько глав — сказочно-фантастические истории, изложенные от лица вымышленных персонажей.
Книга «Ролан Барт о Ролане Барте» состоит из фрагментов воспоминаний, размышлений повествователя о значении для него отдельных понятий и философских концепций, о его переживании телесности и об ограничениях его мышления[844]. Точнее, так может быть описана вторая часть книги, а первая — подборка фотографий родственников Барта с его краткими мемуарными подписями.
«W, или Воспоминание детства» — роман, в котором чередуются два типа глав: воспоминания рассказчика (максимально близкого к биографическому Ж. Переку) о его детстве и история фантастического государства на острове W, для обитателей которого главным содержанием жизни является спорт. Главы о W — антиутопия, пародирующая идеалы олимпийского движения, однако по мере развития сюжета жизнь на придуманном Переком острове все больше начинает напоминать стилизованное описание нацистского концлагеря. Существенно, что родители Перека, оба — этнические евреи, были убиты в концлагерях; самого Перека, который был маленьким мальчиком, они успели переправить к своим родственникам на юг Франции, в неоккупированную зону.
К названным выше книгам примыкают сочинения французского писателя и литературоведа Сержа Дубровского, первое из которых — «Сын» — вышло в 1977 году. Дубровский определяет свои опусы как «autofiction».
Книги Барта, Перека и Дубровского основаны в большей или меньшей степени на монтажных принципах композиции. Во всех трех автобиографическое повествование разорвано, дискретно и погружено в контекст вымышленных историй, или дискурса нелитературного происхождения: философского и психоаналитического (у Барта) или химического (у Леви). В романе Кёппена значима фрагментарность повествования, хотя монтажным повествованием даже в том расширительном смысле, который используется здесь, «Юность» назвать нельзя[845].
Трансформация автобиографии не была поколенческим явлением: Примо Леви (1919–1987) был на 13 лет младше Кёппена (1906–1996), на 17 лет старше Перека (1936–1982) и на 9 лет старше Сержа Дубровского (р. 1928). Правда, у Кёппена и Перека есть очевидная черта сходства: они изначально были литераторами, склонными к экспериментам. Например, о Кёппене критики говорили, что он в своих произведениях 1940–1950-х годов возродил в немецкой литературе монтажные принципы письма, разработанные Альфредом Дёблином в 1920-е, а Перек в 1960-е годы входил в радикально-авангардистскую группу «Мастерская потенциальной литературы», больше известную по французской аббревиатуре УЛИПО[846]. Можно было бы предположить, что Кёппен и Перек изменили принципы автобиографического письма просто потому, что применили авангардные методы к написанию автобиографии.
Однако, по-видимому, почти одновременное появление произведений всех этих четырех авторов имело более глубокую историческую причину. Это — произошедшая после мирового культурно-политического кризиса 1968 года дискредитация «больших идеологических нарративов» (социализм, безудержный научно-технический прогресс, традиционные системы партийного представительства, представления о взаимоотношениях полов и о маргинальности сексуальных меньшинств)[847]. Кризис 1968 года еще больше, чем прежние события, подорвал веру в то, что автобиография может быть осмыслена в последовательной идеологической перспективе.
Немаловажно, что все четыре обсуждаемых автора были в детстве или подростковом возрасте стигматизированы. Леви, Перек и Дубровский — евреи, их детство или юность пришлись на период фашизма[848]. Перек — круглый сирота, а Леви чудом выжил в Освенциме. Барт — тоже сирота[849], с отрочества тяжело болел, а потом осознал себя как гей и тоже провел юность в условиях нацистской оккупации. Кёппен был незаконнорожденным, от которого отказался отец. Все эти стигматизирующие обстоятельства, возможно, помогли им выразить опыт исторической травмы с особой эстетической отчетливостью.
Тексты Дубровского задуманы и позиционируются им самим одновременно как литературные произведения и как теоретические реплики в дискуссии о жанре автобиографии, которая развернулась во Франции после выхода все в том же 1975 году (!) теоретической книги Филиппа Лежёна «Автобиографический пакт»[850]. Анализ этого сложного синтетического контекста осуществлен в статье Маши Левиной-Паркер[851], и к ее выводам здесь нужно добавить только одно замечание. Мне кажется неслучайным, что автобиография была осознана как теоретическая проблема литературоведения именно в 1970-е годы. При ее обсуждении оказалось необходимым, но и очень затруднительным определить границы жанра, так как именно в 1960–1970-е годы они существенно изменились, а Лежён писал свою работу на материале автобиографии традиционного, «позитивистского» типа. Впоследствии под влиянием полемики со стороны Дубровского и других адептов модернистской и постмодернистской прозы он был вынужден уточнить свои позиции.
В США аналогичное — и еще более радикальное, чем у перечисленных выше литераторов, — «дискретное автобиографическое письмо» еще в 1950-е годы создал писатель Уильям С. Берроуз (1914–1997). Травма, подтолкнувшая его к литературному творчеству, имела не исторический, а сугубо личный характер[852].
6 сентября 1951 года во время многолюдной домашней вечеринки Берроуз, к этому моменту уже сильно пьяный, решил, играя в Вильгельма Телля, выстрелить в стакан, поставив его на голову своей любимой жены Джоан Воллмер, и, промахнувшись, попал ей в голову. Возможно, пистолет в его руках самопроизвольно разрядился. Точная картина происшедшего в тот вечер не восстановлена до сих пор, но факт состоит в том, что Джоан была доставлена в больницу с пулевым ранением в голову и вскоре скончалась. Берроузу удалось избежать тюремного заключения[853], но, по его словам, совесть мучила его всю жизнь.
…Я вынужден прийти к ужасному заключению, что никогда бы не стал писателем, если бы не смерть Джоан, и к осознанию того, до какой степени мою прозу мотивировало и оформило это событие. Я живу с постоянным страхом стать одержимым и с постоянной потребностью избежать одержимости, избежать Контроля. Ибо смерть Джоан познакомила меня с захватчиком, с Уродливым Духом, и вывернула меня к пожизненной борьбе, в которой у меня нет и не было иного выбора, как освободиться с помощью письма (to write my way out) (из предисловия 1985 года к раннему роману «Queer»[854]).
После гибели Джоан и выхода из депрессии Берроуз несколько лет прожил в Северной Африке, в городе Танжер, который тогда был «международной зоной» — фактически совместной колонией нескольких европейских государств. Там Берроуз много писал, принимал легко доступный в Танжере героин и подружился с художником Брайаном Гайсином, который стремился продолжить эксперименты французских авангардистов 1920–1930-х годов, а жил на доход с принадлежавшего ему небольшого ресторана.
Спустя некоторое время после того как Танжер в 1956 году был присоединен к Марокко, Берроуз и Гайсин порознь переехали в Париж. Там, в Париже конца 1950-х, и случились две встречи, определившие развитие монтажных принципов в послевоенной американской литературе.
В отеле «Royal Saint Germain» Гайсин познакомился со стареющим основателем дадаизма, Тристаном Тцарой (1896–1963), который незадолго до описываемых событий вышел из Французской коммунистической партии в знак протеста против подавления советскими войсками венгерского восстания 1956 года. Тцара спросил Гайсина, почему американский художник и его единомышленники возвращаются в своих экспериментах к открытиям дадаистов тридцатилетней давности. Гайсин ответил: «Наверное, потому, что мы считаем, что вы не открыли этого в достаточной мере».
Обиженный Тцара возмущенно ответил: «Мы всё сделали! Ничего не развито после дада… Как бы можно [это было сделать]?»[855]
Вскоре после этого Гайсин на деле показал, что он имел в виду под недостаточностью дадаизма: он переосмыслил метод, предложенный Тцара в его «Манифесте дада о немощной любви и горькой любви» (1920). По воспоминаниям Гайсина, нарезая большие листы плотной бумаги для рисунков, он случайно разрезал на куски газету, подложенную под бумагу, чтобы не повредить стол. После этого он вспомнил свой разговор с Берроузом о том, что в литературе было бы интересно использовать методы художников, взял куски газет и стал составлять из них новый текст, обращая внимание на комбинации заголовков и картинок[856]. Так на свет родился метод, названный «cut-up technique» — техника нарезок. Гайсин рассказал о нем Берроузу — их встреча после расставания в Танжере и стала вторым важнейшим событием в этой истории.
Тогда же, в 1959-м, вместе с Берроузом и жившими в Париже молодыми поэтами круга битников Синклером Бейлисом (Южно-Африканская Республика; 1930–2000) и Грегори Корсо (США; 1930–2001) Гайсин написал и издал книгу монтажных стихов «Остались минуты» («Minutes To Go»). И хотя в те же 1950-е годы дадаистскую технику коллажа пытались возродить и другие авангардные группы — например, французские леттристы и особенно входивший в круг леттристов поэт, художник и кинорежиссер Джил Уолман[857], — возрожденный «метод нарезок» стал восприниматься в международных литературных кругах как фирменный знак дуэта Гайсина и Берроуза[858]. Да и сам Берроуз так представлял «cut-up technique». Например, в августе 1962 года он выступил на конференции писателей в Эдинбурге, где говорил о двух, вероятно, самых важных для него на тот момент предметах: он прочитал доклад о «методе нарезок» как о литературной технике и произнес импровизированную речь против моральной цензуры[859] (большинство ранних книг Берроуза были сначала запрещены в США как непристойные и в 1960-е годы признаны допустимыми только после судебных процессов).
В 1977 году Гайсин и Берроуз издали по-французски, а в 1978-м — по-английски сборник «Третий ум» (под названиями «Le Troisième Esprit» и «The Third Mind» соответственно), посвященный «методу нарезок», — в него входили статьи и интервью, посвященные этой технике, и стихи, проза и визуально-текстовые композиции, демонстрирующие ее применение.
Под «методом нарезок» Берроуз и Гайсин понимали не локальные эксперименты Тцары по «случайностному» производству стихотворений, а гораздо более широкое явление — целый спектр разнообразных техник, основанных на перестановке фрагментов своего или чужого текста или коллажировании текста и изображения. Более того, два друга-авангардиста записали и издали несколько пластинок, составляя коллажи из звукозаписей. Эта идея оказала большое влияние на новаторские течения в американской литературе, поп- и рок-музыке[860].
Принципиальное отличие работы Берроуза и Гайсина от метода Тцары состояло в том, что получившийся текст должен был стать осмысленным, хотя его смысл мог быть доступен только автору. Включенное в сборник «The Third Mind» эссе Берроуза «Точки отчетливого соприкосновения» («Precise Intersection Points») описывает нахождение семантических соответствий между авторским текстом и случайно найденным после него изображением — например, почтовой открыткой; Берроуз полагал, что такая работа является экспериментом над последовательностью событий во времени[861]. К этому эссе в книге приложена репродукция листа с надписью «Чтения соприкосновений» («Intersection Readings») с наклеенной фотографией и фрагментами рассказов Берроуза о написании «вещих» текстов и том, как сбывались сделанные в них «предсказания». Этот лист с наклеенными машинописными фрагментами внешне довольно сильно напоминает листы из манускриптов Улитина.
Нелинейность течения времени в коллажах Берроуза отдаленно перекликается с не-телеологичностью аппликаций позднего Матисса: и Матисс, и Берроуз отказываются от осмысления коллажа как однонаправленного — во времени — порождения смысла.
Другой вариант метода Берроуза и Гайсина — продуманная рекомбинация фрагментов чужого или собственного текста, произведенная таким образом, чтобы получились алогичные фразы, складывающиеся в авангардистские поэтические образы. Собственно, эти эксперименты и получили наибольшую известность как «cut-up». Вот фрагмент из фантастического футурологического романа «Nova Express», в котором «метод нарезок» применяется уже в довольно радикальном виде — Берроуз не боится никаких смысловых лакун:
…Could give no other information than wind walking in a rubbish heap in the sky — Solid shadow turned off the white film of noon heat — Exploded deep in the alley tortured metal Oz — Look anywhere, Dead hand — Phosphorescent bones — Cold Spring afterbirth of that hospital […] Hand falling — White flash mangled «Mr. Bradley Mr. Martin» — Thing Police, Board Room Death Smell, time has come for the dark street…[862]
…Не смог предоставить никакой информации, только ветер гуляет в мусорной куче до самого неба… На белую пленку полуденного зноя упала густая тень… Взорванный в глухом переулке исковерканный металлический Оз… Ищи где угодно, Мертвая Рука… фосфоресцирующие кости… Холодное весеннее детское место из той больницы… […] Гибнет рука… Белая вспышка исказила «мистера Брэдли мистера Мартина»… Предметная Полиция, Смертоносный Запах Министерского Кабинета, пришло время темной улицы…[863]
Большая часть произведений Берроуза написана на фантастические или на экзотические (преимущественно африканские) сюжеты. Однако в некоторые его тексты, использующие метод «нарезок», включены большие автобиографические фрагменты[864]. Например, в знаменитое «нелинейное» сочинение «Голый завтрак» входят главы, повествующие о попытке Берроуза избавиться от наркомании.
В целом метод cut-up имел для писателя значение не только новой литературной техники, но и метода особого рода социальной критики. Берроуз считал, что современное общество тотально контролируется властями — и культурная сфера тоже. Созданные в этих условиях репрессивные и отчуждающие социальные конвенции и представления о человеке, по мнению Берроуза, нужно подрывать с помощью монтажных технологий, де- и реконструируя с их помощью все явления культуры. Однако, в отличие от адептов монтажа 1920-х, никакой утопии взамен «общества контроля» Берроуз не предлагал — освобождение от контроля общества и искушений сатаны («Уродливого Духа») для него было делом личным, а не общим, но всякий раз обретавшим общезначимый смысл победы над «Контролем».
Из дадаистов подход Берроуза и Гайсина был ближе всего не к Тцаре, который нечаянно подтолкнул Гайсина на создание нового метода, а к Максу Эрнсту, который говорил о поэтическом смысле коллажа. Но Эрнст имел в виду только визуальные произведения[865]. Кроме того, Эрнст не был настроен на критику общества — его в наибольшей степени интересовала трансформация индивидуального восприятия.
Берроуз и Гайсин действительно вывели на новый уровень коллажные методы дадаистов. Два американца показали, что критика общества — это прежде всего подрыв привычных жанровых, сюжетных и даже грамматических структур, определяющих нарративы прессы и популярной литературы, такой как футурологическая фантастика и боевики.
Метод работы Берроуза mutatis mutandis очень сильно перекликается с методами монтажа и коллажа, которыми пользовался Улитин. Интересно, что, по воспоминаниям Ю. Айхенвальда, Улитин пересказывал ему сюжет своей прозаической трилогии «Бунт», задуманной до ареста 1951 года[866]: из этого рассказа можно заключить, что сюжеты бунта и проблематика нарушения социальных границ интересовали Улитина еще в самый ранний период его творчества.
Он открыл принцип «уклеек», достаточно близкий «cut-up», раньше Берроуза и Гайсина, чтобы дать письменное выражение своим устным импровизациям.
Александр Асаркан рассказывал, что, когда их везли в арестантском вагоне из Москвы в Ленинград, Улитин произнес монолог, который длился сутки (в другом рассказе Асаркана о том же событии говорилось о двух сутках). М. Айзенберг вспоминает слова свидетеля: «Этот монолог, вероятно, самое поразительное, что было в русском языке за последние сорок лет. Но, надо сказать, что он [Улитин] там уже использовал все, что потом варьировалось и варьируется до сих пор»[867].
По-видимому, после этого Улитин и начал «обкатывать» свою прозу в ходе устных монологов или перформансов с использованием цитат и вырезанных картинок, а необходимой формой ее письменного существования счел монтаж, при котором записи разговоров разрезались и склеивались в новом порядке — возможно, на этот метод оказали влияние беседы с Асарканом.
Еще одним источником метода Улитина, вероятно, стало знакомство с западными иллюстрированными журналами и их сопоставление с такими советскими аналогами, как «Огонек». (Вспомним о влиянии внешнего облика газетной страницы на рождение техники «нарезок».) Иногда Улитин вклеивал страницы из журналов в свои манускрипты — например, «фронтиспис» «Детективной истории» сделан из страницы «Огонька». Его собственные рукописные страницы иногда напоминают страницы иллюстрированных журналов, советских и западных, откуда он и делал вырезки.
Неодадаистские монтажные принципы в самых ранних известных нам текстах Улитина (1958–1959 годов) мы находим уже совершенно сложившимися. Следует предполагать, что метод «уклеек» и в целом принципы «скрытого сюжета» Улитин придумал в первой половине 1950-х годов — во время пребывания в ЛТПБ или вскоре после освобождения. Прозу Берроуза он впоследствии читал и упоминал о нем в своих сочинениях[868].
В середине 1960-х Владимир Эрль переоткрыл свой принцип коллажа независимо от Улитина (впрочем, по сообщению Е. Шумиловой, уже тогда в Ленинграде об Улитине знал Рид Грачев). Однако, по-видимому, Эрль располагал некоторой информацией об экспериментах дадаистов. А. Скидан полагает — и я с ним согласен, — что и Эрль изобрел свой стиль во многом под влиянием краха «больших» утопических проектов и авторитета литературы как автономного культурного института[869].
Творчество Улитина — органическая часть «невидимого», стихийно сложившегося европейско-американского движения по трансформации автобиографической прозы. Его участниками можно считать Берроуза, Леви, Барта, Кёппена и Перека и, вероятно, некоторых других авторов. Сравнительный анализ дает основания утверждать, что Улитин был самым эстетически радикальным участником этого движения.
Как и другие упомянутые выше авторы, Улитин использовал метод монтажа для конструирования личной истории после краха «больших» идеологических нарративов. Однако в несостоятельности этих нарративов Улитин, в отличие от своих европейских и североамериканских коллег, убедился не после событий 1968 года, а после пережитого в 1938-м (до и после ареста) и 1951-м. Дело было не только в самих обстоятельствах арестов и том унижении, которому Улитин подвергся на допросах. В период недолгого пребывания Улитина в «Ленинской народной партии», о котором рассказано в эссе «Хабаровский резидент», студент ИФЛИ увидел (хотя только в самом эссе, написанном через двадцать лет, признался себе до конца), что бунтарь-антисталинист Шатилов, «курносый фюрер», по тоталитарности своего мышления мало чем отличался от Сталина, с которым планировал бороться.
Осознание психологического сходства между режимом и его противником (не противниками вообще, а конкретным «подпольщиком» Шатиловым), вероятно, привело Улитина к постепенному разочарованию в любых прогрессистских иллюзиях, а впоследствии — к тому, что писатель не только отторгал дискурсы официальной советской культуры, но и крайне избирательно относился к диссидентам. Например, он высоко ценил деятельность Александра Есенина-Вольпина, но иронически воспринимал тех, кто, как считали Улитин и Асаркан, пытались критиковать советскую систему на ее же языке… «Этот отказ говорить с врагом на его языке и приводил к „театру для себя“ — у Асаркана в жизни и в его самодельных коллажах-открытках с хроникой ежедневного быта, а в прозе Улитина — в его стенографическом макароническом стиле „абстрактной прозы“» (З. Зиник[870]).
Генеалогия прозы П. П. Улитина
Вопрос об эстетических предшественниках Улитина сложен. Прежде всего, это не Розанов, с которым его иногда сравнивали[871]: в отличие от Розанова Улитин не откровенен и не стремится к максимальной открытости, его речь — всегда от чужого лица, точнее, от своего, которое становится чужим уже в момент высказывания. Кроме того, Улитину чужда всякая последовательная, монологическая историософия — хотя бы и сексуализированная, как у Розанова[872]. По-видимому, среди произведений, повлиявших на стилистику улитинской прозы, — романы Дж. Джойса[873] и Дж. Дос Пассоса и фельетонистика русских писателей XIX века (прежде всего, видимо, М. Е. Салтыкова-Щедрина и Ф. М. Достоевского — то есть «Дневник писателя») с ее прихотливыми и резкими сменами темы разговора и многочисленными намеками для постоянных читателей газет. Влияние Дос Пассоса — еще одна перекличка Улитина с Солженицыным, но из поэтики Дос Пассоса они сделали совершенно противоположные выводы. Замечу, что Берроуз упоминал «экраны новостей» из трилогии Дос Пассоса «США» как предвестие метода «cut-up» — наряду со стихотворениями Т. Тцары и поэмой Т. С. Элиота «Бесплодная земля»[874].
Ближайшим же жанровым и стилистическим предшественником произведений Улитина являются «Записные книжки» Ильи Ильфа, впервые опубликованные в 1939 году — сначала в журнале «Красная новь», затем отдельным изданием. Знал ли Улитин о них в 1940-е годы, с определенностью установить невозможно, но позже не просто знал, но и регулярно отсылал к ним в своей прозе.
Ильф — под «паспортным» именем Илья Файнзильберг[875] — упоминается в «Разговоре о рыбе», под псевдонимом — в «Путешествии без Надежды». В другом произведении Улитина — «Татарский Бог и симфулятор» (1975) — есть прямая насмешливая полемика с Ильфом — например, во фрагменте:
Какая-то длинная фраза, которую не хватит терпения дописать до конца, вроде: «Божественный Петроний, божественный Петроний, что вы мне говорите — божественный Петроний! Божественному Петронию жрать хочется, он голодный, как римская волчица»[876].
Ср. в «Записных книжках» Ильфа:
Божественный Клавдий! Божественный Клавдий! Что вы мне морочите голову вашим Клавдием! Моя фамилия Шапиро, и я такой же божественный, как Клавдий! Я божественный Шапиро и прошу воздавать мне божеские почести, вот и все[877].
В «Записных книжках» есть явно «протоулитинские» фрагменты. Чаще всего сюжет в них хоть и скрыт, но может быть легко восстановлен. Однако в некоторых случаях Ильф формирует «зоны непрозрачного смысла» и пишет, как и Улитин, паратактическими предложениями. В этом случае способность отдельных слов формировать широкое ассоциативное поле резко повышается:
Начало. Белые суконные брюки в полоску. Эти брюки он прожег папиросой, и с этого начался рассказ о меценатке. Фарфоровая чашка, вор, костюмы, визитные карточки, 3000, ложа в Большом театре.
И позорный конец, левая живопись. Вильно. Арендная плата[878].
Сопоставление прозы Улитина с записными книжками Ильфа позволяет ретроспективно увидеть важный аспект произведения Ильфа. Первые отрывки из «Записных книжек» были опубликованы в 1938–1940 годах, в 1939 году вышло первое отдельное издание[879]. Комментируя герметичные, «пунктирные» записи Ильфа вроде «Петух с акцентом. Валерьян Каплин. Новый шофер», А. Эрлих писал в предисловии к публикации в «Красной нови»:
…Во всей рукописи имеется всего лишь несколько… непонятных строк, требующих разъяснения и догадок. Мы сочли возможным оставить эти строки, чтобы сохранить нетронутым самый дух записной книжки писателя[880].
Столкновение герметических текстов, формирование «зон непрозрачного смысла» не предполагает целенаправленной перестройки сознания читателя. По-видимому, Эрлих был одним из тех, кто, совершенно того не предполагая (в отличие от, например, Аркадия Белинкова), положил начало переосмыслению семантики монтажа в советской культуре: созданный Ильфом и воспроизведенный его публикаторами вид монтажной техники можно, как и в случае Улитина, определить как не- или даже постутопический.
Заинтересованное лицо: П. П. Улитин — полемический комментатор советской литературы
Насколько можно судить, Улитин достаточно хорошо понимал, что его проза перекликается с произведениями современного ему западного авангарда и практически никак не соотносится с легальной советской литературой. Однако он очень внимательно следил и за соцреалистическими поисками в автобиографических жанрах и в жанре так называемого roman á clef, «романа с ключом» — произведения с угадываемыми в кругу посвященных реальными персонажами[881]. По-видимому, его интересовала параллельная его собственной работа в поле легальной советской литературы, попытки объяснить советскую антропологическую катастрофу средствами, которые были созданы для того, чтобы скрыть эту катастрофу. Интерес Улитина имел одновременно этнографическую и политическую подоплеку: в автобиографических экспериментах советских писателей он видел значимый социальный феномен и одновременно — культурную и психологическую угрозу.
Так, в «Разговоре о рыбе» (1967) Улитин то и дело резко высказывается по поводу автобиографических романов Валентина Катаева «Святой колодец» (Новый мир. 1966. № 5) и «Трава забвения» (Новый мир. 1967. № 3)[882]. В этих — и в нескольких последующих — мемуарных произведениях маститый советский писатель в осторожной форме привил советской стилистике принципы модернистской автобиографии. Эти романы представляют собой чередование воспоминаний, относящихся к разным историческим периодам, среди персонажей то и дело появляются представители русского модернизма, с которыми Катаев был знаком в молодости. Писал он и о таких запретных на тот момент фигурах, как Мандельштам, и о разрешенных, но идеологически «сомнительных», как Бунин или Булгаков.
Автобиографические романы Катаева, несмотря на явную пристрастность рассказчика и его почти демонстративный нарциссизм, сразу получили шумную известность в интеллигентских кругах. Для Улитина катаевский компромисс между модернизмом и советской литературой и спекуляция на авторитете полузапретного «серебряного века» были, насколько можно судить, худшей формой приспособленчества и профанации, и он отзывался о них с сарказмом, если не с открытой враждебностью.
…Так называемый Валентин Катаев, так называемая Трава Забвения. Теперь все убедились, что он не еврей. Он падишах[883].
…Книга о Юрии Олеше — удар не по Олеше, а по Катаеву. Но есть же и наивный читатель у «Травы забвения». Он просто не в курсе личных подтекстов и читает себе «Новый мир» как «Чертогон» или «Жидовскую кувырколлегию». Все вранье. Гад, гад, гад. Значит, нужно читать, если все кругом только об этом и говорят? Хочу все знать[884].
«Книга об Олеше» — работа Аркадия Белинкова «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», впервые вышедшая в Мадриде в 1976 году, но написанная в 1958–1968 гг. и, вероятно, известная Улитину в рукописи (у Улитина и Белинкова было много общих знакомых; общались ли два писателя непосредственно, мне выяснить не удалось). В этой книге Олеша был представлен как наиболее типичный пример автора, предавшего первоначально важные для него идеалы модернистского искусства ради внутреннего примирения с советской властью. Некоторые из первых читателей «Сдачи и гибели…» удивлялись, почему Белинков с такой энергией обличает именно Олешу, который в 1960-е годы считался человеком приличным и пострадавшим от советской власти. Улитин намекает — или воспроизводит чей-то намек — на то, что из людей, прошедших школу модернистской эстетики, такое приспособленчество в 1960-е годы было гораздо более свойственно не Олеше, а его другу юности Катаеву.
«Чертогон» и «Жидовская кувырколлегия» — произведения Н. С. Лескова. Улитин имел в виду, что среднеинтеллигентный читатель воспринимал во второй половине 1960-х и «Новый мир» в целом, и мемуарную прозу Катаева как чистую экзотику — наподобие лесковских «антиков». Для такого читателя фактическая недостоверность катаевских опусов не являлась этической проблемой.
Еще более сложная дискуссия о советских мемуарах и «романах с ключом» ведется в «Детективной истории». Вот два характерных абзаца из начала этого произведения:
Мягкий, влажный, хлопьями снег валил с неба. Снег падал на фигуру Пушкина — он стоял, — на проходящего Асаркана — он мчался в театр, — на «Новости дня», на «Шашлыки» у Пушкинской Площади. Москва кочетовская вдруг слилась с Москвой грибоедовской…[885] […]
Кочетов — это, конечно, не финал для «Мокрого снега». Вера Панова покончила с «Сантиментальным романом». Кто-то сказал: «Начинается консолидация». Где начало того конца, которым оканчивается начало?[886]
Упомянутый здесь «Мокрый снег» — тот самый текст, из которого и взята эта цитата[887]. Его название — намек на фразу «По поводу мокрого снега» — так озаглавлена вторая часть «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского.
Соседство имен Пановой и Кочетова было хорошо понятным для тех, кто следил за советской литературной жизнью 1950-х годов. Советская писательница Вера Панова (1905–1973) была землячкой Улитина, родилась и выросла в Ростове-на-Дону, о чем Улитин помнил и писал в «Воротах Кавказа». «Сентиментальный роман» (пародийное написание «сантиментальный», кажется, пришло из тех же «Записок из подполья»[888]) — вышедшее в 1958 году (одновременно в «Новом мире» и отдельной книгой) сочинение Пановой, представляющее собой странную форму автобиографии: оно рассказывает историю взросления молодого ростовского журналиста Шурки Севастьянова. Несмотря на то что герой — мужчина, роман, «… [б]олее чем какое-нибудь другое произведение Пановой… построен на автобиографическом материале и содержит в себе многочисленные реалии ростовского окружения писательницы 1920-х гг.»[889], вероятно хорошо известные и Улитину.
Одиозный писатель Всеволод Кочетов (1912–1973) более всего запомнился современникам своей деятельностью 1960-х — нападками на «Новый мир» под руководством А. Т. Твардовского и агрессивным антиинтеллигентским романом-памфлетом «Что же ты хочешь?» (1969). Однако и в конце 1950-х вокруг его фигуры и творчества велись бурные споры. В 1958 году он опубликовал роман «Братья Ершовы»[890], направленный сразу против двух знаменитых «оттепельных» произведений, одно из которых было легальным, другое — неподцензурным: «Не хлебом единым» (1956) Владимира Дудинцева и «Доктор Живаго» (1955, опубликован в Италии в 1957-м) Бориса Пастернака. Опус Кочетова был одной из самых простых — памфлетных — реализаций жанра «романа с ключом». Эту его жанровую особенность отметил Михаил Золотоносов:
…Такой примитивно понятый, в лоб изображенный соцреализм. Но вместе с тем, когда Кочетов очень похоже описывает спектакли по оттепельным пьесам [Николая] Погодина, [Александра] Штейна или [Самуила] Алешина, то, естественно, это уже не соцреализм, это уже памфлет, прямое публицистическое высказывание, которое всех просто шокировало. […] Кочетов тут создал такую гетерогенную романную структуру, там частично соцреализм, частично такой памфлет с узнаваемыми персонажами[891].
Роман Кочетова восторженно хвалили критики-сталинисты, недовольные «оттепелью» или вызванными ею контактами с Западом, одобряли давние ненавистники Пастернака[892] — но в ЦК КПСС сочли, что Кочетов переходит границы и осуждает партийную установку на ограниченную либерализацию, поэтому «Братьев Ершовых» подвергли критике в газете «Правда» (1958. 25 сентября).
Поскольку в 1958–1959 годах Улитин регулярно общался с иностранцами, то, следя за качаниями маятника публичных оценок «Братьев Ершовых», романа, направленного против западнически ориентированной интеллигенции, он должен был чувствовать себя «на линии огня».
Начало «Детективной истории» — «Мягкий, влажный, хлопьями снег валил с неба…» — представляет собой явную пародию на общепринятые тогда «погодные» метафоры политической ситуации, заданные романом И. Эренбурга «Оттепель» (1954), и, возможно, на детальные описания новогоднего города в романе Пановой «Времена года» (1953); одно из этих описаний открывает, а другое завершает роман.
Упоминание о В. Кочетове и В. Пановой в «Детективной истории» имеет и другие, очевидные для осведомленных современников подтексты. Весной 1954 года Кочетов опубликовал рецензию на уже упомянутый роман Пановой «Времена года», в которой объявил его явлением «мещанской литературы», якобы доказывающим «всю порочность объективистского и натуралистического подхода писателя к изображению жизни»[893]. Эта статья и другие печатные выпады Кочетова против ленинградских писателей привели к тому, что на отчетно-выборном собрании Ленинградского отделения Союза советских писателей (ЛО ССП) в декабре того же года Кочетова не только не переизбрали секретарем, но даже не выбрали «обычным» членом правления (голосование было тайным). Антисемитское крыло ЛО ССП вскоре распустило слухи о том, что такое голосование «обеспечил» Давид Дар — муж Пановой и этнический еврей, — мобилизовав всех евреев ЛО ССП голосовать против Кочетова[894]. В литературных кругах сохранилась легенда о том, что «Кочетов погорел из-за статьи против Пановой», и Улитин, хоть и не имел организационного отношения к советской литературе, вполне мог слышать об этой версии от знакомых журналистов и писателей.
У нас пока нет данных, чтобы с определенностью сказать, что имел в виду Улитин, цитируя кого-то из своих собеседников: «Начинается консолидация». Однако следующая за этим фраза Козьмы Пруткова («Где начало того конца…»), по-видимому, свидетельствует о том, что к перспективе этой консолидации Улитин относится с иронией и недоверием. Возможно, речь в разговоре, на который намекает этот абзац, шла о консолидации либеральных, антисталинистских сил, на которую в 1958 году действительно было мало оснований надеяться — именно тогда Панова выступила против Бориса Пастернака и заграничной публикации его романа.
Имена Пановой и Кочетова впоследствии не раз возникают в «Детективной истории»: Панова упоминается как талантливый — несмотря на свою принадлежность к советской литературе — прозаик, а Кочетов — как персонаж несомненно отрицательный. Они по-прежнему фигурируют как образцовые антиподы. Так, характеризуя неназванного героя, Улитин пишет:
Он совсем отошел. Нет, но старается совместить несовместимое. Две вещи — Ясная Поляна и Трех Мушкетеров. И Тень. И Людей Без Тени[895]. И белый день. И плетень. И Тургенева и Достоевского и Гончарова[896]. Он хотел бы усадить за один столик и Кочетова и Веру Панову.
Таким образом, Улитин был уникальной синтетической фигурой. С одной стороны, он принадлежал к наиболее радикальным европейским и американским экспериментаторам в области автобиографического письма, понимал это и не соотносил себя ни с какими советскими цензурными нормами. С другой — очень внимательно следил за советской литературной жизнью, особенно за яркими публикациями в жанре автобиографии и «романа с ключом», то есть за тем, как советская литература работает с материей памяти и с искаженной в советских учебниках и фильмах исторической действительностью 1920-х годов, о которых по-своему писали и Панова в «Сентиментальном романе», и Катаев в поздней прозе. Эти публикации он критически комментировал и соотносил себя одновременно с западной и подцензурной советской словесностью, отчетливо понимая, что это два контекста, а не один — ср. в приводимой ниже цитате оговорку «для равновесия».
Заходите в «Артистическое». Останетесь довольны. Правда, тут вы не встретите Твардовского. Тот пьет дома. Не увидите Лиходеева. Тот — я не знаю где. […] А там вон дальше — видите — сидит мрачный юморист. А вот еще свободный столик. Сюда мы посадим Джойса, сюда Хемингуэя, а тут мы сядем. А для равновесия пригласим Веру Панову. Она хорошая.
(«Детективная история»)Продолжатели и наследники
Контекстуализировать творчество Улитина в литературе 1950–1970-х годов — сложная задача. При всей значительности его фигуры и сделанного им в литературе, при широком в 1960-е годы круге его общения — его непосредственное литературное влияние оказалось очень небольшим. Несомненно, причиной столь узкого воздействия является общий герметизм произведений Улитина. Возможно, свою роль сыграли особенности его социального поведения. Но, скорее всего, главные препятствия здесь были общекультурными: художественные задачи, которые он ставил, остались непонятыми.
Сегодня проза Улитина выглядит пропущенным (читателями и исследователями) «промежуточным звеном» между авангардом 1920–1930-х годов и постмодернистскими, в особенности концептуалистскими произведениями 1970-х. Наиболее явные общие признаки поэтик Улитина и концептуализма — фрагментация текста, критический анализ повседневного и художественного языков как «зараженных» идеологией, остранение образов массовой культуры (ср. вырезки из журналов и кинопостеров в рукописях Улитина), совмещение визуальных и текстовых компонентов в одном произведении.
Несмотря на эти, легко вычленяемые сегодня, аналогии, российские концептуалисты первого поколения (И. Кабаков, Вс. Некрасов, Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн), насколько можно судить, не знали об Улитине и никак не соотносили свою работу с проблематикой монтажа 1920-х. В нонконформистском искусстве поздней «оттепели» шло выстраивание отношений с художниками 1920-х — ср., например, аллюзии на супрематизм в работах художника Франциско Инфанте-Арана конца 1960-х годов[897], — но с раннеавангардными монтажными экспериментами ни концептуалисты, ни другие представители советского неофициального искусства в диалог не вступали. Улитин оказался одним из последних представителей русского авангарда, для которого такой диалог был конституирующим принципом творчества.
В русской литературе диалог с модернизмом вновь становится актуальным уже в 2000-е годы для писателей-новаторов, — в первую очередь для Д. А. Пригова и Михаила Шишкина: оба автора к этому времени уже полностью освоили постмодернистскую проблематику и выработали собственные стратегии письма[898]. Но в той рецепции монтажа 1920-х, которая заново возникла в 2000-е, Улитин тоже не стал опосредующей фигурой.
Из сегодняшних писателей к Улитину относятся с наибольшим вниманием Зиновий Зиник и Михаил Айзенберг. А. Асаркан еще в 1960-е познакомил с Улитиным Зиника, который стал самым младшим участником близкого окружения писателя. С середины 1970-х одним из важнейших собеседников для Улитина стал Айзенберг.
Судя по их воспоминаниям, они действительно научились у Улитина многому — и в этической сфере (бескомпромиссное отношение к литературе и к любому ее цензурному ограничению), и в эстетической; эта сторона их общения требует специального исследования[899]. Монтажные принципы Улитина Зиник учел в своей прозе (как отчасти и М. Айзенберг, см. его эссе «Ваня, Витя, Владимир Владимирович» — «Знамя», 2001, № 8) — правда, в зрелых романах использовал эти принципы в существенно переработанном виде, поэтому на протяжении многих лет ни читатели, ни критика не воспринимали прозу Зиника как развитие традиции, опосредованно связанной с авангардом 1920–1950-х годов. Положение стало меняться в последние годы — и только благодаря тому, что Зиник в своих новых книгах и критических статьях стал «проявлять» истоки своего творчества — см., например, его книгу 2013 года «Третий Иерусалим» (М.: Новое литературное обозрение).
Эта ситуация заметно отличается от преемственности в развитии авангарда в англоязычной словесности. В ней можно говорить о более или менее непрерывном развитии традиции, идущей от дадаистов, Паунда, Элиота и Дос Пассоса, через переосмысление их методов в творчестве Берроуза и Гайсина — к постмодернистским версиям монтажа — в прозе Томаса Пинчона и Джона Барта, песнях Фрэнка Заппы и других сочинениях[900].
Глава 10 По обе стороны «железного занавеса»: прощание с 1920-ми
Отношение к 1920-м: от диалога — к цитированию
Переход от 1960-х к 1970-м годам в русской культуре был не только хронологической сменой десятилетий: 1965–1972 годы стали временем масштабного перелома в развитии искусства и независимой общественной мысли[901]. Среди многих взаимосвязанных процессов, возникших или резко активизировавшихся в этот период, три имеют прямое отношение к сюжетам этой книги.
1. Все более последовательным становилось отторжение неподцензурной литературы от легальной и формирование неподцензурной словесности как совершенно автономного субполя со своими критериями оценок, со своими — полуподпольными — институциональными структурами, журналами и т. п.
2. В неподцензурной литературе и в неофициальном искусстве в это время одним из важнейших методов становится аналитический монтаж. (Впрочем, само слово «монтаж» в обсуждении произведений искусства в эти годы почти не используется, если не считать кинематографа.) В легальном искусстве интерес к монтажу в 1970-е стремительно падает. Это ослабление интереса было во многом эндогенным, а не обусловленным давлением цензуры.
3. Интерес к эстетическим экспериментам 1920-х годов все больше ассоциируется у писателей, читателей и критиков с политической фрондой. В неофициальном искусстве резко активизируется диалог с течениями русского модернизма — как «серебряным веком», так и послереволюционными.
Однако интересовались «серебряным веком» и 1920-ми в это время разные авторы — и с разными целями. Поэтами «серебряного века» интересовались поэты и ученые-гуманитарии, стремившиеся противостоять советскому беспамятству, они воспринимали их как равноправных и значимых собеседников в эстетическом диалоге. Эстетика поэтов «серебряного века» расценивалась как живая и значимая не только из-за нее самой, но из-за того, что эта эпоха была насильственно оборвана, а жизнь нескольких ярких представителей русского поэтического модернизма — Н. Гумилева, А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама, Б. Пастернака — оказалась трагической во многом из-за действий советской власти[902]. А языки искусства 1920-х в кругах литераторов и художников-нонконформистов на рубеже 1970-х воспринимались скорее как объект полемики, пародии, цитирования. Художники 1920-х представали в искусстве этого времени как утописты, обманутые всемогуществом собственных эстетических языков. Но, повторяю, эта историческая рефлексия разворачивалась только в неподцензурном искусстве — в произведениях, на домашних семинарах, в самиздатских журналах.
В целом для искусства конца 1960-х — как легального, так и неофициального — авангард и революционный модернизм перестают быть источниками эстетической легитимации. Эти стили обыгрываются в новых контекстах так, как если бы это были явления культуры давно ушедших эпох. В конце 1960-х в российском искусстве завершается (не навсегда, но надолго) диалог с традицией 1920-х как с актуальной и требующей продолжения — хотя бы и критического.
Пример нового осмысления авангарда в искусстве этой эпохи — цикл Франциско Инфанте-Арана (р. 1943) «Супрематические игры» (1968)[903]. Этот цикл выполнен в разработанной самим Инфанте и излюбленной им технике «артефакта» (название для нее появилось в 1972 году, но саму эту технику Инфанте-Арана и его жена Нонна Горюнова придумали и использовали раньше[904]). Артефакт Инфанте понимает как «организующее начало, каркас или сферу, внутри которой можно распоряжаться атрибутами самой природы: солнечным светом, воздухом, снегом, землей и небесами»[905]; в целом концепция артефактов очень близка к идее «land art» — направления в искусстве, возникшего в США тогда же, в конце 1960-х[906].
«Супрематические игры» — серия фотографий, изображающих разноцветные квадраты и прямоугольники, разложенные на снегу. Этот цикл не столько вступает в диалог с картинами К. Малевича, сколько цитирует стиль и образную систему супрематизма в ситуации, когда задачи искусства стали совершенно иными, — например, Инфанте стремится показать возможности продуктивного диалога между произведением искусства и природными объектами.
Малевич стремился к максимальной десемантизации пространства, к выведению своего рода универсальных визуальных формул. «Искомая Малевичем новая тектоника должна была быть эстетически действенной по отношению к… любому формообразованию»[907]. Совмещение десемантизированных форм с реальными природными объектами и материалами в эстетической системе Малевича не предусматривалось в принципе. Инфанте в конце 1960-х ценил Малевича чрезвычайно высоко[908] — но важна модальность этого восхищения: в своем произведении Инфанте интерпретировал основателя супрематизма как классика, принадлежавшего к безвозвратно ушедшей эпохе.
Можно сказать, что и методы, и образы авангарда и революционного модернизма с конца 1960-х воспринимаются в русском искусстве как готовый язык. К монтажу это относится лишь частично: монтаж в той версии, как он сложился в 1920-е годы, в эти годы становится предметом цитирования и пародии, но аналитический монтаж, лишь в малой степени связанный с 1920-ми, в это время начинает развиваться очень интенсивно. «Цитируемый» монтаж 1920-х и заново возникающий аналитический монтаж могут образовывать в произведениях искусства 1970–1980-х годов сложные гибриды — при несомненно ведущей роли именно аналитического монтажа.
В этой главе я попробую предложить очень эскизное описание исторической динамики такой гибридизации. Следует оговорить, что монтажные приемы в культуре 1970–2010-х годов развиваются очень интенсивно и по своему разнообразию гораздо богаче, чем в 1960-е и даже чем в 1920-е годы. Их развитие — тема для отдельного исследования. Приводимые здесь примеры намечают лишь первый подступ к проблеме.
Реакция на «медленное время»
В легальной культуре на рубеже 1960–1970-х эксперименты предшествующих полутора десятилетий постепенно утрачивают статус эстетической новации. Например, неточная («корневая») рифма, которая была в стихах «легальных шестидесятников» эквивалентом монтажного стыка (см. об этом в главе 5), в конце десятилетия превращается в привычный, «фирменный» элемент стиля нескольких известных поэтов — Б. Ахмадулиной, П. Вегина, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского. Эстетические пути этих поэтов в 1970–1980-е годы расходятся, но в целом в их стихотворениях гораздо реже, чем прежде, встречаются контрастные противопоставления образов-кадров. Если же они и возникают, то напоминают скорее риторическую антитезу, чем конфликтное столкновение, образующее новое единство.
Мамонт пролетел над Воронежем, как будто память злосчастная, чем ее больше гонишь, тем больше она возвращается. Мамонт пролетел над Аризоной, трубя по усопшим предкам — его принимали резонно за неопознанные объекты. (А. Вознесенский, «Вечное мясо», 1977) К нам приплывут на стругах, на триреме. В ракеты с нами сядут Ромул, Рем. А если я умру — то лишь на время. Я буду всюду. Буду всеми. Всем. И на звезде далекой гололедной, бросая в космос к людям позывной, я буду славить жизнь, как голубь мертвый, летающий бессмертно над землей. (Е. Евтушенко, «Голубь в Сантьяго», 1978[909])Пожалуй, единственный, кто из названных выше стихотворцев в 1970-е пошел по пути не «нормализации», а усложнения своей поэтики, — Белла Ахмадулина. Однако обсуждение ее эволюции не входит в задачи этой книги, так как монтажные принципы она с самого начала своего творчества, то есть с начала 1950-х годов, использовала реже, чем другие известные легальные поэты ее поколения.
Причиной этой «нормализации» послужило изменение представлений о современности в советской культуре. После вторжения войск Организации Варшавского договора в Чехословакию (1968) и краха проекта экономической реформы, инициированной в 1965 году тогдашним председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным (проект был окончательно похоронен в 1969 году), советское общество вступило в период, когда ни медиа, ни официальная пропаганда не фиксировали движения исторического времени. В 1960-е представители легальной и неофициальной культуры, вероятно, сошлись бы в понимании слова «современный»: отличающийся от того, что было еще совсем недавно, актуальный для сегодняшнего дня. В 1970-е референт этого слова стал гораздо менее определенным.
Монтаж в легальной советской культуре ориентировался на его значение, выработанное в 1920-е годы: метод изображения современности как очень короткой зоны «настоящего». В 1970-е годы такое представление о современности потеряло смысл, так как и власти, и медиа представляли настоящее как вневременной «развитой социализм», прошлое которого было мифологизированным, а будущее — отложенным на неопределенную перспективу. Этот период продлился до «перестройки»; исследователи новейшей России часто говорят о «длинных семидесятых» — периоде, закончившемся в 1982 или даже в 1986 году[910]. Здесь и далее под «советскими 1970-ми» имеется в виду именно это, «длинное», значение слова.
Русская культура — не только неофициальная, но и легальная — в 1970-е годы развивалась очень быстро[911]. Но художники обоих субполей в это время решали одну важнейшую задачу: изобрести, в каких формах в такой ситуации может существовать историческое время, потому что с прежними представлениями об историческом времени они соотносить себя уже не могли. Некоторые неподцензурные литераторы почувствовали этот крах прежних представлений еще в 1950-е, но лишь у очень немногих это ощущение стало поводом для выработки нового эстетического языка; среди этих исключений — авторы «лианозовской школы», Леонид Чертков, Михаил Ерёмин, отчасти ранняя Наталья Горбаневская.
Современный французский историк Франсуа Артог ввел понятие «режимы историчности»[912]. Он напоминает читателю о мысли немецкого историка и философа Райнхарда Козеллека: представление об историческом времени производится дистанцией, которая создается между областью опыта, с одной стороны, и горизонтами ожиданий — с другой; оно создается напряжением, существующим между ними[913]. Понятие «режима историчности» нужно, чтобы классифицировать типы воображаемых дистанций и варианты напряжений, возникающих между опытом и ожиданиями. Применительно к советским 1970-м, заостряя, можно ввести понятие «режимы неисторичности».
В целом образы движения времени, созданные в советской культуре 1970-х, отличаются двумя общими чертами: они подразумевают время: 1) текущее замедленно, в котором настоящее не отличается от ближайшего прошлого, 2) элементы континуальности в тогдашних образах времени в целом превалируют над дискретностью[914]. Назову несколько важнейших типов таких образов:
1. Время частной жизни и ее изменений — любви и ее охлаждения, свадеб, разводов, потерь, путешествий и возвращений. См. «многосерийные фильмы», снятые для советского телевидения в 1970-е годы, и расцвет психологической мелодрамы в кино. В неофициальной культуре в полемике с этим образом была открыта возможность представления личного времени как исторического — см. поэзию Е. Ф. Сабурова и М. Н. Айзенберга[915] и повесть Беллы Улановской «Путешествие в Кашгар» (1973). Если перефразировать американскую феминистку Кэрол Хэниш, автора лозунга «Personal is political» (1969), — эти неподцензурные авторы, при всех различиях между ними, нашли язык для того, чтобы продемонстрировать: now only personal is historical.
2. Время медийных новостей, которые даже и при неопределенной современности «размечали» отличие настоящего от прошлого, хотя эта «разметка» в советских медиа имела формальный характер регистрации событий. Использование такого образа времени превращало тексты в «сочинения на случай», чаще всего приноровленные к интерпретациям, которые давала тому или другому «случаю» официальная советская пропаганда.
По пути гипостазирования медийных новостей пошли бывшие «шестидесятники» Вознесенский и Евтушенко. Процитированная выше поэма Евтушенко «Голубь в Сантьяго» написана о последствиях военного переворота, осуществленного генералом Аугусто Пиночетом в Чили в 1973 году, поэма Вознесенского «Вечное мясо» — сразу после обнаружения в июне 1977 года в Сусуманском районе Якутии трупа доисторического мамонтенка, практически полностью сохранившегося в вечной мерзлоте (палеонтологическое обозначение — Киргиляхский мамонтенок, газетное — «мамонтенок Дима»)[916].
Аналогичный образ времени использовали пропагандистские романы Александра Проханова, впрочем, идеологически отличавшиеся от Вознесенского и Евтушенко: Вознесенский и Евтушенко были популистами и, по советским меркам, либералами, Проханов — откровенным империалистом. В его романах прославлялись спецоперации КГБ и ГРУ в развивающихся странах («Дерево в центре Кабула», 1982; «В островах охотник», 1984). Действие опусов Проханова было приурочено к событиям, использованным советским руководством как предлог для вмешательства во внутренние дела других государств: гражданский конфликт в Афганистане, террор «красных кхмеров» против населения Камбоджи и т. п.
3. Время «долгой» истории культуры, акцентирование связи современного человека не с ближайшим прошлым советского общества, а с предшествующими эпохами. В легальной культуре этот образ был представлен в первую очередь популярной исторической литературой, например книгами Н. Эйдельмана и Р. Скрынникова, в неофициальной — через переживание и представление современности как семантической всенаполненности, «плеромы», дававшей возможности общения с культурами разных стран и исторических периодов[917].
4. Время умирания, разложения, распада. См., например, повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» (1969) и Валентина Распутина «Последний срок» (1970) и фильм Андрея Тарковского «Сталкер» (1979). Парадоксальным образом только такие негативные процессы, как умирание и разложение, вносят в существование их героев идеи необратимого изменения и тем самым — различения настоящего от прошлого, то есть позволяют историзировать человеческую жизнь.
5. Время мифа, которое приобретает характер циклического возвращения или замкнутого завершенного движения. В относительно широких интеллигентских кругах такой образ времени распространился через чтение латиноамериканской литературы «мифологического реализма», в более радикальной и менее склонной к эскапизму неофициальной культуре — через рефлексию мифологического характера собственно советской пропаганды. В конце 1960-х годов сразу несколько литераторов и художников изобрели эстетические средства для демонстрации такой мифологичности[918]. В первую очередь это были представители соц-арта и концептуализма.
Во всех этих «режимах неисторичности» движение истории или восстанавливалось как континуальное, последовательное, или отчетливо отрицалось — в пользу времени мифа. Поэтому монтаж в его прежнем значении — для изображения современности как синхронно существующих временных потоков, хотя и был воскрешен в 1960-е годы, — в 1970-е воспринимался как неактуальный.
Впрочем, возможны были особые и очень важные для советских 1970-х годов случаи, в которых «вневременное» существование не блокировало применение монтажных приемов, а способствовало им. Это произведения, где историческое время изображалось через его проекции в личной памяти, травматически разорванной под влиянием катастроф, постигших общество. Важнейшие примеры такого «монтажа памяти» — фильм Андрея Тарковского «Зеркало» (1974) и анимационный фильм Юрия Норштейна «Сказка сказок» (1979)[919]. В первом случае сам фильм является особого рода театром памяти героя, биографически близкого режиссеру, во втором — метафорическим изображением разных режимов восприятия времени в памяти людей совершенно определенного поколения — тех, кто был ребенком, когда началась Вторая мировая война и достиг профессиональной и социальной зрелости в 1970-е. «Сказка сказок» представляет на экране опыт того же поколения, к которому принадлежали и Тарковский, и герой его фильма. Тарковский (1932–1986) был на 9 лет старше автора «Сказки сказок» Ю. Норштейна, но речь, подчеркиваю, идет о мировосприятии, выраженном в фильмах, — а в «Сказке сказок» начало войны показано хотя и глазами ребенка, но уже не совсем маленького, а такого, который способен оценить принесенную этим событием утрату детской бестревожности.
Поскольку прямо спорить с господствующим нарративом истории и противопоставлять личную память и официальную версию событий в СССР было запрещено цензурой, оба автора, Тарковский и Норштейн, применили один и тот же прием. Визуальный язык двух фильмов, несмотря на то что один игровой, а другой — анимационный, основан на представлении памяти как лирического, сугубо личного сплетения ассоциаций. В обоих фильмах образы совмещаются и перевоплощаются друг в друга, как во сне — хотя при более внимательном рассмотрении видно, что логика сна в них «подкреплена» логикой мифа и представлениями об аффективной основе памяти, разработанными в психоанализе.
Психоанализ в СССР официально считался вредным идеалистическим учением[920]. Но Андрей Тарковский, показывая в фильме «Зеркало», как в сознании героя отождествляются мать и жена, фактически пользуется языком психоанализа, не ссылаясь на него явно — в отличие от своего современника, итальянского режиссера и теоретика искусства Пьера Паоло Пазолини, который прямо апеллирует к созданной З. Фрейдом метафоре эдипова комплекса в фильме «Эдип-царь» («Edipo re», 1967), кажется, по своему языку оказавшем некоторое влияние на Тарковского.
Из-за общей установки на поэтическую ассоциативность и разрыв традиционного нарратива эстетику Тарковского или Норштейна легко было обвинить в субъективизме и элитарности (и такие обвинения на обоих режиссеров обрушивались регулярно[921]), но труднее — в политическом инакомыслии. Тем не менее подготовленная аудитория, состоявшая в значительной степени из интеллигентов того же самого поколения, что и Петрушевская, и Тарковский, и Норштейн, легко считывала оппозиционные смыслы обоих фильмов, как раз и состоявшие в том, что травмированная личная память, представая как поток ассоциаций, дает более достоверную и этически верную картину истории, чем полная умолчаний и лжи советская схема событий, которые происходили в СССР в XX веке[922].
Язык памяти как единственно достоверной истории последовательно разработала Анна Ахматова в «Поэме без героя» (1940–1943[923]), но она не была опубликована. Впоследствии такое представление о памяти, хотя и в более упрощенном варианте по сравнению с «Поэмой без героя», транслировали поэты, находившиеся «на грани цензурности», — Арсений Тарковский (NB: отец автора «Зеркала») в стихотворении «Вещи» (1957) и Давид Самойлов в стихотворении «Выезд» (1966):
Где кудри символистов полупьяных? Где рослых футуристов затрапезы? Где лозунги на липах и каштанах, Бандитов сумасшедшие обрезы? Где твердый знак и буква «ять» с «фигою»? Одно ушло, другое изменилось, И что не отделялось запятою, То запятой и смертью отделилось. (А. Тарковский[924]) Помню — папа еще молодой, Помню выезд, какие-то сборы. И извозчик лихой, завитой, Конь, пролетка, и кнут, и рессоры. А в Москве — допотопный трамвай, Где прицепом — старинная конка. А над Екатерининским — грай. Все впечаталось в память ребенка. (Д. Самойлов[925])В дальнейшем, в 1970-е годы, память о дореволюционном или довоенном детстве была представлена как травмированная и требующая «смещенного» изображения, создаваемого с помощью монтажа[926]. В фильме «Зеркало» знаками травмы становятся включенные в фильм документальные фрагменты, изображающие Гражданскую войну в Испании, Вторую мировую войну, конфликт СССР и Китая на острове Даманский (1969). У Тарковского эти кадры имеют метонимический характер, отсылая не только к самим событиям, но и к представлению XX века как периода исторических катаклизмов и тоталитарных режимов.
Кажется, первым в советском кино фрагменты кинохроники в таком режиме — одновременно аналитическом и эмоционально-суггестивном — использовал Михаил Калик в фильме «До свидания, мальчики!» (1964), но там эти фрагменты отсылают не к памяти, а к настоящему и будущему. Действие фильма происходит в предвоенные годы, и фрагменты с парадами нацистов в гитлеровской Германии замещают рассказ о страхах матери-еврейки за будущую судьбу сына, а фрагменты с кадрами войны и Холокоста — сообщения о будущей судьбе героев[927].
Большой террор в фильме «Зеркало» тоже есть, несмотря на то что его упоминание в 1970-е годы было фактически запрещено. Он представлен с помощью намека, ясного для людей с советским опытом. Мать главного героя, корректор в типографии, в одном из эпизодов впадает в панику от страха, что могла пропустить опечатку в газете (этот эпизод имеет четкую биографическую «привязку»: мать Тарковского, Мария Вишнякова, во время войны работала корректором в газете). Люди, принадлежавшие к поколению Тарковского и к более старшим генерациям, понимали, что в 1940-е такой ужас вызывала только опечатка, нечаянно изменявшая политический смысл официальных формулировок или искажавшая имя или слова Сталина. За подобные ошибки и наборщик, и корректор могли отправиться в ГУЛАГ, если не на тот свет.
В «Сказке сказок» знаком травмы тоже становятся тропы-иносказания, но организованные иначе, чем у Тарковского. К таким тропам относятся внезапно разрывающие действие картины опустевшего пиршественного стола и движущихся товарных вагонов с людьми. Образы этих вагонов в равной степени могут означать отправку как солдат на фронт, так и заключенных в лагеря.
Современность в «Сказке сказок» предстает как мир, в котором герои подвергаются агрессии со стороны общества. Эта агрессия представлена не метонимически, а метафорически: ср. образ молодого жлоба, который равнодушно кидает в снег огрызок магического яблока, или кадр, где «серенький волчок» с младенцем в лапах уворачивается от бесконечных огней машин на вечерней улице — не нарисованных, а снятых на обычную кинопленку.
Кинокритик и сценарист Майя Туровская (автор сценария фильма «Обыкновенный фашизм») описала комбинированную, поэтически-хроникальную стилистику «Зеркала» как следствие прямого влияния телевидения на язык кинематографа[928]. Ассоциативный язык «Сказки сказок» имеет менее очевидное происхождение. В частности, заслуживает внимания образ быка, становящийся в фильме лейтмотивом: это прямая цитата из графики П. Пикассо 1940–1950-х годов. Возможно, одним из источников эстетики фильма послужил посткубистический язык зрелого Пикассо.
Именно в «Зеркале» в наибольшей степени заметно переосмысление идеи монтажа, подспудно намечавшееся еще в 1960-е (в фильме Калика «До свидания, мальчики!»), но достигшее наиболее явного выражения в советском кинематографе 1970-х. Монтаж нужен Тарковскому для создания не образа времени, включенного в историю (как это было, например, у Ромма), а альтернативного по своей структуре и эмоциональной окраске замедленного личного времени, которое конфликтно сталкивается с «большой» историей. Туровская пишет о том, что «…непривычность… и смысл фильма „Зеркало“ — в разномасштабности: времени его свойственны разные измерения»[929]. Замедленность времени в фильме может быть измерена количественно: сам режиссер отметил, что в «Зеркале» — около двухсот кадров, в то время как в среднем фильме такой же длины обычно бывает более пятисот[930].
Туровская замечает, что смысловым и ритмическим «антонимом» кинохроники в «Зеркале» становятся изредка возникающие на экране шедевры европейской живописи XV–XVII веков. Картины Питера Брейгеля-младшего и других художников придают фильму смысл выхода из XX века в «большую» европейскую культуру — но данную как вневременной смысловой континуум.
Становление аналитического монтажа
Одной из важнейших функций аналитического монтажа является демонстрация трудности различения «своих» и «чужих» языков, «своего» и «чужого» семантического пространства в сознании современного человека. Как уже сказано, ключевой для литературы XX века автор, впервые создавший языковые средства для демонстрации этого экзистенциального затруднения, — Джойс[931]. Персонажи «Улисса» постоянно используют пародийно переиначенные цитаты из классики или обороты из речевых практик, которые по социальным конвенциям не могут быть применены в описываемой ситуации. Таковы, например, высокопарно-литературный язык во время пьяной уличной драки и последующего общения ее участников с полицией («Цирцея») или неприличные и кощунственные шутки сразу после спора на «высокие» культурные темы (импровизация Быка Маллигана и Стивена в финале эпизода «Сцилла и Харибда»).
От традиционной ирои-комической поэмы, например описывающей «античным» языком посещение борделя («Елисей, или Раздраженный Вакх» Василия Майкова, 1769), эстетика Джойса отличается не только модернистски-внимательной психологической рефлексией. У Майкова и в целом в ирои-комической поэме обычно выбирается один основной язык, «неподходящий» для избранного предмета. У Джойса языков много и они резко сменяют друг друга — поэтому описываемый им метод и может быть охарактеризован как монтаж.
В русской литературе одним из первых к этой проблематике подступил Иван Аксенов в стихотворении «Мюнхен» (1914), которое процитировано в гл. 1. В этом стихотворении очень заметен намеренно создаваемый контраст языков, которые использованы в разных фрагментах — символистской высокопарности («безграалие на горе…»), повседневной письменной речи («Несмотря на совершенно невыносимую манеру отельной прислуги отворять, в отсутствии, окна в улицу…»), издевательски переосмысленных цитат из классики («Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» — из «Тараса Бульбы» Гоголя) и заумного варьирования евангельских речений («ОТЧЕго НЕ мЕДнОе оТВОРЯТь?» — ср. из Евангелия от Луки: «Отче! отпусти им, не ведя бо, что творят…» [23:34]).
В 1950-е эту проблему на новом уровне — и во многом с оглядкой на Джойса, но не на И. Аксенова[932] — переоткрыл Улитин. В его произведениях цитаты присваиваются и переосмысливаются, а собственная речь рассказчика отчуждается уже в момент возникновения и поэтому существует в тексте на тех же правах, что и цитаты из других авторов. Аналитический монтаж в манускриптах Улитина применяется как последовательно используемый метод. В главах солженицынской эпопеи, написанных в модальности несобственно-прямой речи, писатель постоянно обыгрывает разницу языков, на которых думают его герои — но считает, что эти языки не смешиваются с его собственными[933].
Невозможность или, во всяком случае, затрудненность различения психологически «своего» и психологически «чужого» с помощью интроспекции является одной из ключевых предпосылок возникновения постмодернизма как эстетической системы, охватывающей разные виды искусств. Интересу художников к выражению этой неразличимости способствовали социально-исторические тренды, которые в равной степени действовали и в «западном» мире, и в «социалистических» странах, хотя и по-разному.
1. Развитие общества потребления в 1950–1970-е годы. В таком обществе потребитель все чаще вынужден выбирать между товарами со сходными качествами, но выпускаемыми под разными брендами. Реклама все больше основывается на мифологии бренда, а не на качествах товара. Выбирая товар, человек затрудняется в определении того, почему он сделал такой выбор — в силу собственных желаний или из-за воздействия рекламы. Одним из первых описал эту проблему французский социолог и философ Жан Бодрийяр в книге «Общество потребления» (1970), закрепившей употребления соответствующего термина в социологии и в медиа.
В СССР сходный эффект возникал из-за экономики, основанной не на избытке товаров, но, напротив, на их дефиците. В этих условиях человек был вынужден покупать далеко не всегда то, что ему действительно было нужно, но чаще — то, что можно было «достать», на что у него был блат, наконец, то, что замещало действительно нужные вещи, книги и т. п. Все это создавало ощущение того, что желания индивида подменяются на чужие в силу общественного и государственного давления. Экономика дефицита в намного большей степени, чем общество потребления на Западе, оказывалась средством жесткого социального контроля[934]. (Характерные для 1970-х годов размышления левых западных интеллектуалов о том, что СССР — это удивительное модерное общество без рекламы, были основаны на ложных посылках: реклама престижного потребления в СССР существовала, только не в виде заметных постороннему плакатов и билбордов, а в форме скрытых от внешнего наблюдения слухов и иных сетевых устных коммуникаций.)
2. В 1950–1970-е годы все большее значение в жизни человека приобретала сфера досуга, которая у миллионов людей заполнялась смотрением телевизора и кино, чтением прессы и в целом потреблением разного рода масскультной продукции. Человеку становится труднее понять, основываются ли его оценки происходящего на личном биографическом опыте или это воспроизведение стилизованной ситуации из книги или фильма. Общество и медиа выступают как стандартизаторы индивидуальных «машин желания» (термин из книги французских философов Жиля Делёза и Феликса Гваттари «Анти-Эдип»). В позднем СССР досуг занимал особенно важное место из-за общего настроения эскапизма, порожденного массовой утратой веры в государственную идеологию, — это настроение придавало досугу значение «пространства побега от государства»[935]. А скудость выбора типов развлечения, книг и т. п. делала переживание «стандартизации эмоциональной жизни», возникавшее у рефлексирующих людей, особенно острым.
3. Еще одним трендом, специфичным для СССР и «социалистических» стран, было переживание всеобщего присутствия официальной пропаганды и ее лозунгов, в том числе в сознании критически настроенного гражданина. В «Золотом теленке» И. Ильфа и Е. Петрова есть комический персонаж, старик-монархист по имени Федор Хворобьёв. Он живет один на пенсии и не хочет контактировать с ненавистной ему советской властью, но каждую ночь видит сны исключительно о советских мероприятиях. Ильф и Петров относятся к Хворобьёву с откровенной иронией. Но в 1950–1970-е годы в ситуации таких «наведенных снов» ощущали себя не «обломки империи», а молодые интеллектуалы — и их размышления по этому поводу были куда более серьезны, чем карикатурные терзания персонажа Ильфа и Петрова.
Наиболее проницательные из неофициальных советских художников и писателей поняли, что эта ситуация предоставляет им уникальную возможность для рефлексии языкового употребления. Зиновий Зиник написал эссе-манифест «Соц-арт», где проанализировал специфическое состояние сознания, в котором различение «своего» и «чужого» искусственно затруднено.
«Общественное», вылившееся в принудительную идеологию, вмешивается — не проникая, но вламываясь под прикрытием высоких слов (как вежливый стук в дверь часто кончается обыском), — и заселяет личное, превращая это личное в коммунальную квартиру. […] …Это приводит к постоянной напряженной раздвоенности сознания: человек постоянно ощущает себя не совсем дома… Он всегда отчасти на демонстрации, отчасти на партийном собрании, отчасти — в тюрьме[936].
Адекватной критической реакцией на такую раздвоенность, по мнению Зиника, становится искусство, в котором
…важен не сам стиль, а круг политических идей, этот стиль исторически сопровождавших. Такого рода изобразительность имеет дело не с самим стилем, а с намеком на него, с его идеей — это, скорее, не искусство, а мета-искусство: оно апеллирует не только к зрению, но обыгрывает сопровождающие понятия из русско-советской мифологии[937].
То, что критик называет метаискусством, может быть понято как метод и этического, и эстетического анализа сознания художника и зрителя. Примером подобной эстетики Зиник счел живописные работы и инсталляции, созданные в соавторстве неофициальными художниками Виталием Комаром и Александром Меламидом.
Следует оговорить важный нюанс. Трудность различения «своего» и «чужого» в сознании была осознана в неофициальной культуре заметно раньше, чем получил распространение дискурсивно-аналитический монтаж. На первых порах, в 1950-х — начале 1960-х годов, эту проблему обозначил Борис Вахтин (1930–1981). Однако его литературная работа была основана не столько на анализе языков советского сознания, сколько на построении психологических метафор.
Творчество Вахтина исследовано очень мало — несмотря на то что им восхищались многие современники, а поставленный по его роману уже в постсоветское время спектакль имел шумный успех и был удостоен ряда призов[938]. Вахтин соединил в своей жизни несколько трудносовместимых в СССР социальных ипостасей. Он был успешным ученым-синологом, переводчиком китайской и японской поэзии; не менее успешным кино- и телесценаристом; автором популярных статей о религиозно мотивированных коллективных фобиях; и, наконец — что было для него главным, — писал стилистически изощренную прозу, которую отклоняли все советские издательства. Всего у него в СССР было опубликовано три рассказа.
С 1960-х годов Вахтин принимал участие в деятельности ленинградских кружков неподцензурной литературы и правозащитном движении. Его отказ давать показания на суде над составителями самиздатского собрания сочинений И. Бродского (1974) привел к тому, что Вахтину не дали возможности защитить докторскую диссертацию по синологии. С 1977 года писатель публиковался в «тамиздате».
Вот фрагмент из его цикла короткой прозы 1960 года:
* * *
Они шумели и матерились, как штрафной батальон, ломали двери изнутри и уходили ко всем чертям.
А я притих на Черной речке и ползал по листу бумаги, как шелкопряд, откладывая яички буковок.
Каторжник мостит тюремный двор, спина его синяя от неба.
Женщина стирает белье, припав к реке, как конь на водопое.
Пианист тычет пальцами то в черное, то в белое.
Штрафной батальон ломает мою дверь изнутри.
(Из цикла «Дневник без имен и чисел»[939])Подход Вахтина, напоминавший эстетику французских сюрреалистов, остался в русской культуре экзотическим. Гораздо более влиятельным оказалось исследование взаимопереходов идеологически и экзистенциально «своих» и «чужих» оценок, образов и сюжетов в сознании персонажей — а также автора, читателей и зрителей — с помощью аналитического монтажа.
Далее будет представлен анализ приемов такого монтажа, примененных в нескольких произведениях конца 1960-х и 1970-х. Их последовательность образует шкалу постепенного перехода от произведений, в которых еще встречаются ссылки на культуру 1920-х и монтаж является гибридным, — к произведениям, в которых такие исторические ссылки отсутствуют и аналитический монтаж занимает центральное место.
Эта шкала показывает связь двух параметров: все более последовательное отстранение от эстетики 1920-х и нарастание общего эстетического радикализма.
«Интервенция» Г. Полоки: прощальный поклон 1920-м
В 1968 году кинорежиссер Геннадий Полока снял фильм по знаменитой пьесе Льва Славина «Интервенция» (1932, первоначальное название — «Иностранная коллегия»[940]). Лев Славин (1896–1984), драматург родом из Одессы, в конце 1910-х годов принадлежал к тому же кругу, что и молодые В. Катаев, И. Ильф, Е. Петров, Ю. Олеша. Он написал пьесу с колоритными одесскими типажами уголовников и бандерш, но — на идеологически выдержанный революционный сюжет. В его пьесе был выведен удивительный главный герой — руководитель большевистского подполья Бродский, он же Мишель Воронов, еврей-коммунист-трикстер, изображающий для конспирации то домашнего учителя, то уличного соблазнителя[941]. Пьеса с выигрышными ролями была любима режиссерами, актерами и публикой, с успехом шла во многих театрах СССР в 1933–1937 годах, возобновлена в 1957-м, к 40-летию Октябрьской революции — и тоже с успехом.
После возобновления спектакля в Театре им. Е. Вахтангова в Москве в кинематографических кругах возникла мысль об экранизации популярного произведения. Подготовка фильма Полоки, где в главной роли снялся Владимир Высоцкий, сопровождалась одобрительными статьями и репортажами в прессе.
Готовая кинокартина не понравилась написавшему сценарий Славину. Он был человеком достаточно эстетически и политически терпимым — например, в 1966 году он подписал письмо в защиту А. Синявского и Ю. Даниэля. Однако, если бы проблема состояла только в конфликте режиссера со сценаристом, это было бы еще полбеды. Гораздо более серьезное влияние на судьбу фильма оказало то, что официальные инстанции тоже объявили «Интервенцию» неудачной и не выпустили ее на экраны. В 1970-е — начале 1980-х режиссер самостоятельно (правда, при невмешательстве спецслужб и партийных органов) возил копии фильма по засекреченным конструкторским бюро («почтовым ящикам»), где и проводил показы и обсуждения. Официально «Интервенция» была разрешена к прокату в 1987 году.
Полока демонстративно[942] и пародийно воспроизводил на экране театральную стилистику Вс. Мейерхольда и кинематографа «фэксов». (Характерно, что, в отличие от Славина, фильм высоко оценил бывший «фэкс» Григорий Козинцев[943] — человек того же поколения, что и Славин, но гораздо в большей степени склонный к рефлексии художественного языка.) «Интервенция» была основана на контрастном соположении разных по атмосфере «большевистских», «бандитских» и «кабаретных» сцен.
Анархическая атмосфера действия возникала благодаря не только сценарию, актерской игре, полной цитат из раннего кино[944], и песням В. Высоцкого, но и парадоксалистскому, ироничному монтажу и шутовской визуализации метафор в духе комедий братьев Маркс. Например, переводчик французского генерала (сам генерал говорит «голосом» не человека, а детской игрушки «уйди-уйди»), обращаясь к аудитории, провозглашает, что Франции, которая дала кредит императорской России, теперь принадлежит всё в стране, в том числе и «штаны, которые вы носите», — и на всех присутствующих мужчинах пропадают брюки. А на словах о том, что Франции принадлежат и «женщины, с которыми вы спите», аудитория исчезает, и на ее месте появляется несколько кроватей (снятых в «остром» ракурсе сверху), где мужчины в одежде дворников лежат в обнимку… с резиновыми женщинами, и каждую такую «пару» охраняет человек в форме.
На одном из закрытых показов в 1984 году Полока объяснял, что к эстетике 1920-х обратился для достижения максимальной плотности кинодействия: «Когда вы смотрите немое кино, то вы не можете оторвать глаз от экрана ни на секунду. Потому что если оторвете, то пропустите что-то важное. А потом пошло такое кино, что можно сходить на кухню, сделать себе бутерброд, открыть бутылку пива, вернуться, — и окажется, что вы ничего не пропустили»[945]. Характерно, что и сама эта аргументация, призывавшая к максимальной «плотности» событий, — оттуда, из 20-х.
Язык «Интервенции» отсылал к театру и в еще большей степени — к кабаре и цирку: ключевые сцены происходят в условном круглом пространстве, напоминающем арену. Герои в этих сценах иногда становятся в круг, обращая реплики к его центру, а не друг к другу.
Из беседы Полоки с журналистом Марком Цибульским:
М.Ц. Хотелось бы узнать, что означают концентрические круги, на фоне которых проходит значительная часть действия фильма? Оператор картины Е. Мезенцев говорил, что они означают цирк, что вся жизнь — цирк.
Г.П. Это идея такого революционного балагана. Но круг — понятие широкое, и в финале фильма он работал как мишень[946].
Балаган Полока, как очевидно из фильма, понимал как карнавальное, в духе Бахтина, столкновение несовместимых образных рядов, обнажавшее игровую природу фильма. Монтаж Полоки был не просто постутопическим: режиссер показывал большевистскую утопию как один из возможных языков культуры 1910–1920-х годов. Все эти языки он демонстрировал как условные, явно опираясь на представление жизни как трагикомического цирка, созданное в фильме Ф. Феллини «Восемь с половиной». Ср. арлекинов в первой сцене фильма — обращения французского генерала к одесситам: эти арлекины выглядят прямой цитатой из Феллини. Такой контекстуализации революционных сюжетов и языка большевистской пропаганды советская цензура, по-видимому, вынести не могла.
Фильм «Интервенция» был по своему историко-культурному смыслу переходным, и монтаж в нем — тоже. Стремление режиссера ввести в фильм элементы эстетики 1920-х было сугубо «шестидесятническим», однако соединение анархически-гиньольной атмосферы действия, откровенно условного языка и трагического финала, в котором главный герой гибнет и звучит отчаянная песня В. Высоцкого «Деревянные костюмы», проникнутая острым переживанием смертности каждого человека, — все это принадлежит уже новой эпохе, а не той, в которой всего за год до «Интервенции» был снят стоически-оптимистичный по своему духу «Айболит-66».
В дальнейшем открытия Полоки, но в облегченном варианте, учел Марк Захаров, создавший — на основе сценариев Григория Горина — в 1970–1980-е годы жанр откровенно условных по языку кино- и телевизионных трагикомедий о трикстерах-нонконформистах («Тот самый Мюнхгаузен», 1979; «Дом, который построил Свифт», 1982) или трикстерах-неудачниках («Формула любви», 1984)).
Сам же Полока после запрета «Интервенции» снимал комедийные мелодрамы из современной жизни и только в 1980-е получил возможность вновь обратиться к тематике 1920-х. Он снял фильмы «Наше призвание» (телевизионный многосерийный, 1980) и «Я — вожатый форпоста» (1986) — по прозе полузабытого в то время писателя и педагога Н. Огнёва (настоящее имя — Михаил Розанов, 1888–1938[947]) «Дневник Кости Рябцева» (1927–1929). Однако по своей достаточно осторожной эстетике эти фильмы и близко не подходили к радикальной и новаторской для своего времени «Интервенции».
Баллады Александра Галича: новый образ истории
Геннадий Полока рассматривал контраст демонстрируемых им языков и образных рядов как явление прежде всего эстетическое, а не социальное и требующее мотивировки. Такой мотивировкой для него стала привязка к 1920-м годам с их духом культурного эксперимента. В условиях резкого политического «похолодания» уже и такое обоснование было недопустимо: в 1968 году Полока заканчивал «Интервенцию» фактически полуподпольно, после официального запрета на продолжение съемок, и во время монтажа прятал отснятые материалы. Но все же в готовом фильме ссылка на 1920-е сохранила смысл главного источника легитимности художественного языка в советском контексте.
Авторы неподцензурной литературы в таких легитимирующих ссылках не нуждались. Александр Галич был промежуточной фигурой между легальной и неподцензурной словесностью: он пытался в одно и то же время писать песни, беспощадно высмеивающие советские нормы, и быть советским драматургом и сценаристом. Его песни-баллады были не только несопоставимо резче его «легальных» сценариев по выраженным в них этическим и политическим оценкам, но и более новаторскими в эстетическом отношении.
Исследователи сегодня подробно анализируют связи песенного творчества Галича с поэзией XIX и начала XX века[948], но не с монтажными экспериментами 1920-х. Однако основания для такого сопоставления есть. Галич был учеником конструктивистов из объединения ЛЦК. В 1930-е годы юный поэт, подписывавшийся тогда еще фамилией Гинзбург, эпизодически посещал литературные семинары под руководством В. Луговского и И. Сельвинского. В начале 1930-х он несколько раз имел возможность слушать выступления Э. Багрицкого перед пишущими стихи подростками. Первое опубликованное стихотворение Галича — «Мир в рупоре» (1934) — откровенно подражательное, источники влияний легко заметны и относятся к кругу ЛЦК: это стихи Луговского из сборников «Мускул» (1929) и «Жизнь» (1933) и стихотворение Багрицкого «ТВС» (1929).
Конечно, зрелая поэтика Галича отстояла от конструктивистской очень далеко. Конструктивизм, при всех эстетических и стилистических различиях между членами ЛЦК — Багрицким, Луговским, Сельвинскими, Верой Инбер, был основан на идее мобилизации субъекта, объединения всех элементов психической жизни вокруг единого смыслового центра, подобно тому как, согласно декларациям конструктивистов, вокруг единой «магистрали» должно быть организовано все содержание стихотворения[949]. Напротив, для зрелого Галича такая мобилизационность была глубоко чужда.
Травматичность истории XX века вообще и советской власти в частности для Галича выражалась прежде всего в отчуждении человека от языка. Эту отчужденность он открыл в начале 1960-х и не уставал разыгрывать и в стихах, и в исполнении своих песен как бесконечную серию театрализованных интермедий. Сама манера его пения сочетала торжественную медлительность и брезгливость интонации, в ней всегда был привкус демонстративного цитирования чужого слова, одновременно притягательного своей откровенностью и чудовищного в своей чуждости традиционным критериям этики и эстетики. Следующим шагом в этом устном смаковании заведомо чужого слова стала патетически-юродская и в то же время отстраненная манера чтения, выработанная Д. А. Приговым в конце 1970-х годов.
В начале 1970-х Галич неоднократно говорил в монологах на домашних концертах (сохранились их магнитофонные записи) о семантическом опустошении русского языка, переполненного лозунгами и идеологическими штампами. Писал он об этом и в стихах.
…Только буквы, расчертовы куклы, Не хотят сочетаться в слова. — Миру — мир! — Мыру — мыр! — Муре — мура! — Мира — миг, мира — миф, в мире — мер… И вникает в бессмыслицу хмуро Участковый милиционер. («Кумачовый вальс»)Как ни странно, Галич, чья поэтика так или иначе восходит к первой половине XX века, демонстрирует в этих строках почти концептуалистское восприятие слова, которое на глазах начинает мутировать, — подобно тому, как ближе к финалу в ранних рассказах Владимира Сорокина тривиальная ситуация из типового соцреалистического рассказа вдруг превращается в макабрический ритуал, сопровождаемый заумными или труднопонятными словами-заклинаниями («прорубоно» в «Заседании завкома» или «помучмарить фонку» в рассказе «Геологи»[950]).
Название опубликованной в 1998 году работы Андрея Зорина «От Галича к Пригову»[951] было призвано продемонстрировать огромный путь, пройденный советской неофициальной культурой и советским неофициальным сознанием за 1970-е. Но это же название можно интерпретировать и иначе: как краткое описание вполне логичного и последовательного развития одного из направлений неофициальной культуры 1970-х, которое может быть условно определено этими двумя именами.
Еще одна постоянная черта героев Галича, кроме отчуждения от языка, — насильственная отделенность от прошлого, причем не только биографического («Караганда, или Песня про генеральскую дочь»), но и исторического. Один из самых важных сюжетно-композиционных приемов, характерных для галичевских баллад, — столкновение разных временных пластов, обычно — современности или периода 1930–1940-х годов, с одной стороны, и давно прошедшей эпохи, с другой. Ср. конструкции названий: «По образу и подобию, или, как было написано на воротах Бухенвальда: Jedem das Seine — „Каждому — свое“», «Песня пятая, которая поется и называется Ave Maria!», «На сопках Маньчжурии». Важнейшим структурным элементом в этих произведениях становится разрыв, отделяющий героев и самого автора от утерянного, имевшего смысл прошлого, и одновременно — от идеологизированного советского языка.
Обезьянка проснулась, тихонько зацокала, Загляделась на гостя, присевшего около, А Тамарка-буфетчица — сука рублевая, — Покачала смущенно прическою пегою, И сказала: «Пардон, но у нас не столовая, Только вы обождите, я за угол сбегаю…» «…Тихо вокруг, Ветер туман унес…» А чудак глядел на обезьянку, Пальцами выстукивал морзянку, Словно бы он звал ее на помощь, Удивляясь своему бездомью, Словно бы он спрашивал — запомнишь? — И она кивала — да, запомню. «…Вот из-за туч блеснула луна, Могилы хранят покой…» («На сопках Маньчжурии»[952]) А пронзительный ветер — предвестник зимы — Дует в двери капеллы святого Фомы. И поет орган, что всему итог — Это вечный сон, это тлен и прах! — Но не кощунствуй, Бах, — говорит Бог, — А ты дослушай, Бог, — говорит Бах. — Ты дослушай!.. …А у бляди-соседки гулянка в соку, Воют девки, хихикают хахали… Я пол-литра открою, нарежу сырку, Дам жене валидолу на сахаре. И по первой налью, и налью по второй, И сырку, и колбаски покушаю, И о том, что я самый геройский герой, Передачу охотно послушаю. («По образу и подобию, или […] „Jedem das Seine“»[953])Цитирование вальса «На сопках Маньчжурии» в соответствующей песне мотивировано тем, что его играл шарманщик, пришедший в кафе, где сидел оскорбленный Зощенко. Но за воспроизведением строк из песни стоял и более сложный намек, понятный тем, кто знал биографию писателя. Он был офицером — участником Первой мировой войны, награжденным пятью орденами за боевые заслуги. Его здоровье было подорвано в результате газовой атаки противника. Отказываясь согласиться с выдвинутыми против него обвинениями, Зощенко сказал в своей речи на заседании Союза писателей в 1954 году, что он, будучи участником двух войн, не может признать себя трусом[954].
Вальс «На сопках Маньчжурии», который действительно играли шарманщики, был написан Ильей Шатровым в 1906 году. Большинство слушавших этот вальс не знали, что он посвящен памяти солдат 314-го резервного Мокшанского полка, погибших при атаке на позиции японских войск во время Русско-японской войны, но текст в любом случае говорил о героях[955], павших вдали от родных мест и похороненных под экзотическим гаоляном[956].
В 1945 году, как хорошо помнил Галич, этот вальс часто передавали по советскому радио — шла недолгая война с Японией, и напоминание о прежних боях с этой страной стало частью государственной пропаганды. Меньше чем через год после победы советских и американских войск над Японией (2 сентября 1945 г.) было принято Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» (14 августа 1946 г.).
Травля Зощенко проходила «в тени» военных побед. Между репутацией страны-победительницы и страны, травящей одного из своих лучших писателей, возникал неустранимый зазор. Галич выразил его с помощью историзирующего монтажа, сталкивавшего мифологизированный язык «старой воинской чести» (текст и музыка вальса) и язык сталинской повседневности.
В мире, где травят Зощенко, может выжить и спастись только существо незаметное и умеющее молчать. Обезьянка, которая кивком обещает запомнить произошедшее с писателем, фактически повторяет обещание А. Ахматовой из предисловия (1957) к поэме «Реквием» (несмотря на то что поэма не была издана, Галич ее мог знать — он был знаком с Ахматовой и много раз пел у нее свои песни). Героиня поэмы говорит с неизвестной женщиной об очереди тех, кто стоял с передачами для заключенных:
— А это вы можете описать?
И я сказала:
— Могу[957].
Аналогично, в песне «…Jedem das Seine» противопоставлены два языка — высокопарно-поэтическое описание одного дня Иоганна Себастьяна Баха, чьим собеседником был Бог, и сниженно-сатирическое описание жизни советского обывателя, собеседниками которого оказываются только радиорупоры, транслирующие пропагандистские передачи. На стиховом уровне эти два языка противопоставлены с помощью разной каталектики: «баховские» куплеты написаны расшатанным логаэдом Aн+Я+Ан+Я или 4Ан со сплошными мужскими окончаниями, «советские» — чуть расшатанным анапестом (комбинация 4Ан мужск., 3Ан дакт.), поэтому на слух «баховские» куплеты воспринимаются как энергичные и сжатые, а «советские» на их фоне — как более «развинченные» и разговорные по интонации.
Возможно, композиционный прием «расщепления времен» был подсказан Галичу романом М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», опубликованным, как известно, в 1967 году (о генезисе такой «разновременности» действия см. выше). Но этому приему, вне зависимости от того, был ли он создан под чужим влиянием, Галич придал новое значение. В его балладах «давний» план всегда имеет условно-романтический или мифологический характер, а «современный» — всегда максимально конкретен, полон деталями вроде «валидола на сахаре», которые могут быть опознаны только современниками. Для сравнения: в «евангельских» эпизодах романа Булгакова создавалась иллюзия фактической точности, исторической достоверности, позволявшая «уравнивать» их со столь же скрупулезно воссозданной реальностью 1930-х.
Разрыв между советским человеком и его языком и между советским человеком и историей человечества в песнях Галича указывает на нереализуемость и в то же время на неотменимость личной утопии. Галич все время исходит из презумпции: существует универсальная, спасительная осмысленность, но советский человек от нее отчужден. Утерянную в истории цельность человеческого самосознания восстановить невозможно, но и перестать надеяться на нее нельзя. Этот обертон утопизма и модальность исторического долженствования принципиально отличают Галича от авторов неподцензурной литературы, которые не надеялись, как это делал Галич, совместить публикации в советской печати с домашними «неофициальными» концертами[958].
Илья Кабаков: монтаж как средство против тирании знаков
В конце 1960-х годов художник Илья Кабаков (р. 1933) выработал новый стиль — новый для себя и для российского искусства в целом. Он стал совмещать в рамках одного изображения нарочито схематичные повторяющиеся образы и надписи, содержательно никак с этими образами не связанные («Без названия», 1969), или составлять все изображение из надписей, сделанных каллиграфическим почерком. Такие картины напоминали таблицы с абсурдной комбинацией разнородных реплик («Ответы экспериментальной группы», 1971). Эти ранние картины Кабакова[959] — один из первых примеров русского монтажа, никак не соотнесенного с историософской проблематикой 1920-х.
Кабаков исследовал и демонстрировал стиль мутировавших визуальных языков. В их далеком прошлом угадывались плакаты А. Родченко и «типографика» Эля Лисицкого[960], но картины Кабакова соотносились с ними только формально — и через ряд опосредований, которые подробно описал сам художник:
…я сразу стал понимать свои картины, как только я стал их изготавливать, что они — определенный уже готовый идео- или изоязык (неважно — изображение перед нами или слово). Эти языки — «классический», «московский», «передвижнический», «западный современный» — в этом смысле все равны между собой (все одинаково они есть и все уже чужие), но между ними — как вообще в нашей стране — есть метаязык… «первый среди равных»: язык анонимной расхожей продукции, язык все интегрирующий, усредняющий… […] и, может быть, являющийся языком «всесмешения»… […] Это язык стендов, плакатов, пояснений и др.[961]
Монтаж в картинах и альбомах Кабакова — это соединение языков, которые являются одновременно «своими» (точнее, привычными) и «чужими» (то есть отчужденными). Соединение надписей с образами или другими надписями на картинах и в инсталляциях Кабакова, как заметил искусствовед Александр Раппопорт, напоминает — точнее, изображает — не ассоциативную, а логическую связь. Но это отношение элементов — не такая абсурдная цепь причин и следствий, на которой был основан рассказ Хармса «Связь», а скорее визуальное уравнивание произвольной и логической связи. Созданный в картине порядок произволен, он ничем не хуже и не лучше любого другого. Открытие этой произвольности входит в задачу зрителя[962].
Внутреннее время этого монтажа впервые с 1920-х годов предстает перед нами как не историческое и не биографическое. Оно может быть описано как состоящее из двух взаимосвязанных процессов.
Первый — это старение мутировавших знаков. Картины и инсталляции Кабакова, как он и объясняет в приведенном выше комментарии, во многом отсылают к стилистике разного рода бытовых документов и вторичного, эпигонского искусства. За образами такого рода зритель угадывает процесс вырождения и обессмысливания языка, предшествовавший созданию картины.
Однако меланхолия, выраженная нарочитой «мусорностью» стиля, не отсылает к разрушенной в прошлом первооснове человеческого существования, как это было у Солженицына. Согласно Кабакову и другим концептуалистам, любой язык частичен и поэтому не может выражать полноту смысла. Этим ощущением тотальной чуждости блокируется любая отсылка к языку первоначальной подлинности. «Вырожденное» выражение свидетельствует только о принципиальной неспособности персонажей Кабакова сказать «последнее слово» о своем положении в мире. Их клишированные реплики и абсурдные поступки создают ощущение мимолетности и хрупкости любого человеческого существования.
Переживание такой хрупкости как ценности и есть второй временной процесс, уравновешивающий чувство меланхолии от стареющих знаков.
В картинах и инсталляциях Кабакова выражено чувство, напоминающее важнейшую эмоцию японской синтоистской эстетики — моно-но аварэ (物の哀れ), «печальное очарование вещей»[963]. Но испытывать его предлагается от созерцания не разрушающихся домов или облаков в небе[964], а монтажей, объединяющих мусор или псевдодокументальные свидетельства жизни неизвестных людей и мимолетные замечания, то нецензурные, то, напротив, лишенные всякой агрессии («А Вы температуру мерили?»). Основой переживания становится не эмпатическое слияние с объектом, а чувство невозможности такого слияния.
Одновременно с меланхолией картины и альбомы Кабакова выражают интерес к чужой жизни и чувство освобождения от тирании знаков. Так как тирания знаков имеет историческое происхождение, произведения Кабакова могут быть описаны как исследование ткани исторического существования человека, «очищенное» от историософских спекуляций[965].
На протяжении всей своей художественной деятельности, продолжающейся и сегодня, Кабаков изобрел много новых форм монтажа. Одной из таких форм являются «псевдокопии»[966] картин соцреализма. Кажется, самая известная картина в этом жанре — «Проверена! На партийной чистке» (1981). Работа Кабакова представляет собой большой холст, на котором изображена альбомная страница со шрифтом конца 1930-х годов с помещенной посередине репродукцией типовой соцреалистической картины И. Алёхина с тем же названием, что и картина Кабакова. Под картиной на альбомном листе указаны премии, которые получил за свою работу Алёхин на выставке советского искусства в 1936 году.
В своих объяснениях художник подробно анализирует картину Алёхина, объясняя, что на уровне композиции она отсылает к традиционным католическим сюжетам о явлении Богоматери священнослужителям и народу (добавлю от себя: ср., например, картину Пьетро Перуджино «Явление Мадонны св. Бернарду» (1494)), а на уровне содержания — к античным мифам о жертвоприношении или о любовной связи человека и статуи — в данном случае бюста Ленина, который, как заметил Кабаков, на картине Алёхина внимательно рассматривает правое бедро «проверенной» женщины[967].
По словам Кабакова, картина Алёхина «исключает и не ведает стороннего взгляда на происходящее». Перерисовывая эту довольно примитивную работу вместе с альбомной страницей, художник словно бы берет картину в кавычки и тем самым создает перспективу для такого взгляда. Но это не собственные кавычки Кабакова, а использование в качестве кавычек первоначального пропагандистского «носителя» картины.
Картина «Проверена!» остраняет не только язык живописного соцреализма, но и — отдельно — язык его медиатизации. Встреча их в одном пространстве оказывается неожиданно конфликтной, так как соцреализм стремился заместить жизнь, а его медиатизация считалась второстепенной. Кабаков же ее подчеркивает. Для него в целом важна ситуация встречи зрителя с картиной, и он осложняет эту встречу, ставя почти столь же сильный акцент на носителе, как и на самой «копии».
Интеллектуальное понимание тех дискурсов и образных порядков, к которым отсылают фрагменты в аналитическом монтаже, соединяется у Кабакова с чувством меланхолии, вызванным фрагментацией и старением вербальных и невербальных языков, но также и с переживанием радикального отстранения от советской реальности, породившей эти языки, и гражданского гнева. Все эти эмоции в работах Кабакова «заморожены» анализом своих/чужих дискурсов в сознании субъекта, напоминающим гуссерлевскую феноменологическую редукцию, — но все же сохраняются в каждом его произведении и изредка прорываются в объяснениях художника.
В его знаменитой инсталляции «Туалет» (1992) в рамках одного небольшого помещения совмещены модель советского общественного туалета где-нибудь на вокзале или автостанции и обычной жилой квартиры. В авторском комментарии к этой инсталляции Кабаков пишет:
…Все имеет нормальный, будничный, «жилой» вид: со стола еще не убрали тарелки после ужина, пиджак висит на стуле… Жизнь идет обычным способом, живет здесь спокойная порядочная семья, которая, возможно, только на минуту вышла к соседям…
…Это «нормальная» жизнь в туалете…
Нужно ли еще объяснять, метафорой чего является эта инсталляция?[968]
Отсутствующий в автокомментарии ответ на риторический вопрос очевиден: «Туалет» — метафора советской жизни. Однако, прежде чем быть воспринятым как метафора, «Туалет» должен быть прочитан как комбинация метонимий, отсылающая к двум визуальным языкам, привычным для людей с советским опытом: заведомо «грязной» повседневной публичности и иллюзорно «чистого» приватного быта[969].
Произведение имеет автобиографический подтекст: в середине 1940-х мать художника Бейли Кабакова, будучи по довоенной профессии бухгалтером, вынуждена была устроиться в Москве уборщицей и за неимением другой комнаты жила вместе с сыном-подростком в неиспользуемом школьном туалете. Личная травма в произведении Кабакова оказывается принципиально неотличима от коллективной, и средством выражения этой неразличимости оказывается аналитический историзирующий монтаж. Здесь, в инсталляции, сделанной после конца советской власти, вновь очень важным становится представление о движении истории, нехарактерное для «классического» концептуализма, — об этом «возвращении истории» будет сказано в одном из следующих разделов.
Конец историософии?
На первом этапе развития, в период своих «бури и натиска», в 1970-е и начале 1980-х, русский концептуализм породил монтаж, «дематериализующий» любую историософию. Такая способность аналитического монтажа была актуализирована не только в живописном, но и в литературном концептуализме — в частности, в творчестве Вс. Некрасова, Д. А. Пригова, Льва Рубинштейна. Однако у монтажа концептуалистов была и другая сторона. Они восприняли собранные ими «вторичные» языки как своего рода порождающие грамматики, указывающие на будущие, не существующие пока возможности автора — и читателя или зрителя. Первый же цикл текстов, написанный Львом Рубинштейном в концептуалистской стилистике в 1975 году, назывался «Программа работ». Входящее в этот цикл стихотворение «Это всё» состоит из фраз, расположенных в алфавитном порядке.
Вот его часть от буквы Ж до буквы М, где очень важен постоянный контраст тех языков, к которым отсылают отдельные фразы. Словосочетание «это всё» относится неизвестно к чему, но, скорее всего, к еще не существующей эстетической практике, которая может сложиться в ближайшем будущем.
ЭТО ВСЁ —
— жертвенность, требующая обоснований;
— жесткость системы ограничений, не всегда соблюдаемая;
— жреческий диктат под видом предоставления полных прав;
— занятия, лишенные реального смысла;
— зерна невиданных предчувствий, пока безымянных;
— зимы, следующая одна за другой;
— игра возможностей, обусловленная ходом событий;
— иллюминация в честь безымянного торжества;
— искренность, нуждающаяся в доказательствах;
— карманное мифотворчество, дающее лишь временное умиротворение;
— ключ ко многому, но не ко всему;
— крайние случаи в роли повседневных;
— лавина предчувствий, обрушившаяся ни с того ни с сего;
— личное дело каждого, но никак не общее дело;
— ложность положений, не всегда фиксируемая;
— междуцарствие идей, узаконенное самим ходом событий…[970]
Будущее, описанное в этом тексте, однако — не общее, не телеологическое и даже не историческое: это будущее неопределенной, но заведомо ограниченной группы, вырабатывающей новые практики, и оно располагается не в исторической, а в социальной реальности, в которой общее будущее не отличается от общего настоящего; ср. указания на внеисторическую смену времен года («зимы, следующая одна за другой…») и навязчивые ссылки на абстрактный и, вероятно, не имеющий цели «ход событий».
Ранее в «Программе работ» Рубинштейн сделал два очень важных заявления — пусть и от лица игровых «авторов»:
Внимание!
В процессе разработки и реализации П.Р. (программы работ. — И.К.) Авторами приняты следующие решения:
[…]
— Воспринимать происходящее в процессе разработки и реализации П.Р. как Текст при постоянном пересмотре и фиксации его границ;
[…] — В основу организации Круга распределения внимания (Текста) положить принцип отказа от восприятия происходящего как суммы абсурдных проявлений жизни. — В связи с этим рассматривать об’екты текста как реалии, неизвлеченные и неизвлекаемые из круга их реального функционирования…[971]
Такая эстетика «отложенных смыслов» структурно напоминает философию утопического монтажа Эрнста Блоха, из которой, однако, «вынуты» гегельянские и коллективистские составляющие. Кроме того, Блох говорил о фрагментированной социальной реальности, а Рубинштейн показывает набор языковых осколков. И все же между методом раннего Рубинштейна и философией монтажа Блоха 1930-х годов просматривается «избирательное сродство», а именно — способность произведения указывать на непредсказуемое будущее и непредсказуемость состава самого произведения. Ср. в процитированном фрагменте стихотворения «Это всё» использование слова «предчувствие»: «…зерна невиданных предчувствий, пока безымянных…», «…лавина предчувствий, обрушившаяся ни с того ни с сего…».
Помимо отказа от гегельянства, у эстетики раннего Рубинштейна есть еще одно принципиально новое качество — она апеллирует к эмоциональному и иному телесно переживаемому опыту «автора» и «читателей». Определенные элементы этого опыта — хотя и далеко не все, как подчеркнуто в «Программе работ», — оказывается возможным объединить в меняющийся, невидимый, складывающийся во времени «Текст». Напомню об особой роли слова «текст» во влиятельной[972] в 1970-е годы структуралистской гуманитарной парадигме.
По сути, в «Программе работ» представлены сразу два монтажа. Во-первых, сам текст — монтаж развертывающихся во времени «сообщений» о работе «авторов», и в нем всячески подчеркнута временная природа монтажа. Во-вторых, монтажом можно считать тот невидимый Текст, который, как предполагается, сложен из элементов опыта «авторов» и «читателей». Этот Текст по своему интерсубъективному статусу — он «разделен» между возможными читателями — напоминает особого рода поле смыслового напряжения, которое возникало во время акций группы «Коллективные действия», в которых участвовал и Рубинштейн.
Всеволод Некрасов пришел к своей зрелой манере до того, как Лев Рубинштейн стал концептуалистом и начал создавать «Программу работ», и прежде, чем Д. А. Пригов получил известность как поэт (середина 1970-х), — еще в 1960-е годы. Однако именно на фоне и в контексте творчества концептуалистов 1970-х можно увидеть в поэзии Вс. Некрасова аналоги методу «языкового улавливания будущего». Формой «улавливания» становится графическое разделение текста на несколько параллельных равноправных «русел» — чаще всего на два, или многочисленные «сноски», которые читатель тоже может воспринимать как альтернативные варианты текста[973]. Иногда Некрасов наклеивал клочки бумаги с фрагментами собственных стихотворений на большие бумажные листы, составляя из них коллажи. Эта работа может быть описана как нечаянное развитие эстетических идей, представленных в «cut-ups» Берроуза и «уклейках» Улитина. Нечаянное — потому что Некрасов тогда, по-видимому, не знал ни о Берроузе, ни об Улитине[974].
Сосуществование вариантов в «разветвленных» стихотворениях Некрасова создает визуальное выражение не-единственности любого смысла. Сам поэт связывал образ двух «русел» стихотворения с взаимодействием двух полушарий головного мозга — очевидно, под влиянием известной книги Вяч. Вс. Иванова об асимметрии полушарий и знаковых систем[975]. Некрасов использовал этот прием и для демонстрации множественности переживаний от события, и для того, чтобы продемонстрировать столкновение разных дискурсов осмысления действительности — например, религиозного и политического.
Это А это знает один Один Бог знает Бог знает кто Как это бывает Как это было Что это нас так убивает Кто это его так убил Спроси Спроси Костю Богатырева у Бога покойного Это да И это тайна да Тайна Но это не та тайна[976]В целом можно сказать, что российский концептуализм в 1970-е годы пришел к монтажу не просто аналитическому, но психологизированному и темпорализированному, то есть «овремененному». Каждый из элементов монтажного образа, оставаясь анонимным, приобретал особого рода индивидуальность — того дискурса, который в нем был воссоздан, развенчан, спародирован и наделен воображаемой субъективностью — подобно тому, как карточки зрелого Рубинштейна позволяют «достроить» ситуацию и типажи участников диалога по одной только фразе вроде: «Кто не храпит? Ты не храпишь?», «Так и сказал: „Из КГБ“?» или «Причин на самом деле несколько. Во-первых, сама система…»[977].
Такое созидание «воображаемых голосов» в концептуализме было с необходимостью дополнено другим методом — созданием единообразных серийных композиций, в которых разные голоса, напротив, оказывались уравнены и стандартизированы. Наиболее радикальный эксперимент в организации таких серий — поэма Андрея Монастырского «Поэтический мир», стилистику которой Д. А. Пригов позже сравнил с серийным изготовлением порций еды в японском фаст-фуде[978].
Мао, Маяковский, монтаж: эксперименты западного авангарда 1960-х
Российская неофициальная культура в конце 1960-х и в 1970-е годы развивалась почти синхронно с инновативными движениями в странах Запада. Российские художники знали, хотя большей частью понаслышке, об эстетических экспериментах, осуществлявшихся по ту сторону «железного занавеса». И хотя влияния новейшего западного искусства в советском контексте переосмысливались и перерабатывались, можно говорить о некоторых общих тенденциях.
На протяжении 1960-х годов в США формировалось концептуальное искусство. Впервые слово «concept art» (еще не «conceptual») было введено в качестве нового термина американским музыкантом-авангардистом, художником, философом и общественным деятелем Генри Флинтом (р. 1940) в эссе, написанном в 1961 году[979] и опубликованном в авангардистском альманахе «Антология непредвиденных операций» в 1963-м[980]. На протяжении 1960-х к движению концептуального искусства присоединился целый ряд художников: Джозеф Кошут (р. 1945), ставший впоследствии самым известным концептуалистом, Лоренс Вайнер (р. 1942), британская арт-группа «Art & Literature», состоявшая из четырех человек и основанная в 1967-м, и другие. В 1967–1969 годах художник Сол ЛеВитт (1928–2007) обнародовал еще два манифеста — «Абзацы о концептуальном искусстве» и «Фразы о концептуальном искусстве»[981].
Важнейшей задачей искусства американские концептуалисты считали исследование языков, на которых произведение искусства обращается к зрителю и выражает идею, придуманную художником. Впервые в истории искусства концептуалисты сделали предметом изображения и рефлексии тот момент восприятия и переживания образа, в который знаковая составляющая, имплицитно присутствующая в каждом образе (ибо человеческое восприятие семантично по своей природе[982]), «отслаивается» от него и получает самостоятельное бытование — или, наоборот, тот момент, когда языковая структура начинает в человеческом сознании производить невербальный образ. Открытие этой промежуточной зоны как пространства, с которым может работать искусство, оказалось очень значимым в условиях «экспансии знаков», порожденной развитием общества потребления и массмедиа.
То, как концептуалисты представляли себе игру с «расслоением» языка и образа, хорошо видно на примере одного из самых известных произведений этого движения — инсталляции Дж. Кошута «Один и три стула» (1965). Рядом со стулом, стоящим в музейном зале, висят фотография этого же стула в натуральную величину и таблица, на которой скопирована в сильно увеличенном виде статья «Стул» («Chair») из толкового словаря английского языка.
В манифестах Флинта и ЛеВитта не упоминаются ни монтаж, ни аналогичные ему принципы. Однако из самих принципов концептуализма логически следует монтаж совершенно конкретного вида — аналитический. Любое концептуалистское произведение (и американское, и советское, и какое бы то ни было еще) основано на явно или скрыто выраженном конфликте визуальных языков или дискурсов, использованных в произведении, — и тех, которые должны были бы в нем использоваться в соответствии с социальными и культурными конвенциями. Например, Дж. Кошут выставлял во второй половине 1960-х в качестве картин сильно увеличенные фотокопии статей из толковых словарей («Water», «Type», «Sisyphus», «Form»)[983] — но напечатанные, как негатив, белыми буквами на угольно-черном фоне (цикл «Art As Idea As Idea»). Здесь использовались не только наличный визуальный язык, но и два подразумеваемых, и созданный Кошутом образ конфликтовал с обоими этими «виртуальными языками»: 1) привычно предполагать, что на картине будет изображен предмет, а не его описание, 2) привычно предполагать, что «служебный» текст — как, например, в словаре — печатается черными буквами на белой бумаге. Здесь же картинка заменяется текстом, но и текст обнаруживает необычные визуальные признаки, оказываясь таким образом объектом, промежуточным между «обычным» текстом и невербальным фотографическим или живописным образом.
Концептуалисты регулярно использовали не только скрытый конфликт языков, но и их столкновение в монтажном образе, как, например, «Один и три стула», а в более поздних работах — издевательский «пересказ» такого конфликтного паратаксиса. Подобным «пересказом» можно считать работу одного из основателей американского концептуализма, Лоренса Вайнера, созданную в 2005 году. На стену арт-центра Уолкер в Миннесоте Вайнер нанес огромную надпись: «Кусочки и осколки, положенные рядом, чтобы создать впечатление целого» («Bits & pieces put together to present a semblance of a whole»)[984]. Буквы в словах «кусочки» и «осколки» прорисованы контуром внутри белой заливки, а в остальных словах — написаны обычным образом, то есть перед нами — два контрастных типа записи.
Еще одним влиятельным автором, пришедшим к аналитическому монтажу в 1960-е годы, стал французский кинорежиссер Жан-Люк Годар (р. 1930). Один из первых примеров такого метода в его творчестве — фильм «Жить своей жизнью» (Vivre sa vie, 1962). Формально это — история молодой парижанки Наны, которая расстается со своим бойфрендом и от безденежья решает стать проституткой. Но в действительности фильм гораздо более эксцентричен, чем описанный здесь сюжет, и основан на контрасте дискурсов и художественных языков. Уже имя героини отсылает к роману Э. Золя «Нана» (1880). Далее, героиня первоначально хочет стать актрисой, но после просмотра фильма Карла Дрейера «Страсти Жанны д’Арк» понимает, что никогда не сможет играть как исполнительница заглавной роли в этом фильме, Рене Фальконетти, и начинает зарабатывать более простым способом. Помимо цитат из фильма Дрейера, чей «средневековый» антураж резко контрастирует с современным Парижем, в опус Годара включены документальная запись беседы о языке между режиссером и известным французским философом и эссеистом Брайсом Пареном (1897–1971) и длинная сцена чтения стихотворения Эдгара По «Овальный портрет» в переводе Ш. Бодлера. Стихотворение за кадром читает Годар, хотя в самом кадре действует актер, обращающийся к Нана, которую играет Анна Карина, жена режиссера. Все это совмещение разных визуальных и звуковых языков создает новый подход к киноизображению.
Использование радикальных эстетических методов в «западном» искусстве 1960-х в некоторых случаях сопровождалось ссылками на опыт советского авангарда 1920-х годов. Так, в ранний период своей деятельности автор термина «concept art» Генри Флинт регулярно выступал с обвинениями против арт-институций, доказывая, что галереи отчуждают искусство от людей. Он призывал в своих статьях рассылать в музеи кирпичи и устраивать демонстрации перед входами в здания художественных экспозиций. 28 февраля 1963 года он выступил в студии своего друга, композитора и скульптора Вальтера де Мария (1935–2013) с чтением манифеста «От культуры к вдохновенному действию» («From Culture to Veramusement»[985]). На фотографии Флинта, сделанной в этот день Дайаной Ваковски, хорошо видно, что арт-активист выступает в специально подготовленном пространстве: вокруг него размещены листы с лозунгами наподобие «Demolish Lincoln Center!», а над ним — портрет Владимира Маяковского. Это — очевидная легитимация высказываний Флинта через традицию, заданную стихотворением Маяковского «Приказ № 2 по армии искусств» (1921):
Бросьте! Забудьте, плюньте и на рифмы, и на арии, и на розовый куст, и на прочие мерехлюндии из арсеналов искусств. Кому это интересно, что — «Ах, вот бедненький! Как он любил и каким он был несчастным…»? Мастера, а не длинноволосые проповедники нужны сейчас нам. […] Пока канителим, спорим, смысл сокровенный ища: «Дайте нам новые формы!» — несется вопль по вещам[986].Годар апеллировал не просто к искусству 1920-х, но непосредственно к традиции советского монтажа. В 1966 году вместе с режиссером Жаном-Пьером Горэном и еще несколькими левыми кинематографистами он создал творческую группу «Дзига Вертов», просуществовавшую до 1972 года. Первые манифесты группы[987] по своему языку и по типу аргументации прямо отсылают к статьям Вертова и Бертольта Брехта, в которых монтаж обосновывается как революционный марксистский метод. Однако уже по первым фильмам, снятым группой, видно, что монтаж Годара и Горэна имеет совершенно иной характер, чем в работах советских режиссеров или пьесах Брехта. Как и в фильме Годара «Жить своей жизнью», режиссеры обращают особое внимание на изображение как элемент определенного языка.
В 1969 году, вскоре после вторжения войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию, Годар вместе с Жаном-Анри Роже снимает в этой стране фильм «Pravda»; название этого фильма по-чешски и по-русски означает одно и то же, но по-чешски это слово записывается латиницей. Фильм был включен в общую фильмографию группы «Дзига Вертов». В закадровом тексте Годар доказывает — в духе риторики китайских маоистов, в ту пору высоко ценимых французскими леворадикальными интеллектуалами, — что в ЧССР нет социализма, а есть государственный эксплуататорский капитализм, находящийся в орбите культурного влияния США и под политическим контролем «советского империализма» (цитата из закадрового текста).
Одна из важнейших особенностей фильма — контраст языков изображения: документальные сцены из жизни рабочих и крестьян перемежаются черно-белыми фрагментами передач чехословацкого телевидения (ср. столкновение цитат из Дрейера и кадров самого Годара в более раннем фильме «Жить своей жизнью»), а присутствие американской культуры демонстрируется с помощью крупно показанных логотипов. Чтобы показать маоистское происхождение концепции фильма, Годар вновь прибегает к аналитическому монтажу: в финале «Правды» звучат, накладываясь друг на друга, китайская «революционная» песня для хора с оркестром и «Интернационал», который исполняет по-французски сам Годар.
Дзига Вертов в фильме «Человек с киноаппаратом» остраняет специфически медийную природу киноизображения — см. сцену в кинозале, которая может быть сочтена открывающими фильм «кавычками», — но ничего подобного показу контраста визуальных языков ни в этом его фильме, ни в других произведениях, кажется, нет. В целом можно сказать, что ссылки на Вертова и Брехта обосновывают не столько монтажные принципы Годара, сколько его левую политическую риторику[988].
Аналитический монтаж далеко не всегда сопровождался отсылкой к советским 1920-м, но такие отсылки были вполне возможными. Они постепенно становятся все менее заметными в начале 1970-х, одновременно с их исчезновением в СССР, хотя на западных художников советские цензурные ограничения не распространялись. Произошло это потому, что события 1968 года — прежде всего интервенция в Чехословакию и студенческие волнения во Франции[989] — привели к быстрой утрате веры в «большие» историософские объяснительные схемы, такие как социалистическая революция или неуклонно развивающийся научно-технический прогресс. Кризис «больших нарративов»[990] сделал ссылки на продуктивность «русского эксперимента» исторически бессмысленными.
Ощущение изменившегося «режима историчности», по-видимому, охватило в начале 1970-х людей с очень разным темпераментом, живших по обе стороны «железного занавеса». Одним из показателей этого общего сдвига становится интерес к монтажным образам, использующим неподвижные изображения, из которых автор словно бы «распаковывает» время «большой» истории. Ж.-Л. Годар и Жан-Пьер Горэн в 1972 году снимают экспериментальный фильм «Письмо к Джейн». Годар сам написал и прочитал его закадровый текст — анализ фотографии знаменитой голливудской актрисы Джейн Фонда, сделанной во время ее встречи в Ханое с жителями Северного Вьетнама, с которым ее страна — США — в этот момент воевала. Комментарий написан в виде длинного открытого письма к Фонда. Визуальный ряд фильма — неподвижная фотография, которая периодически появляется на экране на несколько секунд и вновь сменяется черным экраном примерно на полминуты. В закадровом тексте Годар интерпретирует фотографию как «сжатый», концентрированный знак вхождения бывших колониальных народов в мировую историю как самостоятельных акторов. Это вхождение — явление «длинного» исторического времени (термин французского историка Фернана Броделя), противостоящее безвременью американо-северовьетнамской войны.
Тарковский, режиссер, предельно чуждый Годару по интонации, по задачам, по отношению к искусству, в этот же период постоянно прибегает к цитированию картин европейских мастеров, неподвижно возникающих на экране и придающих действию надвременной, надисторический смысл — в фильмах «Солярис» (1972) и «Зеркало».
Еще один автор, прибегающий уже не к демонстрации картины, а к включению в монтажное стихотворение экфрасиса, описывающего такую картину как историчный знак, — Давид Самойлов. В 1973 году он пишет стихотворение «Свободный стих» — это уже не первый его верлибр с этим названием. Как справедливо замечает критик и историк литературы Андрей Немзер, Самойлов ресемантизировал название «свободный стих», превратив его из указания на стиховедческие характеристики текста в своего рода квазижанр[991]. Это исторически важное, хотя и шутливое по тону стихотворение написано с использованием монтажных приемов нового типа: в нем намеренно смешаны приметы разных эпох. Их столкновение (конфликтный паратаксис) и выполняет функции монтажа.
В третьем тысячелетье Автор повести О позднем Предхиросимье Позволит себе для спрессовки сюжета Небольшие сдвиги во времени — Лет на сто или на двести. В его повести Пушкин Поедет во дворец В серебристом автомобиле С крепостным шофером Савельичем. […] Читатели третьего тысячелетия Откроют повесть С тем же отрешенным вниманием, С каким мы Рассматриваем евангельские сюжеты Мастеров Возрождения, Где за плечами гладковолосых мадонн В итальянских окнах Открываются тосканские рощи, А святой Иосиф Придерживает стареющей рукой Вечереющие складки флорентинского плаща[992]Указание на ядерную бомбардировку Хиросимы и «нас», рассматривающих «евангельские сюжеты», делает скрытым центром сюжета современность, пронизанную страхом и чувством психологической травмы: если Хиросима — знак перелома времен, то «Послехиросимье» — это время, когда у сверхдержав есть ядерная бомба и люди боятся ее применения. Стихотворение имеет историософски-компенсаторный смысл: Самойлов в нем — пусть и иронически отстраняясь от своих слов — восстанавливает движение истории, соединяя элементы разных эпох в одном бриколаже и затем объявляя этот бриколаж историческим по своему содержанию — таким же, как картины мастеров Возрождения, посвященные вневременным евангельским сюжетам.
Конец 1980-х — 2000-е: «телесная» реанимация истории
В СССР переживание кризиса «больших нарративов» до конца 1980-х имело особо острый характер. Чувство их исчерпанности сложилось в СССР тогда же, когда и на Западе — в начале 1970-х. Об этом свидетельствуют футурологические работы диссидентов: «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (июнь 1968[993]) А. Д. Сахарова и «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» (1969) А. А. Амальрика. Однако «большой нарратив» советской истории оставался принудительно навязываемым дискурсом власти, и любые попытки его публичного оспаривания или подрыва карались репрессиями — от увольнения с работы до заключения в лагерь[994]. Уклонение от этого «большого нарратива» в 1970-е годы осуществлялось с помощью языков частного общения, а в публичном словоупотреблении — с помощью «приватных субверсий», при которых в стандартные риторические конструкции вкладывалось новое содержание[995]; впрочем, в публичном пространстве такие субверсии могли привести к разного рода неприятностям. В целом это уклонение никогда не было последовательным, если только человек не изобретал для себя искусственно сконструированную интеллектуальную позицию, при которой его сознание становилось бы предметом отстраненного анализа так же, как и сознание других советских людей.
Но такую практику было бы точнее назвать уже не уклонением, а скорее «гражданским неповиновением» господствующему (и в социальном, и в политическом смысле) нарративу. Примерами такого «неповиновения» были разные типы неподцензурной эстетики, основанные на рефлексии языкового употребления (творчество П. Улитина, концептуализм, поэзия Е. Сабурова, М. Айзенберга, В. Кривулина, А. Драгомощенко, Е. Шварц, О. Седаковой и др.), или критическое исследование сознания в философии М. Мамардашвили, А. Пятигорского или Д. Зильбермана (впрочем, последние два в 1970-е годы эмигрировали).
Перестройка первоначально привела к карнавальному смешению публичного дискурса, который мертвел на глазах (так как все меньше поддерживался давлением репрессивной системы), с частными языковыми практиками. Это смешение привело к эпидемическому распространению шуток, карикатур, художественных произведений, обыгрывающих такое нарушение прежде нерушимых языковых конвенций — как, впрочем, и вообще очень жестких границ между разными сферами жизни в СССР[996]. Такого рода шутки часто бывали очень похожи на «домашние» варианты концептуалистских работ — но и специфически концептуалистская ирония в эти годы стала понятной гораздо большей аудитории, чем прежде. Массовое интеллигентское сознание было, можно сказать, инфицировано стихийным концептуализмом. Этот процесс стал возможным потому, что в этот период идеологические знаки стали восприниматься именно как знаки, имеющие конвенциональный смысл и всегда чреватые насилием.
«Лобовое столкновение» дискурсов в искусстве периода перестройки часто принимало форму монтажа, но этот монтаж был, если можно так сказать, непредумышленным: чаще всего он оказывался следствием не анализа тех или иных языков или продуманной эстетической позиции, но просто результатом наблюдений над «сорвавшейся с петель» языковой и социальной реальностью. Монтаж в искусстве возникал из необходимости запечатлеть семиотику повседневной жизни, превратившейся в алогичный (с советской точки зрения) ассамбляж частного и публичного. Впрочем, некоторые авторы, генетически связанные с неподцензурной литературой, научились демонстрировать этот ассамбляж с помощью концептуалистской техники анализа языков — например, поэты Нина Искренко и Владимир Друк.
СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА ПОНЕСЛА Мы долго ждали этого момента Все волновались вдруг не будет прецедента А тут она взяла и понесла И словно по команде в тот же час вдруг ПОНЕСЛА СОВЕТСКАЯ НАУКА Мы все гадали в чем здесь подоплека и есть ли недвусмысленная связь […] А к пятнице стряхнули скорбь с чела и выдали талоны на печенье Общественность вздохнула с облегченьем и встала в очередь. Да там и понесла (Н. Искренко, «СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА ПОНЕСЛА…»[997])Стихотворение основано на столкновении разных смыслов слова «понесла» в публичном и частном словоупотреблении: в частном — «понесла из магазина» нечто дефицитное, что туда завезли, и «забеременела» (значение, в 1980-е годы уже воспринимавшееся как устаревшее, но все же известное всякому хоть сколько-нибудь образованному человеку из классической литературы), в публичном — часть клишированного оборота, начинавшего советские некрологи в прессе: «Советская культура/наука понесла тяжелую утрату…»
Между давлением господствующего нарратива и всеми публичными языками советского времени (а часто — и приватными) у чутких людей образовалась аффективно окрашенная ассоциативная связь. После краха советской власти в 1991 году эта связь позволяла опознать советские языки как историчные и репрессивные по своему характеру. В 1970-е годы обе эти особенности советских языков могли быть предметом анализа — например, в вынужденно подцензурных работах М. Чудаковой и неподцензурных исследованиях филологов-эмигрантов[998], — но только после 1991 года они стали предметом отстраненного переживания, как элемент прошлого.
Едва ли не первой эстетической реакцией на этот уход советского языка в прошлое стал эксперимент в области монтажа — уже совершенно осознанный и даже демонстративный. В том же 1991 году ленинградский неофициальный кинокритик Олег Ковалов (р. 1950) выпустил фильм «Сады скорпиона». В 1980-е годы Ковалов изредка снимался в советском кино, но в художественных кругах Ленинграда больше всего был известен в другом качестве — как лектор, выступавший в кинотеатре «Спартак» перед показами труднодоступных западных фильмов, не демонстрировавшихся в СССР по причине излишне сложной эстетики или «неправильного» мировоззрения режиссеров[999].
Ковалов не снял «Сады скорпиона» в обычном смысле слова, а смонтировал из фрагментов советских художественных, документальных и научно-популярных кинокартин, в диапазоне от эйзенштейновского «Броненосца „Потемкин“» до учебного фильма 1960 года «Алкогольные психозы».
Метод Ковалова внешне похож на «Обыкновенный фашизм» Ромма, но различие результатов — разительное. Никакого рационального объяснения советского феномена в фильме нет, но есть последовательная демонстрация аффективной связи между репрессивным давлением и любыми языками советской публичности. Фильм основан на чередовании нескольких контрастных лейтмотивов: это 1) образы людей, с которыми обращаются как с сумасшедшими или преступниками — арестовывают, допрашивают, судят, подвергают медицинским процедурам в психиатрической лечебнице («на самом деле», то есть исходно, это актеры, изображающие алкоголиков в советском учебном фильме для врачей), 2) кадры с изображением пустыни, песчаных бурь и откапыванием из-под песка костей динозавров, и 3) изображения советской повседневности — труд рабочих на заводе, уличные сценки и т. п.
Наибольшее количество сцен в «Садах скорпиона» взято из одиозного советского кинодетектива «Случай с ефрейтором Кочетковым» (режиссер Александр Разумный, 1955), повествующего о том, как невеста некоего ефрейтора была изобличена сотрудниками КГБ как иностранная шпионка, но ефрейтор по просьбе руководивших им «чекистов» продолжал как ни в чем не бывало готовиться к свадьбе, чтобы дать им возможность арестовать девушку и ее мать — она тоже оказалась лазутчицей «врага».
Центральная сцена «Садов скорпиона» сталкивает неоклассическую статую и угрюмо набычившийся[1000] скелет динозавра, которые с помощью монтажа представлены находящимися в одном помещении; важно также, что оба этих предмета — белые, проступающие из полутьмы. Этот кадр, по-видимому, призван показать, что советские визуальные языки конфликтно соединяют в себе черты эстетически завершенного симулякра и готового к насилию монстра.
Монтаж Ковалова еще несет на себе очевидное влияние раннего концептуализма — репрезентированная в фильме травма является не личной и не общей, а обобществленной, «неважно чьей». «Сомнамбулический», несколько замедленный ритм «Садов скорпиона» и вторжения хроники в художественные съемки (пусть эти съемки и сделаны не Коваловым, а взяты из других фильмов) явственно напоминают «Зеркало». Но старение языков в фильме уже постепенно теряет тот вневременной, мифологический характер, который был ему придан — хотя и совершенно по-разному — в произведениях Тарковского и Ильи Кабакова советского времени. Об историзации говорят и образы палеонтологов, и кадры со скелетами динозавров. Еще одна важная деталь — кадры с изображением Хрущева, который почти не упоминался в «брежневскую» эпоху. В 1991 году эти кадры воспринимались уже не как нарушение табу — но еще как напоминание о том, что это табу существовало и что советский язык, таким образом, был историчным, а не вечным[1001]. «Сады скорпиона», как и инсталляция Кабакова «Туалет», открывают новый период — историзирующего монтажа.
Вероятно, причинами этого поворота к историзации были не только отмена цензуры и уход советской власти в прошлое. В новых работах ведущего американского концептуалиста Джозефа Кошута тоже заметен поворот к восприятию языка как исторического явления — хотя и без акцента на его репрессивную природу или репрезентацию травмы. В 1990 году Кошут установил памятник французскому лингвисту, расшифровавшему египетские иероглифы, Франсуа Шампольону, в его родном городе Фижаке. Памятник представляет собой огромную копию Розеттского камня с тремя видами письма, который помог Шампольону сделать его открытие, положенную плашмя во дворе дома, где родился ученый. В 2007 году концептуалист установил в Венеции временную инсталляцию «Язык равновесия» («The Language of Equilibrium»): армянскую церковь Святого Лазаря (на острове Сан-Ладзаро дельи Армени, XVIII век) и часть парапета над каналом перед этой церковью он покрыл неоновыми, светящимися по ночам надписями золотого цвета, копирующими старые шрифты — на армянском, итальянском и английском языках[1002].
Другие американские концептуалисты (например, Вайнер) по этому пути историзации не пошли. Однако все же работы «позднего Кошута» полезно сравнить с творчеством постсоветского Кабакова и в целом с постсоветским развитием концептуализма. По-видимому, уже изначально в концептуалистской «феноменологической рефлексии языка» была заложена возможность восприятия языка как погруженного в историю, которая могла быть актуализирована при определенных обстоятельствах — а именно при переживании «возвращения истории» после начала перестройки в СССР и антикоммунистических революций в Восточной Европе.
Постсоветское время стало периодом возвращения в русскую культуру исторического сознания, но в гораздо меньшей степени — идеи современности. Словесность и пресса 1990-х были просто-таки переполнены образами личной, приватизированной истории — часто представленной как насилие: мемуары о советском времени, постмодернистские исторические коллажи (самый известный из таких коллажей в литературе — роман Владимира Шарова «До и во время», написанный в 1980-е, но завершенный и впервые опубликованный в 1993 году), научно-популярные и паранаучные книги с версиями более или менее радикального пересмотра устоявшихся исторических объяснений… Однако той частью литературы, которая в советское время была легальной — в том числе и «либеральным» ее крылом, — постсоветская современность была воспринята как разрыв с прошлым и катастрофический распад «большого» социального целого, следовательно, как очень травматичная и внеисторическая по сути реальность.
Модальностей ее изображения в бывшей легальной литературе было две: современность воспринималась как «разгул криминала», то есть социальная аномия, или как антропологическая катастрофа. Первому типу изображения современности соответствуют детективы и боевики из новой постсоветской жизни, получившие огромную популярность в 1990-е годы[1003], второму типу — роман Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1997). Изображаемая в этих произведениях действительность была настолько диссоциированной, что никакие приемы монтажа в ней использованы быть не могли — наоборот, повествование должно было собирать для читателя «осколки разбитого вдребезги» (выражение А. Аверченко, описывающее самосознание эмигрантов «первой волны» в первые послереволюционные годы).
Новый образ современности создавался в тех ее направлениях, которые были генетически связаны с неподцензурной словесностью[1004]. Авторы неподцензурной литературы воспринимали период 1990-х как один из многих травматических разломов в истории XIX–XX веков, а трансформацию общества интерпретировали скорее как движение в сторону усложнения, а не распада. Для представления такой реальности была создана — или, точнее, стихийно сложилась — новая форма аналитического монтажа, в котором каждый язык был представлен как пронизанный аффективными следами переживаний и в то же время отчужденный от автора и неподвластный окончательному присвоению.
Эксперименты по разработке такого монтажа вели на протяжении 1990–2010-х годов авторы самых разных поколений — от молодых поэтов круга альманаха «Вавилон» до прозаика, автора исторических романов, публиковавшегося и в советские годы Юрия Давыдова (1924–2001), который в 1990-е резко сменил манеру и приблизился по стилю к представителям прежней неподцензурной литературы. В его произведениях, написанных в 1990-е, — повести «Зоровавель» (1994) и романе «Бестселлер» (1997–2000) — сталкиваются события, произошедшие в разное время и в разных странах, но, что еще важнее, языки личной и исторической памяти остраняют и взаимно «подсвечивают» друг друга, демонстрируя, что заключенное в истории насилие неотделимо от памяти и преемственности, поэтому «проснуться» от истории, как надеялся герой Джойса Стивен Дедал, невозможно. Можно лишь соединять, строить динамические узоры из моментов боли, напряжения и узнавания, которые могли быть пережиты разными людьми. Рассказчик — лишь один из них, не обладающий монополией на эти моменты. Он может свидетельствовать, что чувствует себя неразрывно, кровно связанным с жертвами провокаций, предательств и террора прошлого — и наследником их разоблачителей.
Согласно Давыдову, и жертв, и палачей, и провокаторов можно назвать, но насилие от этого не прекращается. Называть нужно, это — этический долг, но его результат бесконечно откладывается на будущее, подобно тому как откладывается значение смешанного монтажного образа.
Роман без снов не полон, как и человек.
В заливе мылся мыс, он назывался Лисий; залив был Финский. На Лисьем люди вешали людей. И каждый числил в нелюдях другого. Скрипели сосны, длинные и тонкие, как у меня за окнами, здесь, в Переделкине. Над их вершинами рассвет размыл иллюминаторы, чтобы дежурный ангел, пролетая, видел виселицы, висельников, их палачей и безутешность иудейки Манечки Азеф. Побитая каменьями, с обритой головой, нетвердо, косолапо она бредет за каждым, кого предал ее любимый брат. Опять, опять, опять петля, петля, петля. Раскачивает эти петли четкий, четкий, четкий звук поездов…
И я пропел во сне и сам себя услышал: «Не спеши, паровоз, не стучите, колеса…» Везли невесть куда. Меж нами был старик. Он злобно шамкал: «Они мне дали десять лет, а я вот хрен им досижу». Мы обнимали старика, смеялись. Не так ли, Женя? Тебя, артиллериста, не убили на безымянной высоте, на всех дорогах вплоть до города Берлина, и ты, бывало, говорил: «А чтоб меня убили, они у нас еще поплачут». Ты, подполковник Черноног, ты мертв, а бывший лейтенантик жив. Осмелюсь доложить: не плачут, нет. Пускай, мол, каются жиды. Коммуняки в Думе не встают почтить убитых в зонах[1005]. И жаждут снова сунуть нам червонец, а то и четвертак. А я вот хрен им досижу!.. Слюною брызжет сын юриста: «Арестовать! Арестовать!» Ведь что обидно, Женя-друг? Засрала шушера Лефортово, смешавшись в кучу без жемчужин. То ль было-то при нас?..
Тут голова моя с подушки соскользнула в корзину гильотины. Желтела плешь, ну, словно бы верхушка дыньки, когда-то названной «колхозница». А кучерявый сын юриста по лысине моей — вприхлест фуражкой Тельмана: «Заткнись! Заткнись!» И я очнулся с мыслью об Азефе.
(«Бестселлер»[1006])«Сын юриста» — намек на политика — русского националиста В. В. Жириновского, который в ответ на заданный ему в телевизионном ток-шоу (1991) вопрос о национальности, чтобы не отвечать «еврей», сказал, что мать у него была русская, а отец — юрист. Высокая шапка с козырьком, которую часто носил Жириновский в 1990-е годы, напоминала высокую фуражку, любимый головной убор лидера немецких коммунистов 1920-х годов Эрнста Тельмана (1886–1944), убитого в концлагере Бухенвальд. Для Давыдова важно монтажное столкновение медийной скандальной фигуры, призывающей к насилию, и напоминания о политическом насилии в прошлом.
«Бестселлер», по которому назван роман, — это «Протоколы сионских мудрецов», фальшивка, разоблаченная сначала усилиями журналистов, потом юристов (на Бернском процессе 1934–1935 годов), но даже сегодня сохраняющая убедительность для тех, кто готов верить в «мировой еврейский заговор». Главные герои произведения Давыдова — это сам автор и Владимир Бурцев, русский революционер, журналист и правозащитник, одним из первых доказавших поддельный характер «Протоколов».
Элеонора Лассан показала, что «Бестселлер» может быть описан как особого рода автобиография[1007]. В его основе лежит «блендинг — смешение концептуальных [языковых] пространств».
«История в романе Давыдова предстает как текст в буквальном понимании слова: она демонстративно воспринимается через тексты, созданные предшественниками автора. Их голоса накладываются друг на друга:
„Пример мой — всем наука. На скорой увезли в реанимацию. Там смерть юлит воровкой. Меня загородили ширмой — и я лежал в долине Дагестана с винцом в груди. В день без числа разорвалась завеса“[1008].
…Здесь изображение становится стереоскопичным: взгляд устремляется от мира в больничную палату, отдаляется от нее через наречие „там“ и далее перемещается на „Кавказ, в долину Дагестана“. „Хронотоп“ перестает быть больничным, расширяясь в пространстве через обилие названных локусов и времени благодаря голосам, звучащим из других веков»[1009].
Получившийся у Давыдова результат можно назвать стернианством наоборот. Ироничное по тону повествование, как в стернианской традиции, словно бы ненароком перепрыгивает из одной страны в другую, но связкой между эпизодами становится не прихотливый выбор повествователя, а существующая вне и до него перекличка между эпохами, пронизанными насилием, — от I века н. э., когда Иуда предал на распятие Иисуса Христа, до XX века — времени Холокоста и государственного террора. Именно в силу сходства ситуаций повествователь может иронически, но и серьезно говорить о непредвиденном историческом родстве между трудносопоставимыми персонажами — например, апостолом Лукой и советскими «шестидесятниками»: «Сие ценил св. Лука. В 60-х нашей эры, сопровождая Павла, писал он и дорожные заметки, и Евангелие. Каков шестидесятник! В отличие от прочих, он не кончается, он с нами навсегда!»[1010]
Глава 11 Между историей и медиа
В 1990–2010-е годы монтаж не является центральным языком культуры и не маркирует произведение как «современное», но входит в число важнейших эстетических методов. Однако в этот период он оказался переосмыслен сразу по нескольким направлениям. Несмотря на существование общих закономерностей, описанных во Введении, все же можно сказать, что семантика монтажных методов в современном искусстве, в том числе и в русском, чрезвычайно разнообразна. Эта множественность обусловлена тем, что в новейшее время в культуре произошли сразу три поворота:
1) изменение представлений о «я» и телесном опыте;
2) разрыв с «коротким» (или «долгим») XX веком — не формальный переход к новой эпохе, а именно травматичный во многих отношениях исторический перелом от XX века к периоду глобализации, в который национальные государства играют меньшую роль, чем прежде, а международные феномены, от глобальных корпораций до терроризма, — бóльшую;
3) появление новых медиа (Интернет и социальные сети), тоже межкультурных по самому типу своего функционирования.
Эти повороты не связаны напрямую, но они произошли в одном и том же культурном регионе — европейско-североамериканском — и в равной степени затронули самоощущение многих людей. Для их осмысления оказались нужны монтажные методы.
Дальнейшее изложение будет построено как описание переосмысления монтажных методов в русской культуре, осуществленного в ответ на каждый из этих переломов.
Изменение телесного и эмоционального самоощущения «я» в современном мире описано многими теоретиками. Для целей этой книги адекватнее всего обратиться к новой работе философа Юлии Кристевой «Об аффекте, или „Интенсивная глубина слов“» (2010)[1011]. Кристева предлагает помыслить человека как совокупность аффектов — психических импульсов, направленных на внешние объекты, в том числе и на другого человека во всей его инаковости. По мнению философа, современный человек в силу воздействия разного рода стрессов и стремления к до-вербальному, до-словесному комфорту постоянно находится на грани того, чтобы регрессировать от сложной психической жизни к чистой совокупности аффектов[1012]. Задача нынешней философии и психологии — в том, чтобы осмыслить творческие возможности этого «аффективного бытия».
Кристева показывает, что произведения католических святых Средневековья и раннего Нового времени говорят об упорядочении этого ансамбля аффектов. «Барочная революция» XVI–XVII веков «сделала из каждого тела, звука и света точку бесконечного, воздействие бесконечного»[1013] — в том числе и благодаря мысли святых. Произведения святых XVI–XVII веков позволяют произвести «реорганизацию», упорядочение аффектов, из которых состоит человек. Эта трансформация имеет одновременно эстетический и этический смысл.
В трактовке Кристевой важно, что каждый аффект индивидуален и является «точкой схода» психического и физиологического, но сам по себе ни один аффект не полностью «принадлежит» определенному человеку. Такой аффект функционально похож на импульсивную запись в микроблоге, которая поступает во всеобщее пространство Интернета. Сам же Интернет оказывается подобием «хоры», которую описывает Платон в диалоге «Тимей», — мирообъемлющей среды, которая по своему онтологическому статусу находится посередине между бытием и возникновением. «Хора — это именно то место, в котором происходит переход от умозрительного к материальному, где идея отпечатывается в материи, это место, позволяющее осуществиться материализации идеи»[1014].
В таком случае монтаж оказывается необходимым для того, чтобы сначала представить совокупность индивидуализированных аффективных следов. Каждый из лежащих в их основе аффектов порожден психической травмой, которую кинематографист, художник или поэт может «прочитать» как социальную или историческую по своему смыслу. Особую отчужденность этих аффектов — сами они индивидуализированы, но не указывают на определенную личность — можно полностью увидеть только с распространением социальных сетей, но открыта она была до появления Интернета как общедоступной коммуникативной среды. В русской литературе свидетельством такого открытия является стихотворение Нины Искренко «Фуга», написанное в 1985 году[1015]. Микронарративы повседневных эмоциональных переживаний и телесных ощущений оказываются в этом стихотворении метонимическими описаниями разных сторон одного и того же чувства — болезненного отчуждения от людей, как самых близких, так и случайных встречных в автобусе. Приведу финал этого произведения:
…ПОТОМУ ЧТО ты злой и жестокий мальчик никак не засыпаешь и заставляешь маму часами сидеть возле тебя скрючившись на детском стульчике от которого у нее болит спина ПОТОМУ ЧТО КОГДА все окна огромного многоквартирного дома выходят на одну сторону и все тучи серые а все очереди длинные уже не кажется странным что люди не умеющие говорить обвиняют тебя в неумении слушать ПОТОМУ ЧТО ДАЖЕ КОГДА чистишь картошку или отрабатываешь прием трудно удержаться и не расковырять маленькую глубокую черную точку очень черную и очень глубокую ПОТОМУ ЧТО КОГДА она говорит ему Я же тебя вижу А ты себя не видишь А он отвечает ей Разве это плохо Что ты меня видишь А она запнувшись говорит медленнее Нет это не плохо Но было бы лучше если бы я видела то что я хочу видеть А он вместо того чтобы разозлиться говорит ей совсем тихо Не уходи Автобус резко тормозит Не бросайте пять копеек пожалуйста[1016]Эти микронарративы соположены по принципу диафоры, то есть неаристотелевской метафоры, которая не предполагает, что один полюс сравнения «более реален», чем другой, но полагает равно реальным все, что сравнивается. Если говорить о традиции модернизма, то аналогичным образом, например, построено известное стихотворение Уоллеса Стивенса «Тринадцать способов увидеть черного дрозда», хотя в основе его — не нарративы травмы, а нарочито разнотипные ситуации, объединенные тем, что в них во всех образ черного дрозда может быть осмыслен как вторжение поэзии в мир[1017].
Презумпция в обоих случаях — Стивенса и Искренко — состоит в том, что эти нарративы не могут быть обобщены, у них не может быть единого имени, поэтому Стивенс называет свое стихотворение числом отдельных способов «увидеть черного дрозда», а Искренко — именем музыкальной структуры, в рамках которой взаимодействуют эти нарративы. С точки зрения тропов они организованы как диафора, с точки зрения структуры — объединены в конфликтный паратаксис, иначе говоря, в монтажное повествование.
Типы опыта, позволяющие наиболее интенсивно продуцировать «нарративы травмы», должны сочетать два главных свойства: затрудненность прямого называния и эмоциональную насыщенность, даже «стрессогенность». Кроме детства, к таким сферам относятся эротические и религиозные переживания — напомню, что в истории культуры взаимное уподобление эротического и религиозного принадлежит к наиболее устойчивым. Особенность русской поэзии 1990-х состоит в том, что в ней детское, эротическое и религиозное были осмыслены в первую очередь как типы личного опыта, сочетающего — как и «подобает» травматическим образам — предельную отчужденность и интимную значимость. Этим поэзия 1990-х принципиально отличается от романтической традиции, в которой опыт «неименуемости» мира воспринимался не как самоценная форма возвышенного, а как манифестация трансцендентных сущностей (ср., например, стихотворение В. А. Жуковского «Невыразимое»)[1018].
С точки зрения поэтики монтажа наиболее нетривиальное развитие изобретенная Искренко поэтика получила в творчестве Ники Скандиаки. Скандиака родилась в 1978 году в Москве, выросла в США, где и живет в настоящее время. Авторы, пишущие о ее стихах, нередко прибегают к метафорам, связанным со вспышкой, мгновенным появлением-исчезновением[1019].
птицы стали короче, стали ковать виноград …и в каждое мгн. я наполняю его пою только сегодня[1020]Наиболее подробно этот аспект стихов Скандиаки проанализировал поэт и эссеист Алексей Парщиков:
…Удовольствие от чтения Скандиаки в том, что raw material, каким часто кажутся ее намеренно фрагментарные стихотворения, дает повод вообразить, каким бы могло быть произведение, если б оно написалось в конце концов: мы можем в меру воображения «реконструировать» и варьировать виртуальный текст. […] …Мы сталкиваемся с текстуальным пространством, имеющим черты киберпространства (cyberspace). […] Разрозненность и спорадичность создают портрет естественного мира словно до появления в нем первых классификаторов. Возбужденная наивность собирательства, обаятельный идеализм Паганеля, поиск заветного и невысказанного, но — подходящего, замеченного, интуитивного, которое «на сходствах ловит», и внесенного в тетрадь. Так создавались музеи и кабинеты «находок» и диковин в XVI–XVIII веках. Но сегодня это черта еще и Всемирной сети — ведь в Интернете тоже нет единой классификации. В ней есть, если перевернуть понятие Лейбница (или Линнея), непредустановленная гармония[1021].
В 2013 году Скандиака опубликовала стихотворение, в котором показала, как текст словно бы на глазах составляется из отдельных вспышек.
…зайти в банк, пока не исчез (замерз) причал / покачивался, будя / лодкой // на бегу || на месте / в будущем конечно есть бродячие деревья: так говорят единорог… акроним зимородок… акроним зимородок… аббревиатура зимородок забвения; зимородок — капля, капуста забвения зиморосок звезды зиморозка зверьми чаять собаку показать/открыть сове сердце с тетрадью (грудью) на крыше || с тетрадью (грудью) [результатами] простых, похожих на людей, правил[1022]Это стихотворение может быть описано как коллаж, составленный из интенций, каждая из которых соединяет аффект (в понимании Кристевой, опирающейся на католическую традицию) с не до конца «сконденсированным» словом-определением. Важнейшей чертой образов Скандиаки и других авторов, работающих в этой эстетике — например, Евгении Сусловой, — является установление социальной связи между языком и аффектом или желанием: язык их поэзии структурирован как «сеть» разорванных желаний, но сами желания в их связи с языком осмыслены как социальные или исторические по своему смыслу.
Нежность схватывает удар на лету в любом помещении. Непроходимо тепло — как от кожи оно отличается: назвать отвратимым словом, отказаться от поступка его? Кит выпевает оболочку орла — я выпеваю сухожилье отца: родство торопится. Грелка воздушная на сердце многосостава — лицо еще: Представленье воды собирается через плоть потолка, сходит в плафон, свет горит, его окружают горящие в глазах друг друга люди — «красносветная исповедь» ничего не стоит, хоть руки на них наложи в знак прибежища. Очерк прыжка связан со спинами: «белый центр» разносит стук в кости, но после — уже — невозможно пленение. (Е. Суслова, «Нежность схватывает удар…»[1023])Такое восприятие человека в самом деле может быть оформлено благодаря существованию в Интернете: психологическая рефлексия в блоге может выглядеть как серия изолированных «вспышек»[1024], и Скандиака, и Суслова — вполне в парадигме нынешней Кристевой — придают этому «вспышечному» существованию творческий смысл. Монтажное мышление в данном случае становится — и показывается в стихах — как средство придания смысла дискретности самосознания современного человека.
* * *
Исторический разрыв и обостренное внимание, которое придается памяти в современном мире, породило в русской культуре — точнее, в той ее части, которая генетически связана с неофициальной культурой советского времени, — две прямо противоположные стратегии, которые можно условно описать фразами-девизами: «Воспоминание забытого и репрессированного» (методологически сравнимая с тезисами Беньямина «О понятии истории») и «Любой поиск исторической подлинности — фантазм, вопрос только в том, есть у него амбиции на власть или нет». Для обеих этих стратегий оказался необходим переосмысленный и взятый в другой функции монтаж.
Наиболее радикальный выразитель второй стратегии — Саша Соколов (р. 1943). В 2011 году после многолетнего молчания он выпустил книгу «Триптих», которую можно считать закрывающей скобкой — если открывающей считать его роман «Палисандрия» (1985).
«Палисандрия» — рассказ о том, насколько фиктивна «большая» история, которая используется для легитимации говорящего. «Триптих» — демонстрация того, каким на самом деле кружным и неисторичным путем движется воспоминание.
«Палисандрия» — роман с сюжетом, абсурдным и фантасмагоричным, но чрезвычайно динамично развивающимся[1025]. Его главный герой Палисандр Дальберг — «внучатый племянник сталинского соратника Лаврентия Берии и внук виднейшего сибирского прелюбодея Григория Распутина, обласканного последней русской царицей и таким образом расшатавшего трон…», который «…прошел по-наполеоновски славный путь от простого кремлевского сироты и ключника в Доме Массажа Правительства до главы государства и командора главенствующего ордена…»[1026] — и теперь, в момент повествования, готов бесконечно рассказывать о тайнах кремлевских властителей.
«Триптих» — серия фрагментов, промежуточных по своему статусу между стихами и прозой, но графически оформленных как стихи. Ретроспективно она словно бы переводит «Палисандрию» в статус иронического высказывания. Несмотря на 26-летнее расстояние, отделяющее «Триптих» от предшествующего ей романа, книгу можно воспринять как пересмотр его проблематики, как если бы, выпустив «Палисандрию», автор вдруг бы добавил: «А если говорить серьезно, то дело выглядит так…»:
80 …это подмечено у него в записках на запасном фор-бом-брамселе, что стоят на столе арифметика обок с гроссбухом и руководством как стать настоящим учетчиком, где говорится, что стать настоящим учетчиком может лишь тот, кто, учитывая существа и вещи, их тщательно перечисляет 81 пауза 82 голосами людей, тонко чувствующих красоту момента: смотрите, конец цитаты совпал с окончанием темноты, забрезжило, быстро светает, и параллельно становится ясно, что об искусстве и об изящном вообще уж сказано совершенно довольно, во всяком случае тут, в нашем гулком многоголосом саду, в этом изысканно обветшалом газибо (из второй части «Триптиха» — «Газибо»[1027])Сказать вместо фрагмента «пауза» — любимый ритмический и словесный жест Льва Рубинштейна, но здесь это слово эквивалентно не только рубинштейновской карточке со словом «пауза», но и пропущенным строфам в «Евгении Онегине», которые, как писал еще Шкловский, имеют стернианское происхождение[1028]. Если стилистика «Бестселлера» Юрия Давыдова была «стернианством наоборот», то стилистика «Триптиха» демонстрирует изначальную фиктивность контакта с прошлым, на котором, казалось бы, основано стернианское повествование. Тристрам Шенди может рассказать о прошлом, но не слишком-то хочет это делать и по воле автора все время «отвлекается». Герой Соколова сталкивается с тем, что сам механизм воспоминания не работает, предъявляя одну за другой сцены из возможного прошлого. Демонстрация фрагментарной работы этого «угадывающего» воспоминания и самой его дискретной ткани и составляет сюжет «Триптиха». Он состоит из отдельных попыток воспоминания, которые мало говорят о прошлом и разыгрывают коммуникацию с воображаемым собеседником по поводу процесса воспоминания. «Триптих» и состоит из таких «коммуникативных микроперформансов».
В целом «стернианская» манера повествования и у Давыдова, и у Соколова преобразует конструирующий монтаж в аналитический и психологизирующий.
Другой вариант реализации «антимемориальной» стратегии — творчество Юрия Лейдермана (р. 1963), художника, поэта, прозаика и кинематографиста. Лейдерман выводит на новый уровень то превращение исторических и современных дискурсов в персонажи, которое начали концептуалисты. В его изображении любой дискурс предстает не только как искусственно сконструированный, но как экзотический и в то же время абсурдный. Столкновение дискурсов в его произведениях одновременно напоминают колоритные этнографические ритуалы и беседу Панурга с англичанином, который диспутировал знаками[1029].
В 2010 и 2013 годах в соавторстве с кинорежиссером и продюсером Андреем Сильвестровым Лейдерман снял два визуальных произведения, «Бирмингемский орнамент» и «Бирмингемский орнамент 2», которые по желанию можно воспринимать или как художественные фильмы, или как видеоинсталляции[1030]. Оба этих произведения состоят из отдельных сцен, каждая из которых происходит в каком-нибудь необычном для европейского зрителя локусе (Грузия, Япония, финский город Оулу на берегу Ботнического залива, подмосковный лес и т. д.), иногда в отдаленном, но очень условном будущем — например, на Крите в XXII веке. Порядок, в котором следуют сцены, непредсказуем, и никакой связи между ними нет. Слово «орнамент» в названии этих фильмов-инсталляций напоминает о термине Шкловского «орнаментальная проза» — в такой прозе, по определению критика, «образ преобладает над сюжетом»[1031].
В финале «Бирмингемского орнамента 2», пока на экране идут титры, за кадром хор подростков несколько раз начинает нестройно петь «Оду к радости» из Девятой симфонии Бетховена (NB: гимн Евросоюза), но всякий раз прерывается, его участники начинают болтать, смеяться и т. п. Выраженное этим пением шутливое отношение к идее смыслового объединения разнородных частей, очевидно, совпадает с авторским. В том же 2013 году, в котором был снят этот фильм, Лейдерман выпустил большой цикл короткой прозы «Заметки», во время работы над которым написал в своем дневнике — впоследствии опубликованном:
…Очевидно, что сотворение этих текстов подчиняется какой-то неведомой логике. И также очевидно, что логика эта, безусловно существующая, неведома и самому автору. Который в смятении — ибо не может ухватить парадигму своего собственного письма. Вот только что была она здесь, почти что на языке — и нет ее! Как та пресловутая куртка престарелой немецкой четы под дождем: «Ведь была она здесь, вот в этом углу! И нет ее! Без куртки не пойдем!» Да, как исчезнувшая и беспрестанно поминаемая куртка в дождливый день[1032].
Логика «Бирмингемских орнаментов» тоже близка к этому описанию.
В «Бирмингемском орнаменте 2» есть сцена, дата и место действия которой обозначены как «Москва 1933». В отличие от других сцен она снята на черно-белой пленке, да еще и советской («Свема», о чем авторы с гордостью сообщают в титрах), и изображает чтение О. Э. Мандельштамом нового стихотворения в узком кругу ценителей, в который входят Николай Клюев, художник Анатолий Яр-Кравченко и т. п., — судя по антуражу, в художественной мастерской. Исторически такая встреча была возможна — в 1932–1933 годах Мандельштам неоднократно встречался с Клюевым. Постоянный спутник Клюева в то время, Яр-Кравченко, тоже мог присутствовать на таком чтении[1033]. Но в фильме «Бирмингемский орнамент 2» Мандельштам читает не собственные стихи, а абсурдистскую стилизацию, написанную Ю. Лейдерманом и отсылающую не к поэтике Мандельштама 1933 года, а скорее к интеллигентскому восприятию его стихов в СССР 1970-х: например, в «орнаментном» опусе фигурирует КГБ, которого в 1933-м не существовало. Вся эта сцена, по сути, представляет один из самых героических — для российских и западных интеллектуалов — эпизодов в истории нравственного сопротивления сталинизму как фантазм, который не соотносим напрямую с недоступными в прошлом событиями[1034].
Этот фильм — ответ Лейдермана и Сильвестрова, с одной стороны, на культ исторической памяти, расцветший в науке, медиа и общественной мысли 2000–2010-х годов[1035], а с другой — на грандиозные блокбастеры об иррациональных взаимосвязях между людьми разных культур и эпох: «Вавилон» А. Гонсалеса Иньярриту (2006) и «Облачный атлас» Т. Тыквера и Л. и Э. Вачовски (2012, по роману Д. Митчелла).
Противоположная Соколову и Лейдерману стратегия была реализована в произведениях 2000-х годов, чей жанр можно назвать документальной поэзией, — поэмах Михаила Сухотина (р. 1958) «Стихи о первой чеченской кампании» (2000)[1036], Кирилла Медведева (р. 1975) «Текст, посвященный трагическим событиям 11 сентября в Нью-Йорке» (2001)[1037] и Станислава Львовского (р. 1972) «Чужими словами» (2008)[1038]. Я уже писал об этом жанре, поэтому позволю себе ограничиться кратким пересказом собственной статьи[1039]. Все эти поэмы основаны на документальном материале и содержат точные цитаты или фактические данные. Произведение Сухотина даже открывается специальным указанием на источники: «Фактическая сторона поэмы основана на показаниях десятков свидетелей Международному Неправительственному Трибуналу (по материалам конференции фонда „Гласность“ — Стокгольм — Москва — Прага, 1995–1996 гг.), материалах, собранных обществом „Мемориал“, кинодокументах о войне 1994–1996 гг., а также на некоторых о ней свидетельствах, выяснявшихся в личном общении». Произведение Сухотина говорит о массовом насилии против мирного населения со стороны российской армии, совершенном во время боевых действий в Чечне в 1994–1996 годах[1040], и о его нравственных последствиях для российского общества, Медведева — о террористических актах, совершенных членами «Аль-Каиды» в Нью-Йорке 9 сентября 2001 года, Львовского — о войне России с Грузией в августе 2008 года. Поэма Львовского — произведение в наибольшей степени историзирующее из всех названных.
«Чужими словами» — монтаж, состоящий из фрагментов журналистских репортажей, записей российских, грузинских и осетинских блогеров о событиях войны и указаний на исторические события, которые Львовский предлагает считать аналогами современной политической борьбы вокруг Грузии: борьбу судетских немцев за автономию, которая сначала стала предлогом для гитлеровской оккупации Судетской области, а после Второй мировой войны привела к массовой депортации немцев из Чехословакии; деятельность международного Комитета по невмешательству в испанские дела, которая в 1936–1939 годах стала фактическим прикрытием для вмешательства в гражданскую войну в Испании со стороны Советского Союза и фашистских Германии и Италии. В поэме вспоминаются и другие события, связанные с конфликтом в Грузии отношениями метафоры, а не политической аналогии, — например, бои между Британией и Аргентиной за Фолклендские острова, развернувшиеся в 1982 году, оказываются примером далекой войны, которую жители СССР воспринимали как совершенно не относящееся к ним событие.
мы обращаемся к вам в этот миг надежды, которая, однако, пока еще в опасности — это всего четырнадцать из двух тысяч слов[1041]. леса Боржоми и Кикети продолжают гореть. мы не знаем теперь на чьей стороне правда, да и правды, как мы понимали ее прежде, больше нет. есть только комитет по невмешательству в испанские дела, говорящий опарыш джадан, набрасывающий (в духе корпорации RAND) один за другим эскизы ядерного удара то по батуми, то по припяти, то по гданьскому коридору, то по собственным детям. итак, правда не побеждает, правда просто остается, когда прочее уже разбазарено. зачем это было сделано? Буэнос-Айрес — тот же Париж. Конрад Генлейн хотел только. в Вашингтоне полно русских туристов. в русских магазинах продают грузинский Боржоми, — пишет А. в своем блоге. вот черт, — говорит Фолькер Диль, — только этого мне не хватало. впервые за сто лет, и на глазах моих, — пишет в четырнадцатом году О. М., — меняется твоя таинственная карта[1042]. ну, конечно же, к небу, — пишет Звиад Ратиани[1043]. а откуда еще ждать беды? откуда еще ждать спасения? и куда еще смотреть? всю ночь бомбили город. леса продолжают гореть, скоро сентябрь.Либеральные оппозиционеры нынешних российских властей в августе 2008-го не раз сравнивали вторжение России в Южную Осетию с аннексией Судетской области в 1938 году. Новаторство Львовского состоит в том, что он перенес это и подобные ему сопоставления из области идеологически мотивированных исторических аналогий в область социальной психологии и этики. Рефреном поэмы становятся строки:
…Многое предстоит пережить, — пишет Гёльдерлин, — нельзя отступаться от веры[1044].Скрытый сюжет поэмы — противостояние повествователя той добровольной слепоте, которая охватила российское общество в августе — сентябре 2008 года: многие образованные люди, имевшие возможность сравнивать реляции государственных медиа с репортажами западных телекомпаний и информационных агентств и сообщениями грузинского сектора Интернета, искренне не хотели этого делать, эмоционально солидаризируясь с официальной точкой зрения. Не поддаваться пропаганде возможно благодаря историзации слепоты, насилия и сочувствия. Современные блогеры, военные, участники осетинских формирований не хотят вспоминать о прошлом и не могут представить последствий происходящего точно так же, как не могли их себе представить участники событий 1930-х годов: «Генлейн хотел только автономии» — речь здесь идет о Конраде Генлейне, лидере национального движения судетских немцев.
Дмитрий Кузьмин писал, что поэма Львовского «закрывает некоторый этап, начатый… текстом Кирилла Медведева» [ «Текст, посвященный трагическим событиям 11 сентября в Нью-Йорке»]:
…Все голоса, так или иначе звучащие в тексте Медведева, принадлежат к текущему моменту, полностью находятся в нем и им определяются. Это голоса людей, никак не соотносящих себя с историей и культурой. В тексте Львовского… то, что происходит с нами здесь и сейчас, поверяется историей. Так, за тезисом об отмене [в наши времена] самой категории правды следует антитезис — цитата из манифеста [участников] Пражской весны [«2000 слов»]: «правда не побеждает, правда просто остается, когда прочее уже разбазарено». Принципиально, что этот второй голос размещен не до звучащего сегодня авторского голоса (а в некотором смысле, и не после)[1045].
Голоса современных блогеров сосуществуют в поэме Львовского с голосами Генлейна и Осипа Мандельштама не потому, что истории не существует или что она движется по замкнутому кругу, а потому, что в истории ничего, начавшись, не кончается. Насилие и несправедливость, по Львовскому, — травмы не столько социального, сколько онтологического характера, они порождают долгую цепь последствий и встраиваются в длинный ряд подобий.
Как ни странно, именно это качество истории позволяет повествователю вырваться из замкнутости современного мира. Зная об этих последствиях и подобиях, повествователь может выразить этическое отношение к актуальным событиям и в то же время — «взять их в кавычки», контекстуализировать исторически.
В 2000–2010-е годы было создано еще несколько произведений в этой же парадигме «радикальной историзации». Сразу несколько из них посвящено блокаде Ленинграда: несколько произведений Полины Барсковой (которая одновременно является поэтом, историком и антропологом, исследующим блокаду и ее репрезентации), в том числе ее поэма «Сделанность» (2010), поэма Сергея Завьялова (р. 1958) «Рождественский пост» (2010), стихопрозаическая композиция Игоря Вишневецкого (р. 1964) «Ленинград» (2010, сам автор обозначил ее жанр как повесть) и фильм Сергея Лозницы «Блокада» (2005). В своей статье Барскова комментирует:
Появление этих работ напрямую связано с обращением к блокадному архиву, представляющему собой огромное, все еще мало изученное, неоднородное поле источников, ждущих публикации, прочтения и интерпретации. […] Задачей всех этих текстов является восстановление, проявление, возобновление голосов блокады, различные способы наведения диалогических мостов между современной аудиторией и пластом истории, отделенным от нас десятилетиями идеологической цензуры и самоцензуры свидетелей, задавленных кошмаром памяти. В то время как слишком медленно (но все же) появляются попытки научного осмысления этого материала, актуальное искусство до последнего времени сторонилось блокадного архива. Дьявольская разница между научной работой и художественным текстом заключается, осмелюсь повторить трюизм, в неизбежности авторской позиции: обращаясь к историческому материалу сегодня, художник должен быть видимым, оставаясь при этом прозрачным[1046].
Произведения Завьялова, Вишневецкого и Лозницы основаны на работе с реальными архивными документами, которые в литературных произведениях вплетаются в фикциональные тексты, а у Лозницы в некоторых эпизодах фильма трансформированы компьютерной обработкой. Произведения Вишневецкого и особенно Завьялова имеют подчеркнуто монтажную природу.
Он сказал:
По сводным данным прозектур, на 1866 вскрытий алиментарная дистрофия неосложненной формы с отеками и без отеков наблюдалась в 287 случаях (т. е. в 15,4 %). Это случаи, при которых не наблюдалось никаких осложнений, и прежде всего дизентерии. Эти неосложненные случаи позволяют наблюдать и устанавливать патологические изменения, свойственные алиментарной дистрофии как таковой.
Она сказала:
Я лежу и боюсь заснуть: вдруг они украдут мою карточку и все сожрут?
Вы сказали:
О был прекрасен и этот день
Утонувший в чистейшем снегу
С прорывами слабого солнца с болезненной синью
С движением вдаль облаков
Они сказали:
Вчера наши войска во главе с генералом армии тов. Мерецковым наголову разгромили войска генерала Шмидта и заняли г. Тихвин. В боях за Тихвин разгромлены 12-я танковая, 18-я моторизованная и 61-я пехотная дивизии противника. Немцы оставили на поле боя 7 тысяч трупов. Захвачены большие трофеи, которые подсчитываются.
И мы воспѣли на утренѣ:
Яко призрѣ на смиренiе рабы Своея,
Се бо отнынѣ ублажатъ Мя вси роди. [1047]
«Ленинград» и «Рождественский пост» контрапунктически сочетают страшные описания блокады, голода, умирания с литургическими текстами Русской православной церкви — Завьялов и Вишневецкий хорошо знакомы, однако к своим художественным открытиям они пришли независимо и почти одновременно.
Результат блокады мыслится ими обоими как фрагментация индивидуальной человеческой жизни и одновременно — как ее универсализация (структурно это изоморфно восприятию человеческого «я» как совокупности аффектов в работе Юлии Кристевой), преодолевающая советские рамки личности. (Собственно, первым, кто осознал ситуацию ленинградской блокады как возможность извне рассмотреть советские репрессивные нормы, стала Лидия Гинзбург в своих «Записках блокадного человека» и особенно в дневниково-эссеистической прозе, которая в «Записки» не вошла[1048].) Для того чтобы показать это сочетание фрагментации и универсализации, оба поэта в качестве метода выбрали монтаж — «отелесненный» и аналитический: и в поэме «Рождественский пост», и в «повести» «Ленинград» важнейшую роль играют изображения разных типов языкового сознания, которые были возможны во время блокады. Наиболее неожиданны изображения блокадного творчества: и неназванный поэт, герой поэмы Завьялова, и главный герой «повести» Вишневецкого, композитор Глеб Альфа (его прототипом, как заметила Барскова, стал композитор и музыковед Борис Асафьев, публиковавшийся под псевдонимом Игорь Глебов[1049]), стремятся трансцендировать ситуацию блокады. Но голос художника и у Вишневецкого, и у Завьялова оказывается частичным: он — лишь один из многих, говорящих о коллективной беде и испытании.
Барскова полагает, что целью обоих авторов «является превращение догматического пустыря, места идеологических игр и сражений в живой архив, место нового знания»[1050].
* * *
Наконец, в digital storytelling монтаж появляется в результате использования новых медиа. Существенно, что создание таких digital stories может быть частным делом, возможно, даже особой формой досуга для людей, которые не считают себя профессиональными литераторами[1051]. В 2013 году в русском секторе Интернета получила большое распространение поэма «Валькины титьки», написанная известным современным дизайнером, лауреатом различных премий Максимом Гурбатовым. Она была размещена 2 мая 2013 года в блоге «Книга букв», который Гурбатов ведет вместе со своей женой[1052]. Сам Гурбатов не считает себя поэтом, а перепосты этого произведения или гиперссылки на него давали в своих блогах люди, часто с литературой никак не связанные. Эта поэма предоставляет важный материал для уяснения того, как меняется монтаж с распространением социальных сетей.
Обширная (больше 3 тысяч слов) поэма написана 4-строчными строфами верлибром, без рифмы и четко выраженного ритма[1053]. Ее сюжет — анекдотическая по сюжету, но, кажется, вполне реальная история того, как в Иваново был установлен, а потом, через несколько лет, снесен бюст Валентины Голубевой (р. 1949) — ткачихи-ударницы, дважды Героини Социалистического Труда. (В настоящее время Голубева занимает пост председателя совета директоров АО «Большая Ивановская мануфактура».)
В произведении Гурбатова примечательны две особенности. Прежде всего, повествователь словно бы никак не может начать рассказывать о том, как в ивановском парке был поставлен бюст, у которого на груди поверх одежды виднелись два натуралистически изображенных соска, как потом на скульптуру в мороз надели бюстгальтер и как два милиционера потом пытались его снять и при каких обстоятельствах эта скульптура была позже снесена. Повествователь отвлекается на рассказы то о своей юности в советском Иваново, живописуя ее с неизменной ностальгически-брезгливой интонацией, напоминающей тон поэмы Тимура Кибирова «Солнцедар», то о жизни Валентины Голубевой:
быстро стала мастером потом бригадиром
на собраниях выступала бойко
политику партии понимала правильно
и назначила ее партия на роль героини труда из простых
[…]
злые завистливые люди бывшие коллеги голубевой
говорят что на ее план работал чуть не весь комбинат
и выработка всех девчонок практиканток записывалась на голубеву
Эти отвлечения отчасти напоминают стернианскую традицию, но имеют другой смысл: герою — и Гурбатову вместе с ним — важно не столько рассказать анекдот, сколько передать его укорененность во времени, биографическую связь с персонажами.
После финала поэмы помещены написанные позже дополнения или, на международном интернетном жаргоне, «upd» (updates), со ссылками на новые данные, присланные читателями. Дополнения тоже написаны в стихах. Эти уточнения и реплики, обращенные к читателям, напоминают о важнейшей черте письменных текстов в эпоху Интернета — особенно блоговых: у автора нет последнего, завершающего слова (в терминологии М. Бахтина).
упд от 27.12.2013 благодаря жж юзеру timlander спасибо товарищщ теперь мы можем увидеть фото бюста на фоне парка фото правда сильно отретушированное для газеты все детали замазали все рельефы сгладили дело написали в комментах автор явно не Аникушин и на саму Голубеву не очень похоже и фото какое-то мертвое но тем не менее процесс пошел и официальное фото бюста у нас уже есть будем ждать любительских фотографий надеюсь что нам повезетВажнейший элемент поэмы — фотографии, включенные в текст (технология записи в блоге позволяет легко это делать). Они делятся на три группы: официальные советские; фотографии «ничьей», «общей» частной жизни, в основном фиксирующие неприглядные стороны советского быта — длинные очереди, мрачные лица, скудные прилавки; и фотографии детства и юности самого Гурбатова, который он тут же и комментирует, как человек, показывающий личный фотоальбом:
а это лето 83-го наша пленерная практика в деревне решма на волге[1054] я на переднем плане прекрасный блондин двухметрового роста в круглых очках справа от меня в картузе артур гатин пятнадцать лет назад не пришел домой с работы никто ничего не знает никто ничего не видел за мной слева лёшка машкевич редактор медиакомпании и газеты в иванове[1055] бьется там с мельницами с тех самых пор четвертый вдали и в очках димка сорокин после окончания училища не видел его ни разу офигенные парни талантливые умные работящиеОбычно авторы digital stories не комментируют включение в текст фотографий и видеофайлов, но Гурбатов, рефлексивно относящийся к собственному творчеству, по этому поводу включает в поэму отдельную строфу:
фото выбирал не по принципу художественности а по принципу достоверности мне нужны были картинки с тем имманентным и хтоническим совковым ужасом что я видел вокруг в описываемое здесь время поскольку тонко чувствующих товарищей типа вовыпаба заплющило значит бильдредактура состояласьИз «доинтернетной» традиции этот способ прямого общения с аудиторией больше всего напоминает традицию авторских предисловий к переизданиям, комментирующих реакции критиков, читателей и коллег на первую публикацию.
Метод построения нарратива о прошлом в поэме Гурбатова вступает в противоречие с фотографиями. Повествователь исходит из презумпции, что сможет описать смысл прошедшего времени, описав произошедшие события. Однако, при всей избыточности своей речи, смысл он точно объяснить не может — может лишь намекать на него. Фотографии же выражают важнейшие черты прошедшего времени, совмещая — в советских парадных снимках и юношеских изображениях повествователя — открытость будущему, «налаженную жизнь» и тот самый хтонический ужас, о котором пишет Гурбатов. Презумпция, согласно которой текст и фотографии могут по-разному говорить об одних и тех же людях и историях, не срабатывает: повествование и изображение не «срастаются»[1056]. По-видимому, дизайнерский опыт Гурбатова и его художественная интуиция подсказали ему решение не «соединять» их насильственно. Поэтому «Валькины титьки» оказались произведением очень живым и поэтому же — монтажным.
Триггером, вызвавшим поток воспоминаний героя поэмы «Валькины титьки», его «печеньем „мадлен“» стала новость, распространенная в конце марта 2013 года российскими медиа[1057]:
новость прочел в россии возрождается звание героя труда абсталбенеть репризы современной российской истории это уже даже не фарс это уже анекдот[1058]В отличие от печенья «мадлен» в эпопее Пруста, знак, вызвавший поток воспоминаний героя, становится для него этическим вызовом. Однако реакция на него, при всем праведном гневе повествователя, не является этической по своему смыслу — или, во всяком случае, не только этической. Рассказчик вполне понимает социальную и нравственную ущербность звания Героя Социалистического Труда, но это знание остается рамочным. Стремление рассказать о времени «перевешивает» необходимость этически ответить на рецидив советского в современности — потому, что повествователь совершенно убежден, что такая реконструкция сугубо искусственна и может вызвать только веселое недоумение.
Именно поэтому персонаж поэмы никак не может приступить к рассказу о «Валькиных титьках» — ему больше хочется разыграть сложную брезгливо-ностальгическую эмоцию, связывающую его с прошлым и одновременно отделяющую от него. Ср. в процитированной выше строфе об однокурсниках соединение суждений, сделанных из точки зрения того, давнего, времени («офигенные парни / талантливые умные работящие») и из нынешего («после окончания училища не видел его ни разу»).
Стремление рассказчика перформативно разыграть работу воспоминания, сделать ее главным предметом поэмы, а читателей его блога — соучастниками этой работы неожиданно придает сочинению Гурбатова жанровое сходство с поэмой А. С. Пушкина «Домик в Коломне» (как заметил В. Шкловский, стернианской по своему смыслу[1059]). В ней основным сюжетом первой части как раз и становится процесс выбора методов написания поэмы, а анекдотический сюжет второй части не предполагает никакого явного этического вывода. «Вот вам мораль: по мненью моему, / Кухарку даром нанимать опасно… […] Больше ничего / Не выжмешь из рассказа моего»[1060].
Подобное отношение к воспоминаниям находится посередине между двумя модусами ностальгии, описанными Светланой Бойм, — рефлексивной и реставрирующей ностальгией[1061], но не совпадает ни с одним из них.
Судя по одобрительным комментариям в блоге и перепостам, которые продолжались до конца 2013 года, — сложная коммуникативная ситуация, организованная М. Гурбатовым с помощью монтажного digital storytelling’а, оказалась не просто доступна большому количеству неподготовленных читателей, но и срезонировала с их собственными формами воспоминания о прошлом.
Заключение
1
В культуре 1920-х годов монтаж был одним из элементов «большого стиля» эпохи. В современной культуре, где никакого явного «большого стиля» вроде бы нет, монтаж как метод одновременно маргинален и вездесущ. Мы сталкиваемся с ним часто, однако те виды творчества, в которых он используется особенно интенсивно, принадлежат к «младшим» направлениям массовой культуры (видеоклипы, компьютерные игры), или к изощренным версиям «сложного» искусства (видеоперформансы, авангардная поэзия и проза), или, наконец, образуют поле, где могут соединяться элементы того и другого (digital storitelling).
Сегодня в России, формально говоря, нет цензуры. Однако после ее отмены эстетическое поле осталось неоднородным: направления, генетически связанные с неподцензурным искусством и с лояльным искусством советской эпохи, интенсивно взаимодействуют, но не смешиваются[1062]. Обе эти группы направлений существуют в международном контексте. Очень схематически можно сказать, что те направления, которые связаны с неподцензурным искусством, имеют в своем распоряжении больше средств для социальной критики, для понимания условности своего языка и того «я», которое (якобы) высказывается в инсталляции, стихотворении или романе. (Оговорю, что имеют в распоряжении — не обязательно «пользуются»; в любом направлении искусства возможны неудачи или вторичные произведения, основанные не на собственной рефлексии, а на повторении результатов чужой.)
По-видимому, такой ресурс средств для критики искусства и общества накопили неподцензурные авторы и в государствах «народной демократии», цензура в которых была устроена так же, как в СССР, — например, восточногерманские литераторы, музыканты и художники круга «Пренцлауэр-Берг» (названного так по одной из улиц Берлина). В 1970-е годы они использовали язык панк-культуры для критики не столько идеологии, сколько идеологизированного сознания. Важнейшим элементом панк-культуры, который они апроприировали, стал коллаж разнородных материалов, на новом уровне воскрешающий принципы раннего дадаизма и драматургии Брехта[1063].
Одним из критических средств современного искусства является переосмысленный монтаж, который может — как, например, у продолжателей традиций неподцензурной литературы Ники Скандиаки или Юрия Лейдермана — вновь обрести статус метода. (Впрочем, их методы различны, как я и попытался показать в гл. 11.)
Очевидно, что в одних случаях монтаж может иметь рефлексивный потенциал, а в других — как, например, в значительной части видеоклипов, находящихся в ротации MTV, — монтаж, напротив, участвует в создании онейрического мира, в котором не нужно никакого осмысления языка или условий высказывания.
Для того чтобы более точно обсудить разнообразие значений монтажа в современном искусстве и его связь с традициями критического и неподцензурного высказывания, следует учесть, что на всех этапах своего развития монтаж развивался как интермедиальный метод. Он по-разному функционирует в разных видах искусства, однако эстетические традиции, сложившиеся в них на основе монтажа, интенсивно взаимодействуют.
В разные эпохи разные виды искусства становятся «зонами роста» в развитии монтажных типов эстетики. В 1910–1920-е такими зонами стали фотография, кино и театр, в 1930–1940-е — литература. В 1980–1990-е годы возникли новые типы монтажа в компьютерных играх и видеоклипах; компьютерные игры стали новым медиумом, видеоклипы — новым режимом использования и восприятия уже привычного к тому времени телевидения[1064].
Как показано в новаторской работе Дарьи Шембель, в авангардном кино Дзиги Вертова ретроспективно мы можем увидеть прообразы монтажных приемов, используемых в клипах и видеоиграх. Однако все же и его технические приемы, когда они перенесены в новые медиа и работают в изменившейся социокультурной ситуации, приобретают совершенно иной смысл, чем они имели у Вертова[1065].
Таким образом, мы имеем дело не только с локальными поэтиками монтажа у конкретных авторов, но и со сложной сетью синхронного и диахронного взаимодействия разных «монтажей».
Для того чтобы показать то, как аналитический монтаж и его критический потенциал повлиял на развитие искусства, уместно разобрать пример, относящийся к культурному мейнстриму — а не к тем видам искусства, которые наследуют неподцензурной литературе, европейско-американскому андеграунду или классическому авангарду. Обсуждаемый случай относится уже к 2010-м годам и позволяет «высветить» сразу несколько сюжетов, связанных с изменениями семантики монтажа в XX–XXI веках.
26 ноября 2012 года на экраны США и других стран вышел фильм Тома Тыквера, Ланы и Энди Вачовски[1066] «Облачный атлас» (Cloud Atlas) — грандиозная, почти трехчасовая монтажная сага, в которой чередуется несколько сюжетов, относящихся к разным странам и эпохам, — от приключений американского нотариуса Адама Юинга на одном из островов Тихого океана в середине XIX века до истории девушки-клона Сонми-451, которая живет в XXII веке и становится революционеркой в тоталитарном мире будущего. Ее казнят, но посмертно она оказывается обожествленной одичавшими людьми на закате человеческой цивилизации.
«Облачный атлас» был снят не голливудскими студиями, а ассоциацией восьми независимых компаний, но он стал самой дорогой независимой картиной в истории американского кино, его прокат обеспечивала одна из крупнейших компаний Голливуда — Warner Brothers. Таким образом, его статус в мире кино — промежуточный, «полуголливудский».
Фильм был принят американскими критиками сдержанно доброжелательно. Рейтинг специализированного сайта «Rotten Tomatoes» на основе статей 250 критиков показывает, что фильм получил положительную оценку в 67 % опубликованных отзывов[1067]. Однако композиция фильма, кажется, вызвала у аналитиков смешанные чувства. Ряд авторов сравнил построение «Облачного атласа» и фильма Дэвида У. Гриффита «Нетерпимость»; первым это сделал поклонник «Облачного атласа», австралийский музыкант Мэтью Ходж, еще до официальной премьеры[1068]. Впоследствии американские журналисты начинали «Нетерпимостью» рекомендательные списки наподобие «5 фильмов, которые вам нужно посмотреть до „Облачного атласа“»[1069]. Однако те рецензенты, которые уделяли этому сопоставлению большее внимание, приходили к предсказуемому выводу о том, что до великого Гриффита три режиссера не дотягивают[1070].
Действительно, конструкция фильма с его множественными, переплетающимися сюжетами, смонтированными «встык», напоминает «Нетерпимость»: финал, действие которого происходит на другой планете, изображает чудесное спасение остатков человечества инопланетянами. До некоторой степени такой эпилог может быть сопоставлен со сценой божественного спасения всех людей мира, которой завершается фильм Гриффита. Однако аналитики не обратили внимания на то, что сходство двух фильмов — во многом конвергентное: оно обусловлено не столько прямой ориентацией трех режиссеров на Гриффита, сколько совместным влиянием традиций монтажа, сложившихся в других видах искусств.
Фильм трех режиссеров поставлен по одноименному роману британского писателя Дэвида Митчелла (р. 1969), который оценил экранизацию очень высоко[1071]. Однако фильм заметно отличается от литературного прототипа. Роман Митчелла построен по принципу матрешки или геометрической структуры, имеющей ось симметрии. Сначала идет начало истории о Юинге, потом — начало истории композитора Роберта Фробишера, начало истории о журналистке Луизе Рей и т. д., затем — в центре романа — дан целиком эпизод о племени, живущем после краха цивилизации на Гавайских островах. В отличие от фильма ни этот эпизод, ни роман в целом не завершается happy end[1072]. После центрального фрагмента, «Sloosha’s crossin’ an’ ev’rythin’ after» (в переводе Г. Яропольского — «П’реправа возле Слуши и всё ост’льное»), идут завершения всех сюжетных линий в порядке, зеркальном по отношению к началу романа. «Облачный атлас» завершается финалом истории Томаса Юинга. «Полуповести», из которых составлен роман Митчелла, сами по себе довольно велики, поэтому роман нельзя назвать монтажным в строгом смысле этого слова, но резкие разрывы в повествовании, возникающие на стыках «полуповестей», по своей контрастности больше всего похожи именно на монтажные «склейки».
Митчелл регулярно использует в своих произведениях сложную композицию: уже первый его роман, «Надиктованное» («Ghostwritten», 1999)[1073], состоит из историй, рассказанных девятью рассказчиками, их действие происходит тоже по всему миру, как и в «Облачном атласе». Однако «Облачный атлас», по-видимому, является репликой на произведение другого автора — роман «Атлас» («The Atlas», 1996) известного американского писателя и журналиста Уильяма Воллмана (W. T. Vollmann, р. 1959). Этот роман в новеллах тоже построен по принципу центральной симметрии, или «палиндрома», как Воллман определяет в предисловии: первая история ассоциативно связана с последней, вторая — с предпоследней и т. д. Впрочем, композиция у Воллмана более дробная, чем у его последователя Митчелла: всего историй 55, до середины их нумерация — восходящая (от 1 до 27), потом идет центральная новелла «Атлас» (подхватывая этот прием, Митчелл в центральном эпизоде объясняет смысл названия своего романа), потом нумерация идет в обратном порядке. По-видимому, Митчелл не только переосмыслил композиционную идею Воллмана, но и приспособил ее для более комфортного чтения[1074].
Писатель Мэдисон Белл, впечатленный воллмановскими экспериментами с композицией, спросил автора «Атласа», не повлиял ли на него Берроуз с его cut-ups, на что Воллман ответил отрицательно[1075]. В другом интервью он заметил, что писал под впечатлением от цикла короткой прозы японского писателя Кавабата Ясунари (1899–1972) «Рассказы на ладони», над которым тот работал всю свою литературную жизнь — с 1920 до 1972 года. Однако влияние Кавабаты для понимания генезиса митчелловского и «тыкверо-вачовского» монтажа не так принципиально, так как японский писатель не считал свое произведение монтажным — он строил его именно как последовательность отдельных миниатюр. Гораздо важнее здесь то, что «Атлас» Воллмана — книга, рефлексирующая над проблемой насилия и многообразия трудносовместимых типов опыта в современном мире. По-видимому, именно этими ее мотивами во многом обусловлена придуманная Воллманом фрагментарная структура. В 2003 году писатель выпустил семитомное историософское эссе, исследующее природу и последствия насилия в истории — от Фернандо Кортеса до современности — под названием «Возрастая и увядая: размышления о насилии, свободе и срочных мерах» («Rising Up and Rising Down: Some Thoughts on Violence, Freedom and Urgent Means»[1076]).
Финал романа Митчелла: Адам Юинг, американский нотариус середины XIX века, оказывается спасен беглым рабом-полинезийцем, по возвращении в США он надеется присоединиться к движению аболиционистов. Однако он предчувствует, что его проклянет его консервативный тесть:
«Naïve, dreaming Adam. He who would do battle with the manyheaded hydra of human nature must pay a world of pain & his family must pay it along with him! & only as you gasp your dying breath shall you understand, your life amounted to no more than one drop in a limitless ocean!» Yet what is any ocean but a multitude of drops?[1077]
«Наивный, мечтательный Адам. Тот, кто пускается в битву с многоголовой гидрой человеческой природы, должен заплатить за это целым морем страданий, и его семья должна платить с ним наравне! И только хватая последние глотки воздуха перед смертью, ты поймешь, что твоя жизнь была лишь каплей в бескрайнем океане!» — «Но что есть любой океан, как не множество капель?»[1078]
(В фильме вслед за очень близким по смыслу эпизодом[1079] следует благостный финал, изображающий возрождение человечества на другой планете.)
Этот финал и вся концепция романа Митчелла неявно подхватывает одну из главных мыслей «Тезисов о понятии истории» Беньямина: история написана победителями, долг историка — дать голос побежденным. Митчелл адаптирует эту мысль для комфортабельного восприятия. В его романе материальное воплощение «голоса побежденных» неизменно оказывается спасено чудесным, не описанным в сюжете образом. Так сохраняются и дневник Юинга, и письма Фробишера, и записи Луизы Рэй, и дневник Тимоти Кавендиша, и даже предсмертная исповедь Сонми-451 и никем не записанные рассказы полудикаря Закри, которые сохранил в памяти его сын. Тем не менее при всей намеренной фантастичности спасений «исчезнувших голосов» принципиально важно, что Митчелл последовательно подхватывает этот мотив. В фильме он несколько ослаблен — на первый план выведена (присутствующая и в романе, но менее значимая в его контексте) мысль о том, что борцы за справедливость из разных времен и культур — это реинкарнации одной и той же души. Такая концепция истории как перевоплощения в самом деле перекликается с эстетикой Гриффита.
Инициатором экранизации «Облачного атласа» стал германский кинорежиссер Том Тыквер, прославившийся фильмом «Беги, Лола, беги» (Lola rennt, 1998). В этом фильме применен «сверхбыстрый» монтаж, напоминающий компьютерную игру и видеоклипы MTV. За фильмом «Облачный атлас» стоит и эта эстетическая традиция. В нем разнородные реальности не только сталкиваются, но и соединяются: ср. монолог тестя Юинга, проиллюстрированный сценой казни Сонми-451, — как бывает в видеоклипе, который может начинаться сценой, в которой песня исполняется непосредственно в кадре, а затем сопровождает совершенно другие сцены, возможно происходящие в другой стране и/или в другое время.
Положение монтажа в современной культуре противоречиво. Если монтажный метод не осмыслен как анализ языков, самосознания автора и условий высказывания и/или не контекстуализирован в пространстве новых медиа — такие композиционные принципы начинают невольно «слипаться» с эстетикой монтажа модернистского периода. Это и произошло при переходе от романа «Облачный атлас» к фильму Тома Тыквера и Ланы и Энди Вачовски.
2
В целом развитие функций монтажа в разных видах искусства XX–XXI веков может быть описано не как скачкообразное, а как количественное, постепенное накопление изменений. Для описания характера этих изменений было бы уместно использовать метафору «чесать против шерсти», использованную Вальтером Беньямином в «Тезисах о понятии истории»:
Не бывает документа культуры, который не был бы в то же время документом варварства. И подобно тому, как культурные ценности не свободны от варварства, не свободен от него и процесс традиции, благодаря которому они переходили из рук в руки. Потому исторический материалист по мере возможности отстраняется от нее. Он считает своей задачей чесать историю против шерсти[1080].
Монтаж дадаистов и других авангардистов 1920-х годов был методом людей, которые чувствовали, что находятся внутри потока истории, неотделимой от насилия — независимо от того, одобряли они это соединение или нет. Постепенно монтаж стал методом растождествления субъекта с историей и возможностью «гладить против шерсти» формы воображения прошлого и фантазматического предвосхищения будущего. Саша Соколов критикует в «Триптихе» иллюзию доступности прошлого, а Сергей Завьялов в «Рождественском посте» демонстрирует, что прошлое фрагментарно и чудовищно, когда мы реконструируем голоса побежденных. Но оба они именно «гладят против шерсти» существующие структуры и жанры воображения прошлого.
В 1930-е годы именно монтаж в прозе, поэзии и драматургии в наибольшей степени способствовал становлению своего рода исторического агностицизма. В трилогии Джона Дос Пассоса с его «Экранами новостей» и в романе Карела Чапека «Война с саламандрами» соотношение мгновения — данного через стилизацию медиа — и исторического потока оказывается абсурдным. Отказ от телеологизма позволяет показать фрагментарные образы многочисленных людей, потерявших ориентацию в мире и заслуживающих сочувствия или, во всяком случае, индивидуализированного внимания. Эту эстетику радикализовали, каждый по-своему, Павел Улитин и Уильям Берроуз. Александр Солженицын превратил агностицизм 1930-х в своего рода отрицательный телеологизм — реализацию самой катастрофической из возможностей исторического развития.
Из метода авторов, которые надеются восстановить свои права на историческое существование (1910–1930-е годы), монтаж превращается в метод тех, кто не знает, как соотнести себя с историей, и существует ли она в принципе.
Разрыв с идеей «восстановления прав» происходит в 1960-е и начале 1970-х. После него прямое продолжение эстетики 1920-х, по-видимому, невозможно — есть только ее цитирование, как в многочисленных современных рекламных плакатах, цитирующих работу Александра Родченко с портретом Лили Брик «Покупайте книги Ленгиза!».
В культуре 1970–2010-х годов монтаж приобретает одну, очень важную и принципиально новую функцию. Монтаж предшествующих эпох — 1910–1960-х — был основан на идее антимимесиса и денатурализации, разъятия цельного события, образа, сюжета. Фрагмент монтажной конструкции воспринимался как часть, отторгнутая от целого и «цитирующая» его или представляющая его в свернутом, конспективном виде, — продолжая в этом смысле романтическую эстетику фрагмента и руин как части отсутствующего, актуально не данного целого[1081]. Начиная с 1960-х в повседневной жизни человека все большее значение приобретают заведомо не-цельные нарративы, которые и без специальных усилий делают картину мира раздробленной: сначала — новости и рекламные ролики по радио и телевидению (в России реклама по радио и телевидению транслировалась с конца 1980-х), в 1970-е — видеоклипы (в России — с 1990-х), в 2000-е — короткие высказывания в социальных сетях. Эти высказывания, если только их авторы не делают специальных усилий, уже не отсылают к отсутствующему целому. Современный художник работает с опытом, который переживается как дискретный, «диспергированный» до эстетического осмысления, а не в его результате.
На современный монтаж влияет не столько визуальная эстетика новых медиа — Web 2.0, социальные сети, компьютерные игры, — сколько порожденный ими новый тип «стробоскопического» самовосприятия человека.
Такого типа нарративов, как «полуповести», из которых состоит основная часть романа «Облачный атлас», не существовало ни в каком виде до замысла Митчелла. Но существовал опыт переживания частичного (возможно, недочитанного, воспринятого «на бегу») сюжета, поверх которого пишется иной — и они связаны друг с другом гиперссылкой. (Рассказы персонажей Митчелла о том, что каждый/каждая из них знает о своем историческом предшественнике, выполняют функцию гиперссылок.) Именно такие частичные, но отсылающие друг к другу нарративы и компонует Митчелл в центрально-симметричную структуру.
Если говорить о более общем контексте, то эта антропологическая новация приводит к неожиданному результату. Стихи, с их дискретной по определению структурой (стиховая речь, как правило, поделена на соизмеримые отрезки), становятся одной из самых эффективных форм интеграции разных типов опыта — опровергая предположения о том, что поэзия — слишком «старомодный», «романтический» и «монологический» тип искусства для нынешней эпохи. Поэтому, вероятно, и дизайнеру Максиму Гурбатову оказалось важно прибегнуть к интеграции своего опыта именно в стихах — точнее, в виде гибридного «поэтически-дигитального» нарратива.
В апреле 2013 года на сайте Colta.ru Михаил Ямпольский опубликовал статью «Новая конфигурация культуры и поэзия», где, в частности, комментировал стихотворение современного поэта Анны Глазовой (р. 1974):
Я знаю знак. Протяни руку — здесь мел. Этот знак мне знаком. Мел готов; стена ждет: рука дрогнула.Ямпольский пишет:
Стихотворение описывает невозможность линеаризации, перехода от знака к письму. […] В нем вообще нет строки, в которой ряд мог бы реализоваться. Знак, мел, стена не соединены вместе, но разведены неким неуловимым зиянием, выливающимся в ожидание стеной мела и знака, которые не могут соединиться. Стихотворение написано не как горизонтальное развитие, но как падение разъятых частей по вертикали[1082].
Это утверждение вызвало озадаченный комментарий Дмитрия Кузьмина — поэта, издателя и, что в данном случае особенно важно, стиховеда. Он заметил, что строки в стихотворении Глазовой все-таки есть, и их семь, «…а где есть строка, ряд, сегментированная речь — там есть и „теснота ряда“, никак не связанная с метром и рифмой…»[1083]. Меняющийся ритм строк как раз и формирует скрытый уровень значений.
…наступает финал, вынесенный в изолированный стих: ритмическая структура этого стиха начинается как точная копия бакхия в предыдущей строке (—UU: стена ждет, рука дрог-), но вместо твердого мужского окончания следует неожиданное дактилическое: рука дрогнула, запланированная, принужденная твердость не состоялась — и этот ритмический жест парадоксальным образом прочитывается как победный: слабость торжествует над твердостью (что для лирики последнего столетия — важная сквозная тема)[1084].
Правы здесь оба, только Ямпольский — с философско-антропологической стороны, а Кузьмин — с литературной. Ямпольский говорит о новой организации внутреннего мира, а Кузьмин — об изменившейся структуре поэтического текста. Но оба они пишут о фрагментации.
Фраза Ямпольского о том, что в стихотворении Глазовой «нет строк», неточна. Философа можно понять в том смысле, что опыт, не описанный, но (пере) созданный в этом произведении, «квантуется» не так, как это было в поэзии XX века, а иначе. Строки в стихотворении Анны Глазовой связаны друг с другом отношением даже не диафоры (напоминаю: соположение строк или фрагментов, порождающих метафору вместе), а смысловой фрагментации мира, напоминающей феноменологическую редукцию по Э. Гуссерлю[1085]. Однако повествователь/ница знает, что «стена ждет», поэтому он/она соединен/а с миром отношениями не только отстранения и «непонимающего» наблюдения, но и сочувствия: мир, разделенный на осколки, начинает говорить о том, чего он хочет, чего он ждет.
Изменение ритма в последней строке иконически изображает ту парадоксальную ситуацию, в которой оказывается в финале повествователь. «Рука дрогнула» — телесное чувство, свидетельствующее о затруднительности действия. Но только эта неловкость позволяет собрать воедино отдельные элементы чувственного опыта: не через практику (рисование мелом на стене), а через осознание своего тела. Стихотворение словно бы отвечает на вопрос, что может находиться за пределами редукции, разделяющей мир на отдельные фрагменты, интенции, ноэмы. (Ноэма — в философии Гуссерля предметное содержание, данное в мысли[1086].) В последней строке меняется семантика монтажа: от компоновки ноэм автор вдруг переходит к осознанию того тела, которое мыслит и которое «вписано» в мир наделенных смыслом, чувствующих, способных испытывать желания феноменов. Тело проявляет слабость и — теперь стоит продолжить мысль Кузьмина — только благодаря этому может вступить в подлинный (то есть не предсказанный предшествующими практиками, не «захватанный») контакт с миром.
Для перевода нового квантования опыта в новое структурирование текста могут быть использованы разные типы поэтики, но все они с необходимостью будут основаны на новом, проблематизирующем понимании мимесиса в духе Адорно и особенно Лаку-Лабарта, как об этом шла речь во введении.
Такой перевод осуществляется совершенно не обязательно с помощью приемов, напоминающих монтаж, и не обязательно в поэзии. Однако если рассматривать, как здесь может работать монтаж, то в изменившейся ситуации его задачей становятся рекомбинация паттернов, квантов, «вспышек» опыта — при подчеркивании их изначальной дискретности. Организация эта может идти по двум путям.
Первый — радикализация дискретности, при которой изображение, текст, визуальный нарратив становятся еще более дробными, чем привычно современному человеку из его «медиального» и «дигитального» опыта, — или иначе, непривычным образом «кадрированными». Следствием такой работы, как ни странно, может стать новое переживание подлинности смыслового жеста, осуществляемого в данный момент, «возвращение ауры» уникальности события, утрата которой описана в работе Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»[1087]. Эксперименты такого рода в современной русской поэзии я назвал «микромонтажами смысловых жестов»[1088].
Одной из самых ярких тенденций поэзии 2000-х стало развитие своего рода молекулярного смыслового анализа. Авторы с очень разной поэтикой составляют стихи из конфликтных, разнородных образов, мелодических фрагментов, аллюзий. Отдаленным прототипом этой тенденции являются стихотворения сюрреалистов и позднего Мандельштама, но есть одно принципиальное отличие от прежних традиций. В стихах современных авторов отношение каждого из фрагментов к другим частям стихотворения и к внешнему миру парадоксально сочетает в себе амнезию и гипертрофированную памятливость (у предшественников памятливость, пожалуй, была намного важнее). Каждая из таких частей — словно бы сама по себе, окуклившаяся, не помнящая о своем происхождении, в то же время неявно отсылает к множеству источников — к политическим новостям, культурным традициям, философским спорам. Поэтому переход от одного фрагмента к следующему легко становится личной микротравмой, свидетельствующей о преодолении комфортного, внутренне согласованного миропонимания.
Интонационные сбои, повторяющиеся с не мотивированными на первый взгляд изменениями строки, — все это демонстрирует, что поэтическая речь в своем разворачивании как будто все время наталкивается на препятствия, и даже более того — что при каждом таком столкновении говорящий должен немного пересоздать себя, чтобы иметь возможность говорить и двигаться (то есть жить) дальше.
Поэтическое «я» 2000-х, таким образом, — внутренне разнородное, собирающее себя из нарочито конфликтных элементов, из смысловых жестов, наделенных разной памятью, в своем столкновении рождающих электрические токи боли и освобождения. Такое «я» признает себя слабым, но именно раздробленность придает ему удивительную живучесть: в столкновениях жестов и голосов образуются новые смыслы — не те, с которыми «перспективно работать», но те, которые можно разделить с другими.
Помимо обсужденных выше поэтов — Глазовой, Ники Скандиаки, Егении Сусловой — к авторам такого рода можно отнести поэтов Андрея Сен-Сенькова[1089] и Полину Андрукович. (Впрочем, для каждого из них эта стратегия рефрагментации является лишь одной из многих возможных.)
ВОЛК. LUPUS волк серая ресница слепого леса если животное сможет угадать из какого мокрого зеленого глаза она упадет исполнится любое желание даже не превратиться в домашнюю собаку […] КОМПАС. PYXIS нельзя так с географией все северные царапины стрелки компаса одеты в белые магнитные шубки в каждой шубке два запрещенных кармана для замерзших кулачков запада и востока согреются потом юг справедливо сломает им указательные пальцы АНДРОМЕДА. ANDROMEDA приковавшая сама себя к скале андромеда с нетерпением ждет морское чудовище много лет она представляла его себе высокое голубоглазое может быть даже вокалист подводного бойз-бенда вот оно андромеда разочарована обычный мальчик у нее таких сотни все мы были обычными мальчиками во время публичных казней в афганистане? (А. Сен-Сеньков, «Созвездия: астрофилия неизлечима», до 2009[1090]) относительно музея чуть раньше расположена во времени музыка чуть раньше нее расположено во времени безумие, а чуть раньше безумия расположена во времени смерть но это смотря с какой стороны идти (П. Андрукович, «относительно музея…», до 2013[1091])Второй путь — отрефлексированная рекомбинация элементов изображения и/или текста, при которой степень фрагментарности и условности каждой из составляющих относительно привычна, но тип связи между элементами — нов. Наиболее явные примеры — разобранные выше произведения Саши Соколова и Юрия Лейдермана.
Впрочем, значительная часть экспериментов в современном искусстве комбинирует оба этих метода — ср., например, «Рождественский пост» Завьялова и «Чужими словами» Львовского.
Способность монтажа к выражению дискретности опыта вновь — хотя и совершенно иначе, чем в 1920-е, — делает его методом выражения современности, а не историзации. Однако новое, сегодняшнее понимание современности основано не только на обостренном чувстве уникальности происходящего, но и на памяти о травмах прошлого, а ее разорванность и отъединенность от актуального «я» субъекта тоже выражается монтажом[1092]. Поэтому фокусировка монтажных методов XXI века на представлении «острия момента» (если использовать фразу Ханса Ульриха Гумбрехта «living on the edge of time») — неустойчиво, готово каждый миг раскрыться в непредсказуемое, заминированное прошлое отдельного человека и целого общества.
Рефлексия меняющейся позиции субъекта в истории и настоящем времени может осуществляться не только через монтаж, но и в других эстетических методах — например, через иные, чем прежде формы эпизации[1093]. Обсуждение разнообразия этих методов и места монтажа среди них — задача уже для другого исследования.
Иллюстрации
Религиозно-мистические основы монтажа в модернистском искусстве и возникновение монтажа
1. М. Шагал. Посвящение Аполлинеру. 1911–1912.
Масло, холст, золотая и серебряная пыль. 200 × 189,9 см.
Городской музей Ван Аббе, Эйндховен, Нидерланды.
2. Эль Лисицкий.
Обложка каталога «Русской выставки» в Музее художественных ремесел (Kunstgewerbemuseum), Цюрих. 1929.
3. Эль Лисицкий. Футболист.
Иллюстрация к книге Ильи Эренбурга «6 повестей о легких концах» (М.; Берлин: Геликон, 1922).
4. Использование монтажа в агитационном плакате 1920-х годов. Неизвестный художник.
Л. Б. Каменев. Председатель Совета Труда и Обороны СССР. 1925. Фототипия, хромолитография.
5. Торжество монтажной эстетики — фильм Ф. Ланга по сценарию Теа фон Харбоу «Метрополис» (1927).
Кадр из фильма.
6. Г. Руттман. Кадры из фильма «Берлин.
Симфония большого города» (1927).
7. Вальтер Гропиус. Проект «тотального театра» Эрвина Пискатора. 1927.
Unidentified Artist, Walter Gropius. Total Theater for Erwin Piscator, Berlin, 1927.
Harvard Art Museums / Busch-Reisinger Museum, Gift of Ise Gropius, BRGA. 24. 113.
Photo © President and Fellows of Harvard College.
8. Густав Клуцис. Спартакиада.
Открытка из набора 9 открыток, созданного Г. Клуцисом к I спартакиаде народов СССР. 1928.
Смена рулевого
9. Эль Лисицкий.
Обложка буклета Советского павильона на Всемирной гигиенической выставке (Дрезден, 1930).
10. Борис Ефимов.
Капитан Страны Советов ведет нас от победы к победе! Плакат. 1933.
Монтаж как средство «вождистской» эстетики
11. Густав Клуцис.
Победа социализма в нашей стране обеспечена, фундамент социалистической экономики завершен.
Плакат. 1932.
12. Ксанти Шавински. «Да».
Плакат, призывающий голосовать за Бенито Муссолини.
Италия, 1934.
13. Генрих Футерфас.
Сталинцы! Шире фронт стахановского движения!
Плакат. 1935.
14–16. Майя Туровская, Юрий Ханютин, Михаил Ромм.
Коллажные листы с текстом и фотографиями — материалы к сценарию фильма «Обыкновенный фашизм».
Репродуцировано из книги: Der gewöhnliche Faschismus. Ein Werkbuch zum Film von Michail Romm / Hg. v. Wolfgang Beilenhoff. Berlin: Vorwerk, 2009.
17. Всеволод Некрасов. Коллажная композиция. 1973. Реконструкция М. А. Сухотина. © Вс. Некрасов, наследники 2015.
Подробнее о монтажных приемах у Некрасова см.: Сухотин М. Л. Мозаичность композиции и ретроспективное самоцитирование в стихах Вс. Некрасова // Сайт Александра Левина ().
Из работ П. П. Улитина и А. Н. Асаркана
18. Павел Улитин. Страница рукописи.
Использована страница календаря с рекламой фильма Хуана Антонио Бардема (Juan Antonio Bardem) «Смерть велосипедиста».
Москва, частное собрание. Публикация И. А. Ахметьева. © П. П. Улитин, наследники 2015.
19. Павел Улитин. Разворот рукописи «Детективная история» (1959).
Москва, частное собрание. Публикация И. А. Ахметьева.
© П. П. Улитин, наследники 2015.
20. Открытка Александра Асаркана.
Публикация Е. П. Шумиловой и М. Н. Айзенберга.
© А. Н. Асаркан, наследники 2015.
21. Открытка Александра Асаркана.
Публикация Е. П. Шумиловой и М. Н. Айзенберга.
© А. Н. Асаркан, наследники 2015.
22. Открытка Александра Асаркана.
Публикация Е. П. Шумиловой и М. Н. Айзенберга.
© А. Н. Асаркан, наследники 2015.
23. Кафе «Артистическое» в Москве — место «перформансов» П. Улитина в 1960-е.
Фотография 1970-х годов.
Американский и российский концептуализм
24. Искусство «классического авангарда» как материал для цитирования.
Франциско Инфанте. Артефакты. Из цикла «Супрематические игры». 1968.
25. Илья Кабаков. Проверена! На партийной чистке.
1981. Музей Людвига, Кёльн.
26. Илья Кабаков. Туалет.
Инсталляция впервые построена на выставке Documenta X в Касселе, 1992.
27. Джозеф Кошут.
Памятник Ж.-Ф. Шампольону в виде огромной копии Розеттского камня во дворе дома-музея Шампольона в Фижаке.
Франция. 1990.
28. Джозеф Кошут. Язык равновесия (The Language of the Equilibrium). Инсталляция.
Венеция, Сан-Андреа-дельи-Армени, 2006. Источник: /.
29. Лоренс Вайнер.
Обрывки и кусочки, положенные вместе, чтобы создать впечатление целого (Bits & Pieces Put Together To Present A Semblamce Of A Whole). 1991. Walker Art Center, Миннеаполис, США.
Фотография пользователя Википедии GearedBull с правом свободного распространения. 2004.
Библиография
Книга основана на материале опубликованных статей:
1. Ангел истории и сопровождающие его лица: О поколенческих и «внепоколенческих» формах социальной консолидации в современной русской литературе // Пути России: Культура — общество — человек: Материалы Международного симпозиума (25–26 января 2008 года) / Под ред. А. М. Никулина. М.: Логос, 2008. С. 108–127.
2. Маятник одиночества: предварительные замечания о конструировании понятия «русская неподцензурная поэзия» // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании: Сб. науч. статей. Вып. 9: В 2 т. М.: МГПИ, 2010. Т. 1. С. 242–252.
3. Documentalist Strategies in Contemporary Russian Poetry // Russian Review. 2010. Vol. 69. No. 4. P. 585–614.
4. A prolonged revanche: Solzhenitsyn and Eisenstein // Studies in Russian and Soviet Cinema, 2011. Vol. 5. № 1. P. 73–102.
5. Александр Галич и эволюция русской неподцензурной поэзии 1960–2000-х годов (К постановке проблемы) // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании: Сб. науч. статей. М.: МГПИ, 2011. Т. 2. № 10. C. 52–61.
6. «Разочарование в истории» как социокультурный диагноз 1960–1970-х годов: Андрей Синявский и Аркадий Белинков // Studi Slavistici. 2011. Vol. VIII. P. 113–136.
7. Два рождения неподцензурной поэзии в СССР // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании: Сб. науч. ст. Вып. 11: В 2 т. М.: МГПИ, 2012. Т. 1. С. 115–124.
8. Приватизация бунта: «вторая жизнь» раннесоветского монтажа // Sign Systems Studies. 2013. Vol. 41. No. 2/3. P. 266–311.
9. Подрывной эпос: Эзра Паунд и Михаил Ерёмин // Иностранная литература. 2013. № 12. С. 147–160.
Предметный указатель
— автобиография. — ассонансная рифма (см. приблизительная рифма). — афоризм (жанр). — барокко. — видеоклипы.
— Вторая мировая война. — глобализация. — дадаизм.
— «Дзига Вертов» (группа кинематографистов). — дизайн выставок. — диссонансная рифма. — дневниковая проза. — иконопись. — историческая травма.
— ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории). — конструктивизм. — концептуализм.
— «корневая рифма» (см. приблизительная рифма). — кубизм.
— «Кузница» (литературное объединение).
— «кусковая конструкция».
— «легальные шестидесятники».
— ЛЕФ.
— «Лианозовская школа».
— ЛТПБ (Ленинградская тюремная психиатрическая больница). — метод нарезок (cut-up). — мимесис. — модернизм.
— «Молодая гвардия» (литературное объединение). — монтажная книга.
— «Необарокко» (литературная группа). — неоклассицизм. — неподцензурная литература. — остранение. — паратаксис.
— Первая мировая война. — персонализация монтажа. — политический активизм. — полифонизм. — приблизительная рифма («корневая», или ассонансная рифма).
— «производственное искусство».
— Пролеткульт.
— РАПП. — режимы историчности.
— Ренессанс. — романтизм. — сдвиг словоразделов.
— «Синтаксис» (самиздатский журнал). — социалистический реализм. — стернианство. — сценический монтаж. — теория исторического романа. — тоталитаризм. — урбанизация. — формализм (теоретическое направление). — фотомонтаж. — фотомонтажный плакат. — футуризм. — фэксы. — цензура (советская). — цензурные функции монтажа. — шинуазри («китайщина», стилизация под китайское искусство). — эпическое полифоническое политическое искусство (ЭППИ). — эпос. — digital storytelling.
Указатель упомянутых произведений
«1919» (Д. Дос-Пасос).
«А вы могли бы?» (В. Маяковский).
«А зори здесь тихие…» (Б. Васильев).
«А. Ф. Гильфердингу» (Ф. Тютчев).
«Абзацы о концептуальном искусстве» (С. ЛеВитт).
«Август Четырнадцатого» (А. И. Солженицын).
«Авось» (А. А. Вознесенский).
«Айболит-66» (Р. А. Быков).
«Александр Невский» (С. М. Эйзенштейн).
«Александр Третий» (Б. А. Садовской).
«Андеграунд, или Герой нашего времени» (В. С. Маканин).
«Андрей Рублев» («Страсти по Андрею») (Анд. А. Тарковский).
«Апология сумасшедшего» (П. Я. Чаадаев).
«Апрель Семнадцатого» (А. И. Солженицын).
«Арсенал» (А. Довженко).
«Архипелаг ГУЛАГ» (А. И. Солженицын).
«Атлас» (У. Воллман).
«Баллада о стерве» (Е. А. Евтушенко).
«Беги, Лола, беги» (Т. Тыквер).
«Без названия» (1969) (И. И. Кабаков).
«Берлин — симфония большого города» (В. Руттман).
«Берлин 1936» («Берлин, 1936 год») (В. А. Луговской).
«Берлин, Александрплац» (А. Дёблин).
«Берлинское детство» (В. Беньямин).
«Бертран де Борн» (Л. Н. Лунц).
«Бестселлер» (Ю. В. Давыдов).
«Бирмингемский орнамент» (Ю. Лейдерман, А. Сильвестров).
«Бирмингемский орнамент 2» (Ю. Лейдерман, А. Сильвестров).
«Блокада» (С. В. Лозница).
«Блокадная книга» (Д. А. Гранин и А. М. Адамович).
«Блюз для мистера Чарли» (Дж. Болдуин).
«Божественная комедия» (Данте Алигьери).
«Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (К. Воннегут).
«Бракосочетание Неба и Ада» (У. Блейк).
«Братская ГЭС» (Е. А. Евтушенко).
«Братья Ершовы» (Вс. А. Кочетов).
«Броненосец „Потемкин“» (С. М. Эйзенштейн).
«Бросок игральных костей никогда не отменит случая» (С. Малларме).
«Буря» (И. Г. Эренбург).
«Бюст Тиберия» (И. А. Бродский).
«В круге первом» (А. И. Солженицын).
«В лесах» (П. И. Мельников-Печерский).
«В островах охотник» (А. А. Проханов).
«В поисках за утраченным временем» (М. Пруст).
«В поиске за утраченным Хейфом» (В. Эрль).
«В ресторане ел суп сидя я…» (Д. Д. Минаев).
«Вавилон» (А. Гонсалес Иньярриту).
«Валькины титьки» (М. Гурбатов).
«Ванька Ключник и паж Жеан» (Ф. К. Сологуб).
«Великий моурави» (А. А. Антоновская).
«Великий плач о городе Париже» (Ж. Лафорг).
«Великодушный рогоносец» (Ф. Кроммелинк).
«Вечное мясо» (А. А. Вознесенский).
«Вещи» (Арс. А. Тарковский).
«Винни-Пух» (А. А. Милн).
«Возрастая и увядая: размышления о насилии, свободе и срочных мерах» (У. Воллман).
«Война с саламандрами» (К. Чапек).
«Волшебное зеркало» (В. Я. Брюсов).
«Вольные мысли» (А. А. Блок).
«Ворота Кавказа» (П. П. Улитин).
«Восемь с половиной» (Ф. Феллини).
«Восстание масс» (Х. Ортега-и-Гассет).
«Времена года» (В. Ф. Панова).
«Время секонд-хэнд» (С. А. Алексиевич).
«Все дальше и дальше» (Л. С. Рубинштейн).
«Вывескам» (В. В. Маяковский).
«Выезд» (Д. С. Самойлов).
«Генеральная линия» (С. М. Эйзенштейн, Г. В. Александров).
«Героическая оборона Ленинграда» (выставка, дизайнер — Н. М. Суетин).
«Герцог» (С. Беллоу).
«Гефсиманский сад» (Б. Л. Пастернак).
«Голод» (К. Гамсун).
«Голубое сало» (В. Г. Сорокин).
«Голубь в Сантьяго» (Е. А. Евтушенко).
«Голый год» (Б. А. Пильняк).
«Голый завтрак» (У. Берроуз).
«Гомосек» (У. Берроуз) — см. «Queer».
«Горы моря и гиганты» (А. Дёблин).
«Госпожа Бовари» (Г. Флобер).
«Готическая комната» (А. Бертран).
«Да здравствует Мексика!» (С. М. Эйзенштейн).
«Даниэль Штайн, переводчик» (Л. Е. Улицкая).
«Две тысячи слов» (Л. Вацулик).
«Двенадцать» (А. А. Блок).
«Двести лет вместе» (А. И. Солженицын).
«Декабрист» (О. Э. Мандельштам).
«Дерево в центре Кабула» (А. А. Проханов).
«Детективная история» (П. П. Улитин).
«Детство 45–53: завтра будет счастье» (Л. Е. Улицкая).
«Джаз» (А. Матисс).
«Диалектическая драматургия» (Б. Брехт).
«Диккенс, Гриффит и мы» (С. М. Эйзенштейн).
«Динамический город» (Г. Клуцис).
«Дневник без имен и чисел» (Б. Б. Вахтин).
«Дневник Кости Рябцева» (Н. Огнёв (М. Г. Розанов)).
«Дневник писателя» (Ф. М. Достоевский).
«Дни великих испытаний» (Г. А. Князев).
«До и во время» (В. А. Шаров).
«До свидания, мальчики!» (М. Н. Калик).
«Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен!» (Э. Г. Климов).
«Добрый человек из Сычуани» (Б. Брехт).
«Довольно околичностей…» (А. А. Вознесенский).
«Доктор Живаго» (Б. Л. Пастернак).
«Дом, который построил Свифт» (М. Захаров).
«Домби и сын» (О. Э. Мандельштам).
«Домик в Коломне» (А. С. Пушкин).
«Дорога в горы» (В. А. Луговской).
«Евгений Онегин» (А. С. Пушкин).
«Египетская марка» (О. Э. Мандельштам).
«Елисей, или Раздраженный Вакх» (В. И. Майков).
«Если Бийл-стрит могла бы заговорить» (Дж. Болдуин).
«Если верить пифагорейцам» (В. С. Гроссман).
«Железная Мистерия» (Д. Л. Андреев).
«Железный поток» (А. С. Серафимович).
«Жидовская кувырколлегия» (Н. С. Лесков).
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентельмена» (Л. Стерн).
«Жить своей жизнью» (Ж.-Л. Годар).
«За правое дело» (В. С. Гроссман).
«За рекой в тени деревьев» (Э. Хэмингуэй).
«Зависть» (Ю. К. Олеша).
«Заговор императрицы» (А. Н. Толстой, П. Е. Щеголев).
«Заметки» (Ю. А. Лейдерман).
«Записки блокадного человека» (Л. Я. Гинзбург).
«Записки из подполья» (Ф. М. Достоевский).
«Записки у изголовья» (Сей-Сёнагон).
«Записные книжки» (И. Ильф).
«Звездный билет» (В. П. Аксенов).
«Зелменяне» (М. Кульбак).
«Зеркало» (Анд. А. Тарковский).
«Знаки припоминания» (М. Н. Айзенберг).
«Знамена» (А. Паке).
«Знамя кинематографии» (Л. В. Кулешов).
«Знают истину танки!» (А. И. Солженицын).
«Золотой край» (В. Б. Шкловский).
«Золотой теленок» (И. Ильф, Е. Петров).
«Зоровавель» (Ю. В. Давыдов).
«Иван Грозный» (А. Н. Толстой).
«Иван Грозный» (С. М. Эйзенштейн).
«Иероним Босх» (П. Г. Антокольский).
«Из колыбели, вечно баюкавшей» («Out of the Craddle Endlessly Rocking») (У. Уитмен).
«Икар» (Г. В. Сапгир).
«Интервенция» (Г. И. Полока).
«Интервенция» (Л. И. Славин).
«Ираклий Саакадзе» (М. Э. Чиаурели).
«Искусство как прием» (В. Б. Шкловский).
«Исторический роман и мы» (А. Дёблин).
«Казанский университет» (Е. А. Евтушенко).
«Как человек плыл с Одиссеем» (В. А. Луговской).
Капелла Четок (А. Матисс).
«Капитан Страны Советов ведет нас от победы к победе» (Б. Е. Ефимов).
«Карьера Артуро Уи, которой могло не быть» (Б. Брехт).
«Каховка» (И. О. Дунаевский, М. А. Светлов).
«Клелия» (М. де Скюдери).
«Конец романа» (О. Э. Мандельштам).
«Конец Санкт-Петербурга» (Вс. И. Пудовкин).
«Королева бензоколонки» (А. А. Мишурин, Н. И. Литус).
«Красное колесо» (как цикл) (А. И. Солженицын).
«Краткий курс истории ВКП(б)».
«Крест» (Л. Шапиро).
«Кумачовый вальс» (А. А. Галич).
«Ленинград» (И. Г. Вишневецкий).
«Лесовичка» (Л. Чарская).
«Лунный камень» (У. Коллинз).
«Любимов» (А. Терц).
«Любовная переписка дворянина и его сестры» (А. Бен).
«Люди и манекены» (А. И. Райкин).
«„Малый Органон“ для театра» (Б. Брехт).
«Манифест дада о немощной любви и горькой любви» (Т. Тцара).
«Манхэттен» (Дж. Дос Пассос).
«Марксизм и вопросы языкознания» (И. В. Сталин).
«Март Семнадцатого» (А. И. Солженицын).
«Мартовские иды» (Т. Уайлдер).
«Мастер и Маргарита» (М. А. Булгаков).
«Матренин двор» (А. И. Солженицын).
«Мать» (Вс. И. Пудовкин).
«Мертвые души» (Н. В. Гоголь).
«Месс-менд» (М. С. Шагинян).
«Ме-ти» (Б. Брехт).
Мидраш Берешит Раба.
«Мир в рупоре» (А. А. Галич [подписано — Саша Гинзбург]).
«Мистерия-Буфф» (В. В. Маяковский).
«Мое образование: книга снов» (У. Берроуз).
«Мой младший брат» (А. Г. Зархи).
«Моллой» (С. Беккет).
«Монолог битника» (А. А. Вознесенский).
«Монолог Мерлин Монро» (А. А. Вознесенский).
«Монтаж аттракционов» (С. М. Эйзенштейн).
«Москва-Товарная» (Е. А. Евтушенко).
«Москва» (В. А. Луговской).
«Мунэ-Сюлли» (В. М. Дорошевич).
«Мы выстоим!» (И. Г. Эренбург).
«Мы из Кронштадта» (Е. Л. Дзиган).
«Мы» (Е. И. Замятин).
«Мюнхен» (Ив. А. Аксенов).
«На добровольную смерть беженца В.Б.» (Б. Брехт).
«На Западе бой» (Вс. В. Вишневский).
«На сопках Манчжурии» (А. А. Галич).
«На сопках Манчжурии» (И. А. Шатров).
«На станции метро» (Э. Паунд).
«Надиктованное» (Д. Митчелл).
«Наедине с собой» (Марк Аврелий).
«Накануне» (И. С. Тургенев).
«Нана» (Э. Золя).
«Наполеон» (Абель Ганс).
«Наущения» («Instigations») (Э. Паунд).
«Наше призвание» (Г. И. Полока).
«Нашедший подкову» (О. Э. Мандельштам).
«Не хлебом единым» (В. Д. Дудинцев).
«Нежит» (А. М. Ремизов).
«Нежность схватывает удар…» (Е. Суслова).
«Незабываемый 1919-й» (Вс. В. Вишневский).
«Некуда» (Н. С. Лесков).
«Необыкновенная история (Истинные события)» (И. А. Гончаров).
«Нетерпимость» (Д. У. Гриффит).
Нобелевская лекция (А. И. Солженицын).
«Новый год» (В. А. Луговской).
«Ночной аэропорт в Нью-Йорке» (А. А. Вознесенский).
«Ноябрь 1918» (А. Дёблин).
«О Граде Божием» (св. Августин Гиппонский).
«О людях, которые идут по одной и той же дороге и об этом не знают. Конец барокко» (В. Б. Шкловский).
«О пользе и вреде истории для жизни» (Ф. Ницше).
«О стихотворном ритме» (О. М. Брик).
«О форме сценария» (С. М. Эйзенштейн).
«Облачный атлас» (Д. Митчелл).
«Облачный атлас» (Т. Тыквер, Л. и Э. Вачовски).
«Обломок империи» (Ф. Эрмлер).
«Обрыв» (И. А. Гончаров).
«Обыкновенный фашизм» (М. И. Ромм).
«Обычная гостиница» (В. А. Луговской).
«Овальный портрет» (Э. По).
«Ода» (О. Э. Мандельштам).
«Один день Ивана Денисовича» (А. И. Солженицын).
«Один и три стула» (Дж. Кошут).
«Одиночество» (Г. В. Сапгир).
«Одиссей Телемаку» (И. А. Бродский).
«Одиссея» (Гомер).
«Одна абсолютно счастливая деревня» (П. Н. Фоменко).
«Одной поэтессе» (И. А. Бродский).
«Оза. Тетрадь, найденная в тумбочке дубненской гостиницы» (А. А. Вознесенский).
«Октябрь Шестнадцатого» (А. И. Солженицын).
«Октябрь» (С. М. Эйзенштейн).
«Олимпия» (Л. Рифеншталь).
«Онмёдзи» (Юмэмакура Баку).
«Опавшие листья» (В. В. Розанов).
«Оптимистическая трагедия» (Вс. В. Вишневский).
«Ответы экспериментальной группы» (И. И. Кабаков).
«Относительно музея…» (П. Андрукович).
«Оттепель» (И. Г. Эренбург).
«Палисандрия» (Саша Соколов).
Памятник Франсуа Шампольону (Дж. Кошут).
«Параболическая баллада» (А. А. Вознесенский).
«Парша на отмели» (А. И. Введенский).
«1 января 1924 года» (О. Э. Мандельштам).
«Перед восходом солнца» (М. М. Зощенко).
«Периодическая система» (П. Леви).
«Пес Барбос и необычный кросс» (Л. И. Гайдай).
«Петр Первый» (А. Н. Толстой).
«Письмо из Эдинбурга» (Г. Реве).
«Письмо к Джейн» (Ж.-Л. Годар, Ж.-П. Горэн).
«Письмо к Республике от моего друга» (В. А. Луговской).
«По образу и подобию, или Как было написано на воротах Бухенвальда: „Jedem das Seine“ — „Каждому — свое“» (А. А. Галич).
«Победа веры» (Л. Рифеншталь).
«Повесть о разуме» (М. М. Зощенко).
«Погорельщина» (Н. А. Клюев).
«Подстрочник» (О. В. Дорман, Л. З. Лунгина).
«Покупайте книги Ленгиза!» (А. М. Родченко).
«Политический театр» (Э. Пискатор).
«Поминки по Финнегану» (Дж. Джойс).
«Помни о Фамагусте» (А. Л. Гольдштейн).
«Посвящение Аполлинеру» (М. З. Шагал).
«Последние дни императорской власти» (А. А. Блок).
«Последний решительный» (Вс. В. Вишневский).
«Последний срок» (В. Г. Распутин).
«Потомок Чингисхана» (Вс. И. Пудовкин).
«Почему искусство сегодня следует за политикой» (В. Вулф).
«Поэма без героя» (А. А. Ахматова).
«Поэма воздуха» (М. И. Цветаева).
«Праздник, который всегда с тобой» (Э. Хэмингуэй).
«Предпраздничная ночь» (Г. В. Сапгир).
«Предрассветные сумерки» (Ш. Бодлер).
«Приказ № 2 по армии искусств» (В. В. Маяковский).
«Про это» (В. В. Маяковский).
«Проверена! На партийной чистке» (И. Кабаков).
«Программа работ» (Л. С. Рубинштейн).
«Продкомиссар» («Звери») (М. А. Шолохов).
«Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (В. Беньямин).
«Пролог» (Е. А. Евтушенко).
«Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» (А. А. Амальрик).
«Путешествие без Надежды» (П. П. Улитин).
«Путешествие в Армению» (О. Э. Мандельштам).
«Путешествие в Кашгар» (Б. Улановская).
«Путешествие вокруг моей комнаты» (Кс. де Местр).
«Путешествие на край ночи» (Л.-Ф. Селин).
«Путь Паломника» (Дж. Беньян).
«Путями Каина» (М. А. Волошин).
«Пушторг» (И. Л. Сельвинский).
«Рабочий и колхозница» (В. И. Мухина).
«Рабочий. Господство и гештальт» (Э. Юнгер).
«Рабфаковке» (М. А. Светлов).
«Разговор о Данте» (О. Э. Мандельштам).
«Разговор о рыбе» (П. П. Улитин).
«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (А. Д. Сахаров).
«Рассказы на ладони» (Кавабата Ясунари).
«Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара и об изменениях, какие они произвели в животном царстве» («Discours sur les revolutions de la surface du globe et sur les changements qu’elles ont produits dans le règne animal») (Ж. Л. Кювье).
«Реквием» (А. А. Ахматова).
«Ритм как диалектика и „Медный всадник“» (Андрей Белый).
«Родина» (Л. Н. Лунц).
«Рожденный на Поманоке» (У. Уитмен).
«Рождественский пост» (С. А. Завьялов).
«Роза Мира» (Д. Л. Андреев).
«Ролан Барт о Ролане Барте» (Р. Барт).
«Россия, кровью умытая» (Артем Веселый).
«Рукописи Гонзаги» (С. Беллоу). «Русские боги» (Д. Л. Андреев).
«Рычи, Китай!» (С. М. Третьяков).
«С того берега» (А. И. Герцен).
«Сады скорпиона» (О. А. Ковалов).
«Самогонщики» (Л. И. Гайдай).
«Свободный стих» (Д. С. Самойлов).
«Связь» (Д. И. Хармс).
«Святой колодец» (В. П. Катаев).
«Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» (А. В. Белинков).
«Сдвигология русского стиха» (А. Е. Крученых).
«Семейный архив» (Б. Г. Херсонский).
«Сентиментальный роман» (В. Ф. Панова).
«Симфония 2-я (драматическая)» (Андрей Белый).
Симфония № 7 (Д. Д. Шостакович).
«Симфония городского дня» (Д. Л. Андреев).
«Сказка сказок» (Ю. Б. Норштейн).
«Слово о Пушкине» (А. А. Ахматова).
«Случай на станции Кочетовка» (А. И. Солженицын).
«Случай с ефрейтором Кочетковым» (А. Е. Разумный).
«Смерть Вазир-Мухтара» (Ю. Н. Тынянов).
«Смерть дезертира» (Г. В. Сапгир).
«Снег» (В. А. Луговской).
«СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА ПОНЕСЛА…» (Н. Искренко).
«Созвездия: астрофилия неизлечима» (А. Сен-Сеньков).
«Солдаты Дзержинского» (В. В. Маяковский).
«Солнцедар» (Т. Ю. Кибиров).
«Солярис» (Анд. А. Тарковский).
«Сопка с крестами» (А. С. Серафимович).
«Сохрани мою печальную историю…» (Лена Мухина).
«Соц-арт» (З. Е. Зиник).
«Спартакиада» (Г. Клуцис).
«Спокойные поля» (А. Л. Гольдштейн).
«Спутники Пушкина» (В. В. Вересаев).
«Ставр Годинович» (русская былина).
«Сталинцы, шире фронт стахановского движения!» (Г. Футерфас).
«Сталкер» (Анд. А. Тарковский).
«Станция Зима» (Е. А. Евтушенко).
«Старая коммунистка царь коммунизма и голос живого страдания» (Д. А. Пригов).
«Старое и новое» (С. М. Эйзенштейн).
«Стачка» (С. М. Эйзенштейн).
«Стихи о неизвестном солдате» (О. Э. Мандельштам).
«Стихи о первой чеченской кампании» (М. А. Сухотин).
«Страдания моих друзей» (В. А. Луговской).
«Странник» (А. Ф. Вельтман).
«Страсти Жанны д’Арк» (К. Дрейер).
«Строгий юноша» (А. М. Роом).
«Структура эпического произведения» (А. Дёблин).
«Супрематические игры» (Ф. Инфанте-Арана).
«США» (Дж. Дос Пассос).
«Сын» (С. Дубровский).
«Татарский бог и симфулятор» (П. П. Улитин).
«ТВС» (Э. Г. Багрицкий).
«Тезисы о понятии истории» (В. Беньямин).
«Текст, посвященный трагическим событиям 11 сентября в Нью-Йорке» (К. Ф. Медведев).
«Тень» (Е. Л. Шварц).
«Терцихи Генриха Буфарёва» (Г. В. Сапгир).
«Тимей» (Платон).
«Только моя Япония» (Д. А. Пригов).
«Тот самый Мюнхгаузен» (М. А. Захаров).
«Трава забвения» (В. П. Катаев).
«Трест Д. Е.» (И. Г. Эренбург).
«III Интернационал» (С. А. Обрадович).
«Третий ум» (У. Берроуз, Б. Гайсин).
«Три прыжка Ван Луня» (А. Дёблин).
«Три товарища» (С. А. Тимошенко).
«Триптих» (С. Соколов).
«Триумф воли» (Л. Риффеншталь).
«Трудно быть богом» (А. Н. и Б. Н. Стругацкие).
«Туалет» (И. И. Кабаков).
«Тунеядец» (А. И. Солженицын).
«У войны не женское лицо» (С. А. Алексиевич).
«У стен Малапаги» (Р. Клеман).
«Улисс» (Дж. Джойс).
«Улитка на склоне» (А. Н. и Б. Н. Стругацкие).
«Улица с односторонним движением» (В. Беньямин).
«Упражнение в стиле» (Р. Кено).
«Утро» (Н. А. Некрасов).
«Фактура слова» (А. Е. Крученых).
«Формула любви» (М. А. Захаров).
«Фразы о концептуальном искусстве» (С. ЛеВитт).
«Фуга» (Н. Ю. Искренко).
«Футболист» (Эль Лисицкий).
«Хабаровский резидент» (П. П. Улитин).
«Холстомер» (Л. Н. Толстой).
«Хуан де Майрена» (А. Мачадо).
«Художник современной жизни» (Ш. Бодлер).
«Царская Россия накануне революции» («La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre») (Ж. М. Палеолог).
«Чайльд-Гарольд из Дисны» (М. Кульбак).
«Человек с киноаппаратом» (Д. Вертов).
«Черепиц/перья» (Н. Скандиака).
«Черная книга» (под ред. В. С. Гроссмана и И. Г. Эренбурга).
«Черновик чувств» (А. В. Белинков).
«Черные факелы» (Э. Верхарн).
«Чертогон» (Н. С. Лесков).
«Четвертая проза» (О. Э. Мандельштам).
«Читаем блокадную книгу» (А. Н. Сокуров).
«Что же ты хочешь?» (В. А. Кочетов).
«Что тот солдат, что этот» (Б. Брехт).
«Чужими словами» (Ст. Львовский).
«Шестая часть мира» (Д. Вертов).
«Школа для дураков» (Саша Соколов).
«Шоа» (К. Ланцманн).
«Штурм. Латышские стрелки» (Г. Клуцис).
«Шум времени» (О. Э. Мандельштам).
«Энтузиазм: симфония Донбасса» (Д. Вертов).
«Это я» (Л. С. Рубинштейн).
«Это…» (Памяти К. П. Богатырева) (Вс. Некрасов).
«Юность» (В. Кёппен).
«Юрий Тынянов» (А. В. Белинков).
«Я — вожатый форпоста» (Г. И. Полока).
«Я — Гойя» (А. А. Вознесенский).
«Я знаю знак…» (А. Глазова).
«Я из огненной деревни…» (А. М. Адамович, Я. Брыль, В. А. Колесник).
«Я не поэт — и, не связанный узами…» (В. С. Курочкин).
«Art as Idea As Idea» (Дж. Кошут).
«Bits & Pieces Put Together to Present a Semblance of a Whole» (Л. Вайнер).
«Blessings on the Hand of Women» (У. Р. Уэллес).
«Cantos» (Э. Паунд).
«Fors Clavigera: Письма к рабочим и труженикам Великобритании» (Дж. Рёскин).
«From Culture to Veramusement» (Г. Флинт).
«Nova Express» (У. Берроуз).
«Pravda» (Ж.-Л. Годар, Ж.-А. Роже).
«Queer» (Берроуз У. С.).
«Si» (Кc. Шавински).
«The Language of Equilibrium» (Дж. Кошут).
«W, или Воспоминания детства» (Ж. Перек).
«Zoo, или Письма не о любви» (В. Б. Шкловский).
Именной указатель
А. Ник (Аксельрод Н.).
Абайдулов А. Г.
Августин Гиппонский, св.
Авербах Л.
Аверинцев С. С.
Авторханов А.
Агуреева П.
Адамович А. М.
Адаскина Н. Л.
Аджубей А. И.
Адибеков К.
Адорно Т.
Азизов З.
Азов А. Г.
Айзатулина-Силард Л. (Силард Л.).
Айзенберг М. Н.
Айзикова И. А.
Айхенвальд Юр. А.
Аксельрод Н. — см. А. Ник.
Аксёнов В. П.
Аксёнов Ив. А.
Акулова В.
Акутин Ю. М.
Александр III, российский император.
Александра Федоровна, российская императрица, жена Николая II.
Александров А. А.
Александров Георг. Ф.
Александров Гр. В. (наст. фам. Мормоненко).
Александрова Т.
Алексиевич С. А.
Алёхин И.
Алпатов В. М.
Альтман И. А.
Альтюссер Л.
Алянский С. М.
Амальрик А. А.
Амелин Г. Г.
Амирханян В.
Андерсон Б.
Андреев Д. Л.
Андреев Л. Н.
Андреева А. А.
Андреева И. П.
Андроникашвили-Пильняк Б. Б.
Андропов Ю. В.
Андрукович П.
Антельм Р.
Антокольский П. Г.
Антонов В.
Антоновская А. А.
Анциферов Н. П.
Аполлинер Г.
Апостолов Н. Н.
Арад И.
Аретинская Л.
Аристотель.
Аронсон М.
Арп Х.
Артизов А. Н.
Артог Ф.
Арутюнова Н. Д.
Архангельский А. Г.
Архипов А.
Асаркан А. Н.
Асафьев Б. В.
Асеев Н. Н.
Ататюрк М. К.
Атлас Д.
Ауэр А.
Ахмадулина Б. А.
Ахматова А. А.
Ахметьев И. А.
Ашукин Н. С.
Ба Дзинь (Ли Яотан).
Бабель И. Э.
Багрицкий Э. Г.
Бадью А.
Баевская Е. В.
Базен А.
Бакайет М. Дж.
Бакунин М. А.
Балашов Н. И.
Бальзак О. де.
Баньковская С. П.
Барабанов Е. В.
Барабаш Ю. Я.
Бараев В. В.
Баратынский Е. А.
Барна И.
Барскова П.
Барт Дж.
Барт Р.
Бархатова Е. В.
Басилашвили О.
Баскаков В. Е.
Баскакова Т. А.
Басс В. Г.
Бах И. С.
Бахтин М. М.
Безыменский А. И.
Бейлис С.
Беккет С.
Белафонте Г.
Белинков А. В.
Белинкова-Яблокова Н.
Белл М.
Беллоу С.
Белоненко А. С.
Белфрейдж С.
Белый Андрей (Бугаев Б. Н.).
Беляк А.
Белякова А.
Белякович В. Р.
Бен А.
бен Бецалель Й. Л.
Беньямин В.
Беранже П. Ж.
Берг М. Ю.
Берггольц О. Ф.
Бергсон А.
Бёрд Р.
Берзиньш Я.
Берия Л. П.
Берман Я. К. (он же генерал Доницетти, настоящее имя — Кюзис П. Я.).
Берроуз У. С.
Берсенева Г.
Бертран А.
Бетховен Л. ван.
Бехлер Б.
Бибихин В. В.
Библер В. С.
Бланки О.
Блауберг И. И.
Блейк У.
Блок А. А.
Блох Э.
Блум Х.
Блюм Арлен Викт.
Блюмбаум А. Б.
Бобринская Е. А.
Бобров С. П.
Богатырев К. П.
Богатырев П. Г.
Богданов К. А.
Богданов Л. Л.
Богомолов Н. А.
Богословская-Боброва М. П.
Бодлер Ш.
Бодрийяр Ж.
Божович В.
Бойм С.
Боковиков А. М.
Болдуин Дж.
Болдырев И.
Болтански Л.
Бонапарт Луи Наполеон (Наполеон III).
Бордуэлл Д.
Борисов Д.
Борхес Х. Л.
Боулт Дж.
Бочаров С. Г.
Бочарова И. А.
Бранденбергер Д.
Брандо М.
Брежнев Л. И.
Брейгель-младший П.
Брехт Б.
Брик Л. Ю.
Брик О. М.
Бродберри С.
Бродель Ф.
Бродский И. А.
Бродский Н. Л.
Броннер Е. Б.
Брускин Г. Д.
Брыль Я.
Брынцева Г.
Брюсов В. Я.
Буданова Н. Ф.
Будницкий О. В.
Букчин С. В.
Булгаков М. А.
Булгакова Е. С.
Булгакова О.
Булдаков В. П.
Бунге Н. Х.
Бунин И. А.
Бурас М. М.
Бурков О. А.
Бурцев В. Л.
Бурцева А. М.
Буш Э.
Быков Р. А.
Быкова Е. Л.
Бьюмонт М.
Вагинов К. К.
Вайгель Е.
Вайль П.
Вайнер Л.
Вайнштейн О. Б.
Вайскопф М. Я.
Ваковски Д.
Ван Баскирк Э.
Варбург А.
Васильев Б.
Вахтель Э. Б.
Вахтин Б. Б.
Вацулик Л.
Вачовски Л. и Э.
Введенский А. И.
Вебер М.
Вегин П.
Вельтман А. Ф.
Вёльфлин Г.
Вересаев В. В.
Верналис К.
Вертов Дзига (Кауфман Д. А.).
Верхарн Э.
Вершинин С. Е.
Весёлая З. А.
Весёлый Артем.
Веттлауфер А.
Вётшина Н. Ж.
Видугурите И.
Викторов Б. П.
Винник Н. В.
Виноградов И. И.
Винокуров Ф.
Винокурова И.
Винонен Р.
Витгенштейн Л.
Витковский Е. В.
Витте Г.
Вишневецкий И. Г.
Вишневский Вс. В.
Вишнякова М.
Водопьянова З. К.
Вознесенский А. А.
Возьмитель А.
Войнович В. Н.
Войтехович Р. С.
Волков С.
Воллман У.
Воллмер Дж.
Волошин М. А.
Волошинов В. Н.
Волчек Д. Б.
Вольпина В. Б.
Вольтер (Ф. М. Аруэ).
Воннегут К.
Воронский А.
Вулф В.
Высоцкий В. С.
Вьолле К.
Габович М.
Гайдай Л. И.
Гайсин Б.
Галан Ф. У.
Галич А. А.
Галушкин А. Ю.
Гамильтон Р.
Гамсун К.
Ганс Абель.
Гарнин В. П.
Гартман Э. фон.
Гаспаров Б. М.
Гаспаров М. Л.
Гатов А. Б.
Гваттари Ф.
Геббельс Й.
Гегель Г. В. Ф.
Геллер Л. М.
Гёльдерлин И. Х. Ф.
Гельмгольц Г. Л. Ф.
Гениева Е. Ю.
Генис А. А.
Генлейн К.
Герасимова А. Г.
Герцен А. И.
Герчук Ю. Я.
Гершензон М. О.
Гершензон Ольга.
Гессен С. Я.
Гибсон Дж. Дж.
Гильфердинг А. Ф.
Гиммлер Г.
Гинзбург Ал. И.
Гинзбург Карло.
Гинзбург Л. В.
Гинзбург Л. Я.
Гиривенко А. Н.
Гирин Ю. Н.
Гительман Цви (Gitelman Zvi).
Гитлер А.
Гиш Л.
Глаголев А.
Глазков Н. И.
Глазова А. С.
Гланц-Лейелес А.
Глатштейн Я.
Глезос М.
Гоголь Н. В.
Годар Ж. Л.
Годийер Ж.-М.
Голиков И. И.
Голомшток И. Н.
Голубева В.
Голубков М.
Гольдштейн А. Л.
Гомер.
Гонсалес Иньярриту А.
Гончаров И. А.
Горбаневская Н. Е.
Гордон Л.
Горин Г. И.
Горожанин В.
Горький А. М.
Горэн Ж.-П.
Горюнова Н.
Гофман Э. Т. А.
Граблевская Т. А.
Гранин Д. А.
Грасиан Б.
Грачев Р. И.
Грачева А. М.
Грегори Х.
Гречаная Е. П.
Григорьева Н. Я.
Гринберг И. Л.
Гринберг Клемент.
Гринцер П. А.
Гриффит Д. У.
Гришина О.
Гройс Б. Е.
Громова Н. А.
Гропиус В.
Гросс Г.
Гроссман В. С.
Груздев И. А.
Гудзенко С. П.
Гудкова В. В.
Гумбрехт Х. У.
Гумилев Н. С.
Гунст Е. А.
Гурбатов М.
Гуро Е. Г.
Гурович А.
Гурьянова Н. А.
Гусарова Н.
Гусев Н. Н.
Гуссерль Э.
Гутнов А. Э.
Гюго В.
Давуан Ф.
Давыдов Д. М.
Давыдов Ю. В.
Даль В. И.
Данилова Н. Д.
Даниэль Ю. М.
Данн Дж. У.
Дар Д. Я.
Дёблин А.
Делёз Ж.
Дементьев Александр Гр.
Деррида Ж.
Джагалов Р.
Джалиль М.
Джеймисон Ф.
Джеймс У.
Джойс Дж.
Дзиган Е. Л.
Диккенс Ч.
Диккенсон Т.
Дмитриев А. Н.
Дмитриева Е. Е.
Добренко Е. А.
Добротворский С. Н.
Довженко А. П.
Домрачёва Т. В.
Донской М. С.
Дорман О. В.
Доронин И. И.
Дорошевич В. М.
Дорошенко О.
Дорошенков С.
Дос Пасос Дж.
Достоевский Ф. М.
Доэрти Б.
Драгомощенко А. Т.
Драч И. Г.
Дрезден А. К.
Дрейер К.
Дробашенко С.
Дробышевская Т.
Друк В. Я.
Друскин М. С.
Друскин Я. С.
Дубин Б. В.
Дубовиков А. Н.
Дубровский С.
Дудаков-Кашуро К. В.
Дудинцев В. Д.
Дунаевский И. О.
Дюбюффе Ж.
Дягилев С. П.
Евстигнеева А. Е.
Евтушенко Е. А.
Егунов А. Н.
Ежов Н. И.
Елагин Ю. Б.
Ерёмин М. Ф.
Ермошин Ф.
Ерхов Б. А.
Есенин-Вольпин А. С.
Ефимов Б. Е.
Жадова Л. А.
Жанна д’Арк.
Жаров А. А.
Жванецкий М. М.
Жданов А. А.
Желябов А. И.
Жиль П.
Жириновский В. В.
Жолковский А. К.
Жолтовский И. В.
Жуковский В. А.
Журавлева И. В.
Забродин Вл. Вс.
Завьялов С. А.
Зализняк А. А.
Зальцман П. Я.
Замятин Е. И.
Заппа Ф.
Зарипова А.
Зархи А. Г.
Захаров А. А.
Захаров М. А.
Захарова С.
Захарофф Б. (Метевски).
Зверев А. М.
Зеленина Г. С.
Зелинский В.
Зелинский К. Л.
Земляной С. Н.
Зенкин С. Н.
Зильберман Д. Б.
Зильберштейн И. С.
Зиммель Г.
Зиник З. Е.
Златогорова Т. С.
Золотоносов М. Н.
Золя Э.
Зорин А. Л.
Зоркая Н. М.
Зощенко М. М.
Иванов Вс. Вяч.
Иванов Вяч. Вс.
Иванов Евг.
Иванова Т. Г.
Иванчин-Писарев Н. Д.
Иващенко А.
Иващенко Ю.
Ивлева Т. В.
Игрунова Н. Н.
Измайлов Л. М.
Иконников А.
Ильф И. (Файнзильберг И.-Л.).
Инбер В. М.
Иноземцева Л.
Инфанте Ф. (Инфанте-Арана Ф.).
Иоанн Златоуст, св.
Иослович И.
Иоффе И. И.
Искренко Н. Ю.
Кабаков И. И.
Кабакова (Солодухина) Б. Ю.
Кабакова Э.
Кавабата Ясунари.
Каверин В. А.
Каган М. С.
Каган Ян.
Каганович М. Э.
Казанков А.
Казовский Г.
Кайдаш-Лакшина С. Н.
Кайсарова Л. И.
Калабрезе О.
Калик М. Н.
Калинин А.
Калинин И. А.
Камбиев Х.
Канищева Е.
Каплан И.
Каплер А. Я.
Каптеревский Ю.
Караганов А. В.
Карасик И.
Карина А.
Карпова О. В.
Карут К.
Кассек Д.
Катаев В. П.
Кац Ф.
Кацис Л. Ф.
Келдыш В.
Кёнигсберг М. М.
Кено Р.
Кёппен Ф.
Керви А.
Кёртис Т.
Кестнер Э.
Кибиров Т. Ю.
Кирсанов С. И.
Киршон В. М.
Киселева Л. Г.
Кислов В. М.
Китаев Л.
Клейман Н. И.
Климов А.
Климов Э. Г.
Клочкова К.
Клуцис Г.
Клюев Н. А.
Кнабе Г. С.
Князев Г. А.
Кобрин К. Р.
Кобринский А. А.
Ковалёв Г. В.
Ковалев Д.
Коваленко С. А.
Ковалов О. А.
Ковенева О.
Ковтун Н. В.
Коган В.
Коган П. Д.
Козеллек Р.
Козина Е.
Козина Н. М.
Козинцев Г. М.
Козлов Л. К.
Козлов С. Л.
Козырева Н.
Кокшенева К. А.
Колдушко А.
Колесник В. А.
Коллинз У.
Колышкина С.
Кольридж С. Т.
Кольцов М. Е.
Комар В. А.
Кондратов Э. М.
Кончаловский А. С.
Копанева Н. П.
Копелев Л. З.
Копосов Н. Е.
Коржавин Н. М.
Кормер В. Ф.
Корнблюм Р. Э.
Корниенко Н. В.
Корнилов В. Н.
Коростелев В. Н.
Корсо Г.
Корти М.
Косиков Г. К.
Костомаров Г.
Костырченко Г. В.
Костюкович Е.
Косыгин А. Н.
Котлерман Д.-Б.
Коц А. Я.
Кочеткова Н.
Кочетов Вс. А.
Кошут Дж.
Красовицкая Т. Ю.
Кривеллер К.
Кривулин В. Б.
Кристева Ю.
Кристи А.
Кроммелинк Ф.
Кронгауз М. А.
Кропивницкий Е. Л.
Кропоткин П. А.
Кротов Я. Г.
Крутиков М.
Крученых А. Е.
Кузмин М. А.
Кузнецов М. А.
Кузьмин Д. В.
Кузьминский К. К.
Кукулина Э. И.
Кулаков Вл.
Кулешов Л. В.
Кульбак М.
Кульчицкий М. В.
Куренной В. А.
Куропаткин А. Н.
Курочкин В. С.
Куртис Дж.
Кшесинская М.
Кьеркегор С.
Кювье Ж. Л.
Кюссман М.
Лаваль П.
Лавинский А.
Лавров А. В.
Лаку-Лабарт Ф.
Лакшин В. Я.
Ланиа Л. (Херман Л.).
Ланцманн К.
Ларошфуко Ф. де.
Лассан Э.
Лафорг Ж.
Лахути Д. Г.
Лебедева О. Б.
Леви П.
Левик В.
Левина-Паркер М.
Левинг Ю.
ЛеВитт С.
Левченко Я. С.
Лежён Ф.
Лежэ Ф.
Лейбов Р. Г.
Лейбович О. Л.
Лейдерман Д. М.
Лейдерман Ю. А.
Ленин В. И.
Лесков Н. С.
Лесная Л. В. (Шперлинг Л. В.).
Ле-Цзы.
Либкнехт К.
Линхарт Л.
Лиотар Ж.-Ф.
Липман Л. Д.
Липовецкий М. Н.
Лисюткина Л.
Литус Н. И.
Лифшиц М. А.
Лихачев Д. С.
Ло Гатто Э.
Лобанова М.
Логвиненко А. Д.
Лозница С. В.
Лойола Игнатий, св.
Локшин А.
Ломагин Н. А.
Ломоносов М. В.
Лосев Л. В.
Лотман М. Ю.
Лотман Ю. М.
Лошак М.
Луговской В. А.
Луйкен Г.
Лукач Г.
Луконин М. К.
Лунгина Л. З.
Лундберг Е. Н.
Лунц Л. Н.
Луцкус В.
Лысенко Е. М.
Львов С.
Львовский С.
Любимов Н. М.
Любимова М.
Люксембург Р.
Лютова С. Н.
Магун А. В.
Мазур С. Ю.
Майзель М.
Майков В. И.
Майланд-Хансен Х.
Майофис М. Л.
Маканин В. С.
Макдональд Ш.
Мак-Коун Э.
Маклюэн М.
Максименков Л. В.
Малеванная Л.
Малевич К. С.
Маленков Г. М.
Малларме С.
Мальро А.
Малявин В. В.
Мамардашвили М. К.
Мамонов Б. К.
Мандельштам О. Э.
Мануйлов В. А.
Мао Цзедун.
Марголит Е. Я.
Мария Антуанетта, королева Франции.
Мария Вальтер де.
Марк Аврелий.
Маркион из Понта.
Марков А.
Маркова В.
Маркс К.
Мархасёв Л. С.
Матисс А.
Матич О.
Махов А. В.
Мачадо А.
Маяковский В. В.
Медведев К. Ф.
Медведев Ю. П.
Медведева Д. А.
Межиров А. П.
Мейерхольд Вс. Э.
Меламид А. Д.
Мельников-Печерский П. И.
Местр Кс. де.
Микоян А. И.
Миллер А.
Милль Сесил Б. де.
Милн А. А.
Мильденбергер М.
Мильман В. А.
Минаев Д.
Минков Н. Б.
Минц З. Г.
Мислер Н.
Митта А. Н.
Митчелл Д.
Михайлик Е. Ю.
Михайлов А. В.
Михайлов А. Д.
Михед П.
Мишарин А. Н.
Мишурин А. А.
Модогоев А. У.
Молодяков В. Э.
Монастырский А. В.
Мордовченко Н. И.
Московская Д. С.
Мохой-Надь Л.
Мо-Цзы.
Муллек Г.-Ж.
Мунблит Г. Н.
Муратов П. П.
Мухина В. И.
Мухина Лена (Елена).
Мэй Ланьфан.
Мюрберг И.
Мягков Б. С.
Надель А. Б.
Наджафов Дж. Г.
Надточий Э. В.
Назаренко М.
Наринская А.
Нарышкина Е. М.
Наумов В. Н.
Наумов В. П.
Наумов О. В.
Невская Д. Р.
Некрасов Вс. Н.
Некрасов Н. А.
Нелепо Б.
Немзер А. С.
Нерлер П. М.
Нестеров А. В.
Нетеркотт Ф.
Нижний В.
Никербокер К.
Никитина З. А.
Николаев В.
Николаев Н.
Николай II.
Никольская А. В.
Никонова О.
Никсон Р.
Никулин А. М.
Никулин Л. В.
Нилин М. П.
Нинов А.
Ницше Ф.
Новикова Л. Г.
Новицкий П. И.
Норштейн Ю. Б.
Нэш О.
О’Рурк К.
Обатнина Е. Р.
Обермайр Б. (Obermayr B.).
Оболдуев Г. Н.
Обрадович С. А.
Огнёв Н. (Розанов М. Г.).
Огурцов А. П.
Одесский М. П.
Ожиганов А. Ф.
Озерова К. Н.
Оксман Ю. Г.
Окуджава Б. Ш.
Олеша Ю. К.
Ольшанский Д. А.
Орен И. (Надель И.).
Орлицкий Ю. Б.
Орлов Д. К.
Ортега-и-Гассет Х.
Остерхаммель Ю. (Osterhammel J.).
Островский А. Г.
Островский А. Н.
Охапкина Л.
Павленко П. А.
Павлов Е.
Павловец М. Г.
Пазолини П. П.
Паке А.
Палеолог Ж. М.
Палладио А.
Панкратов Ю.
Панов С. И.
Панова В. Ф.
Паньков Н. А.
Паперно И. А.
Паперный В.
Парамонов Б.
Парен Б.
Парщиков А. М.
Пастернак Б. Л.
Пастернак Е. Б.
Пастернак Е. В.
Паунд Э.
Пашков А. В.
Пежемский М. Г.
Перек Ж.
Перельмутер В.
Пермяк Е.
Перуджино П.
Песков А. М.
Пессоа Ф.
Петен А. Ф.
Петр I.
Петренко А. Ф.
Петров Вс. Н.
Петров Е. (Катаев Е. П.).
Петров Н. В.
Петрова М. В.
Петрова М. Г.
Петровская Е. В.
Петрушевская Л. С.
Пешков И. В.
Пиво Б.
Пикассо П.
Пильняк Борис.
Пинскер Ш.
Пинский Л. Е.
Пинчон Т.
Пирс Дж. (Pearce J.).
Пискатор Э.
Плампер Я.
Платон.
Платонов А. П.
Платт К.
Плотникова Н. С.
По Э.
Погани М.
Погодин Н.
Подорога В. А.
Покровский В.
Поливанов К. М.
Полока Г. И.
Поляков М. Я.
Поляков Ф.
Полякова Л. В.
Полян А. Л.
Померанцев И. Я.
Пономаренко П. К.
Попов Ю. Н.
Поспелов Г. Н.
Поспелов П. Н.
Прат Н.
Праш Т.
Пригов Д. А.
Пробштейн Я.
Прокофьев С. С.
Проханов А. А.
Прохоров Алекс.
Прохоров Анат. В.
Прохорова И. Д.
Пруст М.
Птушкина И. Г.
Пудовкин Вс. И.
Пушкин А. С.
Пятигорский А. М.
Рабин О. Я.
Рабле Ф.
Радек К. Б.
Радзишевский В. В.
Разумный А. Е.
Райкин А. И.
Райт-Ковалева Р. Я.
Ракитин В. И.
Раку М. Г.
Рансьер Ж.
Раппопорт А. Г.
Распутин В. Г.
Распутин Г. Е.
Ратиани З.
Рауниг Г.
Раушенбах Б. В.
Рафалович С. Л.
Реве Г.
Ревенская И. А.
Ревзин Г. И.
Рейсер С. А.
Рейсц К.
Ремарк Э. М.
Ремизов А. М.
Рёскин Дж.
Рикёр П.
Рильке Р. М.
Римский-Корсаков Н. А.
Рифеншталь Л.
Рихтер Х.
Роблес Пасос Х.
Рогов В.
Рогов К. Ю.
Рогов О.
Родченко А. М.
Рождественская Е.
Рождественский К. И.
Рождественский Р. И.
Роже Ж.-А.
Розанов В. В.
Рознатовская Ю.
Роллан Р.
Романов Б. Н.
Романов Г. В.
Ромашко С. А.
Ромм А. И.
Ромм М. И.
Роом А. М.
Рославец Н. А.
Росселл М.
Россомахин А. А.
Ростоцкая М. А.
Ростоцкий С. И.
Рошаль Л. М.
Рубен Б. С.
Рубинштейн Л. С.
Руднев В. П.
Руднев П. А.
Рудякова (Кондратова) Л.
Руттман В.
Руфайзен Арье.
Руфайзен Ш. М. (в монашестве — брат Даниэль Мария).
Рыскулов Т. Р.
Рябинкин Юра.
Сабинина М.
Сабуров Е. Ф.
Савицкий С. А.
Савкина И. Л.
Саган Ф.
Садовской Б. А.
Садуль Ж.
Саид Э. В.
Саймак К.
Салтыков-Щедрин М. Е.
Самойлов Д. С.
Сандлер С.
Сандомирская И.
Сандрар Б.
Сантаяна Дж.
Сапгир Г.
Сарабьянов А. Д.
Сараскина Л. И.
Сарнов Б. М.
Сатуновский Я. А.
Сахаров А. Д.
Светлов М. А.
Свиридов Г. В.
Седакова О. А.
Сей-Сёнагон.
Сейфуллина Л. Н.
Селант Г. (Celant G.).
Селин Л.-Ф.
Сельвинский И. Л.
Сен-Сеньков А.
Серафимович А. С.
Сергеев А. Я.
Серов Вадим.
Сигей С. В.
Сильвестров А.
Симина В.
Симонов К. М.
Синявский А. Д. (А. Терц).
Скандиака Н.
Скарлыгина Е. Ю.
Скерсис В. А.
Скидан А. В.
Скиталец (Петров С. Г.).
Скобелев М. Д.
Скороспелова Е. Б.
Скрынников Р. Г.
Скуратов Б. М.
Скюдери М. де.
Славин Л. И.
Слотердайк П.
Слуцкий Б. А.
Смирнов И. П.
Смирнов И. С.
Смирнов Ив.
Соколов Б. В.
Соколов Саша (Соколов А. В.).
Сокольская Т. М.
Сокуров А. Н.
Солженицын А. И.
Соловейчик Л. И.
Соловьев В. С.
Соловьев Д.
Сологуб Ф. К.
Сомаини А.
Сорокин В. Г.
Сосновский И. Л.
Сосновский Л.
Сошкин Е.
Сталин И. В.
Стеблёва К.
Стенич В. И.
Стерн Л.
Стефанов Ю. Н.
Стивенс У.
Стивенс Э.
Столбов В. С.
Столярова Н. И.
Стрекаловская Х.
Струве Н. А.
Стругацкие А. Н. и Б. Н.
Суворов А. В.
Суетин Н. М.
Сурат И. З.
Сурикова О. А.
Суслова Е.
Суховей Д. А.
Сухотин М. А.
Тагер Е. Б.
Таль Б.
Тарасенков А. К.
Тарковский Анд. А.
Тарковский Арс. А.
Тартаковская Б. И.
Татлин В. Е.
Таубман У.
Твардовский А. Т.
Тевено Л.
Телингатер С. Б.
Тельман Э.
Темпест Р.
Тёрбер Дж.
Терентьев И. Г.
Тимофеев Л. И.
Тимошенко С. А.
Типпнер А.
Тиханов Г.
Тихонов А. Н.
Тогобицкий Л.
Тоддес Е. А.
Токвиль А. де.
Толкин Д. Р. Р.
Толмачев А.
Толстой А. Н.
Толстой Л. Н.
Томпсон К.
Трайнин И. П.
Третьяков С. М.
Третьякова В.
Трифонов Н. А.
Троцкий Л. Д.
Трубина Е. Г.
Туманишвили М. И.
Тумаркин В. И.
Тургенев И. С.
Туровская М. И.
Тцара Т.
Тыквер Т.
Тынянов Ю. Н.
Тэйт А.
Тютчев Ф. И.
Уайлдер Т.
Уайт Х.
Уилрайт Ф.
Уильямс Тенесси.
Уитмен У.
Улановская Б.
Улитин П. П. (псевд. Юл Айтн [Ul Itin], Устин Малапагин).
Улитина Л.
Улитина У.
Улицкая Л. Е.
Уляшев В.
Уолман Дж.
Уорхол Э.
Урицкий А.
Урманов А. В.
Успенский Б. А.
Устинов А.
Ушакин С. А.
Уэкер Н.
Уэллес У. Р.
Уэллс Г.
Файко А. М.
Фальконетти Р.
Фароки Х.
Фёгелин Э.
Фейдер В. А.
Феллини Ф.
Феноллоза М.
Феноллоза Ф.
Фехнер Г. Т.
Фицпатрик Ш.
Фишер Ф. Т.
Флейшман Л. С.
Флинн К.
Флинт Г.
Флобер Г.
Фоменко А. Н.
Фоменко П. Н.
Фонвизин Д. И.
Фонда Дж.
Формозов Н. А.
Фрайман Т. Н.
Фрейд З.
Фрейдкин М. И.
Фридрих II (король Пруссии).
Фризби Д.
Футерфас Г. М. (Ханох Либерман, Фетер Генах).
Фюрстенберг А. фон (Fürstenberg A. von).
Хабаров И. П.
Хадеев К. И.
Хаксли О.
Хаммершлаг Я.
Ханкиш Я.
Ханютин Ю. М.
Харабаров И. М.
Харитонов В. В.
Хармс Д. И.
Хартфилд Дж. (Херцфельд Х.).
Хаусманн Р.
Хаустов В. Н.
Хвостенко А. Л.
Хелемендик В. С.
Херсонский Б. Г.
Херцфельде В.
Хетеньи Ж.
Хёх Х.
Хинкис В. А.
Хитилова В.
Хмельницкий Д. С.
Хобсбаум Э.
Ходасевич В. Ф.
Ходж М.
Холин И. С.
Холопов А.
Хоружий С. С.
Хофманн К.
Хохлова А. С.
Хохлова Е. С.
Хренов Н. А.
Хрущев Н. С.
Хуттунен Т.
Хэмингуэй Э.
Хэниш К.
Цветаева М. И.
Цейтлин М.
Цибульский М.
Цивьян Ю. Г.
Цыганков Д.
Чаадаев П. Я.
Чанцев А.
Чапек К.
Чаплин Ч.
Чарный С.
Чарская Л.
Черкасов Н.
Чернев А. Д.
Черновский А.
Чертков Л.
Чехов А. П.
Чиаурели М. Э.
Чичерин А. Н.
Чудаков А. П.
Чудакова М. О.
Чуковская Л. К.
Шабалин В.
Шагал М. З.
Шагинян М. С.
Шаламов В. Т.
Шалина М. А.
Шапир М. И.
Шапиро Л.
Шаров В. А.
Шатилов И.
Шатров Ил. А.
Шафаревич И. Р.
Шварц Е. Л.
Шварц Ел. А.
Швейцер А.
Швейцер М. А.
Шембель Д.
Шенгели Г. А.
Шенк Ф. Б.
Шёнле А.
Шер Ю. Л.
Шестаков В. А.
Шилинис Н.
Шичалин Ю. А.
Шишкин М. А.
Шкапская М. М.
Шкловский В. Б.
Шматко Н. А.
Шмелёв А. Д.
Шмидт П. П.
Шолем Г.
Шолохов М. А.
Шостакович Д. Д.
Шрага Е. А.
Штейнер Р.
Штеренберг А.
Шуб Э.
Шубинский В. И.
Шукшин В. М.
Шулер Д.
Шумилова Е. П.
Щеголев П. И.
Щербенок А. В.
Эдельман Н.
Эйдельман Н. Я.
Эйзенштейн М. О.
Эйзенштейн С. М.
Эйнштейн А.
Эйхенбаум Б. М.
Эколье Р.
Элгер Д.
Элиот Т. С.
Эль Лисицкий (Лисицкий Л. М.).
Эльсберг Я. Е.
Энгельс Ф.
Эренбург И. Г.
Эренбург Ир. И.
Эриксон-младший Э. Э. (Ericson Junior E. E.).
Эрлих А. И.
Эрль В.
Эрмлер Ф. М.
Эрнст М.
Эсе Л.
Эстрайх Г.
Эткинд А. М.
Юмэмакура Баку.
Юнг К. Г.
Юнгер Э.
Юренев Р. Н.
Юрский С.
Юрчак А.
Юрьев О. А.
Юрьенен С. С.
Юткевич С. И.
Ягода Г. Г.
Ядов В. А.
Яковлев А. Н.
Яковлева Е.
Якубович Г. М.
Ямпольский И. Г.
Ямпольский М. Б.
Янгиров Р. М.
Янечек Дж.
Янушкевич А. С.
Яр-Кравченко А. Н.
Яров С. В.
Яропольский Г. Б.
Ярошевский М. Г.
Acquaviva F.
Ades D.
Altshuler M.
Antonioz M.
Aumont J.
Avrutin L.
Bai R.
Baron S.
Beiner R.
Benton T.
Bergguen O.
Bergman J.
Berkhoff K.
Bernhardt O.
Biggiero F.
Bird J.
Bradbury M.
Bronner S. E.
Brown N.
Bruce Elder B.
Buchloh B. H. D.
Bűrger P.
Calavito M.
Carter E. R.
Cavendish P. H.
Celant G. — см. Селант Г.
Clark T.
Curtis J.
Dobroszycki L.
Dollenmayer D. B.
Dukhan I.
Elliott Gr.
Ellmann R.
Ernst P.
Fontius M.
Friedberg M.
Fürstenberg A. von — см. Фюрстенберг А. фон.
Furthman-Durden E. C.
Garrett L.
Gasiorek A.
Geyer M.
Giroud M.
Grieder P.
Griffin R.
Gurock J. S.
Hahn H.-J.
Haran B.
Hartley J.
Heckler C. H.
Heusser M.
Hildreth L.
Hobbs R.
Hoffmann D.
Hollein M.
Honour H.
Howes S.
Hynes S.
Jackson M. J.
Kadlec D.
Kastner J.
Keller A.
Keller O.
Kelly E.
Kennedy G. A.
Kerler D. B.
Klein L.
Klinger C.
Kriebel S. T.
Labrusse R.
Lange K.
Latham S.
Lavin M.
Lawrence K.
Levenson M.
Lima L. C.
Link T.
Lippard L. R.
Litvinoff E.
Löwy M.
Lydenberg R.
Mahoney D.
Marcus S.
Mateboer N.
McFarlane J.
McWilliam K.
Meighan M.
Mitchell R.
Montfort N.
Moore D.
Morris I.
Moser W.
Muldoon M.
Newman M.
Neyraut M.
Nicholls P.
Obermayr B. — см. Обермайр Б.
Osterhammel J. — см. Остерхаммель Ю.
Ott K.-H.
Peil D.
Petersson N. P.
Piekut B.
Pipes R.
Pontuso J. F.
Ricciardi A.
Rickwood T. M.
Robinson E. S.
Roose-Evanse J.
Salzer D. M.
Saussy H.
Schabacher G.
Schmidt H.
Selz P.
Stalling J.
Staёl N. de.
Stock N.
Stuffman M.
Teitelbaum M.
Thirion B.
Tiberghien G. H.
Tomei C. D.
Townsend S. H.
Tytell J.
Uhlenbruch B.
Veesgulani S.
Wallis B.
Wechsler J. G.
White A.
Wilson T.
Zurbrugg N.
Summary
MACHINES OF NOISY TIME: HOW EARLY SOVIET MONTAGE BECAME A METHOD OF UNOFFICIAL ART
Abstract
This book examines shifts in the meaning of montage in different historical situations and in various artistic media, including literature, cinema, theater, and visual arts. Its scope includes literature and art of Soviet Russia (both official and unofficial), Germany, France, and the United States from 1910 to the 2010s. While this book does not provide a cohesive historical sketch, it delivers comparative studies on artists whose works problematize common understandings of the avant-garde in art history.
This study argues that different types of artistic montage correspond to different conceptions of history, dividing the history of montage aesthetics and techniques into three periods: (1) constructing, (2) post-utopian, and (3) historicizing or analytic montage. This book intends to demonstrate how the revolutionary montage aesthetics of the 1920s was reinterpreted and adapted for critical analysis of utopian consciousness in unofficial literature and art of the 1960s and 1970s. This change became possible because unofficial art, unlike Soviet socialist realism, was connected with the experiments of European and American radical modernism and postmodernism.
The main points of this book can be summarized as follows.
Montage as a specific aesthetic method emerged in the very beginning of the twentieth century. Beginning in the 1900s and continuing throughout the 1920s, expressive, «sharp» montage — not only in cinema but also in visual arts and literature — was implemented as a method for the dynamic representation of contemporaneity. Montage produced an aesthetic portrayal of contemporaneity by depicting it as a space of emerging utopia/dystopia, full of conflicts and antagonistic oppositions. Moreover, «montage modernity» acquired the status of a totally new historical period, anthropologically and aesthetically different from all previous epochs. The aesthetics of montage was based on the experience of psychological trauma originating from urbanization, globalization (including the extensive contact of Western artistic circles with the art of China and Japan), WWI, and the subsequent civil wars in Russia and Germany. This book suggests that sharp montage was an element not only of avant-garde art, but also of the diverse movements of modernism and, later, postmodernism.
In the USSR of the 1920s, montage aesthetics acquired the features of a «grand style.» The difference between «present-day society» and the previous condition of society and culture was ideologized and politicized. In Soviet productions, the Bolshevik party and «progressive» men and women were dubbed the «avant-garde of humanity,» and were represented as the leading force in creating a new historical reality. This creation was represented — in Sergei Eisenstein’s films, Boris Pilniak’s novels, Gustav Klutsis’ photo-collages, and Sergei Tretiakov’s theater plays — as a creative violence that overcomes the dark, impersonal violence of non-regulated history. The aesthetics of montage was a tool to either glorify or stoically accept this violence. Stoical acceptance was chosen by, among others, Yuri Tynianov and Artem Vesioly. El Lissitsky’s 1920s works reveal the hidden mystical and occult sources of the «montage representation of history,» and undermine the common understanding of avant-garde art as «atheist» and «aggressive.»
Several times, Soviet montage was interpreted as a radicalization of Western European and pre-revolutionary Russian (e.g. Andrey Bely) montage aesthetics. However, Soviet montage also strongly influenced left-wing artists in various countries: the image of history as a dynamic-conflicting becoming corresponded with leftist worldviews, and with Marxist and socialist ones first of all.
Meanwhile, different versions of montage aesthetics developed in Western Europe and in the USA. Take, for example, the work of Alfred Döblin, Erwin Piscator, Bertolt Brecht, and Walter Ruttmann in Germany; Karel Čapek in Czechoslovakia; John Dos Passos in the USA; James Joyce in Ireland and France; and Ezra Pound in Great Britain. Not all of these artists were connected with socialist circles: Čapek was a liberal, Joyce’s political opinions were also more or less liberal, and Ezra Pound was, as is well-known, close to Italian fascism.
«Epic Polyphonic Political Art» (EPPA) was the most important montage movement formed during the twenties and early thirties. This movement includes the films of Sergei Eisenstein and Dziga Vertov, the plays of Bertolt Brecht and Vsevolod Vishnevskii, the theater performances directed by Erwin Piscator and Vsevolod Meyerhold, and, as strange as it may seem, the Jefferson Cantos by Ezra Pound. The most common EPPA plot featured a major historical turning point and an approaching anthropological transformation. EPPA existed in the USSR, Central Europe, and the USA. Hence, this movement functioned as an interactive space between Soviet culture and Western left (and even non-left) artistic movements of the 1930s.
Some authors living in the USSR transformed montage’s meaning in their texts in order to critically revisit the Bolshevik image of history, and to resist state-controlled propaganda. Such texts — including prose works by Lev Luntz, Mikhail Bulgakov, and Daniil Kharms — were kept from the Soviet public, or were «written for the drawer,» without the expectation of receiving the censor’s approval. Such texts and works of art are designated non-censored art, to utilize a term that has been accepted in Russian underground criticism since the 1970s.
The image of a «creative violent modernity» was significantly transformed during the 1930s in Western Europe, North America, Nazi Germany, and the USSR; however the shifts in this image had different sources and varied in their results. In Western Europe and North America, the collective feeling of an impending social crisis, generated by the rupture of the social order after WWI, became weaker or more habitual. The growth of mass culture, as well as the collective rush towards emotional escapism in the face of WWII’s approach, prompted the expansion of comforting melodramatic plots in cinema and literature. These plots did not require sharp montage; on the contrary, such stories inclined writers and directors to use even-tempered, non-conflicting styles of narrative and/or portrayal.
In Nazi Germany, montage devices, which propagandist media associated with «left» and «degenerate» (i.e. «Jewish») art, became forbidden. Artists who used montage techniques were often forced to leave the country. However, several artists became the creators of the «Nazi avant-garde,» which combined sharp montage and pseudo-neoclassical aesthetics, as in the work of notorious film director Leni Riefenstahl.
At the same time, during the 1930s Soviet authorities initiated a radical cultural and political turn toward «national-Bolshevism» (to use David Brandenberger’s understanding of this term). This shift was marked by the emergence of a new image of Soviet contemporaneity as the «space of triumph» (rephrasing Mikhail Ryklin’s term «the spaces of jubilation»), and not as the launching pad for utopia. In its self-representation, the USSR turned away from a project aimed at a utopian future for all mankind, and instead toward the image of a flourishing but isolated empire that had already accomplished everything desired. Under these new circumstances, melodramatic plots (demonstrating Soviet interpretation of Hollywood style), encouraged the «indigenous» weakening of montage aesthetics. These plots sought to emotionally mobilize the audience, and to represent neo-imperial Bolshevik ideology as natural, kind, and inevitable. However, the futuristic connotations of montage techniques were revived in the aesthetics of Soviet pavilions for international exhibitions; former avant-garde artists were among the designers of these pavilions, including Nikolai Suetin, who, as a student, worked closely with Kazimir Malevich.
The only artists who maintained a taste for montage in Western European and American literatures of the late 1930s and 1940s were those who interpreted the historical period before and during WWII as transitional or catastrophic, rather than progressive: Döblin, Brecht, Dos Passos, Čapek.
In Russian culture, new meanings of montage were further developed in non-censored literature. Here, prose works by Arkadii Belinkov and unpublished verses by Vladimir Lugovskoy and Daniil Andreev are discussed. The revival of montage in Russia was closely associated with unofficial discussions on the «neo-baroque» — a style that was conceived by Ilya Ehrenburg and Arkadii Belinkov as a restoration of radical modernism in the context of WWII, confronting 1930s socialist realism.
In evaluating the evolution of twentieth century Western art, scholars such as Vladimir Paperny and Boris Groys argue that avant-garde and socialist realism/totalitarian art were the unified aesthetic systems. If this is true, only one question remains: was the avant-garde a logical predecessor of socialist realism, or did socialist realism emerge as the total repressive negation of the avant-garde? As it is argued in this book, the relationship between the avant-garde and socialist realism is more complicated and nonlinear than previously understood. In the late 1930s and 1940s, the techniques of montage were transferred into a new context, and there they survived. Moreover, careful examination of the aesthetic movements of the 1910s-1940s gives reason to reject the essentialist opposition of the avant-garde and socialist realism.
During late 1930s and 1940s, post-utopian montage gradually came into being in Western cultures and in Russian non-censored art. Now, montage did not point to a desirable future, nor did it depict contemporaneity as a battlefield of conflicting forces. Rather, the main task of post-utopian montage was to represent history as a series of ruptures, fragmenting and reordering a private and/or social experience. Even though Brecht and Eisenstein maintained hope for a progressive future, their works nevertheless acquired the features of post-utopian montage.
A flourishing of montage aesthetics once again took place during the late 1950s and 1960s, both in the «First World» and in the USSR. However, this montage had a new meaning: much more than before, it was post-utopian and guided by the problems of (artistic) language, mimicking in technique the peculiarities of different types of human perception. American conceptual art of the early 1960s was a prominent example of this trend, as well as the films shot at the end of the 1960s by the French radical left Dziga Vertov Group, which included Jean Luc Godard. In the USSR, montage was revived even in official art movements, adapting to reshape Soviet society; this reshaping, as it is possible to demonstrate, was conceived by post-Stalin political elites of the late 1950s and early 1960s.
Montage in literature and film became a powerful tool of critiquing utopian projects. Originally, this aesthetic move was based on engagement with the trends of the 1920s, and on the resumption of «revolutionary modernism.»
However, in the 1970s, montage styles that grappled with the 1920s ceased to be regarded as productive and foundational for new artistic movements. Authors and artists of the 1970s no longer took up the debates of the 1920s, but rather those of their immediate predecessors: the artists and authors of the 1960s. Hence, 1920s montage became part of the history of art, not art’s «yesterday.»
The next development in montage aesthetics can be understood as analytic or historicizing montage, which reveals how contemporaneity has ceased to function as the synchronism of conflicting forces. The concept of a united but contradictory «present-day moment» (as Hans Ulrich Gumbrecht describes it in In 1926: Living on the Edge of Time) gives way to the notion of a meeting point of historically heterogeneous images and discursive practices, mutually alienated from one another in personal and/or collective memory due to the historical traumas of the twentieth century.
I discuss the development of historicizing montage by comparing in detail the texts and aesthetic methods of two coeval but totally different Russian writers: Alexander Solzhenitsyn (1918–2008) and Pavel Ulitin (1918–1986). While Solzhenitsyn’s works and life are well known, Ulitin’s works did not become part of any curriculum in Russia or in the West. Ulitin was the most aesthetically radical Russian writer of the 1950s–1970s. I compare his essays and collage books with cut-ups by William Burroughs and Brion Gysin, analyzing their parallels.
The final chapter is focused on the transformations of montage during the 2000s and 2010s. As this study aims to show, these trends are caused by the development of new media (including Web 2.0), and by changes in the historical imagination of artists. Here I analyze digital narratives in blogs, fragmentation experiments in popular literature and cinema (e.g. the novel Cloud Atlas by David Mitchell and its film adaptation by Tom Tykwer and Lana and Andy Wachowsky), and linguistic ruptures in contemporary Russian poetry.
Примечания
1
См. обсуждение этой темы в работах: Винокурова И. «Всего лишь гений». Судьба Николая Глазкова. М.: Время, 2006; Павловец М. Г. Три «прачечных (футурных)»: Анна Ахматова, Алексей Крученых, Генрих Сапгир // Toronto Slavic Quarterly. 2011. Spring. № 36. P. 105–118; Он же. Канонизация русского футуризма в неподцензурной поэзии 1950–1960‐х годов // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании: Сб. науч. ст.: В 2 т. Вып. 11. М.: МГПИ, 2012. Т. 1. С. 154–161; Бурков О. А. Поэзия Евгения Кропивницкого: примитивизм и классическая традиция. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Новосибирск: НГПУ, 2012; Сурикова О. А. Русский самиздат 1960–1980‐х годов: Судьба поэзии модернистов и ее традиции. Московские творческие объединения и периодические издания. М.: МГУ, 2013; Юрьев О. Заполненные зияния: Книга о русской поэзии. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
(обратно)2
Савицкий С. Андеграунд: История и мифы ленинградской неофициальной культуры. М.: Новое литературное обозрение; Кафедра славистики Университета Хельсинки, 2002. С. 31.
(обратно)3
Серов В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М.: Локид-пресс, 2004. С. 438. Подробнее об отношениях участников неофициального культурного движения с политикой см., например: Савицкий С. Указ. соч. С. 17–41.
(обратно)4
Айзенберг М. Н. Некоторые другие (Вариант хроники: первая версия) // Театр. 1991. № 4. С. 98–118. Републикация: Он же. Взгляд на свободного художника. М.: Гендальф, 1997; Кривулин В. Охота на Мамонта. СПб.: Блиц, 1998. С. 6–10, 127–143.
(обратно)5
Успенский Б. А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы // Успенский Б. А. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000. Впервые: Он же. Поэтика композиции. М.: Искусство, 1970.
(обратно)6
См. об этом: Варбург А. Язычески-античное пророчество лютеровского времени в слове и изображении / Пер. с нем. Е. Козиной // Варбург А. Великое переселение образов. Исследование по истории и психологии возрождения античности. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 252–284 (см. также иллюстрации); Ямпольский М. Б. Ткач и визионер. Очерки истории репрезентации, или о Материальном и идеальном в культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 125–136.
(обратно)7
Подробнее см., например: Земляной С. Левая эстетическая теория о мимесисе и катарсисе. Заочные дебаты между Лукачем и Брехтом 30‐х годов XX века // Синий диван (журнал). 2004. Вып. 5; Lima L. C. (Űbers. von E. Spielmann), Fontius M. Mimesis/Nachahmung // Ästhetishe Gründbegriffe: Im 7 Bd / Hrgs. von K. Barck, M. Fontius, D. Schlenstedt u.a. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler, 2010 (2 Aufl.). Bd 4. S. 108–109.
(обратно)8
Библер В. [Выступление на конференции] [Расшифрованная магнитофонная запись выступления по докладу Вяч. Вс. Иванова на конференции по проблемам монтажа в Москве в 1985 г.] // Библер В. Замыслы: В 2 т. Т. 1. М.: РГГУ, 2002. С. 815.
(обратно)9
Из многочисленных работ на эту тему см., например: Bürger P. Theory of the Avant-Garde / Trаnsl. from German by M. Shaw. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. P. 73; Гирин Ю. Н. Смыслообразующие концепты культуры авангарда // Авангард в культуре XX века (1900–1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. Кн. 1 / Под ред. Ю. Н. Гирина. М.: ИМЛИ РАН, 2010. C. 94–98, 125–126.
(обратно)10
Цит. по: Ott K.‐H. Die vielen Abschiede von der Mimesis. Stuttgart, 2010.
(обратно)11
«Культура Один» — революционная культура 1920‐х годов. Для нее, согласно Паперному, были характерны склонность к линейности и геометричности, технократический пафос, анонимность, децентрализованность. Основными признаками сменившей ее в 1930‐е годы «Культуры Два» стали тяга к биогенным, жизнеподобным формам, пафос «жизни», высокая значимость имен собственных (Ленина и руководства страны) и централизация.
(обратно)12
Паперный В. Культура Два. 2‐е изд. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 283.
(обратно)13
См. подробнее: Magun A. Negativity (Dis)embodied: Philippe Lacoue-Labarthe and Theodor W. Adorno on Mimesis // New German Critique. 2013. Vol. 40. No. 1. P. 119–148.
(обратно)14
Эйзенштейн С., Александров Г. Генеральная линия // Эйзенштейн С. Избр. произв.: В 6 т. Т. 6. М.: Искусство, 1971. С. 104. В этом томе воспроизведен не первый, а финальный вариант сценария, написанный в 1928 г.
(обратно)15
Библер В. [Выступление на конференции.] С. 816. На это замечание Библера, согласно стенограмме, последовала реплика Анатолия Прохорова (на тот момент — киноведа, сегодня — знаменитого кино- и телепродюсера, разработчика анимационного сериала «Смешарики»): «Характер сгущения — в синтаксисе, разрежения — в семантике» (Там же) — и с этим замечанием Библер согласился.
(обратно)16
Один из первых образцов этого жанра — «Любовная переписка дворянина и его сестры» («Love-Letters Between a Nobleman and His Sister», 1684) английской писательницы Афры Бен.
(обратно)17
См., например: Рейсц К. Техника киномонтажа / Под ред. Комитета Брит. киноакадемии; предисл. Торолда Диккинсона; пер. с англ. Н. Д. Даниловой и Ю. Л. Шер; общ. ред. и вступ. ст. Сергея Юткевича. М.: Искусство, 1960.
(обратно)18
См. об этом: Шапир М. И. «Versus» vs «Prosa»: пространство-время поэтического текста // Philologica. 1995. Т. 2. № 3–4. С. 7–58.
(обратно)19
Поэты «Искры»: В 2 т. Т. 2 / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. И. Ямпольского: Л.: Советский писатель, 1955. С. 319 («Библиотека поэта». Большая серия. 2‐е изд.).
(обратно)20
Курочкин В. С. Стихотворения. Статьи. Фельетоны / Подгот. текста, вступ. ст. и примеч. И. Ямпольского. М.: ГИХЛ, 1957. С. 28. Впервые (Искра. 1859. № 2. С. 23) стихотворение было напечатано с подписью «Пр. Знаменский» и с названием «Моя исповедь».
(обратно)21
О постоянном интересе Боброва к значению словоразделов см. в мемуарном эссе М. Л. Гаспарова: Гаспаров М. Л. Записи и выписки. 2‐е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 105. См. также: Janecek G. Kručenych’s Literary Theories // Russian Literature (Amsterdam). 1996. Vol. XXXIX. No. I. P. 1–12.
(обратно)22
Крученых А. Сдвигология русского стиха: Трахтат обижальный (Трахтат обижальный и поучальный). Кн. 121. М.: Тип. ЦИТ, 1922. С. 5.
(обратно)23
Цит. по: Введенский А. Всё / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. А. Герасимовой. М.: ОГИ, 2011. С. 38.
(обратно)24
Работа Брика была обобщена позже в незаконченном, но обширном исследовании: Брик О. Ритм и синтаксис (Материалы к изучению стихотворной речи) // Новый ЛЕФ. 1927. № 3–6 (-rs.htm).
(обратно)25
Белый А. Ритм как диалектика и «Медный всадник». М.: Федерация, 1929. С. 55.
(обратно)26
Пригов Д. А. Только моя Япония. Непридуманное [Роман]. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 165–166.
(обратно)27
Подробнее см.: Witte G. Prigov, ein Phänomenologe des Verses // Jenseits des Parodie. Dmitrij A. Prigovs Werk als neues poetisches Paradigma / Hrgs. von B. Obermayr. Wien, 2013. Wiener Slawistischer Almanach. Sbd. 81. S. 44–46.
(обратно)28
См., например: Рикёр П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение / Пер. с англ. М. М. Бурас и М. А. Кронгауза; Он же. Живая метафора / Пер. с фр. А. А. Зализняк // Теория метафоры / Под ред. и с предисл. Н. Д. Арутюновой. М., 1990. См. также: Амелин Г. Метафора как темпоральная структура // Логос. 1994. № 5. С. 267–268. О Бергсоне и Рикёре см.: Thirion B. À propos de la «redécouverte» de Bergson par Paul Ricœur // Cahiers philosophiques. 2002. Octobre. No. 92; Muldoon M. Tricks of Time: Bergson, Merleau-Ponty and Ricoeur in Search of Time, Self and Meaning. Pittsburgh: Duquesne University Press, 2006.
(обратно)29
Кулешов Л. Знамя кинематографии // Кулешов Л. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. Теория. Критика. Педагогика / Под ред. Р. Юренева, А. Хохловой и др. М.: Искусство, 1987. С. 69–74; Вертов Д. Мы. Вариант манифеста; Киноки (переворот) // Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы / Под ред. С. Дробашенко. М.: Искусство, 1966. С. 48, 54–55 и др.
(обратно)30
Эйзенштейн С. М. Монтаж / Сост., предисл. и коммент. Н. И. Клеймана. М.: Музей кино, 2000. С. 393–398.
(обратно)31
Там же. С. 386.
(обратно)32
Там же. С. 387.
(обратно)33
Цит. по изд.: Джойс Дж. Улисс / Пер. с англ. В. Хинкиса и С. Хоружего // Джойс Д. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М.: Знаменитая книга, 1993. С. 39.
(обратно)34
См.: Пятигорский А. Мышление и наблюдение. Четыре лекции по обсервационной философии. Riga: Lipnieks & Ritups, 2002.
(обратно)35
Термин «тоталитаризм» с 1980‐х годов является предметом энергичных дискуссий в социальной истории и политической философии, инициированных прежде всего историками-славистами так называемого ревизионистского направления (Ш. Фицпатрик и др.). См., например: Bergman J. Was the Soviet Union Totalitarian? The View of Soviet Dissidents and the Reformers of the Gorbachev Era // Studies in East European Thought. 1998. Vol. 50. No. 4 (December). P. 247–281; Grieder P. In Defence of Totalitarianism Theory as a Tool of Historical Scholarship // Totalitarian Movements and Political Religions. 2007. Vol. 8. No. 3–4. P. 563–589; Geyer M., Fitzpatrick Sh. Introduction. After Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared // Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared / Ed. M. Geyer and Sh. Fitzpatrick. Cambridge; New York; Melbourne et al.: Cambridge University Press, 2009. P. 1–37; Никонова О. Рец. на кн.: Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared // Ab Imperio. 2011. № 1. С. 337–346, и др. Я считаю, что этот термин сохраняет свою силу при некоторых оговорках, сделанных, например, в указанной статье П. Гридера.
(обратно)36
Использован перевод Т. Баскаковой, выполненный по изд.: Döblin A. Epilog // Döblin A. Die Vertreibung der Gespenster. Autobiographische Schriften. Betrachtungen zur Zeit. Aufsätze zu Kunst und Literatur. Berlin: Rütten & Loenig, 1968.
(обратно)37
Мандельштам О. Собр. соч.: В 2 т. / Сост. П. М. Нерлера, подгот. текста А. Д. Михайлова и П. М. Нерлера, вступ. ст. С. С. Аверинцева. М.: Художественная литература, 1990. Т. 2. С. 213–254, здесь цит. с. 239.
(обратно)38
Мандельштам О. Э. Слово и культура / Сост. и примеч. П. М. Нерлера, предисл. М. Я. Полякова. М.: Советский писатель, 1987. С. 152–166, здесь цит. с. 152.
(обратно)39
Из многочисленных работ, комментирующих это сочинение Беньямина, см., например: Beiner R. Walter Benjamin’s Philosophy of History // Political Theory. 1984. Vol. 12 No. 4 (Aug.). P. 423–434; Ромашко С. Раздуть в прошлом искру надежды…: Вальтер Беньямин и преодоление времени // Новое литературное обозрение. 2000. № 46. С. 71–80; Löwy M. Fire Alarm: Reading Walter Benjamin’s ‘On the Concept of History’ / Transl. from German by C. Turner. New York: Verso, 2006.
(обратно)40
Беньямин В. Тезисы о понятии истории / Пер. С. Ромашко // Новое литературное обозрение. 2000. № 46. C. 84. Далее «Тезисы…» цитируются по этому изданию с указанием страниц после цитаты в скобках.
(обратно)41
Сталин И. В. О диалектическом и историческом материализме (1938) // Сталин И. В. Соч.: В 18 т. Т. 14. М.: Писатель, 1997. С. 253–282. Вся эта глава пронизана риторикой насилия и победы — а не защиты побежденных, как у Беньямина. Возможно, одним из импульсов, побудивших Беньямина написать «Тезисы…», было стремление «отвоевать» у Сталина термин «исторический материализм».
(обратно)42
Указаны годы выхода соответственно немецкого и русского изданий, заметно отличающихся друг от друга ([Птушкина И. Г., Эльсберг Я. Е.] Комментарии // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 6. С. 486–487).
(обратно)43
Ср.: Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 68. C. 102–127.
(обратно)44
Цит. по: Герцен А. И. С того берега // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 6. С. 66.
(обратно)45
Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. / Редкол. И. А. Айзикова, Н. Ж. Вётшина, А. С. Янушкевич и др. Т. 2 / Ред. О. Б. Лебедева, А. С. Янушкевич. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 343–348.
(обратно)46
Фоменко А. Монтаж, фактография, эпос. Производственное движение и фотография. СПб.: Изд-во С. — Петербурского Университета, 2007. С. 114.
(обратно)47
Цит. по: Роллан Р. Столкновение двух поколений: Токвиль и Гобино (1923) / Пер. с фр. Л. и А. Соболевых // Роллан Р. Собр. соч.: В 14 т. Т. 14. Вопросы эстетики. Театр. Живопись. Литература. М.: ГИХЛ, 1958. С. 474. «Экзальтированная вера в прогресс и человечество» — фраза А. де Токвиля, которую цитирует Роллан.
(обратно)48
Ср., например, анализ такой стилистики в творчестве современного немецкого режиссера Харуна Фароки: Азизов З. Ответ обществу комментария: монтаж как искусство / Пер. с англ. В. Акуловой и Д. Атлас // Художественный журнал. 2010. № 3–4 (79–80). С. 55–59.
(обратно)49
Об этом много раз писали исследователи его творчества. См., например: Зорин А. Муза языка и семеро поэтов: Заметки о группе «Альманах» // Дружба народов. 1990. № 4. С. 242–254.
(обратно)50
Айзенберг М. Вокруг концептуализма (1994) // Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. М.: Гендальф, 1997. C. 128–154, здесь цит. с. 148.
(обратно)51
Цит. по: Рубинштейн Л. Регулярное письмо. Стихи. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1996. C. 20–27, здесь цит. с. 25–26.
(обратно)52
См., например, такую работу в поэме Д. А. Пригова «Старая коммунистка царь коммунизма и голос живого страдания» (1989), где используются монтажные приемы. Об этой поэме и ее композиции см.: Кукулин И. Увенчание и развенчание идеологического мифа в мистериальном театре Д. А. Пригова // Кризис литературоцентризма. Утрата идентичности vs новые возможности / Под ред. Н. В. Ковтун. М.: Флинта; Наука, 2014. С. 27–43.
(обратно)53
См. собрание работ круга Бахтина, безоговорочно приписанных публикаторами Бахтину как их якобы единственному автору: Бахтин М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи / Сост. и подгот. текста И. В. Пешкова, сост. и коммент. А. В. Махова и И. В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2000. По поводу авторства этих текстов см.: Алпатов В. М. [Вступительная статья] // К истории книги В. Н. Волошинова «Марксизм и философия языка» / Публ. и подгот. текста Н. А. Панькова // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1995. Т. 54. № 3. С. 64; Медведев Ю. П., Медведева Д. А. Круг М. М. Бахтина (К обоснованию феномена) // Звезда. 2013. № 3. С. 202–215.
(обратно)54
Об этом новом культурном феномене см., например: Story Circle: Digital Storytelling Around the World / Ed. J. Hartley and K. McWilliam. London: Wiley — Blackwell, 2009.
(обратно)55
Понятие «режимов вовлеченности» в социологию ввел Л. Тевено. См.: Тевено Л. Креативные конфигурации в гуманитарных науках и фигурации социальной общности / Пер. с фр. О. Ковеневой // Новое литературное обозрение. 2006. № 77. С. 285–312.
(обратно)56
См. подробнее: Иванов Вяч. Вс. Монтаж как принцип построения в культуре первой половины XX в. // Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино/ Отв. ред. Б. В. Раушенбах. М., 1988. С. 119–149; Montage and Modern Life 1919–1942 / Ed. M. Teitelbaum. Cambridge, MA; Boston: MIT Press; The Institute of Contemporary Art, 1992.
(обратно)57
См., например: Elder R. Bruce. Harmony and Dissent: Film and Avant-garde Art Movements in the Early Twentieth Century. Toronto: Wilfrid Laurier University Press, 2008. P. 290. В этой книге содержатся и другие ценные обсуждения проблематики монтажа в раннесоветском искусстве (см. особенно гл. 5 и 6).
(обратно)58
«Проект Гропиуса — Пискатора не был осуществлен. Однако он оказал большое влияние на строительство театров во всем мире» (Гутнов А. Э. Мир архитектуры: Язык архитектуры. М.: Молодая гвардия, 1985. С. 202–203). На всякий случай напоминаю, что фильм «Наполеон», финальная часть которого должна была демонстрироваться одновременно на трех экранах, французский кинорежиссер Абель Ганс снял в 1925–1926 гг.
(обратно)59
Роберт Бёрд предположил, что монтажные принципы фильма С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» оказали прямое влияние на структуру поэмы Б. Пастернака «1905 год»: Bird R. On the Narrative Poem in Russian Modernism // The Slavic and East European Journal. 2007 (Spring). Vol. 51. No. 1. P. 53–73. Ср. также: Левинг Ю. Опыт параллельного просмотра: «Человек с киноаппаратом» (1929) Вертова и «Сегодня можно снять декалькомани…» (1931) Мандельштама // Левинг Ю. Воспитание оптикой: Книжная графика, анимация, текст. M.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 482–488.
(обратно)60
«Деление на […] акты классической драмы в 1920‐е годы сменяет множественность порой исчисляющихся десятками кратких сценок — „стоп-кадров“. Рождается новая […] форма драматического сочинения: „звенья“ [Анатолия] Глебова, „эпизоды“ [Валентина] Катаева, [Владимира] Киршона, [Николая] Погодина и [Всеволода] Вишневского. (В театре тех лет классическое членение на акты (действия) уступает место рваной калейдоскопичности мейерхольдовских „Леса“ и „Ревизора“)» (Гудкова В. В. Особенности «советского сюжета»: к типологии ранней российской драмы 1920‐х гг. // Toronto Slavic Quarterly. 2006. Vol. 16 (Spring) []). Как уже сказано, к перечисленным примерам творчества рапповцев и «попутчиков» можно добавить и произведения авторов радикального авангарда — в первую очередь «Елизавету Бам» Д. Хармса.
(обратно)61
См. об этом: Keller O. Döblins Montageroman als Epos der Moderne: die Struktur der Romane Der schwarze Vorhang, Die drei Sprünge des Wang-lun und Berlin Alexanderplatz. München: W. Fink, 1980; Драч И. Поэтика романа-монтажа (на материале американской, немецкой и русской литератур). Дис. … канд. филол. наук. М.: РГГУ, 2013.
(обратно)62
См., например, о посвященной принципам монтажа беседе Паунда с Фернаном Леже в статье: Townsend Chr. The Purist Focus: Léger’s Theory of the Close-Up and Les Gueules Cassées // Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities. 2011. Vol. 16. No. 1. P. 161–180.
(обратно)63
Благодарю Михаила Крутикова за консультации по этому вопросу.
(обратно)64
Казовский Г. Художники Культур-Лиги. М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2003; Казовський Г. Культур-Ліґа: художній аванґард 1910–1920‐х років: Альбом-каталог / Упорядн. Гілель Казовський; наук. ред. І. Серегєєва. К.: Дух і Літера, 2007; Idem. Книжкова графіка митців Культур-Ліги. Художник — Пінхас Фішель. Альбом-каталог. Наукове видання. К.: Дух і Літера. 2011; Будницкий О., Полян А. Русско-еврейский Берлин. 1920–1941. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 191–206.
(обратно)65
Подробнее о берлинском еврейском урбанизме см. работу Шахара Пинскера: Pinsker Sh. Deciphering the Hieroglyphics of the Metropolis: Literary Topographies of Berlin in Hebrew and Yiddish Modernism // Yiddish in Weimar Berlin / Ed. G. Estraikh and M. Krutikov. Oxford: Legenda, 2010. Об общей проблематике еврейского модернизма см., например: Radical Poetics and Secular Jewish Culture / Ed. S. P. Miller, D. Morris. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2010.
(обратно)66
О поэтике «погромных» рассказов Шапиро см.: Garrett L. Introduction // Shapiro L. The Cross and Other Jewish Stories / Ed. L. Garrett. New Haven: Yale University Press, 2007.
(обратно)67
Клуцис Г. Фотомонтаж как средство агитации и пропаганды // Пролетарское фото. 1932. № 6. С. 14–15. Цит. по: Фоменко А. Монтаж, фактография, эпос. С. 318.
(обратно)68
Bordwell D. The Idea of Montage in Soviet Art and Film // Cinema Journal. 1972 (Spring). Vol. 11. No. 2. P. 9–17. Из более поздних работ на эту же тему см., например: Cavendish Ph. The Men with the Movie Cameras: The Theory and Practice of Camera Operation within the Soviet Avant-Garde of the 1920s // The Slavonic and East European Review. 2007. Vol. 85. No. 4 (Oct.). P. 684–723.
(обратно)69
При всей новизне постановки проблемы в статье Бордуэлла приходится отметить, что его объяснение кризиса монтажных принципов в СССР было для того времени излишне прямолинейным — даже по сравнению с интерпретацией, предложенной в статье Клемента Гринберга 1939 года «Авангард и кич» (Partisan Review. 1939. Vol. VI. № 5. P. 34–49. Русский пер. А. Калинина: Художественный журнал. 2005. № 60). Гринберг уже в 1939 году писал, что советский режим в искусстве не только подавляет авангард, но и намеренно пропагандирует неоклассический кич как эстетику, соответствующую вкусам наименее «продвинутых» групп населения. Странная архаичность объяснительной схемы Бордуэлла, по‐видимому, объясняется тем, что в ситуации «холодной войны» было особенно трудно устанавливать координацию между политическими и эстетическими аспектами советских произведений.
(обратно)70
Bordwell D. The Power of Research Tradition: Prospects for Progress in the Study of Film Style // Film History. 1994. Vol. 6. No. 1 (Spring). P. 59–79.
(обратно)71
Паперный В. Культура Два (2‐е изд.). М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 258, 282–283.Дальнейшее развитие мыслей автора на тему этой цикличности см.: Он же. Культура Три. Как остановить маятник? М.: Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», 2012.
(обратно)72
Григорий Ревзин предложил остроумную интерпретацию концепции Паперного как проекции интеллигентских страхов середины 1970‐х годов (Ревзин Г. Миф о вечном возвращении сталинизма // Коммерсантъ. 2006. 19 мая []), однако у его объяснительной схемы есть два недостатка. Ревзин считает, что концепция Паперного происходит из недостатка патриотизма — эта демагогия во многом вообще обесценивает доводы критика — и не пишет о том, что угроза возвращения сталинизма во второй половине 1970‐х выглядела для многих вполне реальной из‐за усилившегося давления властей на правозащитное движение (аресты или «выдавливание» за границу ряда диссидентов и пр.), поэтому считать ее только следствием самозапугивания — сомнительно.
(обратно)73
См., например: Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век. 1914–1991 / Пер. с англ. Е. М. Нарышкиной и А. В. Никольской под ред. А. А. Захарова. М.: Независимая газета, 2004. С. 199–216.
(обратно)74
См. об этом: Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2003. № 68. C. 102–127.
(обратно)75
Крайне пессимистическую интерпретацию этой смены парадигмы см. в кн.: Смирнов И. П. Кризис современности. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
(обратно)76
Аналогичное сочетание противоречащих друг другу стилистических традиций — неоклассицизма и обновленного футуризма — можно видеть в фильме Абрама Роома «Строгий юноша». Стилистику этого фильма неоднократно сравнивали со стилистикой «Олимпии», а после запрета кинокартины в 1935 г. по Москве разошлись слухи о том, что причиной снятия с экрана стала «фашистская идеология» «Строгого юноши» (Елагин Ю. Укрощение искусств. New York: Изд-во им. Чехова, 1952. С. 157). Однако у Роома культурные источники и принципы осуществленного им синтеза были совершенно иными, чем у Рифеншталь, и восходили скорее к эстетическим идеям русского дореволюционного модернизма. См. об этом: Блюмбаум А. Оживающая статуя и воплощенная музыка: контексты «Строгого юноши» // Новое литературное обозрение. 2008. № 89. С. 184–204.
(обратно)77
Эндогенное — в данном случае обусловленное внутрикультурными силами, экзогенное — обусловленное деятельностью цензуры, идеологизированной критики и т. п. Впрочем, в советской ситуации эти факторы переплетены и различить их не всегда возможно.
(обратно)78
Подробнее см.: Раку М. Поиски советской идентичности в музыкальной культуре 1930–1940‐х годов: лиризация дискурса // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 184–203.
(обратно)79
Гройс Б. Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. Стиль Сталин. О новом. Статьи. М.: Знак, 1992. С. 16. Первым мысль об общем психологическом кризисе, «неуверенности в себе» послесталинского искусства высказал Абрам Терц (А. Синявский) в статье «Что такое социалистический реализм?» (1957).
(обратно)80
О советской карьере Жолтовского см.: Хмельницкий Д. Загадки Жолтовского (2011) (-spb.ru/index.php/component/content/article/82–2011-08–24–12–30-58).
(обратно)81
См. о соцреалистической адаптации фэксовской стилистики, изобретенной Григорием Козинцевым: Добренко Е. Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 335–336.
(обратно)82
О модернизме в литературе в контексте модернистской эпохи см., например: Modernism: A Guide to European Literature 1890–1930 / Ed. M. Bradbury and J. McFarlane. 2nd ed. London: Penguin Books, 1991 (Penguin Literary Criticism); Nicholls P. Modernisms: A Literary Guide. Los Angeles: University of California Press, 1995; Klinger C. Modern/Moderne/Modernismus // Ästhetishe Gründbegriffe: Im 7 Bd. / Hrsg. von K. Barck, M. Fontius, D. Schlenstedt u.a. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler, 2010 (2 Aufl.). Bd 4. S. 160–167; The Cambridge Companion to Modernism / Ed. M. Levenson. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011; Mitchell R. Modernism Comes to American Poetry: 1908–1920 // American Modernist Poets / Ed. and with preface by H. Bloom. New York.: Infobase Learning, 2011. P. 131–158; Heusser M. So Many Selves: The «I» as Indeterminate Multiplicity // American Modernist Poets. P. 219–240, etc.
(обратно)83
См., например, уже упомянутый сборник: Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино/ Отв. ред. Б. В. Раушенбах. М., 1988.
(обратно)84
См., однако, упомянутую выше новаторскую по постановке проблемы диссертацию И. Драч.
(обратно)85
Mailand-Hansen Chr. Filmtheorie und Filmarbeit der russischen Formalisten // Scando-Slavica. 1983. Bd. 29. No. 1. S. 45–56 (русский перевод: Майланд-Хансен К. Кинотеория и кинопрактика русских формалистов // Киноведческие записки. 1993. № 17); Galan F. W. Film and Form: Notes on Boris Ejchenbaum’s Stylistic of Cinema // Russian Literature. 1986. Vol. XIX. P. 105–142; Ямпольский М. «Смысловая вещь» в кинотеории раннего ОПОЯЗа // Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 109–119; Янгиров Р. М. Специфика кинематографического контекста в русской литературе 1910‐х — 1920‐х годов. Дис. … канд. филол. наук. М., 2000; Левченко Я. Другая наука: русские формалисты в поисках биографии. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. С. 221–274; Бориславов Р. «О законах кино» В. Шкловского: предисловие к републикации // Новое литературное обозрение. 2014. № 128.
(обратно)86
См. ранее: Кукулин И. Маятник одиночества: предварительные замечания о конструировании понятия «русская неподцензурная поэзия» // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании: Сб. науч. статей. Вып. 9: В 2 т. М.: МГПИ, 2010. Т. 1. С. 242–252; Он же. Александр Галич и эволюция русской неподцензурной поэзии 1960–2000‐х годов (К постановке проблемы) // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании: Сб. науч. статей. М.: МГПИ. Вып. 10: В 2 т. 2011. Т. 2. C. 52–61; Он же. Два рождения неподцензурной поэзии в СССР // Там же. Вып. 11: В 2 т. 2012. Т. 1. С. 115–124. Ввиду того, что все эти статьи вышли в труднодоступных малотиражных сборниках, я позволил себе в этой книге использовать их фрагменты.
(обратно)87
Добренко Е. Формовка советского писателя: Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб.: Академический проект, 1999.
(обратно)88
Там же. С. 13.
(обратно)89
Там же. С. 9.
(обратно)90
Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства (заметки для исследования) (1970) / Пер. с фр. С. Рындина под ред. И. Калинина и В. Софронова // Неприкосновенный запас. 2011. № 3 (77). С. 14–58.
(обратно)91
Первое издание — 1987, второе, расширенное — 1991. С этого второго издания сделан русский перевод: Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градов / Пер. с фр. О. Ковеневой под ред. Н. Копосова. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
(обратно)92
См. подробнее: Липовецкий М. Трикстер и «закрытое» общество // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 223–245.
(обратно)93
Гинзбург Л. Я. Проходящие характеры. Проза военных лет. Записки блокадного человека / Сост., подгот. текста, примеч., статьи Э. Ван Баскирк и А. Зорина. М.: Новое издательство, 2011. С. 82–83.
(обратно)94
Айзенберг М. Н. Некоторые другие // Айзенберг М. Н. Взгляд на свободного художника. М.: Гендальф, 1997. С. 38–109.
(обратно)95
Кондратов Э. М. Университетская набережная. Воспоминания. Самара, рукопись. Цит. по публикации фрагмента в блоге дочери писателя, Ларисы Рудяковой (Кондратовой). 2011. 18 мая: ; Кулаков Вл. Мансарда окнами на запад (интервью А. Сергеева) // Кулаков Вл. Поэзия как факт. М., 1999; Кукулин И. Развитие беспощадного показа (интервью Г. Сапгира) // Независимая газета. 1999. 15 октября (–10–15/development.html).
(обратно)96
Блюм А. За кулисами «Министерства правды». Тайная история советской цензуры, 1917–1929. СПб.: Академический проект, 1994; Он же. Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929–1953. СПб.: Академический проект, 2000.
(обратно)97
«В эти [1940–1950‐е] годы, послевоенные — особенно, запуганные и терроризированные авторы и редакторы уже были обучены правилам идеологической игры, доставляя на предварительный контроль настолько очищенные, „дистиллированные“ тексты, что политико-идеологический контроль со стороны [собственно] цензурных инстанций стал сводиться практически к нулю. В принципе, со временем власть могла бы вообще отказаться от услуг административной цензуры…» (Блюм А. Советская цензура в эпоху тотального террора. С. 11).
(обратно)98
См. подробнее: Поливанов К. М. Из истории литературной жизни 1920‐х гг.: по поводу одной рецензии // Николай Гумилев и русский Парнас: Материалы научной конференции 17–19 сентября 1991 года. СПб., 1992.
(обратно)99
Аксенов И. А. Письмо в Литературный центр конструктивистов о выходе из членов ЛЦК; Он же. Письмо «Союза приблизительно равных» «Литературному центру конструктивистов» // Аксенов И. А. Из творческого наследия: В 2 т. / Сост., вступ. ст. и коммент. Н. Л. Адаскиной, научн. ред. А. Д. Сарабьянов. Т. 2. М.: RA, 2008. С. 84–87.
(обратно)100
Галушкин А. Ю. «Дело Пильняка и Замятина»: Предварительные итоги расследования // Новое о Замятине / Под ред. Л. Геллера. М.: МИК, 1997. С. 89–148.
(обратно)101
Вайль П., Генис А. Поиски жанра. Александр Солженицын // Вайль П., Генис А. 60‐е. Мир советского человека. 2‐е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 246–260, особ. с. 246–247, 250. В названии главы заключена скрытая шутка: «Поиски жанра» — название трагикомической повести Василия Аксенова, который в 1960–1970‐х годах воспринимался как эстетический оппонент Солженицына.
(обратно)102
[Б.а.] Nu-real: a timeline of fantastic photomontage and its possible influences, 1857–2007 (-log.info/timeline/).
(обратно)103
Более ранние предшественники этого слова — французский глагол «monter» («подниматься»), глагол вульгарной латыни «montare» («поднимать, подниматься»), слово из классической латыни «mons» («montis») («гора») и гипотетический праиндоевропейский корень «men» («выдаваться»).
(обратно)104
Кулешов Л. О задачах художника в кинематографе // Кулешов Л. Собр. соч.: В 3 т. Теория. Критика. Педагогика / Сост. А. С. Хохлова, И. Л. Сосновский, Е. С. Хохлова; вступ. ст. Р. Н. Юренева. Т. 1. М.: Искусство, 1987. С. 57 (разрядка Л. Кулешова). Первая публикация: Вестник кинематографии. 1917. № 126. С. 15–16.
(обратно)105
Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов // Эйзенштейн С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М.: Искусство, 1964. С. 269–273. Сохранены шрифтовые выделения источника. Первая публикация: ЛЕФ. 1923. № 3. С. 70–75. Приводимые мной цитаты из Кулешова и Эйзенштейна хорошо известны киноведам, однако эта работа имеет междисциплинарный характер, и я позволил себе их привести для цельности контекста.
(обратно)106
Третьяков С. Люди одного костра. М., 1936. C. 28–29; Он же. Джон Хартфильд монтирует… // Третьяков С., Телингатер С. Джон Хартфильд. М.: Изогиз, 1936. С. 64.
(обратно)107
Ades D. Photomontage. New York: Pantheon Books, 1976. P. 19 и сл.; Третьяков С. Люди одного костра. С. 29. См. также: Herzfelde W. John Heartfield, Leben und Werk. Leipzig: Verlag der Kunst, 1962; Selz P. John Heartfield’s «Photomontages» // The Massachusetts Review. 1963. Vol. 4. No. 2 (Winter). P. 309–336; Lavin M. Cut with the Kitchen Knife: The Weimar Photomontages of Hannah Höch. New Haven: Yale University Press, 1993; Kriebel S. T. Revolutionary Beauty: John Heartfield, Political Photomontage, and the Crisis of the European Left, 1929–1938. Ph.D. diss. University of California, Berkeley, 2003.
(обратно)108
Мемуары Х. Хёх, записанные Хансом Рихтером, см.: Richter H. Dada: Art and Anti-art. Oxford University Press, 1965. Комментарии Хаусманна к своему открытию см., например: Raoul Hausmann: «Je ne suis pas photographe» / Textes et documents choisis et présentés par Michel Giroud. Paris: Éditions du Chêne, 1975. P. 29–30; Hausmann R. New Painting and Photomontage // Dadas on Art: Tzara, Arp, Duchamp and Others / Ed. by Lucy R. Lippard. Mineola, New York: Dover Publications, Inc., 1971. Общий обзор проблемы см.: Ades D. Photomontage. P. 19–39.
(обратно)109
Фоменко А. Монтаж, фактография, эпос. С. 91.
(обратно)110
ЛЕФ. 1924. № 4. С. 41. Цит. по: Фоменко А. Указ. соч. С. 311.
(обратно)111
Adorno T. W. Parataxis. Zur späten Lyrik Hölderlins // Adorno T. W. Gesammelte Schriften. Bd. 11 / Hrsg. von Rolf Tiedemann. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2003.
(обратно)112
Rancière J. The Future of the Image / Transl. from French by Gr. Elliott. London; New York: Verso, 2007.
(обратно)113
Rancière J. The Aesthetic Revolution and its Outcomes: Emplotments of Autonomy and Heteronomy // New Left Review. 2002. Vol. 14 (April). P. 133–151.
(обратно)114
Цит. по электронной версии, воспроизводящей издание 1929 г. (Paris, Librairie de France, «Édition du centenaire»): -Bovary.pdf.
(обратно)115
Пер. А. Ромма цит. по изд.: Флобер Г. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1 / Под наблюд. А. Иващенко. М.: Правда, 1956 (Библиотека «Огонек»). С. 151. О Флобере в связи с монтажными приемами см.: Baron S. Flaubert, Joyce: Vision, Photography, Cinema // Modern Fiction Studies. 2008. Vol. 54. No. 4. P. 689–714.
(обратно)116
Белый А. Симфония 2‐я (драматическая) // Белый А. Симфонии / Сост., подгот. текстов, предисл. и коммент. А. В. Лаврова. Л.: Художественная литература, 1991. С. 89–193. О монтаже в более позднем романе Белого «Петербург» (1912) см., например: Tomei C. D. «Landšafty Fantazii, Slyšimoj Molča za Slovom»: Dis/Juncture as a Patterning Principle in Andrej Belyj’s Peterburg // The Slavic and East European Journal. 1994. Vol. 38. No. 4. (Winter). P. 603–617, и магистерскую работу, защищенную в 2009 г. в университете Гронингена (Нидерланды): Mateboer N. Constructing the City: Petersburg by Andrei Bely and the Development of the Twentieth Century Montage ().
(обратно)117
Белый А. Вместо предисловия // Белый А. Симфонии. С. 89.
(обратно)118
Там же.
(обратно)119
Зарождение такого приема, по‐видимому, связано с разного рода аллегорическими изображениями душевной жизни как природного ландшафта, в частности использовавшимися в эстетике барокко. Ср. известную «Карту Страны Нежности» (La Carte du Tendre), приложенную к первому тому романа Мадлен де Скюдери «Клелия» (1654): на ней есть Озеро Равнодушия, деревни Уважение, Пунктуальность и Почтение и т. п.
(обратно)120
Флобер Г. Госпожа Бовари. С. 281.
(обратно)121
Цит. по: Verhaeren E. Poèmes (Nouvelle Serie). 11me éd. Paris: Mercure de France, MCMXVII. P. 205.
(обратно)122
Цит. по: Верхарн Э. Лирика и поэмы / Пер. с фр. В. Брюсова, М. Волошина, А. Гатова, Г. Шенгели. М.: ГИХЛ, 1935. С. 201.
(обратно)123
Подробнее об этом см. в кн.: Keller A. Ernst Blochs Ästhetik: Fragment, Montage, Metapher. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2006.
(обратно)124
Блох Э. Принцип надежды / Пер. с нем. Л. Лисюткиной // Утопия и утопическое мышление. М.: Прогресс, 1991. С. 49–78; Он же. Тюбингенское введение в философию / Пер. с нем. С. Вершинина. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1997; Вершинин С. Е. Жизнь — это надежда: Введение в философию Эрнста Блоха. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2001; Болдырев И. Время утопии. Проблематические основания и контексты философии Эрнста Блоха. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.
(обратно)125
Иоффе И. И. Избранное: 1920–30‐е гг. / Сост. М. С. Каган, И. П. Смирнов, Н. Я. Григорьева, предисл. М. С. Кагана, послесл. Н. Я. Григорьевой. СПб.: ИД «Петрополис», 2006.
(обратно)126
Иоффе И. Избранное. Синтетическая история искусств. Культура и стиль: В 2 кн. СПб.: Говорящая книга, 2010.
(обратно)127
Цит. по: Иоффе И. И. Культура и стиль: система и принципы социологии искусств // Иоффе И. И. Избранное: 1920–30‐е гг. С. 84–85.
(обратно)128
Блох Э. Марксизм и поэзия (1935) / Пер. с нем. и предисл. И. Болдырева // Космополис. 2004–2005. № 4 (10). С. 134–141, здесь цит. с. 140. Предложение начинается со слов «Исследуемый с марксистской точки зрения процесс…» и т. д.
(обратно)129
Болдырев И. Мессианизм и утопия: новые книги об Эрнсте Блохе (Обзор) // Новое литературное обозрение. 2011. № 110. С. 311–321.
(обратно)130
См., например: Ueding G. Utopie in dürftiger Zeit. Studien über Ernst Bloch. Wützburg: Könighausen & Neumann, 2009. S. 48–50.
(обратно)131
Блох Э. Тюбингенское введение в философию. С. 328–329.
(обратно)132
Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы / Пер. с нем. С. Ромашко. М.: Аграф, 2002. С. 197–198 и др.
(обратно)133
Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л.: Гос. изд-во худож. литературы, 1934. С. 8; Терц А. В тени Гоголя // Терц А. (Синявский А.). Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М.: СП «Старт», 1992. С. 212–213; Барабаш Ю. Почва и судьба. Гоголь и украинская литература: у истоков. М.: Наследие, 1995. С. 101–122; Михед П. Крiзь призму бароко. Киев: Нiка-Центр, 2002; Он же. Пiзнiй Гоголь i барокко. Нiжин: Аспект-Полiграф, 2002; Вайскопф М. Нос в Казанском соборе: о генезисе религиозной темы у Гоголя // Вайскопф М. Птица тройка и колесница души. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 182; Видугурите И. Складка пейзажа: к проблеме барокко в творчестве Н. В. Гоголя // Literatūra (Vilnius). 2008. № 2 (50); Дмитриева Е. Е. Гоголь в западноевропейском контексте. Между языками и культурами. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2011. С. 55–81; и мн. др.
(обратно)134
Перевод с испанского Е. М. Лысенко цит. по: Пинский Л. Е. Бальтазар Грасиан и его произведения // Грасиан Б. Карманный оракул. Критикон. М.: Наука, 1984. С. 512 (Литературные памятники).
(обратно)135
Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. С. 229–233.
(обратно)136
Иоффе И. И. Синтетическая история искусств. Введение в историю художественного мышления. Л.: Ленизогиз, 1933. Цит. по: Он же. Избранное: 1920–30‐е гг. С. 262.
(обратно)137
Калинин И. История как искусство членораздельности (исторический опыт и металитературная практика русских формалистов) // Новое литературное обозрение. 2005. № 71.
(обратно)138
Об урбанизации в этот период см.: Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени: В 2 т. Т. 1 / Под ред. С. Бродберри, К. О’Рурка, пер. с англ. Ю. Каптеревского под ред. Т. Дробышевской. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. С. 374–388.
(обратно)139
См. подробнее: Osterhammel J., Petersson N. P. Globalization: A Short History / Transl. from German by D. Geyer. Princeton University Press, 2009. P. 57–80; Dobado-González R., García-Hiernaux A., Guerrero-Burbano D. West versus East: Early Globalization and the Great Divergence. Электронный препринт Университета Комплутенсе. Мадрид. Июль 2013 г. (–08.pdf).
(обратно)140
Wettlaufer A. Ruskin and Laforgue: Visual-Verbal Dialectics and the Poetics/Politics of Montage // Comparative Literature Studies. 1995. Vol. 32. No. 4. P. 514–535. О влиянии урбанизации на монтаж упоминал еще Эйзенштейн в эссе «Диккенс, Гриффит и мы» — он полагал, что в историко-культурном смысле главное открытие здесь совершил Диккенс, выработавший новые принципы изображения города (Эйзенштейн С. М. Избр. произв.: В 6 т. Т. 5. М.: Искусство, 1963. С. 146–152).
(обратно)141
Macdonald S. Montage as Chinese: Modernism, the Avant-garde, and the Strange Appropriation of China // Modern Chinese Literature and Culture. 2007. Vol. 19. No. 2 (Fall). P. 151–199.
(обратно)142
См. об этом: Праш Т. Весь мир в одном городе: Лондон в 1851 году / Пер. с англ. О. Карповой; Бьюмонт М. Мир как универсальный магазин: утопия и политика потребления в конце XIX века / Пер. с англ. А. Нестерова // Новое литературное обозрение. 2004. № 70. С. 142–158.
(обратно)143
Цит. по изд.: Некрасов Н. А. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1954. С. 155.
(обратно)144
См. также: Kukulin I. Documentalist Strategies in Contemporary Russian Poetry // The Russian Review. 2010 (October). Vol. 69. No. 4. P. 587–588.
(обратно)145
Бодлер Ш. Поэт современной жизни (sic!) / Пер. с фр. Н. И. Столяровой и Л. Д. Липман // Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Искусство, 1986. С. 283–315. См. важную для нашей темы статью, обсуждающую это эссе Бодлера: Фризби Д. Разрушение города: Социальная теория, мегаполис и экспрессионизм / Пер. с англ. И. Мюрберг // Логос. 2002. № 3 (34). С. 1–33 (оригинал: Frisby D. Cityscapes of Modernity. Critical Explorations. Cambridge: Polity Press, 2001. P. 236–265).
(обратно)146
Baudelaire Ch. Fleurs du mal. Paris: Poulet-Malassis et De Broise, 1857. P. 158–159.
(обратно)147
Цит. по изд.: Бодлер Ш. Цветы зла. Стихотворения в прозе / Сост., вступ. ст. Г. К. Косикова, коммент. А. Н. Гиривенко, Е. В. Баевской, Г. К. Косикова. М.: Высшая школа, 1993. С. 124–125.
(обратно)148
Русское слово. 1916. 24 февраля. № 44. Цит. по изд.: [Дорошевич В.] Театральная критика Власа Дорошевича / Сост., вступ. ст. и коммент. С. В. Букчина. Минск: Харвест, 2004. С. 437–446, здесь цит. с. 440.
(обратно)149
Заслуживает внимания мысль философа и историка культуры Э. Надточия о генетической связи между стилистикой Дорошевича и современными формами письма в социальных сетях. См. запись в блоге Надточия от 16 августа 2010 г.: -sohn.livejournal.com/474566.html.
(обратно)150
Имелись в виду звездочки на световой рекламе бульонных кубиков «Магги».
(обратно)151
Клуцис Г. Фотомонтаж как средство агитации и пропаганды. Цит. по: Фоменко А. Указ. соч. С. 312–313.
(обратно)152
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева, вступ. ст. С. Баньковской. М.: Канон-Пресс; Кучково поле, 2001. С. 60–69.
(обратно)153
О дальнейшем влиянии специфически «городского воображения» и эстетики синхронности и монтажа на русскую поэзию см., например, обширный материал и его анализ в кн.: Левинг Ю. Вокзал — гараж — ангар. Владимир Набоков и поэтика русского урбанизма. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2004.
(обратно)154
Об Уитмене как о предшественнике монтажа писал С. М. Эйзенштейн: Эйзенштейн С. Диккенс, Гриффит и мы. С. 159.
(обратно)155
Цит. по: Whitman W. Leaves of Grass. London; Boston: G. P. Putnam’s Sons; Small, Maynard and Co., 1897. P. 28.
(обратно)156
Цит. по: Уитмен У. Листья травы / Пер. с англ. М.: Художественная литература, 1982. С. 48.
(обратно)157
Роман Дёблина был впервые издан в 1915 г., стихотворение Маяковского — в 1913‐м в коллективном сборнике «Требник троих». О влиянии кинематографа на стиль Дёблина см.: Furthman-Durden E. C. Hugo von Hofmannstal and Alfred Döblin: The Confluence of Film and Literature // Monatshefte. 1986. Bd. 78. No. 4 (Winter). S. 443–455.
(обратно)158
Бесшовные металлические трубы, способ изготовления которых был изобретен немецкими инженерами, братьями Маннесман.
(обратно)159
«Ле-цзы» — даосский трактат, приписываемый мудрецу Ле-цзы (Ле Юй-коу, IV в. до н. э.?), эклектическое сочинение, в котором содержится множество притч и легенд о святых-бессмертных в духе ранних даосов — излагается, в частности, учение о развертывании «великих перемен» в мир «тьмы вещей» (благодарю И. С. Смирнова за консультацию).
(обратно)160
Дёблин А. Три прыжка Ван Луня / Пер. с нем., коммент. и справ. аппарат Т. Баскаковой. Тверь: Kolonna Publ., 2006. С. 7–8. Немецкий оригинал не приводится ввиду большого объема цитаты. См.: Döblin A. Die drei Sprünge des Wang-Lun. Chinesischer Roman. Berlin: G. Fischer Verlag, 1917. S. 7–8.
(обратно)161
О развитии этой традиции см.: Пинский Л. Е. Указ. соч. С. 524–543.
(обратно)162
Кацис Л. Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. Изд. 2‐е, перераб. и доп. М.: РГГУ, 2004. С. 186–201. См. также: Россомахин А. Брутально, провокационно, лаконично // Сайт ART1. Visual Daily. 2013. 20 июля (часть 1 — -provokacionno-lakonichno-1/, часть 2 — -provokacionno-lakonichno-2/).
(обратно)163
«Когда начинаешь всматриваться в строение книги [„Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена“], то видишь, прежде всего, что этот беспорядок — намеренный, здесь есть своя поэтика. Это закономерно, как картина Пикассо» (Шкловский В. О теории прозы. М.: Федерация, 1929. С. 180. Глава «Пародийный роман», из которой взята цитата, написана на основе статьи 1921 г.). «Главное содержание романа [„Евгений Онегин“] — его собственные конструктивные формы, сюжетная же форма использована так, как используются реальные предметы в картинах Пикассо» (Шкловский В. Евгений Онегин (Пушкин и Стерн) // Очерки по поэтике Пушкина. Берлин: Эпоха, 1923. С. 211).
(обратно)164
Шёнле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий. 1790–1840 / Пер. с англ. Д. Соловьева. СПб.: Академический проект, 2004. С. 155.
(обратно)165
Вельтман А. Ф. Странник / Изд. подгот. Ю. М. Акутин. М.: Наука, 1978. С. 10–11. (Литературные памятники).
(обратно)166
Шёнле А. Подлинность и вымысел… С. 155.
(обратно)167
Фоменко А. Монтаж, фактография, эпос. С. 121.
(обратно)168
Подорога В. Homo ex machina. Авангард и его машины. Эстетика новой формы // Логос. 2010. № 1 (74). С. 22–50.
(обратно)169
См.: Гирин Ю. Н. Системообразующие концепты культуры авангарда // Авангард в культуре XX века (1900–1930 гг.). Теория. История. Поэтика: В 2 кн. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 77–156.
(обратно)170
Wettlaufer A. Ruskin and Laforgue: Visual-Verbal Dialectics and the Poetics/Politics of Montage…
(обратно)171
В 1887 г. были изданы 8‐томным собранием (London and Aylesbury: Hazell, Watson, & Viney, Ltd.).
(обратно)172
Цит. по: Laforgue J. Les Complaintes. Paris: Leon Vanier, 1885. P. 120, 123.
(обратно)173
Пер. с фр. В. Рогова (с изм.). Цит. по изд.: Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора / Сост., вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: МГУ, 1993. С. 174–175.
(обратно)174
Цит. по изд.: Gaspard de la Nuit. Phantasies a la manière de Rembrandt et de Callot. Par Luis Betrand (на втором титульном листе имя автора: Aloysius Bertrand). Paris: Aux Editions de la Sirène, 1920. P. 54.
(обратно)175
Цит. по изд.: Бертран А. Гаспар из тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло / Подгот. изд. Н. И. Балашова, Е. А. Гунста и Ю. Н. Стефанова. М.: Наука, 1981. C. 57 (Литературные памятники).
(обратно)176
Балашов Н. И. Алоизиюс Бертран и рождение стихотворения в прозе // Бертран А. Гаспар из тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло. С. 272.
(обратно)177
Малларме С. Бросок костей никогда не исключает случайность / Пер. с фр. М. Фрейдкина // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. М.: Радуга, 1995. С. 270–271, фр. оригинал — указ. изд., с. 247–248.
(обратно)178
Там же. С. 286–287; оригинал — с. 262–263.
(обратно)179
Badiou A. Being and Event (1988) / Transl. from French by O. Feltham. New York: Continuum, 2007. P. 192–193.
(обратно)180
См. об этом, например: Цивьян Ю. О Чаплине в русском авангарде и о законах случайного в искусстве // Новое литературное обозрение. 2006. № 81. С. 99–142.
(обратно)181
Этим параллелям посвящена отдельная глава в его книге: Эйзенштейн С. Монтаж / Сост., подгот. текста и коммент. Н. И. Клеймана. С. 217 и сл.
(обратно)182
См., например: Tzara T. Dada Manifeste sur l’amour faible et l’amour amer // Tzara T. Œuvres complètes I / Ed. par Henri Béhar. Paris: Flammarion, 1975.
(обратно)183
Позже Хартфилд пришел к откровенно политически-агитационному искусству. См. его многочисленные политические коллажи 1920–1930‐х годов, репродуцированные в альбоме: Третьяков С., Телингатер С. Джон Хартфильд.
(обратно)184
Цит. по: Элгер Д. Дадаизм / Пер. с нем. Т. А. Граблевской и Л. И. Кайсаровой. М.: Арт-Родник, 2006. С. 24.
(обратно)185
См., например, часто цитируемую искусствоведами работу: Marcus S. The Typographic Element in Cubism, 1911–1915: Its Formal and Semantic Implications // Visible Language. 1972. Vol. 6. No. 4. P. 321–340 (неподписанный русский перевод фрагмента этой статьи см. в детском научно-популярном журнале «Введенская сторона» (Старая Русса) (2007. № 2): http://art-storona.ru/2007/2/article12.php).
(обратно)186
Впрочем, строки «И чем случайней, тем точнее / Слагаются стихи навзрыд» появились в стихотворении Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать…» не в 1912 г., когда оно было написано, а в редакции 1928 г.
(обратно)187
Ср. образ «безграалия на горе» у Аксенова и постоянный мотив «отрицательной теологии» у Малларме.
(обратно)188
Аксенов И. Неуважительные основания. М.: Центрифуга, 1916. С. 13–17, здесь цит. с. 14–15.
(обратно)189
Аксенов И. А. Пикассо и окрестности: Монография. М., 1917. Книга об Эйзенштейне была написана в 1935 г. и выпущена посмертно: Он же. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника / Общ. ред., послесловие и коммент. Н. И. Клеймана. М.: Киноцентр, 1991.
(обратно)190
Минц З. Г. К проблеме «символизма символистов». Пьеса Ф. Сологуба «Ванька Ключник и паж Жеан» // Труды по знаковым системам. Т. XXI. Тарту, 1987. С. 104–118 (Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 754).
(обратно)191
О значении для Сологуба идеи повторяемости истории и особенно индивидуальной биографии подробно писал В. Ф. Ходасевич в своем эссе об этом писателе: Ходасевич В. Ф. Сологуб // Ходасевич В. Ф. Тяжелая лира / Сост. и предисл. С. Г. Бочарова, коммент. И. З. Сурат и С. Г. Бочарова. М.: Панорама, 2000. С. 337–350, особ. с. 344–346.
(обратно)192
«В „Нетерпимости“ он [Гриффит] уже вводит ту синтетическую концепцию монтажа, из которой советское кино сделает крайние выводы и которая в конце немого периода получит, хоть и не в столь абсолютном выражении, повсеместное признание», — писал знаменитый французский кинокритик Андре Базен (Базен А. Эволюция киноязыка (1948) / Пер. с фр. В. Божовича // Базен А. Что такое кино?: Сб. статей. М.: Искусство, 1972. С. 90).
(обратно)193
Цит. по: Садуль Ж. Всеобщая история кино: В 4 т. Т. 3 / Пер. с фр. А. А. Худадовой. М.: Искусство, 1961. С. 192.
(обратно)194
См., например: Эйзенштейн С. Диккенс, Гриффит и мы. С. 161; Базен А. Указ. соч.; Садуль Ж. Указ. соч. Т. 1. С. 192–194, 202–203.
(обратно)195
Selected Letters of Ezra Pound // Ed. by D. D. Paige. New York: New Directions, 1971. P. 210 (пер. Я. Пробштейна).
(обратно)196
Иконников А. Детское Село: Китайский театр и китайщина. М.; Л.: ОГИЗ; Изогиз, 1931; Honour H. Chinoiserie: The Vision of Cathay. London: J. Murray, 1961.
(обратно)197
18 мая 1913 г. В. И. Ленин опубликовал в «Правде» статью «Отсталая Европа и передовая Азия», в которой доказывал, что центр мировой истории сместился в страны Дальнего Востока — конкретно в Китай. «В Азии везде растет, ширится и крепнет могучее демократическое движение. Буржуазия там еще идет с народом против реакции» (Ленин В. И. Полн. собр. соч.: В 55 т. 5‐е изд. Т. 23. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1973. С. 166–167, здесь цит. с. 167). Несмотря на широковещательные заявления о «всей Азии», приводимые Лениным примеры взяты только из новостей о Китае. Впрочем, лидер большевиков мог иметь в виду и так называемую Конституционную революцию, произошедшую в 1905–1911 гг. в Иране.
(обратно)198
Очевидно, что такая жизненная история полностью противоречит всему, что говорит о западном ориентализме Эдвард Саид.
(обратно)199
Fenollosa E., Pound E. ‘Noh’. Or, Accomplishment. A Study of Classical Stage of Japan. London: Macmillan and Co., 1916.
(обратно)200
О влиянии Феноллозы на Паунда см.: Kennedy G. A. Fenollosa, Pound and the Chinese Character // Yale Literary Magazine. 1958. Vol. 126. No. 5. (December). P. 24–36; Stock N. The Life of Ezra Pound (1970). Abingdon, Oxon: Routledge, 2011. P. 148–175.
(обратно)201
Pound E. Instigations. Together with an essay on the Chinese written character by Ernest Fenollosa. New York: Boni and Liveright, 1920. Материалы, связанные с отношением Паунда к идеям Феноллозы и подготовкой этого эссе к печати, см.: Fenollosa E., Pound E. The Chinese Written Character as a Medium for Poetry. A Critical Edition / Ed. by H. Saussy, J. Stalling, and L. Klein. New York: Fordham University Press, 2008.
(обратно)202
См. об этом: Kennedy G. A. Op. cit. В русской исследовательской литературе об этом аспекте творчества Паунда первым написал В. В. Малявин: Малявин В. В. Китайские импровизации Паунда // Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации. [Вып. 1] М.: ГРВЛ, 1982. С. 246–276.
(обратно)203
Иванов Вяч. Вс. Эйзенштейн и культуры Японии и Китая // Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации. [Вып. 3.] М.: ГРВЛ, 1988. С. 279–290.
(обратно)204
Эйзенштейн С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М.: Искусство, 1964. С. 99.
(обратно)205
Macdonald S. Montage as Chinese: Modernism, the Avant-garde, and the Strange Appropriation of China. P. 164.
(обратно)206
Macdonald S. Op. cit. P. 163.
(обратно)207
Иванов Вяч. Вс. Указ. соч. С. 280.
(обратно)208
Bai R. Dances with Mei Lanfang: Brecht and the Alienation Effect // Comparative Drama. 1998. Vol. 32. No. 3 (Fall). P. 389–433. Ланьфан был актером амплуа «дань», т. е. исполнителем женских ролей (в пятом поколении).
(обратно)209
Эйзенштейн С. М. Монтаж. С. 520.
(обратно)210
Там же. С. 80–87 (Эйзенштейн возвращается к этой мысли в других разделах этой работы и в других работах).
(обратно)211
Wettlaufer A. Op. cit.
(обратно)212
Гаспаров М. Л. «Поэма Воздуха» Марины Цветаевой: Опыт интерпретации // Труды по знаковым системам. Т. XV: Типология культуры. Взаимное воздействие культур. Тарту, 1982. С. 122–140. Слово в квадратных скобках добавлено М. Л. Гаспаровым.
(обратно)213
См. об этом: Войтехович Р. Цветаева и Штейнер: заметки на полях одной книги // Реальность и субъект: Игра в пространстве смыслов. 2002. Т. 6. № 3. С. 94–98; Лютова С. Н. Архетипический политеизм М. Цветаевой и неоязычество в русской культуре XX в. // Марина Цветаева и Максимилиан Волошин: Эстетика смыслообразования. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2004.
(обратно)214
«Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt, als einer rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfaßt und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat» («Человек живет еще в предыстории, во всем он оказывается еще до сотворения мира, как тот, кто прав. Реальная книга Бытия — не в начале мира, но в финале. Сотворение мира [Бытия] начнется, когда общество и существование индивида станут радикальными, то есть изменятся в корне. Однако корень истории — это работающий, творящий, меняющий обстоятельства и превосходящий их человек. Если он овладеет собой и положит основу свого существования — без уступок и отчуждения — в реальной демократии, то в мире возникнет то, что является всем в детстве, но где еще никто не был: родина») (Bloch E. Werkausgabe. Bd. 5. Das Prinzip Hoffnung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1985. S. 1628).
(обратно)215
Блох Э. Тюбингенское введение в философию. С. 323; Bloch E. Experimentum Mundi. Frage, Kategorien des Herausbringens, Praxis. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1975. S. 171 (Werkausgabe. Bd. 15).
(обратно)216
Эйзенштейн С. Неравнодушная природа // Эйзенштейн С. Избр. произв.: В 6 т. Т. 3. М.: Искусство, 1964.
(обратно)217
Бибихин В. В., Шичалин Ю. А., Петровская Е. В. Экстаз // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 4 / Под ред. В. С. Степина. 2‐е изд., испр. и допол. М.: Мысль, 2010. С. 427. Е. В. Петровская в своем разделе статьи цитирует статью С. Эйзенштейна «Неравнодушная природа». См. также о понятии экстаза у Эйзенштейна: Хренов Н. Сергей Эйзенштейн: от технологии суггестивного воздействия к эстетике диалога // Киноведческие записки. 2000. № 46; Булгакова О. Теория как утопический проект // Новое литературное обозрение. 2007. № 88. С. 39–79.
(обратно)218
Сомаини А. Возможности кино: История как монтаж в заметках ко «Всеобщей истории кино» Эйзенштейна / Пер. с ит. Натальи Рябчиковой // Киноведческие записки. 2012. № 100–101. С. 109.
(обратно)219
Булгакова О. Теория как утопический проект.
(обратно)220
Эйзенштейн С. Станиславский и Лойола // Эйзенштейн С. Неравнодушная природа: В 2 т. Т. 1. Чувство кино / Сост., авт. предисл. и коммент. Н. И. Клейман. М.: Эйзенштейн-Центр, 2004. С. 488.
(обратно)221
Первая публикация: Сборники по теории поэтического языка. Вып. II. Пг., 1917. С. 3–14.
(обратно)222
Шкловский, не указывая точных дат, вспоминает, что с Кулешовым его познакомил Абрам Роом, уже после того как Шкловский узнал о работах Эйзенштейна: Шкловский В. Жили-были. Воспоминания. Мемуарные записи. М.: Советский писатель, 1966. С. 457. Судя по всему, личное знакомство произошло в середине 1920‐х.
(обратно)223
Tihanov G. The Politics of Estrangement: The Case of the Early Shklovsky // Poetics Today. 2005. Vol. 26. No. 4. 2005 (Winter). P. 665–696; Калинин И. История как искусство членораздельности (исторический опыт и металитературная практика русских формалистов) // Новое литературное обозрение. 2005. № 71. С. 103–131.
(обратно)224
Калинин И. Формальная теория сюжета / Структуралистская фабула формализма // Новое литературное обозрение. 2014. № 128.
(обратно)225
Цит. по: Ставр Годинович // Былины. М.: Советская Россия, 1988. С. 413–422, здесь цит. с. 420 (Б‐ка русского фольклора. Т. 1).
(обратно)226
Сошкин Е. Приемы остранения: опыт унификации // Новое литературное обозрение. 2012. № 114. С. 178–191.
(обратно)227
Ямпольский М. Между остранением и déjà vu // Сайт «Colta.ru». 2013. 5 апреля ().
(обратно)228
Цит. по изд.: Толстой Л. Холстомер // Толстой Л. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 26. М.: ГИХЛ, 1936. С. 23 (Литературное наследство. Сер. 1).
(обратно)229
Вообще говоря, ассамбляж — это произведение искусства, сделанное из обломков природных материалов, предметов или их фрагментов — например, из мусора. Этот термин ввел в 1953 г. выдающийся французский художник-сюрреалист Жан Дюбюффе. Но М. Ямпольский имеет в виду новую эпистемологическую ситуацию в эпоху после Первой мировой войны, при которой элементы картины мира в сознании человека теряют прежние смысловые связи и выстраиваются в новые, случайные порядки.
(обратно)230
О влиянии опыта Первой мировой войны на статью «Искусство как прием» см.: Tihanov G. Op. cit. Иная, чем изложенная здесь, концепция соотношения монтажа и остранения представлена в работе Нины Гурьяновой: Гурьянова Н. Авангард и идеология // Russian Literature. 2010. Vol. LXVII. No. III/IV. P. 365–402. Согласно Гурьяновой, остранение — метод антиидеологического авангарда, а «монтаж аттракционов» — метод авангарда идеологизированного и согласившегося на огосударствление.
(обратно)231
Мандельштам О. Э. Конец романа // Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. С. 274.
(обратно)232
Калинин И. Прием остранения как опыт возвышенного (от поэтики памяти к поэтике литературы) // Новое литературное обозрение. 2009. № 95. С. 39–57.
(обратно)233
Гинзбург К. Остранение: предыстория одного литературного приема / Пер. с ит. С. Козлова // Новое литературное обозрение. 2006. № 80. С. 9–29.
(обратно)234
По-видимому, самым ранним известным примером остранения в литературе являются строки из «Одиссеи» Гомера: «Если дорогой ты путника встретишь, и путник тот спросит: / „Что за лопату несешь на блестящем плече, иноземец?“ — / В землю весло водрузи — ты окончил свое роковое, / Долгое странствие…» (Od., XXIII, 274–276, пер. В. А. Жуковского).
(обратно)235
В этой книге (Гумбрехт Х. У. В 1926 году: На острие времени / Пер. с англ. Е. Канищевой. М.: Новое литературное обозрение, 2005) см. особенно разделы о новом значении хронометра и часов в искусстве и об эстетике восприятия времени в целом: с. 274–281, 362–370, 445–453.
(обратно)236
Вальтер Беньямин в «Тезисах о понятии истории» замечает в духе иудейской мистики, что каждая секунда может стать калиткой, в которую войдет Мессия. Это утверждение полемично по отношению к левой, и особенно советской эстетике 20‐х: тогда «мессианским» временем считалась не заурядная секунда, а исключительная по своему характеру современность, и она изображалась не «калиткой», а скорее парадными вратами, в которые входит невероятное, полностью меняющее мир будущее.
(обратно)237
Цит. по изд.: Серафимович А. Железный поток // Серафимович А. С. Полн. собр. соч.: В 15 т. / Под ред. Г. Нерадова. Изд. 5‐е, испр. Т. 13. М.; Л.: ГИХЛ, 1930. С. 33–34.
(обратно)238
См. об этом: Руднев П. А. Метрика Александра Блока: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Тарту, 1969. С. 15–16; Он же. Опыт описания полиметрической структуры поэмы Блока «Двенадцать» // Труды по русской и славянской филологии. XVIII: Литературоведение / Отв. ред. Ю. М. Лотман. Тарту, 1971. С. 195–221. (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 266).
(обратно)239
Лотман М. Ю. Метрический монтаж: к теории полиметрических композиций // Sign Systems Studies. 2013. Vol. 41. No. 2–3. P. 187–199.
(обратно)240
Алянский С. М. Встречи с Александром Блоком. М., 1969.
(обратно)241
Цит. по изд.: Блок А. Двенадцать // Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 5. М.: Наука, 1999. С. 9.
(обратно)242
Цит. по изд.: Пильняк Б. Голый год. Берлин; Пб.; М.: Изд-во З. И. Гржебина, 1922. С. 59.
(обратно)243
Там же. С. 14. На этот фрагмент, вероятно, оказало влияние заумное стихотворение Елены Гуро «Финляндия»: «Лулла, лолла, лалла-лу, / Лиза, лолла, лулла-ли. / Хвои шуят, шуят, / ти-и-и, ти-и-у-у…»
(обратно)244
Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. М., 1942. С. 1370.
(обратно)245
Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801–1917: В 4 т. / Сост. Д. Раскин, Н. Корнева, Т. Любарская, С. Казакова. Т. 4. СПб.: Наука, 2004. С. 113–115.
(обратно)246
Троцкий Л. Б. Пильняк // Троцкий Л. Литература и революция (печатается по изданию 1923 г.). М.: Политиздат, 1991. С. 69.
(обратно)247
Тынянов Ю. Литературное сегодня // Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино / Подгот. изд. и примеч. Е. А. Тоддеса, А. П. Чудакова и М. О. Чудаковой. М.: Наука, 1977. С. 150–166, здесь цит. с. 162.
(обратно)248
Андроникашвили-Пильняк Б. Б. Два изгоя, два мученика: Борис Пильняк и Евгений Замятин // Знамя. 1994. № 9. С. 123–153; Учитель или подмастерье? Семь писем Бориса Пильняка Алексею Ремизову / Подгот. текста, вступ. ст. и примеч. Дагмар Кассек // Новое литературное обозрение. 2003. № 61. С. 247–272; Ауэр А. «Перед лицом вечности…»: Статьи о художественном мире Б. А. Пильняка. Коломна: КГПИ, 2009.
(обратно)249
Первая публикация: Золотое руно. 1907. № 7–9. С. 73–74. Цит. по: Ремизов А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2 / Под ред. А. М. Грачевой, Т. Г. Ивановой, А. В. Лаврова и др. М.: Русская книга, 2000. С. 149–150. Впрочем, В. Шкловский полагал, что Белый оказал на Пильняка большее влияние, чем Ремизов (Шкловский В. Андрей Белый // Шкловский В. Б. Гамбургский счет. Статьи — воспоминания — эссе (1914–1933) / Сост. и коммент. А. Ю. Галушкина. М.: Советский писатель, 1990. С. 217).
(обратно)250
Булгакова О. Теория как утопический проект (цит. по: ).
(обратно)251
Цит. по изд.: Серафимович А. Избранные произведения. М.: Художественная литература, 1976. С. 243–260, здесь цит. с. 260.
(обратно)252
См. подробнее: Хуттунен Т. Имажинист Мариенгоф: Денди. Монтаж. Циники. М.: Новое литературное обозрение, 2007; Обатнина Е. Р. А. М. Ремизов. Личность и творческие практики писателя. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
(обратно)253
Издан: М.; Л.: Молодая гвардия, 1924.
(обратно)254
Замятин Е. «Мы»: Текст и материалы к творческой истории романа / Сост., подгот. текста, публ., коммент. и статьи М. Любимовой и Дж. Куртис. СПб.: Мiръ, 2011.
(обратно)255
Цит. по изд.: Замятин Е. Мы // Замятин Е. Избранные произведения / Сост. А. Галушкин, предисл. В. Шкловского, вступ. ст. В. Келдыша. М.: Советский писатель, 1989. С. 551–552. Далее роман цитируется по этому изданию.
(обратно)256
Об истории распространения и ранней рецепции романа см.: Галушкин А. Ю. К «допечатной» истории романа Е. И. Замятина «Мы» (1921–1924) // Themes and Variations: In Honor of Lazar Fleishman = Темы и вариации: Сборник статей и материалов к 50‐летию Лазаря Флейшмана. Stanford, Ca.: Stanford University Press, 1994. P. 366–375 (Stanford Slavic Studies. Vol. 8); Винокуров Ф. Вхождение в литературу романа Е. Замятина «Мы» (март 1921 — октябрь 1922) // Труды по русской и славянской филологии. Tartu: Tartu Ülikool Kirjastus, 2009. Т. VII. С. 242–260.
(обратно)257
Цит. по: Галушкин А. Ю. К «допечатной» истории романа Е. И. Замятина «Мы». С. 367.
(обратно)258
«…Замятин слишком умен для художника и напрасно позволяет разуму увлекать талант его на тропу сатиры. „Мы“ — вещь отчаянно плохая. Усмешка — холодна и суха, это — усмешка старой девы» (Горький А. М. Письмо И. Груздеву от 15 февраля 1929 г. // Архив А. М. Горького. Т. 11. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым / Под ред. Б. А. Бялика, В. С. Барахова, С. С. Зиминой. М.: Наука, 1966. С. 194). «На примере Замятина прекрасно подтверждается истина, что талант и ум, как бы ни был ими одарен писатель, недостаточны, если потерян контакт с эпохой, если изменило внутреннее чутье, и художник или мыслитель чувствуют себя среди современности пассажирами на корабле, либо туристами, враждебно и неприветливо озирающимися вокруг» (Воронский А. К. Литературные силуэты. III. Евг. Замятин // Красная новь. 1922. № 6). См. также об оценках романа: Полякова Л. B. Евгений Замятин в контексте оценок истории русской литературы XX века как литературной эпохи. Курс лекций. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2000.
(обратно)259
Намек на кубистическую изобразительную технику и одновременно — на апологию «квадратов», которую в романе провозглашает герой-рассказчик («Вот что: представьте себе — квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете, квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны…» [Замятин Е. Мы. С. 560]).
(обратно)260
Тынянов Ю. Н. Литературное сегодня // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Подгот. изд. и коммент. Е. А. Тоддеса, А. П. Чудакова, М. О. Чудаковой. М.: Наука, 1977. С. 156–157.
(обратно)261
Клюев читал «Погорельщину» на квартирах знакомых литераторов, артистов и художников, что стало одним из главных поводов для обвинений поэта в «антисоветской агитации» и «составлении и распространении контрреволюционных литературных произведений» (ст. 58–10 УК РСФСР). Суд признал эти обвинения «доказанными», и Клюев был сначала отправлен в ссылку (1934), а затем расстрелян (1937). В 1929 г. поэт передал рукопись «Погорельщины» итальянскому слависту Этторе Ло Гатто, который увез ее в Италию и таким образом спас. Поэма была впервые опубликована в Нью-Йорке в 1954 г.
(обратно)262
Отдельные стихотворения цикла публиковались в журнале «Красная новь» (1922. Май. № 3) и в альманахе «Недра» (Кн. 2. 1923; Кн. 5. 1924). Идеологические нападки на Волошина см. в статьях: Сосновский Л. На идеологическом фронте. Кто и чему обучает нашу молодежь? // Правда. 1923. 1 июня; Таль Б. Поэтическая контрреволюция в стихах Максимилиана Волошина // На посту. 1923. Ноябрь. № 4. С. 151–164.
(обратно)263
Цит. по изд.: Клюев Н. Погорельщина // Клюев Н. Сердце единорога: Стихотворения и поэмы / Сост., подгот. текста и примеч. В. П. Гарнина. СПб.: РХГИ, 1999, С. 670–698, здесь цит. с. 691.
(обратно)264
Сручье — устаревшее русское слово, означавшее инструмент, указано в словаре В. Даля.
(обратно)265
Цит. по изд.: Волошин М. Кулак // Волошин М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. Стихотворения и поэмы 1891–1931 / Сост. и подгот. текста В. П. Купченко, А. В. Лаврова; коммент. В. П. Купченко. М.: Эллис Лак, 2004. С. 17–19 (первая публикация: Альманах «Недра». Кн. 2. М., 1923).
(обратно)266
Садовской Б. Александр Третий / Предисл., подгот. текста и публ. С. Шумихина // Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 5–22. Наиболее вероятным источником такого стиля являются «симфонии» А. Белого и, возможно, роман «Смерть Вазир-Мухтара» Ю. Н. Тынянова — автора, который по своим вкусам и в целом по мироотношению должен был восприниматься Садовским как антагонист: Тынянов был демократом и считал футуризм важнейшим явлением культуры, Садовской был монархистом и футуристов терпеть не мог еще с первых их выступлений («Из общего течения автомобильно-ресторанно-хулиганского футуризма я выделяю культурные поиски „Центрифуги“ и отчасти „Очарованного странника“», — писал он в рецензии на умеренно-футуристический журнал «Очарованный странник» в 1913 г.).
(обратно)267
Цивьян Ю. А. На подступах к карпалистике: Движение и жест в искусстве, литературе и кино. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 150–163. Цивьян квалифицирует это действие как жест, который в его концепции антонимичен монтажу (Там же. С. 245–251).
(обратно)268
Впервые опубликована в книге Тынянова «Архаисты и новаторы» (Л.: Прибой, 1929). Здесь цит. по кн.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники / Под ред. В. В. Виноградова, сост. В. А. Каверина и З. А. Никитиной. М.: Наука, 1969. С. 122–165, цит. с. 138. Авторская разрядка Тынянова заменена курсивом. Об интересе Тынянова к монтажу см. также: Паперный В. Культура Два. С. 282.
(обратно)269
Цивьян Ю. А. На подступах к карпалистике. С. 254–262.
(обратно)270
Кулешов Л. Знамя кинематографии // Кулешов Л. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. Теория. Критика. Педагогика / Под ред. Р. Юренева, А. Хохловой и др. М.: Искусство, 1987. С. 69. Первая публикация: Он же. Американщина // Кино-фот. 1922. № 1. С. 14–15.
(обратно)271
Kadlec D. Early Soviet Cinema and American Poetry // Modernism/Modernity. 2004 (April). Vol. 11. No. 2. P. 299–331; Haran B. Machine, Montage, and Myth: Experimental Cinema and Politics of American Modernism during the Great Depression // Textual Practice. 2011. Vol. 25. No. 3. P. 563–584.
(обратно)272
Делёз Ж. Кино / Пер. с фр. Б. Скуратова. М.: Ad Marginem, 2004. С. 74–105.
(обратно)273
О «педагогике перцепции» у Вертова см., например: Щербенок А. «…Взгляни на Ленина, и печаль твоя разойдется, как вода»: эстетика травмы у Дзиги Вертова // Травма: Пункты / Под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 706.
(обратно)274
См. неподписанную справку: -avantgard#. Подробнее см.: Канцедикас А., Ярыгина З. Эль Лисицкий. Фильм жизни. 1890–1941: В 7 т. М.: Галерея «Новый Эрмитаж-1», 2005.
(обратно)275
El Lissitzky. Topographie der Typographie // Merz. 1923. Juli. Nr. 4. Перепечатано в: El Lissitzky. Maler, Architekt, Typograf, Fotograf. Erinnerungen, Briefe, Schriften / Überg. von Sophie Lissitzky-Kuppers. Dresden, 1967. S. 356–357.
(обратно)276
Кацис Л. «Черный квадрат» Казимира Малевича и «Сказ про два квадрата» Эль-Лисицкого в иудейской перспективе // Кацис Л. Русская эсхатология и русская литература. М.: О.Г.И., 2000. С. 132–139; Dukhan I. El Lissitzky — Jewish as Universal: From Jewish Style to Pangeometry // Art Judaica. The Bar-Ilan Journal of Jewish Art. 2007. Vol. 3. P. 53–72; Wechsler J. G. El Lissitzky’s «interchange stations»: the letter and the spirit // The Jew in the Text: Modernity and the Construction of Identity / Ed. by L. Nochlin, T. Garb; London: Thames & Hudson, 1995. P. 187–200.
(обратно)277
Мидраш раба [Великий мидраш]: В 10 т. Т. 1 / Пер. с иврита Я. Синичкина и А. Членовой под ред. Р. Кипервассера. М.: Книжники; Лехаим, 2012. С. 140–142. Благодарю Г. С. Зеленину за обсуждение раздела об Эле Лисицком.
(обратно)278
Freud S. Das Unheimliche (1919) // Freud S. Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet / Hrsg. v. Anna Freud u.a. Bd. XII. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch-Verlag, 1999. S. 227–278. Русский пер.: Фрейд З. Жуткое / Пер. с нем. А. М. Боковикова // Фрейд З. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. М.: ООО «Фирма СТД», 2006. С. 264–297.
(обратно)279
Эйзенштейн С. Метод: В 2 т. Т. 1: Grundproblem. Т. 2: Тайны мастеров / Сост., автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. М.: Музей кино и Эйзенштейн-центр, 2002. О текстологических проблемах этого издания см.: Булгакова О. Теория как утопический проект // Новое литературное обозрение. 2007. № 88. С. 39–79.
(обратно)280
Фоменко А. Монтаж, фактография, эпос. С. 234, 237.
(обратно)281
Козырева Н. Н. М. Суетин // В круге Малевича: Соратники, ученики, последователи в России 1920–1950‐х / Сост. И. Карасик. СПб.: Palace Editions, 2000. С. 140.
(обратно)282
Об участии Суетина и других «левых» художников в дизайне павильонов СССР в 1937 и 1939 гг. см.: Ракитин В. Николай Михайлович Суетин. М.: RA, 1998. С. 172–184.
(обратно)283
Лошак М. История советских павильонов [на всемирных выставках] // Сайт WorldRusNews.ru. 2013. 17 июня ().
(обратно)284
Неподписанный материал с официального сайта Музея обороны и блокады Ленинграда: -bin/magazine.cgi?id=2.
(обратно)285
Клочкова К. В Петербурге построят новый музей обороны Ленинграда. Интерактивный // Сайт «Фонтанка. ру». 2014. 22 января (/). См. также: Ракитин В. Указ. соч. С. 186–187, 190–191.
(обратно)286
Диссертация была издана только через 65 лет после защиты: Анциферов Н. П. Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города — Петербурга Достоевского — на основе анализа литературных традиций / Предисл. Н. В. Корниенко; сост. и послесл. Д. С. Московской. М.: ИМЛИ РАН, 2009.
(обратно)287
См. об этом, например: Галушкин А. Ю. Над строкой партийного решения. Неизвестное выступление В. В. Маяковского в ЦК РКП(б) // Новое литературное обозрение. 2000. № 41. С. 108–130, здесь с. 114–115.
(обратно)288
Напомню эпиграмму В. Маяковского на бывшего рапповца А. Безыменского, написанную в 1930 году:
Уберите от меня этого бородатого комсомольца! — Десять лет в хвосте семеня, он на меня или неистово молится, или неистово плюет на меня. (обратно)289
В Европе были и другие страны, пережившие в конце 1910‐х — начале 1920‐х разрушительные гражданские войны, например Финляндия, но здесь названы только те, в искусстве которых можно наблюдать эффект «посттравматического монтажа». Очевидно, что в истории искусства сходные причины в различных культурах могут приводить к разным последствиям.
(обратно)290
Подробнее о переживании психологической травмы населением России см., например, книгу, имеющую, на мой взгляд, ряд методологических недостатков, но представляющую ценный фактический материал — отправленные в 1920‐х годах письма «обычных» советских граждан в центральные органы власти: Булдаков В. П. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия, 1920–1930 гг. М.: РОССПЭН, 2012. Об этой травме см. также: Яров С. В. Человек перед лицом власти: 1917–1920‐е гг. М.: РОССПЭН, 2014.
(обратно)291
Паперный В. Культура Два. С. 258–262.
(обратно)292
Липовецкий М. «И пустое место для остальных»: Травма и поэтика метапрозы в «Египетской марке» О. Мандельштама // Травма: Пункты. С. 749.
(обратно)293
Калинин И. Прием остранения как опыт возвышенного (от поэтики памяти к поэтике литературы) // Новое литературное обозрение. 2009. № 95. С. 39–57.
(обратно)294
Doherty B. See: «We Are All Neurasthenics!» or, the Trauma of Dada Montage // Critical Inquiry. 1997. Vol. 24. No. 1. P. 82–132.
(обратно)295
Подорога В. Homo ex machina. С. 38.
(обратно)296
Булгакова О. Теория как утопический проект.
(обратно)297
См. об этом: Савицкий С. Поезд революции и исторический опыт // Антропология революции: Сб. статей / Под ред. И. Прохоровой, А. Дмитриева, И. Кукулина, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 373–399, особ. с. 375–380, 390–392.
(обратно)298
И. П. Смирнов полагает, что авангард связан с насилием потому, что выражает садистическую — в психоаналитическом смысле слова — установку творящего субъекта (Смирнов И. П. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М.: Новое литературное обозрение, 1994. С. 179–231). Я полагаю, что связь и авангарда, и монтажных техник с насилием обусловлена не столько психологическими особенностями конкретных авторов, сколько их особым историческим опытом.
(обратно)299
См. об этом: Ямпольский М. История как ассамбляж [Стенограмма и видеозапись лекции, прочитанной 15 февраля 2013 г. в клубе «Порядок слов», С.‐Петербург] // Сайт журнала «Сеанс» (/).
(обратно)300
Хоружий С. С. Комментарии к «Улиссу» // Джойс Д. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 319.
(обратно)301
Цит. по изд.: Joyce J. Ulysses. With an Introduction by Declan Kiberd. London: Penguin Books, 2000. P. 694–695.
(обратно)302
Цит. по: Джойс Д. Улисс / Пер. В. Хинкиса и С. Хоружего // Джойс Д. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. С. 598–599. В русском переводе не сохранен курсив, которым передана речь «отдаленных голосов» в английской публикации.
(обратно)303
Flynn C. «Circe» and Surrealism: Joyce and the Avant-Garde // Journal of Modern Literature. 2011. Vol. 34. No. 2 (Winter). P. 121–138.
(обратно)304
Ellmann R. James Joyce. Oxford: Oxford University Press, 1982. P. 654.
(обратно)305
Слотердайк П. Критика цинического разума / Пер. с нем. А. Перцева. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001. С. 424–564.
(обратно)306
Подробнее см.: Lipovetsky M. Charms of Cynical Reason: The Transformations of the Trickster Trope in Soviet and Post-Soviet Culture. Boston: Academic Studies Press, 2011.
(обратно)307
Козлов Л. К. Еще о кульминации второй серии фильма [ «Иван Грозный»] // Козлов Л. К. Произведение во времени. Статьи, исследования, беседы. М.: Эйзенштейн-центр, 2005. С. 91.
(обратно)308
Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому… М.: Подкова, 1999.
(обратно)309
Стихотворение посвящено Валерию Горожанину, который в 1924–1930 гг. был начальником Секретного отдела ГПУ Украинской ССР. Историю дружбы и соавторства Маяковского с Горожанином см.: Антонов В. Поэт и чекист // Независимое военное обозрение. 2011. 26 августа.
(обратно)310
Цит. по изд.: Маяковский В. В. Солдаты Дзержинского // Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 8. Стихотворения 1927 года, поэма «Хорошо!» и очерки. М., 1958. С. 231–232. Первые публикации: Комсомольская правда. 1927. 18 декабря; Заря Востока (Тифлис). 1927. 18 декабря.
(обратно)311
Подробнее см.: Гаспаров М. Л. Академический авангардизм: природа и культура у позднего Брюсова. М.: РГГУ, 1995 (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 10). Другую точку зрения на творчество позднего Брюсова см.: Молодяков В. Валерий Брюсов: Биография. СПб.: Vita Nova, 2010.
(обратно)312
Я предложил это сравнение в своей реплике после доклада М. Л. Гаспарова о Брюсове, прочитанного на семинаре Института высших гуманитарных исследований РГГУ в 1994 г., — из этого доклада потом и выросла работа «Академический авангардизм». Меня тогда энергично поддержал Г. С. Кнабе. Я и сегодня храню чувство признательности покойному Г. С. Кнабе за эту поддержку.
(обратно)313
Брюсов был членом ВКП(б).
(обратно)314
От лат. ebur — слоновая кость.
(обратно)315
Вид диких быков (Bos taurus indicus), распространенный в Индии. Видение индийских быков на Неглинной улице в Москве напоминает о язвительном замечании В. Ходасевича, который имел в виду первые зрелые стихотворения Брюсова, написанные в 1890‐х: «Все эти тропические фантазии — на берегах Яузы, переоценка всех ценностей — в районе Сретенской части» (Ходасевич В. Брюсов // Ходасевич Вл. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4 / Сост., подгот. текста И. П. Андреевой, С. Г. Бочарова, И. А. Бочаровой, И. П. Хабарова. М.: Согласие, 1997. С. 19).
(обратно)316
Имеется в виду бинокль немецкой фирмы «Цейс», но, очевидно, перевернутый.
(обратно)317
Peil D. Untersuchungen zur Staats- und Herrschaftsmetaphorik in literarischen Zeugnissen von der Antike bis zur Gegenwart. München, 1983; Огурцов А. П. Дискурс об управлении: от метафор — к нейтральному языку описания // Vox (электронный журнал). 2011. Вып. 11 (http://vox-journal.org/content/Vox11‐OgurcovAP.pdf).
(обратно)318
Серов В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М.: Локид-Пресс, 2003.
(обратно)319
Подробнее см.: Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве / Авториз. пер. с англ. Н. Эдельмана. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
(обратно)320
Жизненный путь автора этого очень известного плаката, Генриха Менделевича Футерфаса (1900–1976), был настолько поразителен, что, отвлекшись от основного сюжета книги, я позволю себе дать биографическую справку. Футерфас окончил Московскую академию художеств, был художником-авангардистом, несколько лет прожил в Биробиджане, где рисовал портреты еврейских колонистов и колхозников. Был автором советских идеологических плакатов. Во время Второй мировой войны его близкие погибли. Сразу после войны Футерфас переехал в Варшаву, откуда сумел перебраться в Лондон, а потом и в Нью-Йорк, где сблизился с тогдашним Любавичским Ребе (духовным руководителем хасидов толка Хабад Любавич) и стал одним из видных художников хасидского движения. Сохранились письма к нему от Любавичского Ребе, написанные на идише. После эмиграции он взял себе имя Ханох Либерман, его называли также Фетер Генах. Неоднократно выставлял свои картины в США (благодарю Дов-Бера Котлермана за консультацию).
(обратно)321
О плакатной литературе: Постановление ЦК ВКП(б) от 11 марта 1931 г. // Справочник партийного работника. Вып. 8. М., 1934. С. 366.
(обратно)322
Клуцис Г. Фотомонтаж как новый вид агитационного искусства // Изофронт. Классовая борьба на фронте пространственных искусств: Сб. статей объединения «Октябрь» / Под ред. П. И. Новицкого. М.: ОГИЗ; Изогиз, 1931. С. 119–134, здесь цит. с. 124.
(обратно)323
Подробнее см.: Бархатова Е. В. Русский конструктивизм 1920‐х — 1930‐х годов [сопроводительный текст к выставке советского плаката, проведенной во Франции Российской национальной библиотекой 29 мая — 28 августа 2010 г.] // Сайт Российской национальной библиотеки (:8100/exib//construct/text1.html).
(обратно)324
Фоменко А. Указ. соч. С. 242.
(обратно)325
«Россия, кровью умытая» Артема Веселого. По материалам личного архива писателя / Публ., подгот. текста и коммент. З. Веселой // Новый мир. 1988. № 5. С. 135–161.
(обратно)326
Действие нескольких произведений А. Веселого происходит в вымышленном городе Клюквине.
(обратно)327
Цит. по изд.: Веселый А. Россия, кровью умытая. Роман. Фрагмент. М.: Художественнная литература, 1990. C. 533 (с поправкой публикатора З. Веселой: начиная с издания 1932 г. в изданиях романа по требованию цензуры было вставлено слово «кулацкую» — «город подмял кулацкую деревню»).
(обратно)328
См., например: Болдырев И. Время утопии. С. 222–230.
(обратно)329
Павлов E. Шок памяти. Автобиографическая поэтика Вальтера Беньямина и Осипа Мандельштама / Пер. с англ. А. Скидана. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
(обратно)330
Гаспаров М. Л. Осип Мандельштам. Три его поэтики // Гаспаров М. Л. О русской поэзии: Анализы. Интерпретации. Характеристики. М., 2001. С. 234–235.
(обратно)331
«Нет ничего более голодного, чем леонтьевское византийское государство: оно страшнее голодного человека» (Мандельштам О. Слово и культура (1921) // Мандельштам О. Об искусстве / Сост. Б. В. Соколов, Б. С. Мягков. М.: Искусство, 1995. С. 204).
(обратно)332
Эпитет, примененный к западничеству Герцена, указывает на то, что Мандельштам имел в виду совершенно определенную сонату Бетховена — Восьмую, Патетическую.
(обратно)333
Представления о цикличности истории у Мандельштама радикально отличались от представлений о возвращении культурных эпох, проанализированных в следующем разделе на материале текстов В. Шкловского и Г. Шенгели. См., например: Гаспаров Б. М. Тридцатые годы — железный век: к анализу мотивов столетнего возвращения у Мандельштама // Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to Silver Age / Ed. by B. Gasparov, R. Hughes and I. Paperno. Berkeley; Los Angeles; Oxford: University of California Press, 1992. P. 150–179.
(обратно)334
«Разрыв с официальной культурой не означал для Мандельштама разрыва с временем, он означал разорванность времени. Не он один, а все современники потеряли общность…» — пишет М. Л. Гаспаров (Гаспаров М. Л. Осип Мандельштам. Три его поэтики. С. 239). По-видимому, однако, разорванность времени Мандельштам почувствовал задолго до 1929–1930‐х годов, которые М. Л. Гаспаров вполне обоснованно определяет как момент мандельштамовского «разрыва с официальной культурой» (см. подробнее о роли этого периода: Устинов А. 1929 год в биографии Мандельштама // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 123–126).
(обратно)335
Липовецкий М. «И пустое место для остальных»: травма и поэтика метапрозы… С. 760, 771, 773.
(обратно)336
Цит. по изд.: Мандельштам О. Э. Четвертая проза // Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994. C. 175, 177.
(обратно)337
Ср. в его «Оде» (1937) жест визуального «монтажного» выделения фигуры Сталина: «Он свесился с трибуны, как с горы, / В бугры голов. Должник сильнее иска, / Могучие глаза решительно добры, / Густая бровь кому‐то светит близко…». Подробнее см.: Лахути Д. Образ Сталина в стихах и прозе Мандельштама: попытка внимательного чтения (с картинками). М.: РГГУ, 2009.
(обратно)338
См. об этом стихотворении: Гаспаров М. Л. О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года. М.: РГГУ, 1996. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 17). Полемика с этой книгой: Сарнов Б. Апокалипсис или агитка? // Лехаим. 2005. Февраль (5765. Шват) ().
(обратно)339
Цит. по изд.: Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994. Т. 3. С. 125. Финальные строки — по‐видимому, отсылка к строкам Ф. И. Тютчева «Сны» (1829): «И мы плывем, пылающею бездной / Со всех сторон окружены». Ср. другую, более отдаленную перекличку в том же стихотворении: «Настанет ночь — и звучными волнами / Стихия бьет о берег свой…» (Тютчев) — «Слышишь, мачеха звездного табора, / Ночь, что будет сейчас и потом?» (Мандельштам). Ночь становится временем открытия истины о ситуации человека, у Тютчева — метафизической, у Мандельштама — исторической.
(обратно)340
Шкловский В. Б. Гамбургский счет. С. 443, 444.
(обратно)341
Шкловский В. Б. Там же. С. 449. Другие упоминания о «советском барокко» у Шкловского см.: Шкловский В. Поденщина. М., 1930. С. 109; Он же. Поиски оптимизма. М., 1931. С. 115. Здесь и далее я опираюсь на контекстуализацию работы Шкловского, предложенную в статье: Невская Д. От «искусства детали» до «непрерывного искусства» (к проблеме рецепции барокко в культуре 1920–1930‐х годов). (В печати). Благодарю Д. Невскую за предоставленную возможность ознакомиться с ее статьей в рукописи. См. также по этому поводу: «Наступает непрерывное искусство…» В. Б. Шкловский о судьбе русского авангарда начала 1930‐х гг. / Публ. и подгот. текста, предисл. и примеч. А. Ю. Галушкина // De Visu. 1993. № 11. С. 25–38.
(обратно)342
Смирнов И. П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. Л., 1977; Он же. Барокко и опыт поэтической культуры начала XX в. // Славянское барокко. Историко-культурные проблемы эпохи / Под ред. Л. В. Софроновой, А. И. Рогова, А. В. Липатова. М., 1979; Барокко в авангарде — авангард в барокко: Тезисы и материалы конференции (Москва, 1993). М., 1993. См. также весьма полезный обзор теоретических дискуссий по этой теме во введении к статье: Кацис Л., Одесский М. «Кругом возможно Бог» А. Введенского — школьная драма? // Солнечное сплетение. Иерусалим, 2001. № 18–19. С. 174–192 ().
(обратно)343
О «возвращении барокко» в культуре 1970–1980‐х годов см.: Kalabrese O. Neo-Baroque: A Sign of the Times / Transl. by Ch. Lambert, with a foreword by U. Eco. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992 (итальянский оригинал — 1987); Moser W. Barock // Ästhetishe Gründbegriffe: Im 7 Bd / Hrsg. von K. Barck, M. Fontius, D. Schlenstedt u.a. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler, 2010 (2 Aufl.). Bd. 1. S. 580–585 (раздел «Синдром „возвращения барокко“»).
(обратно)344
Цит. по: Галушкин А. Ю. [Комментарии к статье «Конец барокко»] // Шкловский В. Гамбургский счет. С. 535. Все перечисленные Шкловским и Тыняновым авторы по классификации, изложенной в предыдущем разделе, соответствуют четвертой и пятой модальностям, однако содержательно и по эстетическим принципам заметно различаются.
ВпоследствииШкловский повторил свой призыв в статье «Об историческом романе и о Юрии Тынянове» (1933), которая Тынянову, напротив, понравилась: «Берегитесь „барокко“. Не вступайте на мертвое поле. Там А. Виноградов приклеивает кусок к куску, соединяет цитату с цитатой…» (Шкловский В. Б. Гамбургский счет).
(обратно)345
Эйзенштейн С. Неравнодушная природа // Эйзенштейн С. Избр. произв.: В 6 т. Т. 3. М.: Искусство, 1964. С. 155. См. также: Дмитриева Е. Е. Усвоение, присвоение, трансформация, конъюнктура (из истории рецепции трудов Г. Вёльфлина в России, 1910–1930‐е годы) // Новые российские гуманитарные исследования. 2011. № 6 (). О знакомстве самого Шкловского с книгами Вёльфлина см.: «Наступает непрерывное искусство…» В. Б. Шкловский о судьбе русского авангарда начала 1930‐х гг.
(обратно)346
Эйзенштейн С. Избр. произв.: В 6 т. Т. 1. М.: Искусство, 1964. С. 442.
(обратно)347
Эйзенштейн С. «Над этим городом мне пришлось крепко работать». Внутренний полижанризм «Октября» / Публ., предисл. и коммент. Н. И. Клеймана // Киноведческие записки. 2003. № 63.
(обратно)348
Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии / Пер. с нем. Е. Н. Лундберга под ред. Н. М. Козиной. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 15. Опубликована эта книга была в 1888 г., по‐русски впервые вышла в 1915‐м, но и до этого была известна в России — на нее, например, ссылался П. Муратов в получившей популярность книге «Образы Италии».
(обратно)349
Эйзенштейн С. Неравнодушная природа. С. 155.
(обратно)350
Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. С. 85.
(обратно)351
Там же. С. 125, 126.
(обратно)352
Иоффе И. И. Синтетическое изучение искусства и звуковое кино. Л.: Гос. музыкальный н.‐и. ин-т, 1937. Цит. по: Он же. Избранное: 1920–30‐е гг. С. 439.
(обратно)353
Шкловский В. Б. Сентиментальное путешествие // Шкловский В. Б. «Еще ничего не кончилось…». М., 2002. С. 261. «Разве [привычка — ] плохая скрепа?» — отозвался на эту фразу критик-футурист Николай Чужак (Чужак Н. Писательская памятка // Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа / Под ред. Н. Ф. Чужака [Переиздание книги 1929 г.]. М.: Захаров, 2000. С. 25).
(обратно)354
Шкловский В. Б. Письменный стол // Шкловский В. Б. Гамбургский счет. С. 42.
(обратно)355
Эта эволюция разобрана в статьях Ильи Калинина.
(обратно)356
Эйзенштейн С. М. Диккенс, Гриффит и мы. С. 172. В составленном незадолго до смерти сборнике «За 60 лет. Работы о кино» (М.: Искусство, 1985) Шкловский перепечатал последний раздел своей статьи «Конец барокко. О людях, которые идут по одной дороге…» под названием «Конец барокко. Письмо Эйзенштейну» (с. 151–152).
(обратно)357
Частный человек Лидия Гинзбург (беседа С. Савицкого с А. Марковым) // Интернет-портал «Гефтер». 2013. 10 июля (). Подробнее о реакции Гинзбург на описанный Шкловским «кризис авангарда» см.: Савицкий С. А. Частный человек. Л. Я. Гинзбург в конце 1920‐х — начале 1930‐х годов. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в С.‐Петербурге, 2013. С. 110–119. О близких к монтажу методах в прозе самой Гинзбург: Там же. С. 153–155.
(обратно)358
26 августа 1929 года Совет народных комиссаров СССР в постановлении «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР» объявил о предстоящем переводе предприятий и учреждений на непрерывное производство. Переход на «непрерывку» начался осенью 1929 г. Весной 1930 г. по этому поводу было принято дополнительное постановление специальной правительственной комиссии при Совете труда и обороны. Возврат к традиционной неделе был объявлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений».
(обратно)359
Диалог с умершим в 1956 г. Шенгели Тарковский вел на протяжении всей жизни. Так, знаменитое стихотворение Тарковского «Меркнет зрение, сила моя…» (1977) отчасти варьирует темы второй части стихотворения Шенгели «Февраль. Морозный луч на крашеном полу…» (1926).
(обратно)360
Тарковский А. Мой Шенгели // Тарковский А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1991. С. 185.
(обратно)361
Цит. по изд.: Шенгели А. Иноходец / Сост., подгот. текстов, вступ. ст., коммент. и подбор илл. В. Перельмутера. М.: Совпадение, 1997. С. 195–196.
(обратно)362
Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т. 3. С. 210.
(обратно)363
Эйзенштейн С. М. Диккенс, Гриффит и мы. С. 170–171. Сохранены курсивы источника. Жорж Садуль, не разделявший марксистской идеологии, совершенно соглашается с доводами Эйзенштейна о сюжетной слабости фильма (Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т. 3. С. 199–200), однако его собственная аргументация имеет не идеологический, а эстетический характер: Садуль показывает, что трудность восприятия фильма обусловлена не слабостью исторического анализа, предпринятого Гриффитом, а запутанностью и эклектичностью его киноязыка.
(обратно)364
Лунц Л. Родина // Лунц Л. Литературное наследие / Предисл., коммент., сост., подгот. текстов А. Е. Евстигнеевой. М.: Литературное наследие, 2007. С. 258.
(обратно)365
Жужа Хетеньи предполагает, что и на Лунца, и на Булгакова оказал общее влияние роман Г. Мейринка «Голем» (1915) (Хетеньи Ж. Еврейская Библия — закон, традиция или…? Лев Лунц: Родина (1922) // Cahiers du monde russe. 1998. Vol. 39. № 4), но в этом романе, хотя и говорится о связи разных времен, нет тщательно выстроенных «монтажных стыков», характерных для произведений Лунца и Булгакова.
(обратно)366
Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX в. М.: Наука, 1994 (в СССР эта статья впервые была опубликована в журнале «Даугава» (1988. № 10–12; 1989. № 1)).
(обратно)367
Петренко А. Ф. Сатира М. Булгакова в контексте русской литературы 1920‐х годов // Университетские чтения — 2008, 10–11 января 2008 г. / [Редкол.: Заврумов З. А. (отв. ред.) и др.]. Пятигорск, 2008 ().
Ранее в работах литературоведов имена Булгакова и Лунца перечислялись в ряду русских писателей 1920‐х годов, чья стилистика была близка к экспрессионизму, — но при обсуждении того, что такое экспрессионизм, они ограничивались цитированием работы И. Иоффе «Культура и стиль» (1927) (Скороспелова Е. Б. Идейно-стилевые течения в русской советской прозе первой половины 20‐х годов. М., 1979. С. 52; Голубков М. Утраченные альтернативы: Формирование монистической концепции советской литературы. 20–30‐е годы. М., 1992. С. 179–180).
(обратно)368
К этому предположению склонялся Б. М. Гаспаров во время обсуждения предварительного плана этой работы в частной переписке.
(обратно)369
Если говорить о других общих источниках, кроме Гриффита, то и для Лунца, и для Булгакова была значима традиция романтической фантастики, в которой иногда изображался герой — пришелец из более раннего времени, более реального и ценностно значимого, чем «современность» рассказчика. Наиболее известным примером такого произведения является новелла Э. Т. А. Гофмана «Кавалер Глюк» (1809). Впрочем, Булгаков, как показали литературоведы, синтезировал в своем романе огромное количество интертекстов, и говоря о перекличках с Лунцем, я имею в виду прежде всего композиционную структуру и монтажные принципы.
(обратно)370
Наиболее ранним прообразом такого «рифмующего» монтажа в его пессимистической версии в русской литературе, по‐видимому, является упомянутая во Введении поэма В. А. Жуковского «Четыре сына Франции» (1849–1852).
(обратно)371
См., например: «Как бы ни были туманны и остранены общественные контуры и характеристики в [пьесе Лунца] „Вне закона“, социальное звучание трагедии остается глубоко реакционным» (Майзель М. Лунц // Литературная энциклопедия: В 11 т. Т. 6. М.: Художественная литература, 1932. Стб. 637).
(обратно)372
Критик А. Тарасенков в 1937 г. писал, что Светлову в этом стихотворении «…удалось дать тонкую по мастерству цепь художественных сближений между девушкой-героиней гражданской войны и рабфаковкой, берущей твердыни учебных зачетов» (Тарасенков А. Светлов // Литературная энциклопедия: В 11 т. Т. 10. М.: Художественная литература, 1937. Стб. 583); характерно, впрочем, что ни Жанна д’Арк, ни Мария-Антуанетта в этом отзыве не упоминаются.
(обратно)373
Бобринская Е. Русский авангард: границы искусства. М.: Новое литературное обозрение, 2006. № 3. С. 30–41.
(обратно)374
Паперный В. Культура Два. С. 239–240.
(обратно)375
«Первые две строки представляют собой цитату из стихотворения Сэмюэля Фрэнсиса Смита „Америка“; последняя строка — из детского стишка [Огдена Нэша]». — Примеч. А. Д. Шмелева, переводчика статьи.
(обратно)376
Уилрайт Ф. Метафора и реальность / Пер. с англ. А. Д. Шмелева // Теория метафоры / Сост., ред., вступ. ст. Н. Д. Арутюновой. М.: Прогресс, 1990. С. 88. Замечу, что, конечно, для понимания этих строк важно помнить продолжение хрестоматийного стихотворения Нэша: «Higgledy piggledy, my black hen, / She lays eggs for gentlemen. / Gentlemen come every day / To count what my black hen doth lay…» («Шаляй-валяй, моя черная курочка, / Она откладывает яйца для господ, / Господа приходят каждый день, / Чтобы подсчитать, сколько откладывает черная курочка…»).
(обратно)377
Проблема влияния Белого на Хармса впервые поставлена Валерией Симиной: Симина В. Хармс и Белый: Предварительные замечания // Литературное обозрение. 1995. № 9/10. С. 52–53. См. также: Кобринский А. А. Поэтика «ОБЭРИУ» в контексте русского литературного авангарда: В 2 т. Т. 1. М., 2000.
(обратно)378
Цит. по: Хармс Д. Связь // Хармс Д. Полет в небеса. Стихи. Проза. Драмы. Письма / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и примеч. А. А. Александрова. Л.: Советский писатель, 1991. С. 500, 502.
(обратно)379
Gregory H. Dos Passos Completes His Modern Trilogy // New York Herald Tribune Books. 1936. 9 August. Цит. по: John Dos Passos: The Critical Heritage / Ed. by B. Maine. New York; London: Routledge, 1988. P. 135.
(обратно)380
Цит. по изд.: Чапек К. Война с саламандрами / Пер. с чешск. А. Гуровича / Чапек К. R. U. R. Средство Макропулоса. Война с саламандрами. Фантастические рассказы. М.: Мир, 1966. С. 522–523.
(обратно)381
Точные обстоятельства гибели Роблеса Пасоса неизвестны до сих пор. Наиболее правдоподобная версия состоит в том, что его похитили и убили агенты советского НКВД или республиканских спецслужб, так как Роблес был переводчиком высокопоставленного советского разведчика и военного консультанта республиканцев Яна Берзиньша (1889–1938) и слишком много знал о советском вмешательстве в испанскую гражданскую войну.
(обратно)382
Giles P. The Global Remapping of American Literature. Princeton: Princeton University Press, 2011. P. 130.
(обратно)383
Цит. по изд.: Дос Пассос Д. 42‐я параллель / Пер. с англ. И. Кашкина // Дос Пассос Д. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М.: Литература, 2000. С. 6.
(обратно)384
Цит. по изд.: Дос Пассос Д. Большие деньги / Пер. с англ. Л. Каневского // Дос Пассос Д. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М.: Литература, 2000. С. 650.
(обратно)385
-goslar.de/blog/der-fluchtling-w-b/. Перевод мой (существующий перевод В. Корнилова не передает некоторых нюансов).
(обратно)386
В поздних работах он счел это название слишком формальным и предложил для своей театральной эстетики название «диалектический театр». См. работы, объединенные в сборник «Против эпического театра»: Брехт Б. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. Т. 5/2 (5, ч. 2) / Пер. с нем. В. Клюева, Е. Эткинда, М. Вершининой, С. Апта и др., коммент. Е. Эткинда. М.: Искусство, 1965. С. 218–275.
(обратно)387
Цит. по изд.: Brecht B. Der Gute Mensch von Sezuan // Brecht B. Gesammelte Werke: In 20 Bd. / Hrsg. von E. Hauptmann. Bd. 4: Stücke. Frankfurt a.M.: Surkamp, 1967. S. 1607.
(обратно)388
Цит. по изд.: Брехт Б. Пьесы. М.: Гудьял-Пресс, 1999. С. 243.
(обратно)389
Пробштейн Я. В поисках света и справедливости. Неопубликованная статья. В своей трактовке Паунда я отчасти опираюсь на работы Я. Пробштейна и благодарю его за консультации.
(обратно)390
Цит. по: Tytell J. Ezra Pound: The Solitary Volcano. New York; London: Anchor Press, 1987. P. 256. Перевод Я. Пробштейна.
(обратно)391
Использованы материалы статьи: Кукулин И. Подрывной эпос: Эзра Паунд и Михаил Ерёмин // Иностранная литература. 2013. № 12. С. 147–160.
(обратно)392
Генис А. [Выступление в посвященной Паунду передаче Радио «Свобода» 10 ноября 2003 г.]: .
(обратно)393
Literary Essays of Ezra Pound / Ed. and with an introduction by T. S. Eliot. New York: New Directions, 1954. P. 86. Перевод Я. Пробштейна.
(обратно)394
Wacker N. Epic and the Modern Long Poem: Virgil, Blake, & Pound // Comparative Literature. 1990. Vol. 42. No. 2 (тематический выпуск «Virgil and After»). P. 126–143.
(обратно)395
См., например: Hynes S. The Auden Generation: Literature and Politics in England in the 1930’s. London: The Bodley Head, 1976; Nadel I. B. Modernism’s Second Act: A Cultural Narrative. New York: Palgrave Macmillan, 2013. P. 49–65 (у А. Наделя в этой главе повествование охватывает 1930–1950‐е годы).
(обратно)396
Roose-Evans J. Experimental Theatre from Stanislavsky to Peter Brook. London: Routledge and Kegan Paul, 1984. P. 67; Bai R. Dances with Mei Lanfang: Brecht and the Alienation Effect. P. 394.
(обратно)397
Статья перепечатана в кн.: Пискатор Э. Политический театр / Авториз. пер. с нем. М. Зельдович. М.: ОГИЗ; ГИХЛ, 1934. С. 68. Заметим, что друг Пискатора Виланд Херцфельде был одним из немногих ораторов на I съезде советских писателей, кто упомянул Джойса в положительном смысле — большинство других обрушивались на автора «Улисса» с ритуальными проклятиями (Речь Виланда Герцфельде (sic!) / Пер. с нем. В. Стенича // Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934: Стенографический отчет. М.: Художественная литература, 1934. С. 358–361). Впрочем, были и другие авторы, которые на съезде публично хвалили Джойса (Мария Шкапская) или, как минимум, замечали, что бессмысленно ругать автора, неизвестного большинству советской аудитории, которая не может составить о нем своего мнения (выступления М. Кольцова и С. Третьякова). Кажется, I съезд советских писателей был едва ли не последним в истории СССР большим публичным собранием, где подобные аргументы — «нельзя ругать, не читая» — могли быть высказаны и восприняты всерьез.
(обратно)398
Пискатор Э. Политический театр. С. 126–127.
(обратно)399
Брехт Б. Диалектическая драматургия (1931) / Пер. с нем. С. Львова // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. Кн. 2. М.: Искусство, 1965. С. 51–64.
(обратно)400
Эйзенштейн С. М. Проблемы советского исторического фильма [Стенограмма выступления на творческом совещании по вопросам исторического и историко-революционного фильма, 1940 г.] // Эйзенштейн С. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1968. С. 117.
(обратно)401
Döblin A. Die Vertreibung der Gespenster. Autobiographische Schriften. Betrachtungen zur Zeit. Aufsätze zu Kunst und Literatur. Berlin: Rütten & Loenig, 1968. S. 473. Перевод Т. Баскаковой. Перекличка мыслей Дёблина с концепцией «Разговора о Данте» О. Мандельштама (1934) представляется мне чрезвычайно важной.
(обратно)402
Keller O. Döblins Montageroman als Epos der Moderne: die Struktur der Romane Der schwarze Vorhang, Die drei Sprünge des Wang-lun und Berlin Alexanderplatz. München: W. Fink, 1980; Баскакова Т. Обращение с историей в литературе немецкоязычного модернизма: Читая Дёблина, Целана и некоторых их собеседников // TextOnly. 2013. № 3 ().
(обратно)403
Пискатор Э. Политический театр. С. 27.
(обратно)404
Цит. по: Там же. С. 183.
(обратно)405
В июле 1936 года Пискатор, спасаясь от начавшегося в СССР Большого террора, уехал во Францию, откуда в 1939 году переехал в Нью-Йорк, где основал «Драматическую мастерскую» (Dramatic Workshop), работавшую в системе Новой школы социальных исследований. В числе наиболее известных американских учеников Пискатора — драматурги Артур Миллер и Тенесси Уильямс, актеры Марлон Брандо, Гарри Белафонте, Тони Кертис и др. В 1951 г. Пискатор был обвинен в «коммунизме» Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности и переехал в Западный Берлин, сохранив дружеские отношения с жившими в ГДР деятелями немецкого левого искусства — Эрнстом Бушем, Бертольтом Брехтом и Еленой Вайгель. Был главным режиссером театра «Freie Volksbühne» и умер в 1966 году кавалером Командорского креста ордена «За заслуги перед ФРГ».
(обратно)406
Там же. С. 34–35.
(обратно)407
Там же. С. 53.
(обратно)408
Там же. С. 73. Пискатора обвиняли в заимствовании техники «монтажа аттракционов», введенной С. Эйзенштейном в спектакле 1923 г. «На всякого мудреца довольно простоты», но Пискатор утверждал, что в 1920‐х мало знал о советском театре и пришел к своим идеям независимо от Эйзенштейна.
(обратно)409
Пискатор читал их в оригинале или в немецком переводе. Русские издания: Палеолог М. Распутин: воспоминания / Пер. c фр. Ф. Ге. М.: Девятое января, 1923; Он же. Царская Россия накануне революции [отредактированные дневники] / Пер. с фр. Д. Протопопова и Ф. Ге. М.; Пг.: Госиздат, 1923.
(обратно)410
«Императрица и ее зловещая подруга (А. Вырубова. — И.К.) в слезах перед распухшим телом развратного мужика, которого они так безумно любили и которого Россия будет проклинать вечно, — много ли создал драматург-история более патетических эпизодов?» (Палеолог М. Царская Россия накануне революции. С. 270). Впрочем, ср. фразу Гегеля, которую Маркс, процитировав в своей работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», превратил в крылатое выражение — о том, что всякое событие в истории повторяется два раза, сперва как трагедия, потом как фарс.
(обратно)411
Зоркая Н. М. С. М. Эйзенштейн // Зоркая Н. М. Портреты. М., 1966. С. 79.
(обратно)412
Оно было сделано из белого, очень прочного, «аэростатного» шелка, натянутого на металлический каркас.
(обратно)413
Пискатор Э. Указ. соч. С. 153–164. Сценография «Распутина» подробно восстановлена Марианной Мильденбергер и Эдной Мак-Коун: Mildenberger M., McCown E. «Rasputin»: A Technical Recreation // TDR: The Drama Review. 1978 (December). Vol. 22. No. 4. Workshop Issue. P. 99–109. Там же см. фотографии сцен из спектакля.
(обратно)414
Mildenberger M., McCown E. Op. cit.
(обратно)415
Пискатор Э. Указ. соч. С. 156.
(обратно)416
Пробштейн Я. Указ. соч.
(обратно)417
Папа — Аброджио Акилле Ратти (1857–1939), папа Пий XI (с 1922 г.). В 1912–1918 гг. служил префектом Ватиканской библиотеки. Паунд встречался с ним примерно в эти годы. Маркони — маркиз Гульельмо Маркони (1874–1937), итальянский радиотехник и предприниматель, внес существенный вклад в развитие беспроволочного телеграфа. С 1914 г. — сенатор Италии, при Муссолини вступил в фашистскую партию, в 1930 г. был назначен главой Королевской академии Италии. Декстер С. Кимбалл (1865–1952) — американский инженер, автор книги «Принципы организации промышленности». Джимми Уокер — Джеймс Джон Уокер (1881–1946), мэр Нью-Йорка, ирландец-католик по происхождению. В 1932 г. ушел в отставку по требованию новоизбранного президента Ф. Д. Рузвельта, который обвинил мэра во взяточничестве. Жил несколько лет в Европе, пока не миновала опасность открытия уголовного дела против него.
(обратно)418
Богданов К. Наука в эпическую эпоху: классика фольклора, классическая филология и классовая солидарность // Новое литературное обозрение. 2006. № 78. С. 86–124.
(обратно)419
Там же.
(обратно)420
Фоменко А. Указ. соч. С. 233.
(обратно)421
Вертов Д. «Человек с киноаппаратом» // Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы / Под ред. С. Дробашенко. М.: Искусство, 1966. С. 108 (первая публикация). Несмотря на то что тексты Вертова с «музыкальными» объяснениями принципов его монтажа остались неопубликованными, по‐видимому, Вертов использовал подобную метафорику в устных публичных выступлениях и тем самым мог сделать ее известной в профессиональных кругах.
(обратно)422
Вертов Д. «Человек с киноаппаратом» (Зрительная симфония) // Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. С. 277 (первая публикация).
(обратно)423
Здесь «Киноглазом» Вертов называет группу своих сотрудников и единомышленников.
(обратно)424
Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. С. 121.
(обратно)425
Клейман Н. И. Пафос Эйзенштейна // Эйзенштейн С. Неравнодушная природа. Т. 1. Чувство фильма. С. 11–15. Книгу Швейцера, изданную по‐французски в 1905 г. (немецкое, расширенное издание — 1908, впоследствии многократно переиздавалась), Эйзенштейн читал в оригинале: она была переведена на русский уже после смерти Эйзенштейна и издана в 1965 г. См. также недавнее издание: Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах / Пер. с нем. М. Друскина, Я. Друскина, Х. Стрекаловской. М.: Классика-XXI, 2011.
(обратно)426
См. работу Аркадия Блюмбаума: Блюмбаум А. Антиисторицизм как эстетическая позиция (К проблеме: Набоков и Бергсон) // Новое литературное обозрение. 2007. № 86. С. 134–168. О рецепции Бергсона в дореволюционной России см.: Nethercott F. Une rencontre philosophique: Bergson en Russie (1907–1917). Paris: L’Hartmann, 1995; о трактовке Бергсона русскими философами-эмигрантами: Блауберг И. И. Анри Бергсон. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 591–626.
(обратно)427
Curtis J. Bergson and Russian Formalism // Comparative Literature. 1976. Vol. XXVIII. No. 2; Левченко Я. Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. С. 46–58.
(обратно)428
«Об органическом и патетическом ср.: Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа. Т. 3. С. 44–71» (ссылка Ж. Делёза, сверенная его переводчиком Б. Скуратовым): Делёз Ж. Кино. С. 45–46.
(обратно)429
См., например: Golomshtok I. Totalitarian Art in the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy, and the People’s Republic of China. London: Collins Harvill, 1990; Ades D., Benton T. Art and Power: Europe Under the Dictators 1930–45 / With a Preface by E. Hobsbawm. London: Hayward Gallery, 1996; Clark T. Art and Propaganda in the Twentieth Century: the Political Image in the Age of Mass Culture. New York: Harry N. Abrams Inc., 1997; Brown N. Utopian Generations: The Political Horizon of Twentieth-Century Literature. Princeton University Press, 2005; Griffin R. Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler. New York: Palgrave Macmillan, 2007. P. 279–294; Bronner S. E. Modernism at the Barricades: Aesthetics, Politics, Utopia. New York: Columbia University Press, 2012; Рауниг Г. Искусство и революция: художественный активизм в Долгом двадцатом веке / Пер. с нем. и англ. А. В. Скидана, Е. А. Шраги; науч. ред. А. В. Магун. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2012 (нем. оригинал издан в 2005 г.).
(обратно)430
Об этой политизации художников см.: Рауниг Г. Указ. соч.
(обратно)431
Ср., впрочем, приведенное выше монтажное Посвящение к этому роману.
(обратно)432
Герцен А. И. С того берега // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 6. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 80.
(обратно)433
Впоследствии Вулф публиковала это эссе под названием «Искусство и политика». См. перепечатку под первоначальным названием: Woolf V. Why Art Today Follows Politics // Woolf V. Selected Essays / Ed. by D. Bradshaw. Oxford: Oxford University Press, 2008. P. 213–215.
(обратно)434
Классическая работа Фёгелина издавалась много раз в оригинале, а также в переводе на английский и другие языки. См., например: Vögelin Eric. Die politischen Religionen (1938). München, 2007.
(обратно)435
Пер. с фр. Аркадия Коца.
(обратно)436
Вишневский Вс. Последний решительный. Л.: ГИХЛ, 1931. С. 50–51 (Серия «Литература и война»).
(обратно)437
Тарабукин Н. М. Анализ ритма и композиции постановки Вс. Мейерхольдом пьесы «Последний решительный» (1931) // Н. М. Тарабукин о В. Э. Мейерхольде / Ред.‐сост. и коммент. О. М. Фельдман. М.: ОГИ, 1998. С. 61.
(обратно)438
Вишневский Вс. Последний решительный. С. 3, 5.
(обратно)439
Краснознаменцы на языке 1931 г. — кавалеры учрежденного в 1918 г. ордена Красного Знамени или бойцы военной части, награжденной этим орденом.
(обратно)440
Вишневский Вс. Последний решительный. С. 59–60. Возможно, эта впечатляющая сцена — наряду с евангельской цитатой — стала одним из источников финала стихотворения А. Ахматовой «In memoriam» («А вы, мои друзья последнего призыва…», 1942): «И на колени все! — багровый хлынул свет… / Рядами стройными проходят ленинградцы, / Живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет». В 1945 г. Вишневский, будучи главным редактором журнала «Знамя», напечатал стихотворения Ахматовой (№ 4), но после постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» осудил поэта в «Литературной газете» (1946. 7 сентября).
(обратно)441
См. извлечения из неопубликованной автобиографической справки Вишневского, приведенные в статье: Максименков Л. «Не надо заводить архива, Над рукописями трястись» [?] // Вопросы литературы. 2008. № 1.
(обратно)442
Вишневский — от вишня, Лаврович — от лавр (через образ лавровишни), об этой ассоциации писал еще композитор Георгий Свиридов в своих дневниках 1970–1980‐х годов (редактура и публикация А. С. Белоненко: ).
(обратно)443
Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934: Стенографический отчет. М.: Художественная литература, 1934. С. 315–318 (раздел речи К. Радека о Джойсе).
(обратно)444
См. письмо Вс. Вишневскому от 26 октября 1936 г. от переводчицы Джойса М. Богословской-Бобровой (жены известного поэта и стиховеда С. Боброва), приведенное в статье: Рознатовская Ю. От составителя // «Русская Одиссея» Дж. Джойса / Под общ. ред. Е. Гениевой. М.: Рудомино, 2005.
(обратно)445
Хелемендик В. Всеволод Вишневский. М.: Молодая гвардия, 1980. С. 187 (Жизнь замечательных людей).
(обратно)446
Вишневский В. Собр. соч.: В 5 т. Т. 6 (дополнительный). М.: Художественная литература, 1961. С. 434–435; ср., впрочем, более оправдывающийся тон при упоминании Джойса в выступлении Вишневского на I съезде писателей («Мы брали на изучение страницы западной литературы, того же Джойса и Пруста для того, чтобы знать политику, практику и психику их. Мы действовали как разведчики и исследователи, как люди, которые будут наносить им же контрудар…» (Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934: Стенографический отчет. С. 285)). Несколько раньше почти в тех же выражениях, что и Вишневский — хотя и не упоминая Джойса, — Киршона за обскурантизм критиковал А. М. Горький в частной переписке (Замечания Горького о докладе Киршона «За социалистический реализм в драматургии» / Публ. Р. Э. Корнблюм // Горький и советские писатели: Неизданная переписка / Ред. И. С. Зильберштейн и Е. Б. Тагер. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 193 (Литературное наследство. Т. 70)). В 1937 г. — чуть позже парижской встречи с Джойсом — Вишневский вступил в ВКП(б) и на партийных собраниях и в печати обвинял того же Киршона в участии в «крупнейшем вредительском центре», якобы действовавшем под руководством Г. Ягоды и Л. Авербаха. Эти выступления стали одним из оснований для исключения из партии, ареста и, в конечном счете, расстрела Киршона в 1938 г. («За активную антипартийную борьбу… из рядов партии исключить»: Из стенограммы заседания партийного комитета Союза советских писателей по делу В. М. Киршона. 13 мая 1937 г. / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. З. К. Водопьяновой, Т. В. Домрачевой, Т. Ю. Красовицкой [-doc/1021716]; Киршон В. М. [Письмо И. В. Сталину от 6 мая 1937 г.] // «Я оказался политическим слепцом»: Письма В. М. Киршона Сталину / Публ. А. Чернева // Источник. 2000. № 1. С. 78–90). Эти апелляции к Джойсу одновременно с использованием публичных доносов — характерная черта Вишневского, но и в целом общественной ситуации середины 1930‐х годов в СССР. К концу десятилетия известные писатели остереглись бы публично показывать свое знание о существовании Джойса.
(обратно)447
Вишневский Вс. «На Западе бой» (опыт хронологического прослеживания творческого процесса) // Вишневский Вс. На Западе бой. Публицистическая трагедия. М.; Л.: ГИХЛ, 1933. С. 85.
(обратно)448
Хелемендик В. Указ. соч. С. 187.
(обратно)449
Вишневский Вс. «На Западе бой» (опыт хронологического прослеживания…). С. 3.
(обратно)450
Partisan Review. 1939. Vol. VI. № 5. P. 34–49. Русский перевод А. Калинина: Художественный журнал. 2005. № 60.
(обратно)451
Гройс Б. Русский авангард по обе стороны «Черного квадрата» // Вопросы философии. 1990. № 11. С. 73.
(обратно)452
Айзенберг М. Литература за одним столом // Литературное обозрение. 1997. № 5. С. 66–70 (). Впервые Айзенберг использовал словосочетание «правила исключения» в эссе 1994 г. «Предисловие к неизданному путеводителю» (опубл.: Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. М.: Гендальф, 1997. С. 32–37).
(обратно)453
См., например: Zholkovsky A. Eisenstein’s Poetics: Dialogical or Totalitarian? (1992) // Laboratory of Dreams: The Russian Avant-Guarde and Cultural Experiment / Ed. by J. E. Bowlt and O. Matich. Stanford, Ca.: Stanford University Press, 1996. P. 245–256. А. Жолковский эксплицитно ссылается на концепцию Гройса.
(обратно)454
Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост) модернистского дискурса в русской культуре 1920–2000‐х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008; Добренко Е. Музей революции: Советское кино и сталинский исторический нарратив. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
(обратно)455
См. о нем: Лобанова М. Николай Андреевич Рославец и культура его времени. СПб.: Петроглиф, 2011.
(обратно)456
См.: Кукулин И. Прирученная революционность. Разные типы трансформации авангардной поэтической традиции в конце 1920‐х годов // Сто лет русского авангарда / Под ред. М. И. Катунян. М.: Научно-изд. центр «Московская Консерватория», 2013. С. 334–356, здесь цит. с. 355.
(обратно)457
О роли тематических ассоциаций, резкого контраста отдельных фрагментов и гротеска в Седьмой симфонии см. в кн.: Сабинина М. Шостакович-симфонист. М.: Музыка, 1976. С. 163–190.
(обратно)458
Джагалов Р. Авторская песня как жанровая лаборатория «социализма с человеческим лицом» / Авториз. пер. с англ. А. Скидана // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 204–215.
(обратно)459
Еще один участник ОБЭРИУ, К. Вагинов, незадолго до смерти начал писать роман о событиях 1905 года. Черновики этого романа были изъяты НКВД при обыске у матери писателя уже после его смерти (был выписан ордер и на арест самого писателя: в НКВД не знали, что Вагинов умер). Без знания о том, был ли Вагинов сломлен в последние месяцы жизни, согласился ли он написать соцреалистический роман — или, напротив, решился дать эстетически и политически самостоятельную версию событий этого, столь идеологизированного в советской историографии, года, мы не можем принять решения о включении или невключении имени Вагинова в этот список.
(обратно)460
О Егунове см.: Скидан А. Длящееся настоящее // Новое литературное обозрение. 2003. № 59. С. 419–422; о Петрове см. рецензию А. Урицкого на публикацию повести «Турдейская Манон Леско» (Новый мир. 2006. № 11. Публ. М. В. Петровой. Подгот. текста Вл. Эрля. Предисл. С. Г. Бочарова. Послесл. Н. Николаева, Вл. Эрля): Новое литературное обозрение. 2007. № 85. С. 365–369.
(обратно)461
Подробнее см.: Кукулин И. Два рождения неподцензурной поэзии в СССР // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании: Сб. науч. ст. Вып. 11: В 2 т. М.: МГПИ, 2012. Т. 1. С. 115–124.
(обратно)462
Елагин Ю. Укрощение искусств. С. 280–282. Ю. Елагин полагал, что этот, по его выражению, «музыкальный НЭП» закончился, «когда окончательно исчезла необходимость завоевания симпатий мирового общественного мнения» (с. 282) — т. е., видимо, в 1948 г.
(обратно)463
Марголит Е. Я. Советское кино как большой гуманистический проект. Стенограмма лекции, прочитанной 25 февраля 2012 г. в клубе «ZaVtra» (экс-«ПирОГИ на Сретенке») в рамках проекта «Публичные лекции Полит. ру» (/); Шалина М. А. Самый красивый на свете [О творчестве актера М. Кузнецова] ().
(обратно)464
Об особенностях брехтовской рецепции Мо-Цзы см.: Divay G. Brecht’s Use of Moism, Confucianism and Taoism in his Me-Ti Fragment (/~divay/ps/brechtMeTi.html#ref).
(обратно)465
Цит. по изд.: Брехт Б. Ме-ти. Книга перемен / Пер. с нем. и предисл. С. Земляного // Брехт Б. Собр. избр. соч. Т. 1. М.: Логос-Альтера; Ессе homo, 2004. С. 214.
(обратно)466
Об их полемике см., например: Adorno T., Benjamin W., Bloch E., Brecht B., Lukács G. Aesthetics and Politics: The Key Text of the Classic Debate Within German Marxism / With an Afterword by F. Jameson / Transl. by R. Taylor. London: Verso, 1980 (в содержательном послесловии Ф. Джеймисона проанализированы некоторые важнейшие эстетические импликации этих дискуссий); Kyralifalvi B. A Search for Common Grounds for Brecht and Lukacs // Journal of Dramatic Theory and Criticsm. 1990. Spring. P. 19–30; Земляной С. Левая эстетическая теория о мимесисе и катарсисе. Заочные дебаты между Лукачем и Брехтом 30‐х годов XX века; Дмитриев А. Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя Франкфуртская школа (1920–1930‐е гг.). СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге; Летний сад, 2004. С. 436–437.
(обратно)467
См. об этом: Леонид Тимофеев, Геннадий Поспелов. Устные мемуары / Сост. и предисл. Н. Панькова, подгот. текстов Д. Радзишевского, М. Радзишевской, В. Тейдер, примеч. Л. Новиковой, Н. Панькова, В. Тейдер, Л. Чернец. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003.
(обратно)468
Лунгина Л. Подстрочник. Жизнь Лилианы Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана. М.: Corpus, 2009. С. 143–145.
(обратно)469
Подробнее об этом см., например: Басс В. Страна победившего маньеризма // Басс В. Петербургская неоклассическая архитектура 1900–1910‐х годов в зеркале конкурсов. Слово и форма. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2010. С. 295–312.
(обратно)470
Максименков Л. «Не надо заводить архива, Над рукописями трястись» [?] // Вопросы литературы. 2008. № 1.
(обратно)471
Корнилов В. Белый стих (Из серии «Занимательное литературоведение») // Литература: Приложение к газете «Первое сентября». 2001. № 23 (В Интернете: ); Громова Н. А. Все в чужое глядят окно. М.: Совершенно секретно. 2002. С. 32–33.
(обратно)472
Так, в опубликованных набросках к стихотворению «Берлин 1936» персонаж, максимально близкий к биографическому автору, дважды описывает посещения проституток.
(обратно)473
Материалы к творческой истории книги «Середина века» / Статья И. Л. Гринберга. Сообщение «Записные книжки Луговского», [расшифровка рукописей и публ.] Е. Л. Быковой // Из творческого наследия советских писателей / Ред. В. И. Борщуков, Л. И. Тимофеев и Н. А. Трифонов при участии Л. М. Розенблюм. М.: Наука, 1965. С. 669–720 (Литературное наследство. Т. 74).
(обратно)474
Там же. С. 686. По-видимому, Луговской имел в виду аресты группы высокопоставленных чиновников Кабардино-Балкарской АССР и Черкесской автономной области во главе с председателем Черкесского облисполкома Хамшиком Камбиевым (Спецсообщение Н. И. Ежова И. В. Сталину по делу контрреволюционной организации в Кабардино-Балкарской автономной республике. 14 марта 1937 г. // Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937–1938 / Сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. М.: Международный фонд «Демократия», 2004. С. 116–118). Все они были обвинены в создании «контрреволюционной террористической националистической организации».
(обратно)475
Первая публикация: День поэзии. М.: Советский писатель, 1962. Здесь цит. по изд.: Луговской В. Дорога в горы // Луговской В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1989. С. 124.
(обратно)476
«Выбрался он из… кризиса своими последними книгами — „Солнцеворот“, „Синяя весна“, „Середина века“, где раскрылась бездна не известных никому возможностей поэта. [Поэма] „Алайский рынок“, где Луговской исповедуется, стал[а] одним из ошеломивших меня подарков нашего литературного наследия» (Строфы века. Антология русской поэзии / Сост. Е. Евтушенко, [Е. Витковский]. Минск; М.: Полифакт, 1995; впервые этот текст был опубликован в 1989 году в журнале «Огонек» как предисловие к подборке стихотворений Луговского).
(обратно)477
Луговской В. Поэзия — душа народа // Луговской В. Раздумья о поэзии. М., 1961. С. 263.
(обратно)478
Материалы к творческой истории… С. 716.
(обратно)479
Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи: В 2 т. Т. 1. М.: Захаров, 2007. С. 621.
(обратно)480
См., например: Гинзбург Л. Заседание на исходе войны // Гинзбург Л. Проходящие характеры. Проза военных лет. Записки блокадного человека / Сост. А. Л. Зорин и Э. ван Баскирк. М.: Новое издательство, 2011. С. 85–100.
(обратно)481
Материалы к творческой истории… С. 695, 698.
(обратно)482
Там же. С. 700.
(обратно)483
Луговской В. Поэзия — душа народа. С. 263.
(обратно)484
Материалы к творческой истории… С. 678. Напомню, что Луговской был автором текстов песен для фильма Эйзенштейна «Иван Грозный».
(обратно)485
Луговской В. Письмо к Республике от моего друга // Луговской В. Собр. соч: В 3 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1988. С. 167–171.
(обратно)486
Другую точку зрения см. в статье: Пашков А. В. Истоки белого пятистопного ямба в стихе В. А. Луговского // Вестник Сургутского гос. педагогического ун-та. 2011. № 3 (14). С. 172–178.
(обратно)487
Блок А. О смерти // Блок А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 2. Стихотворения. Книга вторая (1904–1908). М.: Наука, 1997. С. 205, 207.
(обратно)488
Цит. по изд.: Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни / Пер. с нем. Я. Бермана // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 1. С. 159–230, здесь цит. 166, 198.
(обратно)489
Материалы к творческой истории… С. 704.
(обратно)490
Луговской В. Раздумья о поэзии. С. 48–49.
(обратно)491
Материалы к творческой истории… С. 670.
(обратно)492
Впрочем, этот мотив возникает у Луговского в более ранних стихах — ср., например, стихотворение «Кухня времени» (1929): «Мы в дикую стужу / В разгромленной мгле / Стоим / На летящей куда‐то земле — / Философ, солдат и калека. / Над нами восходит кровавой звездой, / И свастикой черной и ночью седой / Средина / Двадцатого века!» (Луговской В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. С. 159).
(обратно)493
Цит. по изд.: Луговской В. Новый год // Луговской В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 95–96.
(обратно)494
См. также на эту тему: Пашков А. В. Московские стихи О. Э. Мандельштама и книга поэм В. А. Луговского «Середина века» // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании: Сборник научных статей. Вып. 10. М.: МГПИ, 2011. Т. 1. С. 134–140.
(обратно)495
К 1943 году, скорее всего, относится описание разговора с молодым немецким евреем о Сталинграде с ремаркой: «Вступает тема Сталинграда».
(обратно)496
Материалы к творческой истории… С. 716. В примечаниях к публикации, подготовленных Е. Л. Быковой, эта фраза не откомментирована. В том же 1965 г., когда вышел цитируемый том «Литературного наследства», в Москве прошел первый большой вечер памяти Мандельштама, который вел Илья Эренбург (Нерлер П. Первый мандельштамовский вечер // Сайт Российского Еврейского конгресса. 2013. 27 декабря []), но все же творчество поэта оставалось полузапретным. В том же наброске — фраза «Не может быть второй свежести, как сказал Булгаков» (с. 717), разумеется, тоже не прокомментированная: роман «Мастер и Маргарита» был опубликован в 1967 г., Луговской, очевидно, знал его в рукописи, полученной от Е. С. Булгаковой, с которой был хорошо знаком.
(обратно)497
Луговской В. Обычная гостиница // Луговской В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 146–147.
(обратно)498
Луговской В. Берлин, 1936 год // Там же. С. 183, 184.
(обратно)499
Ореанда — курорт в Крыму близ Ялты.
(обратно)500
Цитата из хора «Проводы Масленицы» из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» (либретто Н. А. Римского-Корсакова по пьесе-сказке А. Н. Островского): «Ой, раным-рано куры запели…»
(обратно)501
Материалы к творческой истории… С. 680.
(обратно)502
Там же. С. 679.
(обратно)503
Там же. С. 697.
(обратно)504
Куда перевелся из Института философии, литературы и искусства.
(обратно)505
Название романа, по словам Белинкова (сохраненным в протоколе допроса в НКВД), предложил ему М. М. Зощенко, прочитавший текст в рукописи.
(обратно)506
Подробнее о «деле Белинкова» и Литинституте см.: Костырченко Г. В. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция в СССР. М.: РОССПЭН, 2009.
(обратно)507
Кажется, первым на это обратил внимание Михаил Берг в своей рецензии в газете «Коммерсантъ-Daily» в 1998 году: «„Черновик чувств“ — это осколок той литературы, которая могла бы быть, но не случилась на Руси» (/).
(обратно)508
Цит. по изд.: Белинков А. Россия и Черт. Роман, рассказы, пьеса, допросы. СПб.: Журнал «Звезда», 2000. С. 63.
(обратно)509
Там же. С. 68–69.
(обратно)510
См. об этом: Цивьян Ю. На подступах к карпалистике. С. 151–163.
(обратно)511
Белинков А. Черновик чувств // Белинков А. Россия и Черт. С. 90. Финал, возможно, отсылает к последним строкам поэмы (любимого Белинковым) Маяковского «Облако в штанах»: «Вселенная спит, / положив на лапу / с клещами звезд огромное ухо».
(обратно)512
Цит. по изд.: Шкловский В. Zoo, или Письма не о любви // Шкловский В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1973. С. 233. Следует отметить, что ВЦИК в этом письме оказывается гораздо реальнее, чем женщина, которой были адресованы предшествующие письма.
(обратно)513
Белинков А. В. Россия и Черт. С. 66. Курсив источника.
(обратно)514
Там же. С. 90.
(обратно)515
М. О. Чудакова возвращалась к этой важной мысли несколько раз в работах разных лет, но никогда не обсуждала ее подробно. См., например: Чудакова М. О. Литература советского прошлого. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 194, 196–197, 363, 384–385 (в работах «Поэтика Михаила Зощенко», «Сквозь звезды к терниям» и «Заметки о поколениях…» соответственно).
(обратно)516
Начало повести было опубликовано в журнале «Октябрь» (1943. № 6–7). Вторая часть, под названием «Повесть о разуме», вышла в СССР только в 1972 г. (Звезда. № 3). Полный текст повести был напечатан отдельной книгой в 1973 г. Издательством им. Чехова (Нью-Йорк).
(обратно)517
Материалы к творческой истории… С. 679.
(обратно)518
Эренбург И. О поэте Гудзенко (Из выступления на творческом вечере С. Гудзенко 21 апреля 1943 г.) / Публ. В. А. Мильман и Л. И. Соловейчика // Литературное наследство. Т. 78: В 2 кн. Кн. 1. М., 1966. С. 96.
(обратно)519
См., например, мемуарное свидетельство: Мурина Е. Аркадий Белинков в 1943 году // Вопросы литературы. 2005. № 6. С. 259–272.
(обратно)520
Лунгина Л. Подстрочник. С. 128–129.
(обратно)521
Белинков А. В. Следственное дело № 71/50. 1944 г. Показания обвиняемого Аркадия Белинкова. [Протокол допроса от 12 апреля 1944 г.] // Белинков А. В. Россия и Черт. С. 118.
(обратно)522
Белинков А. В. Черновик чувств. С. 19.
(обратно)523
Из протокола допроса Белинкова от 12 апреля 1944 г.: «…целый ряд советских писателей мною резко осуждались за подчинение ими своего творчества и службу (sic!) окружающей действительности. При этом я говорил, что окружающая действительность не должна вмешиваться в творчество и они, мол, должны работать, исключительно подчиняясь законам, свойственным только литературе, независимым от окружающей среды и действительности» (Белинков А. В. Россия и Черт. С. 118). По-видимому, эти слова — несмотря на то что следователь, скорее всего, стилистически искажает речь Белинкова — вполне согласуются с истинными взглядами писателя, так как близкие, хотя, конечно, совершенно иначе выраженные мысли можно найти и в «Черновике чувств».
(обратно)524
Об отношениях Белинкова и Шкловского см., например: Белинкова-Яблокова Н. Учителя и ученик // Егупец. Вып. 9. Киев, 2005 ().
(обратно)525
Белинков А. В. Россия и Черт. С. 61.
(обратно)526
См. об этом также: Кукулин И. «Разочарование в истории» как социокультурный диагноз 1960–1970‐х годов: Андрей Синявский и Аркадий Белинков // Studi Slavistici (Venezia). 2011. Vol. VIII. P. 113–136.
(обратно)527
Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. Madrid: Ediciones Castilla, S.A., 1976. С. 700, 717, 740.
(обратно)528
Впрочем, нельзя сказать, что Андреев никогда не планировал публиковать свои произведения: вскоре после освобождения из лагеря, 12 февраля 1958 г., он обратился с письмом в ЦК КПСС с просьбой напечатать его стихи. В результате Андреев был вызван в ЦК для беседы, но стихи его остались неопубликованными. Первая тоненькая книга Андреева «Ранью заревою», куда вошли наиболее «невинные» стихотворения, вышла в Москве только в 1975 г., через много лет после смерти автора — благодаря неустанным хлопотам его вдовы Аллы Андреевой.
(обратно)529
Характерно сходство художественных средств, примененных в этой поэме Андреевым и Николаем Клюевым во фрагменте поэмы «Погорельщина», процитированном в гл. 2: оба они с помощью «монтажа» отдельных реплик и/или городских сцен демонстрируют абсурдность и апокалиптичность жизни современного мегаполиса. Николай Клюев также стремился построить в поэме собственную религиозную утопию — но, в отличие от Андреева, не футурологическую, а ретроспективную (однако, в отличие от повести Садовского «Александр Третий», не «реалистическую», а воображаемую).
(обратно)530
Цит. по изд.: Андреев Д. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2 / Под ред. Б. Н. Романова. М.: Русский путь, 2006. С. 86–88.
(обратно)531
См. об этом в финале главной работы Андреева — оккультно-историософского трактата «Роза Мира» (Андреев Д. Роза Мира // Андреев Д. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 528).
(обратно)532
Цит. по изд.: Андреев Д. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 56, 57.
(обратно)533
Напомню и о музыкально-симфонической метафорике в теоретических работах Вертова (которые вряд ли могли быть известны Андрееву), и о фильме «Энтузиазм: симфония Донбасса», который Андреев вполне мог посмотреть. Дзига Вертов очень обижался, когда ему задавали вопрос о том, повлиял ли фильм Руттмана на замысел его «Человека с киноаппаратом», и доказывал, что работал совершенно независимо от Руттмана.
(обратно)534
Замятин Е. Избр. произв. С. 680.
(обратно)535
Биографические данные приводятся по кн.: Эколье Р. Матисс / Пер. с фр. Н. Шилинис и Г. Берсеневой. М.: Искусство, 1979.
(обратно)536
Antonioz M. Painting with Scissors: Jazz and Verve; Labrusse R. Decoration beyond Decoration // Henri Matisse: Drawing with Scissors. Masterpieces from the Late Years / Ed. by O. Bergguen and M. Hollein (2nd ed.). Münich; London; New York: Prestel, 2014. P. 45–53, 67–85.
(обратно)537
Stuffman M. Jazz: Rhythm and Meaning // Henri Matisse: Drawing with Scissors. P. 23–33, особ. p. 30–33.
(обратно)538
Luyken G. ‘Painting alone remains full of adventure’ — Matisse’s Cut-Outs as an Inspiration for Nicolas de Staël, Ellsworth Kelly and Andy Warhol // Henri Matisse: Drawing with Scissors. P. 151–159.
(обратно)539
Основной концептуальный ход этой главы был предложен М. Майофис, но его разработка принадлежит мне, и я несу полную ответственность за все недостатки этого текста.
(обратно)540
Полное название: «Черная книга: О злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941–1945 гг.», здесь и далее названа сокращенно. Английское издание: Grossman V., Ehrenburg I. The Complete Black Book of the Soviet Jewry / Ed. and transl. by David Patterson. New Brunswick, NJ: Transaction Publ., 2002.
(обратно)541
А. Типпнер говорила об этом в лекции о художественных аспектах «Черной книги», прочитанной 17 сентября 2013 г. в Русском, Восточноевропейском и Евразийском центре Университета Иллинойса в Урбана-Шампэйн. Как сообщила мне А. Типпнер в электронном письме, исследование пока не опубликовано. Я пользовался подробной аннотацией лекции, размещенной на сайте университета: .
(обратно)542
Частично в этом изложении я основываюсь на предисловиях Ирины Эренбург и Ильи Альтмана, включенных в издание: Черная книга: о злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941–1945 гг. / Под ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга. Вильнюс: Йад, 1993. См. также воспоминания Эренбурга: Эренбург И. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1976. С. 411–418.
(обратно)543
Знамя. 1944. № 1–2. С. 183–196.
(обратно)544
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Ед. хр. 460. Л. 10. Цит. по: [Комментарии к тексту: ] Проект постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» с правкой И. В. Сталина // Сталин и космополитизм. 1945–1953. Документы Агитпропа ЦК / Сост. Дж. Наджафов, З. Белоусова. М.: Международный фонд «Демократия», 2005. С. 72.
(обратно)545
Одним из первых исследований этого вопроса стала работа израильского историка Ицхака Арада: Арад И. Отношение советского руководства к Холокосту / Пер. А. Локшина // Вестник Еврейского университета в Москве. 1995. № 2 [9]. С. 4–36. См. также: Gitelman Z. Soviet Reactions to the Holocaust: 1945–1991 // Holocaust in the Soviet Union: Studies and Sources on the Destruction of Jews in the Nazi-Occupied Territory of the USSR, 1941–1945 / Ed. by L. Dobroszycki, J. S. Gurock, with a foreword by R. Pipes. New York: M. E. Sharpe, 1993. P. 3–28; Блюм А. В. Отношение советской цензуры (1940–1946) к проблеме Холокоста // Вестник Еврейского университета в Москве. 1995. № 2 (9). С. 156–167; Он же. Еврейский вопрос под советской цензурой. 1917–1991. СПб.: Петербургский Еврейский университет, 1996. С. 88–116 (Петербургская иудаика. Т. I); Berkhoff K. «Total Annihilation of the Jewish Population». The Holocaust in the Soviet Media, 1941–45 // Kritika. 2009. Vol. 10. No. 1. P. 61–105; Altshuler M. The Holocaust in the Soviet Mass Media during the War and in the First Post-war Years Re-examined // Yad Vashem Studies. 2011. Vol. 39. No. 2. P. 121–168; Kerler D. B. The Soviet Yiddish Press: Eynikayt During the War, 1942–1945 // Why Didn’t The Press Shout? American and International Journalism during the Holocaust / Ed. by R. M. Shapiro. Jersey City, NJ: Yeshiva University Press, 2003. P. 221–249.
(обратно)546
Когда эта книга была уже сверстана, в Москве вышло, наконец, первое полное российское издание «Черной книги», подготовленное И. Альтманом и И. Лемпертасом на основе вильнюсского издания 1993 года, с дополнениями: М.: АСТ, Corpus, 2015. Далее цитаты приводятся по этому изданию. Благодарю за содействие Евгению Кононенко.
(обратно)547
Черная книга: о злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941–1945 гг. / Под ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга. М.: АСТ, Corpus, 2015. С. 94–95.
(обратно)548
Зверства, грабежи и насилия немецко-фашистских захватчиков. Л.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1942; Документы обвиняют: Сборник документов о чудовищных зверствах германских властей на временно захваченных ими советских территориях. Вып. I. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1943; Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР: Сборник документов и материалов. Петрозаводск: Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1945; и др.
(обратно)549
Зверства, грабежи и насилия… С. 104–111.
(обратно)550
Полное название: Чрезвычайная следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так военного и морского ведомств. См.: Падение царского режима: Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства / Под ред. П. И. Щёголева: В 7 т. М.; Л., 1924–1927.
(обратно)551
Первая полная публикация — через три года: Последние дни императорской власти. По неизданным документам составил Александр Блок. Пг.: Алконост, 1921.
(обратно)552
Отречение Николая II: Сборник воспоминаний / Под ред. П. Щёголева, с предисл. М. Кольцова, при участии Л. Китаева и В. Третьяковой. Л.: Красная газета, 1927.
(обратно)553
Секретные сотрудники и провокаторы: Сборник / Под ред. и с предисл. П. Е. Щёголева. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. Второе издание, сокращенное почти вдвое: Щёголев П. Е. Охранники и авантюристы. М.: Изд-во политкаторжан, 1930.
(обратно)554
Щёголев П. Е. Книга о Лермонтове: [В 2 кн.] [Л.:] Прибой, 1929.
(обратно)555
Петрашевцы: Сборник материалов: [В 3 т.] / Ред. П. Е. Щёголев. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926–1928.
(обратно)556
А. Блок в воспоминаниях современников и в его письмах / Под ред. Н. С. Ашукина. М., 1924; Живой Пушкин / Сост. Н. С. Ашукин. М.: Современная Россия, 1926; Вересаев В. В. Пушкин в жизни (1926–1927), Гоголь в жизни (1933); Фейдер В. А. А. П. Чехов: литературный быт и творчество по мемуарным материалам. М.; Л.: Academia, 1928; Апостолов Н. Н. Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и переписке / С предисловием Н. Н. Гусева. М.: Издание Толстовского музея, 1928; Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века / Под ред. Н. Л. Бродского. М.; Л.: Academia, 1930; и др.
(обратно)557
Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. Л.: Прибой, 1929.
(обратно)558
Эйхенбаум постулировал связь между «монтажами» и литературным бытом в своем предисловии к книге Аронсона и Рейсера. Реконструируя точку зрения Эйхенбаума и задачи его семинара по истории литературного быта, в котором участвовали Аронсон и Рейсер, я ориентируюсь на статью: Зенкин С. Открытие «быта» русскими формалистами // Лотмановский сборник. Вып. 3 / Под ред. Л. Н. Киселевой, Р. Г. Лейбова и Т. Н. Фрайман. М.: ОГИ, 2004. С. 806–821. Однако С. Н. Зенкин говорит о внимании Эйхенбаума именно к институциям, а я добавляю к нему и их «индивидуальную» составляющую, которая явно интересовала авторов «литературных монтажей».
(обратно)559
См., например: Жены декабристов: Сборник историко-бытовых статей / Сост. В. Покровский. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1906.
(обратно)560
Василий Зелинский составил многотомные собрания критических отзывов на произведения Пушкина, Некрасова, Тургенева, Толстого, Достоевского.
(обратно)561
Рейсер С. Монтаж и литература // Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. С. 9, 10.
(обратно)562
Благодарю С. И. Панова за подробные консультации по этому вопросу.
(обратно)563
М.: В типографии Августа Семена.
(обратно)564
Сост. А. Черновского, ред. и вступ. ст. Б. П. Викторова. М.; Л.: Гос. изд-во.
(обратно)565
Сборник документов под редакцией А. К. Дрездена. М.: Гос. социально-экономическое изд-во.
(обратно)566
Сост. и ред. П. Поспелова. М.: ОГИЗ (Серия «История заводов»).
(обратно)567
Документы и материалы, собранные Л. В. Лесной / Под ред. и с предисл. Т. Р. Рыскулова. М.: Соцэкгиз, 1937. Поэтесса, актриса, драматург, журналистка и редактор Лидия Лесная (настоящее имя Лидия Шперлинг, 1889–1972) историкам русского авангарда известна преимущественно как автор «Ытуеребо» — погромно-издевательской статьи об обэриутах (Красная газета (вечерний выпуск) (Ленинград). 1928. № 24 (1694). 25 января).
(обратно)568
Их не игнорировали формалисты, близкие к ЛЕФу, — В. Шкловский и Осип Брик, — но понимали прямолинейно-идеологически, в смысле «социального заказа». Впоследствии — в 1940‐е годы и позже — намного более глубокие и критические концепции отношений между советской политикой и советской литературой создали ученики формалистов — Аркадий Белинков и особенно Лидия Гинзбург.
(обратно)569
Мордовченко Н. И. Биография Пушкина: Обзор литературы за 1937 г. // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. [Вып.] 4/5. С. 513–529, здесь см. с. 515.
(обратно)570
«Подход В. В. Вересаева представляется нам абсолютно ненаучным, и „беспристрастность“ Вересаева сильно смахивает на выпуклую беспринципность. Нужно ли еще доказывать, что всякий исторический материал вообще, а биографический в особенности, требует критического к себе отношения?» (Щёголев П. Е. Книга о Лермонтове: [В 2 кн.] Вып. 1. [Л.:] Прибой, 1929. С. 5). «…Первый том „Спутников [Пушкина]“, изданный еще в 1934 г. и вызвавший справедливую критику в рецензиях С. Я. Гессена („Звезда“, 1935, № 1) и В. А. Мануйлова („Литературный Современник“, 1935, № 1), к сожалению, переиздан без каких бы то ни было дополнений и исправлений» (Мордовченко Н. И. Указ. соч. С. 522).
(обратно)571
Цит. по изд.: Ахматова А. Слово о Пушкине // Ахматова А. Собр. соч.: В 6 т. / Сост., подгот. текста, коммент. С. А. Коваленко. Т. 6. М.: Эллис Лак, 2002. С. 274–276, здесь цит. с. 275.
(обратно)572
Подготовка и победа Октябрьской Революции в Москве: документы и материалы / Сост. Г. Костомаров. М.: Московский рабочий, 1957; Октябрь в Замоскворечье: Сборник воспоминаний активных участников Великой Октябрьской социалистической революции. М.; Л.: Гослесбумажиздат, 1957, и мн. др. аналогичные издания.
(обратно)573
Подсудимые обвиняют / Сост. А. Толмачев. М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1962. В сборник включены речи, произнесенные оказавшимися под судом деятелями коммунистических и профсоюзных движений XIX–XX веков, — К. Маркса, О. Бланки, А. Желябова, лейтенанта П. Шмидта, и вплоть до греческого коммуниста Манолиса Глезоса (р. 1922), который за свою жизнь четыре раза был приговорен к смертной казни. Этот сборник упомянут в финале оппозиционного по духу фильма Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника», его упоминание в фильме имеет функцию намека на диссидентское движение (Майофис М. Журавли как символ памяти о войне в СССР середины 1950–1960‐х гг.: первые попытки проработки травмы // СССР во Второй мировой войне: Оккупация. Холокост. Сталинизм / Ред. и сост. О. В. Будницкий (отв. ред.) и Л. Г. Новикова. М.: Политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2014. C. 367–391, здесь цит. с. 390).
(обратно)574
Подзаголовок поэмы: «Описание в сентиментальных документах, стихах и молитвах славных злоключений Действительного Камер-Герра Николая Резанова, доблестных Офицеров Флота Хвастова и Довыдова, их быстрых парусников „Юнона“ и „Авось“, сан-францисского Коменданта Дон Хосе Дарио Аргуэльо, любезной дочери его Кончи с приложением карты странствий необычайных».
(обратно)575
Песков А. М. Боратынский. Истинная повесть. М.: Книга, 1990 (Писатели о писателях). Ср. более позднюю биографию Павла I, написанную А. М. Песковым для серии «Жизнь замечательных людей» и изданную в 2000 г. с подзаголовком: «Анекдоты. Документы. Комментарии».
(обратно)576
Адамовіч А., Брыль Я., Калеснік Ул. А. Я з вогненнай вёскі…Мінск: Мастацкая літаратура, 1975.
(обратно)577
Авторизованный перевод Д. Ковалева много раз перепечатывался. Первое издание — Минск, 1977; в Москве книга была републикована издательством «Известия» в 1979‐м.
(обратно)578
Цит. по изд.: Адамович А., Брыль Я., Колесник В. Я из огненной деревни… / Пер. с белорусск. Д. Ковалева. М.: Известия, 1979.
(обратно)579
О сложении этого канона см., например: Кукулин И. Регулирование боли (Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой Отечественной / Второй мировой войны в русской литературе 1940–1970‐х годов) // Память о войне 60 лет спустя. Россия. Германия. Европа / Под ред. М. Габовича. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
(обратно)580
Адамович А., Брыль Я., Колесник В. Я из огненной деревни… С. 80.
(обратно)581
Благодарю Полину Барскову за подробные консультации по проблематике этого раздела.
(обратно)582
Цит. по изд.: Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. Л.: Лениздат, 1984. С. 541–542.
(обратно)583
Там же. С. 100.
(обратно)584
Подробнее см: Lomagin N. Fälschung und Wahrheit. Die Blockade in der russischen Historiographie // Osteuropa. 2011. № 8–9. S. 23–48; Barskova P. Introduction // Slavic Review. 2010. Vol. 69. No. 2 (Summer). P. 277–280.
(обратно)585
Адамович А., Гранин Д. Указ. соч. С. 156.
(обратно)586
Там же. С. 38.
(обратно)587
Сохрани мою печальную историю… Блокадный дневник Лены Мухиной / Сост. и подгот. текста С. В. Ярова. СПб.: Азбука-Аттикус, 2011. Елена Мухина была эвакуирована из Ленинграда в состоянии голодного истощения в 1942 г. После войны получила художественное образование, работала художником-оформителем на заводах и фабриках. Умерла в Москве в 1991 г.
(обратно)588
Цит. по: -reading.co.uk/book.php?book=1015753.
(обратно)589
Об обстоятельствах, при которых Гранин и Адамович приступили к работе над дневником, см.: Белякова А. «Во сне я вижу только хлеб…». Из блокадного дневника ленинградского школьника Юрия Рябинкина // Советская Россия. 2004. 29 января.
(обратно)590
Князев Г. А. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945 / [Отв. ред. Н. П. Копанева, авт. примеч., подгот. текст А. Г. Абайдулов и др.] СПб.: Наука, 2009. В этом издании — 1220 страниц.
(обратно)591
Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. С. 316.
(обратно)592
Там же. С. 312.
(обратно)593
Там же. С. 389.
(обратно)594
Там же. С. 346.
(обратно)595
Там же. С. 389.
(обратно)596
О ее промежуточном характере упоминает Полина Барскова, поэт и исследователь истории блокады: Barskova P. Introduction. P. 277.
(обратно)597
Расшифровано по видеозаписи фильма.
(обратно)598
Некоторые участники фильма зачитывают вводные фразы Адамовича и Гранина, представляющие того или иного мемуариста. Автор литературной концепции фильма, как указано в титрах, — Надежда Гусарова.
(обратно)599
Новый мир. 1977. № 12. С. 25–158; 1981. № 11. С. 38–203; Аврора. 1981. № 1. С. 78–101; Наука и религия. 1981. № 3–4; и др.
(обратно)600
С.‐Петербургские ведомости. 1992. 28 января; Звезда. 1992. № 5/6.
(обратно)601
Яковлева Е. Григорий Романов: «Я против недостоверных версий» // Российская газета. 2004. 27 января ().
(обратно)602
В 1962 г. правительство Нидерландов объявило Пономаренко persona non grata после того, как посол СССР лично принял участие в похищении советской перебежчицы в Амстердаме и вступил в драку с представителями полиции. Пономаренко был отозван.
(обратно)603
Гранин Д. Во что обходится Победа // Новая газета. 2014. 5 февраля ().
(обратно)604
Цит. по изд.: Улицкая Л. Даниэль Штайн — переводчик: Роман. М., 2006. С. 241.
(обратно)605
В послесловии Улицкая пишет, что интервьюировала Арье Руфайзена перед написанием романа (С. 518).
(обратно)606
Уже после выхода романа Улицкой Костюкович получила известность как оригинальный писатель.
(обратно)607
«При подобной „небрежности“ в обращении с людьми и деталями тема памяти становится [в романе] … одним из главных „неудобных“ вопросов. Центральный и самый главный персонаж памяти — отдельный человек» (Чанцев А. Нечастное значение [рецензия на роман Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик»] // Новое литературное обозрение. 2007. № 85. С. 377–383. Курсив А. Чанцева).
(обратно)608
Кокшенева К. Дыра нового атеизма. О романе Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» // Сайт информационного агентства «Русская линия». 2009. 24 апреля (). Теологическую защиту Д. Руфайзена см. в статье О. Дорошенко «Казус Малецкого»: /8–1–0–178.
(обратно)609
Bukiet M. J. Book World: ‘Daniel Stein, Interpreter’ reviewed // Washington Post. 2011. May 10 (-world-daniel-stein-interpreter-reviewed/2011/03/17/AFVSZtgG_story.html). Статья Бакайета — рецензия на английский перевод романа, выполненный Арчем Тэйтом и опубликованный в 2011 г. издательствами Duckworth и Overlook. Ср. сходные претензии — в апологетическом отношении к переходу еврея Руфайзена в христианство — в статье: Tippner A. Konversion(en): Translation und Identitat in Ljudmila Ulickajas Roman Daniel’ Štajn — perevodčik / Daniel Stein — Ubersetzer // Ubersetzen und judische Kulturen / Hrsg. von P. Ernst, H.‐J. Hahn, D. Hoffmann, D. M. Salzer. Innsbrick; Wien; Bozen: StudienVerlag, 2012. S. 217–232.
(обратно)610
Улицкая Л. Указ. соч. С. 469. Вопрос о композиции произведения мельком затрагивает А. Типпнер, указывая, что конструкция романа необходима для изображения «межнациональной, межрелигиозной идентичности» (Tippner A. Op. cit. S. 219). Однако Типпнер говорит именно о композиции, а не об обусловливающем ее жанре.
(обратно)611
Цит. по изд.: Пастернак Б. Л. Полн. собр. соч. с прилож.: В 11 т. Т. 1 / Предисл. Л. С. Флейшмана, сост. и коммент. Е. Б. Пастернака и Е. В. Пастернак. М.: Слово/Slovo, 2002. С. 226–227, здесь цит. с. 226.
(обратно)612
«Я меняю имена, вставляю своих собственных, вымышленных или полувымышленных героев, меняю то место действия, то время события, а себя держу строго и стараюсь не своевольничать. То есть я заинтересована только в полной правдивости высказывания» (Улицкая Л. Цит. соч. С. 123).
(обратно)613
Там же. С. 518.
(обратно)614
Наринская А. Роман о хорошем человеке // Коммерсантъ. 2007. 5 декабря (). О том, как именно А. Наринская анализирует позицию Л. Улицкой, будет сказано дальше.
(обратно)615
Улицкая Л. Указ. соч. С. 122.
(обратно)616
Письмо А. Холопову опубликовано: Правда. 1950. 2 августа. Здесь цит. по: Сталин И. В. Соч.: В 18 т. Т. 16. М.: Писатель, 1997. С. 132–136. И. Сандомирская дает тонкий анализ переписки «вождя» и Холопова, обращая внимание на антисемитский подтекст слова «талмудисты» (Сандомирская И. Блокада в слове. Очерки критической теории и биополитики языка. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 372–376), но, кажется, слово «начетчики» здесь тоже требует внимания: вместе «талмудисты» (= еврейская ученость) и «начетчики» (= старообрядческая ученость) дают хорошо разработанный в христианском богословии и гомилетике образ «знания буквы без знания духа». Воплощением «духа» марксизма (каковой дух, по‐видимому, должен был в СССР считаться животворящим, по аналогии с Духом, упомянутым в Посланиях ап. Павла) и объявил себя Сталин. См. также: Вайскопф М. Писатель Сталин. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 136–138.
(обратно)617
См., например: Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны: В 2 кн. / Ред. А. Н. Дубовиков и Н. А. Трифонов. М.: Наука, 1966 (Литературное наследство. Т. 78).
(обратно)618
Наринская А. Указ. соч.
(обратно)619
Так, один из ее «комментированных монтажей» включен в научную книгу по антропологии травмы — Травма: Пункты / Под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М.: Новое литературное обозрение, 2009. В то же время в медиа обсуждались предположения о том, что кандидатура С. Алексеевич, уже как оригинальной писательницы, выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе.
(обратно)620
Светлана Алексиевич: «Социализм кончился. А мы остались». Беседу ведет Наталья Игрунова // Алексиевич С. Время секонд-хэнд. М.: Время, 2013. С. 500. Впрочем, еще до «Голосов утопии», в 1976 г., Алексиевич, которая тогда работала журналисткой в Беларуси, составила по «методу Адамовича» книгу «Я уехал из деревни» — собрание монологов бывших деревенских жителей. Выход книги был заблокирован белорусскими партийными чиновниками, так как работа Алексиевич демонстрировала болезненность урбанизационных процессов в СССР. Впоследствии Алексиевич и сама отказалась печатать книгу, сочтя ее слишком «журналистской» (из неподписанной биографической справки на сайте Премии мира Немецкого союза издателей и книготорговцев: -des-deutschen-buchhandels.de/sixcms/media.php/1290/Biographie_Alexijewitsch_Russisch.pdf).
(обратно)621
Светлана Алексиевич: «Социализм кончился. А мы остались». С. 498. Благодарю Федора Ермошина за обсуждение этого раздела.
(обратно)622
Алексиевич несколько раз говорила в своих интервью о том, что на протяжении двух лет выход книги не дозволялся по идеологическим причинам: ее обвиняли в «пацифизме» и «натурализме».
(обратно)623
Алексиевич С. Время секонд-хэнд. С. 58.
(обратно)624
Кочеткова Н. [Рец. на кн.: Улицкая Л. А завтра будет счастье…] // Сайт журнала «TimeOut. Москва» (/).
(обратно)625
Prokhorov A. Cinema of Attractions versus Narrative Cinema: Leonid Gaidai’s Comedies and El’dar Riazanov’s Satires of the 1960s // Slavic Review. 2003. Vol. 62. No. 3. P. 455–472, здесь цит. p. 460.
(обратно)626
Подробнее об этом строительстве и о сопутствующем ему изменении практик см.: Лейбович О. «Эпоха зрелищ кончена, пришла эпоха хлеба»: XX съезд КПСС и формирование новых паттернов политического поведения в советской провинциальной среде; Казанков А. Самая тихая контрреволюция, или как Ле Корбюзье развалил СССР // Лейбович О., Колдушко А., Шабалин В. и др. 1956: незамеченный термидор: очерки провинциального быта. Пермь: Изд-во Перм. гос. ин-та искусства и культуры, 2012. С. 15–73, 194–220.
(обратно)627
В 1954 г. в советской печати началась так называемая «дискуссия о лирике», вышел коллективный сборник «Разговор перед съездом», в который было включено несколько статей участников этой дискуссии. См. статьи: Эренбург И. Памяти Юлиана Тувима // Литературная газета. 1954. 7 января; Берггольц О. Разговор о лирике // Литературная газета. 1953. 16 апреля; Она же. Против ликвидации лирики // Литературная газета. 1954. 28 октября. С. 3; Сельвинский И. Наболевший вопрос; Луговской В. Раздумья о поэзии // Разговор перед съездом / Под ред. К. Озеровой. М., 1954. С. 105–112, 130–142. О смене эстетической парадигмы в русской поэзии 1950‐х годов см.: Чудакова М. Возвращение лирики: Булат Окуджава // Чудакова М. Новые работы. 2003–2006. М.: Время, 2007. С. 62–107.
(обратно)628
Prokhorov A. Op. cit. P. 456.
(обратно)629
Написанные М. Цейтлиным титры фильма Э. Шуб «Россия Николая II и Лев Толстой» опубликованы Людмилой Иноземцевой: Киноведческие записки. 2000. № 49. Кроме того, Шуб в те же 1920‐е годы занималась перемонтажом иностранных фильмов, который идеологические инстанции считали необходимым для того, чтобы они стали пригодными для показа в СССР.
(обратно)630
Каплан И. Майя Туровская: Обыкновенный фашизм, или Сорок лет спустя // Искусство кино. 2007. № 7. С. 115–122, здесь с. 115–116.
(обратно)631
Ромм М., Туровская М., Ханютин Ю. «Обыкновенный фашизм». СПб.: Сеанс, 2007. Книга материалов о фильме должна была выйти в 1969 г. в серии «Шедевры советского кино», но ее «зарубила» цензура, поэтому впервые она вышла только в 2007‐м (Архипов А. Фашистская мышеловка // Российская газета — Неделя. 2007. 16 февраля).
(обратно)632
Панкратов Ю., Харабаров И. О чувстве нового // Литературная газета. 1959. 24 октября.
(обратно)633
Об этом рассказывал сам Панкратов в интервью: Винонен Р. Второе пришествие // Литературная Россия. 2005. 2 декабря.
(обратно)634
Самойлов Д. С. Книга о русской рифме. М.: Художественная литература, 1973. С. 314–323 (во многом и сама эта книга, по‐видимому, была вызвана к жизни «рифменной революцией» 1950–1960‐х годов, напомнившей Самойлову эксперименты времен его юности — конца 1930‐х); Гаспаров М. Л. Эволюция русской рифмы // Проблемы теории стиха / Под ред. Д. С. Лихачева. Л.: Наука, 1984; Он же. Рифма Бродского // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М.: Новое литературное обозрение, 1995. С. 83–92.
(обратно)635
Напомню мысль М. М. Кёнигсберга: «Точная и неточная рифма определяются не физическими характеристиками звукового качества ее, а исключительно тем, что считается точным и что неточным в условиях данного исторического канона» («Заметки о рифме: (Из стихологических этюдов)» (август 1923) — приведено в комментариях М. И. Шапира к публикации: Кёнигсберг М. М. Из стихологических этюдов. 1. Анализ понятия «стих» / Подгот. текста и публ. С. Ю. Мазура и М. И. Шапира. Вступ. заметка и примеч. М. И. Шапира // Philologica. 1994. № 1. С. 179).
(обратно)636
Самойлов Д. С. Книга о русской рифме. 2‐е изд. М.: Художественная литература, 1982. С. 319–320.
(обратно)637
Из поэтов, начинавших во второй половине 1930‐х, подобные игры практиковал только Николай Глазков — и то не с неточной, а с преувеличенно точной рифмой: «Мы — / Умы, / А вы — / Увы…» (конец 1930‐х).
(обратно)638
Цит. по: .
(обратно)639
Цит. по: /евгений-евтушенко-москва-товарная/. МИИТ — традиционное название для Московского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне — Московский государственный университет путей сообщения), значение аббревиатуры МЭИТ мне найти не удалось. Возможно, Евтушенко считал, что «мэитовец» — это студент МЭИ, Московского энергетического института.
(обратно)640
Вознесенский А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. М.: Вагриус, 2000. С. 15.
(обратно)641
Там же. С. 89.
(обратно)642
В контексте обсуждения связи советской культуры 1960‐х с раннесоветскими экспериментами стоит заметить, что это стихотворение основано на развернутой и эксплицированной в тексте полемике со стихотворением В. Маяковского «Бруклинский мост» (1925).
(обратно)643
«Caravelle» — марка французских пассажирских турбореактивных самолетов средней дальности, выпускались с 1955 до начала 1970‐х годов.
(обратно)644
Вознесенский А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. С. 75–76.
(обратно)645
На это обратил внимание еще в 1961 г. Б. Сарнов: «…Громкий успех Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского связан, мне кажется, с какими‐то неутоленными душевными потребностями читателя. Произошел своеобразный оптический обман» (Сарнов Б. Если забыть о «часовой стрелке»… [Ч. 1] // Литературная газета. 1961. 27 июня). См. также: Вайль П., Генис А. 60‐е: мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 34–36 (в этой книге о поэзии 1960‐х говорится только на материале стихов Евтушенко).
(обратно)646
Цит. по: Евтушенко Е. Станция Зима // Евтушенко Е. Первое собр. соч.: В 8 т. Т. 1. М.: NEVA Group, 1997. С. 284–318, здесь цит. с. 313–314.
(обратно)647
Как показывает У. Таубман, ряд инициатив Хрущева 1953–1954 годов был направлен на то, чтобы перехватить инициативу у Маленкова, который возглавил Совет министров СССР и ненадолго стал фактическим руководителем СССР (Таубман У. Хрущев. 2‐е изд. / Пер. с англ. Н. Холмогоровой. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 287–291). Положение Маленкова пошатнулось в 1954 г., когда были реабилитированы жертвы инициированного им «Ленинградского дела».
(обратно)648
Хрущев Н. С. Отчетный доклад ЦК КПСС XX съезду партии // XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет: В 2 кн. Кн. 1. М.: Политиздат, 1956. С. 81–83. История этой инициативы пока мало исследована. Единственной известной мне работой на эту тему является доклад М. Л. Майофис «Педагогика модерности? Советские „шестидесятники“ и наследие С. Шацкого, А. Макаренко и Я. Корчака», сделанный на конференции «Проекты модерности: конструируя „советское“ в европейской перспективе» (Пермь, 24–26 июня 2013 г.).
(обратно)649
Хрущев Н. С. Указ. соч. С. 58.
(обратно)650
Там же. С. 83.
(обратно)651
Строки Евтушенко о «думающей любви» с высокой долей вероятности восходят к строкам из «Апологии сумасшедшего» (1837) П. Я. Чаадаева (которую Евтушенко мог тогда знать в пересказе или в цитатах): «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной». Если это предположение верно, то заметим, что «я» из цитаты Чаадаева Евтушенко характерным образом заменяет на «мы».
(обратно)652
Вознесенский А. Указ. соч. С. 89–90.
(обратно)653
Там же. С. 394.
(обратно)654
Подробнее и об изоляции, и о проблемах ее преодоления см.: Friedberg M. A Decade of Euphoria: Western Literature in post-Stalin Russia, 1954–64. Indiana University Press, 1977; Idem. Literary Translation in Russia: A Cultural History. Pennsylvania State University Press, 1997; Завьялов С. «Поэзия — всегда не то, всегда другое»: переводы модернистской поэзии в СССР в 1950–1980‐е годы // Новое литературное обозрение. 2008. № 92. С. 104–119; Кукулин И. Роль стихотворного перевода в творчестве русских поэтов 1990–2000‐х годов // Русская поэзия от Пушкина до Бродского. Что дальше? / Ed. by Claudia Scandura. Roma: Edizioni Nuova Cultura, 2012. С. 157–197; Азов А. Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960‐е годы. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013.
(обратно)655
Подробнее см.: Герчук Ю. Кровоизлияние в МОСХ, или Хрущев в Манеже 1 декабря 1962 года. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
(обратно)656
Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 1998. С. 308. В настоящее время стиховые переклички между Луговским и Бродским стали предметом исследований А. В. Пашкова, но результаты его работы пока не опубликованы.
(обратно)657
Белинков А. Юрий Тынянов. 2‐е изд. М.: Советский писатель, 1965. С. 242.
(обратно)658
Одна глава книги Белинкова — но не та, где говорилось о редактуре Шкловского, а другая, посвященная роману «Зависть», — была напечатана в журнале «Байкал» (1968. № 1–2 [сдвоенный]); в этом же номере появился фрагмент из антитоталитарной фантастической притчи А. и Б. Стругацких «Улитка на склоне» (1965). Обе публикации (как и ряд других «непроходимых» материалов в том же номере) были делом рук одного человека — нового зам. главного редактора журнала Владимира Бараева. После этого «эксцесса» в московских газетах был опубликован ряд статей, громивших публиковавшихся в «Байкале» авторов, первого секретаря Бурятского обкома КПСС А. Модогоева вызвали в Москву «на ковер», В. Бараев был уволен, а сам номер изъят из библиотек и запрещен. Подробнее см. в воспоминаниях «виновника торжества»: Бараев В. Последние залпы по шестидесятникам // Новая Бурятия. 2012. 5 марта (). Полностью книга Белинкова была издана после смерти ее автора в Мадриде в 1976 году и в «самиздате» распространялась мало — вероятно, из‐за того, что Белинков сделал ее главным героем именно Олешу, обрушившись с критикой не на соцреалистических писателей, а на «соглашателя» из числа модернистов. Для значительной части советской инакомыслящей интеллигенции такая постановка вопроса была слишком дискомфортной, а обвинения в адрес Олеши воспринимались многими как пристрастные и субъективные.
(обратно)659
Цит. по: #6.
(обратно)660
Другие типы эпатажной рифмы в поэзии Сапгира — разноударная («садится — с лица»), или тавтологическая, или соединяющая близкие по смыслу однокоренные слова («вскорости — скорости» в стихотворении «Икар»).
(обратно)661
Демонстративный анахронизм (показывающий, что Босх является лишь условным героем стихотворения, а говорит оно о художнике, принадлежащем к поколению Антокольского) — аллюзия на битву на Марне 1914 г., одно из важнейших сражений Первой мировой войны. «Рейн» и «Темза» отсылают, вероятно, уже ко Второй мировой войне: «над Рейном» — имеются в виду бои англо-американских войск с нацистами за контроль над Рейном в феврале — марте 1945 г., «над Темзой» — нацистские бомбардировки Лондона.
(обратно)662
Антокольский П. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1982. С. 315 (Библиотека поэта. Большая серия).
(обратно)663
Еще одно стихотворение, испытавшее очевидное воздействие строфики и схемы рифмовки «Босха», — «Одной поэтессе» (1965) Иосифа Бродского (об этом см., например: Шубинский В. Семейный альбом. Заметки о советской поэзии классического периода // Октябрь. 2000. № 8).
(обратно)664
В неподписанной краткой справке об Антокольском на сайте «Век перевода» (главным редактором которого является Евгений Витковский) сказано даже: «…чуть ли не все прослеживаемые корни творчества — оригинального Антокольского — именно во французской литературе, да и сам Антокольский этого не скрывал» ().
(обратно)665
Гольдштейн А. Мастер жизни на исходе дня (май 1994) // Гольдштейн А. Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 27–29.
(обратно)666
Окончательная редакция — 1968.
(обратно)667
Как указывал сам писатель, «… [п]ри публикации [в „Правде“ и в „Новом мире“] название [рассказа] было сменено на „Кречетовка“ из‐за остроты противостояния „Нового мира“ и „Октября“ (главный редактор — [Всеволод] Кочетов), хотя все остальные географические пункты остались названными точно» (Солженицын А. Краткие пояснения к некоторым книгам // Солженицын А. Ленин в Цюрихе. Рассказы. Крохотки. Публицистика (Серия «Зеркало — XX век»). Екатеринбург: У-Фактория, 1999. С. 741–748.
(обратно)668
Улитин П. Путешествие без Надежды / Подгот. текста И. Ахметьева, коммент. и имен. указ. И. Ахметьева при участии М. Айзенберга, З. Зиника, А. Ожиганова и Е. Шумиловой. М.: Новое издательство, 2006. С. 49.
(обратно)669
Улитин П. Ворота Кавказа / Публикация Л. Улитиной, М. Айзенберга, подгот. текста А. Глаголева, Д. Кузьмина, коммент. Л. Улитиной, М. Нилина, Д. Кузьмина // Митин журнал. 2002. № 60. «Фамилия» выдуманного Улитиным прозвища — несомненная аллюзия на героя комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». На просветительски-рационалистические, восходящие к XVIII в. элементы эстетики Солженицына неоднократно указывали критики. (Здесь и далее я комментирую только те фрагменты текста Улитина, которые не объяснены публикаторами).
(обратно)670
Вопрос о том, были ли писатели знакомы между собой, обсуждался в краеведческом интернет-сообществе Ростова-на-Дону (-80–90.livejournal.com/360081.html), но не получил разрешения.
(обратно)671
Возможно, имелся в виду Макс Эммануилович Каганович (1891–1978) — эмигрант из России, ставший во Франции известным коллекционером произведений искусства.
(обратно)672
Улитин П. Ворота Кавказа… Мать Манефа — имена героинь романа Н. С. Лескова «Некуда», П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и Л. Чарской «Лесовичка».
(обратно)673
Цит. по изд.: Солженицын А. Август Четырнадцатого // Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. Т. 7. М.: Время, 2007. С. 38.
(обратно)674
Ср. у Лескова в «Некуда»: «— Какой глупый человек! — проговорила разбитым голосом мать Манефа, глядя на приближающийся тарантас».
(обратно)675
Темпест Р. Александр Солженицын — (анти)модернист / Пер. с англ. А. Скидана // Новое литературное обозрение. 2010. № 103. С. 263.
(обратно)676
Имеется в виду постромантическая ирония в отношении истории, развитие которой проанализировал Хейден Уайт: Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. под ред. Е. Г. Трубиной и В. В. Харитонова. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. С. 75–80, 89–93, особ. 433–436.
(обратно)677
Последняя редакция: Солженицын А. Знают истину танки // Солженицын А. Собр. соч: В 9 т. Т. 9. М.: Терра — Книжный клуб, 2005. С. 355–470. Далее при цитировании сценария страницы по этому изданию указываются в круглых скобках после цитаты или упоминаемого эпизода. На то, что сценарий написан осенью, указывает Н. Д. Солженицына в своем комментарии к этой публикации (Т. 9. С. 557), Л. Сараскина в биографической хронике называет просто конец 1959 г. (Сараскина Л. Александр Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 912 (Жизнь замечательных людей. Биография продолжается). Однако, судя по косвенным признакам, сценарий был еще раз переработан в середине 1960‐х годов (о чем не сообщают ни Солженицына, ни Сараскина): например, в финальном посвящении среди мест восстаний против коммунистической диктатуры указан Новочеркасск, волнения в котором, как известно, произошли в 1962 г.
(обратно)678
«Прическа у нее такая: спереди волос гораздо больше, чем сзади»; «Она в крупнополосатой блузке и светлых брюках»; для описания интересного молодого мужчины Эля использует слово «подтекст» и объясняет герою — слесарю-авторемонтнику, что любовь к стихам Евтушенко безнадежно вышла из моды, «сегодня большой, неимоверный шик — что со страшной силой любишь Цветаеву…» (Солженицын А. Тунеядец // Солженицын А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 479, 475, 508, 510. Здесь и далее сохранены все шрифтовые выделения в цитатах из Солженицына).
(обратно)679
«Экран переменной формы» Солженицын использует в этом сценарии всего один раз: «…суженной трубкой, как биноклем обернутым / виден желанный „москвич“ [на котором убегают главные герои]» (Солженицын А. Тунеядец. С. 530).
(обратно)680
Цит. по изд.: Солженицын А. Октябрь Шестнадцатого // Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. Т. 9. М.: Время, 2007. С. 354.
(обратно)681
Солженицын А. Знают истину танки. С. 357, 358, 361.
(обратно)682
Правда, у Эйзенштейна применена горизонтальная шторка, а у Солженицына предложена диагональная.
(обратно)683
Солженицын А. Знают истину танки. С. 470.
(обратно)684
См. об этом, например: Михайлик Е. «Гренада» Михаила Светлова: откуда у хлопца испанская грусть? // Новое литературное обозрение. 2005. № 75. С. 248–249.
(обратно)685
Солженицын А. ЗИТ. С. 384.
(обратно)686
Точнее было бы сказать, что метод Солженицына в данном случае соединяет черты метафоры и метонимии.
(обратно)687
Эту особенность поэтики солженицынской эпопеи заметили еще первые ее исследователи: Rickwood T. M. Themes and Style in Solzhenitsyn’s August 1914 // Études Slaves et Est-Européennes / Slavic and East-European Studies. 1972. Vol. 17. P. 20–38. Александр Урманов считает «экранные» фрагменты не самыми удачными по сравнению с другими главами: «…если „экраны“ и имеют художественное оправдание, то прежде всего благодаря… кульминационным точкам воплощения авторской концепции, которые одновременно являются основным ритмико-интонационным „камертоном“ всего повествования» (Урманов А. В. Поэтика прозы Александра Солженицына. М.: Прометей, 2000. С. 78). Смысл происходящих событий в «Красном колесе» представляется с помощью «экранных» фрагментов не всегда, но все‐таки чаще всего. «Обычные» повествовательные пассажи используются для такого «сжатого» выражения редко, только в виде исключения. Одним из таких исключений является мистический сон Варсонофьева, описанный в 640‐й главе романа «Март Семнадцатого».
(обратно)688
Сам автор при датировке романа указывал в качестве года начала работы 1937‐й, когда эпопея была задумана и написаны ее первые главы.
(обратно)689
Цит. по изд.: Солженицын А. Август Четырнадцатого // Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. Т. 7. М.: Время, 2007. С. 295. Об этом фрагменте см. также: Урманов А. В. Указ. соч. С. 77.
(обратно)690
Ненаписанное «действие четвертое» «Красного колеса», в котором должна была пойти речь о событиях Гражданской войны (ноябрь 1918 — январь 1920), в конспекте продолжения эпопеи («На обрыве повествования») было названо «Наши против своих» (Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. Т. 16. М., 2009. С. 693–696).
(обратно)691
Сараскина Л. Александр Солженицын. C. 150–151.
(обратно)692
Подробнее о методе, примененном в этом рассказе, см.: Михайлик Е. Один? День? Ивана Денисовича? или Реформа языка // Новое литературное обозрение. 2014. № 126. С. 289–305, особ. с. 290–295.
(обратно)693
Персонажи «„экранов“ „повернуты“ к зрителю одной — видимой — стороной, все остальные грани их характеров закрыты не только от читателя, но и (создается впечатление) для самого повествователя» (Урманов А. В. Указ. соч. С. 74). Единственный наделенный именем и биографией герой «экранного» эпизода «Марта Семнадцатого» — адмирал Непенин, расстрелянный «революционными» матросами (гл. 418).
(обратно)694
Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. Т. 8. С. 56.
(обратно)695
Там же. Т. 11. С. 23.
(обратно)696
Там же. Т. 13. С. 255.
(обратно)697
Эта возможная связь с раннесоветским кино, разумеется, не отменяет и не объясняет других контекстов образа «красного колеса» — в частности, как визуального мотива внутри самой эпопеи. В первой «экранной» сцене «Августа Четырнадцатого» (в гл. 25), предшествующей сцене с колесом, появляется изображение горящей ветряной мельницы, которая медленно вертится и разваливается в пожаре на куски (Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. Т. 7. С. 241–242). Горящая вращающаяся мельница и огненное катящееся колесо — развитие одного и того же визуального мотива.
(обратно)698
См. подробное исследование этого образа в статье: Савицкий С. Поезд революции и исторический опыт // Антропология революции: Сборник статей / Сост. и ред. И. Прохорова, А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 373–399. Другим источником образа колеса в раннесоветском кино, вероятно, стали крупные планы колес из сцены крушения поезда в авангардистском фильме Абеля Ганса «Колесо» (1923), оказавшем заметное влияние на советских режиссеров 1920‐х (благодарю за консультацию по этому вопросу Оксану Булгакову).
(обратно)699
Впоследствии и «Тунеядец» публиковался с такой же системой разметки.
(обратно)700
Фрагменты сценария были опубликованы в 1943 г. в журнале «Новый мир» (№ 10–11. С. 61–109), в 1944‐м сокращенная версия сценария вышла отдельной книгой (М.: Госкиноиздат). Впоследствии сценарий был переиздан в 6‐м томе Собрания сочинений С. Эйзенштейна.
(обратно)701
Цит. по: Эйзенштейн С. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. Киносценарии. С. 316.
(обратно)702
Впервые была опубликована в «Бюллетене киноконторы торгпредства СССР в Германии» (Берлин): 1929. № 1–2. С. 29–32. Здесь цит. по: Эйзенштейн С. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М.: Искусство, 1964. С. 299.
(обратно)703
При обсуждении рассказа в редакции «Нового мира» заместитель главного редактора Александр Дементьев счел оценку Солженицына несправедливой и пытался защитить Эйзенштейна и фильм «Броненосец „Потемкин“», однако писатель сохранил обе сцены споров (Лакшин В. «Новый мир» во времена Хрущева: дневник и попутное. 1953–1964. М., 1991. С. 66–67. Цит. по: Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. Т. 1. С. 577).
(обратно)704
Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. Т. 1. С. 90.
(обратно)705
Здесь и далее эта сцена цит. по: Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. Т. 1. С. 60–61.
(обратно)706
Солженицын А. Фильм о Рублеве // Вестник РСХД. 1984. № 141. С. 138.
(обратно)707
Отец Сергея Эйзенштейна, архитектор Михаил Эйзенштейн, был крещенным в лютеранство евреем, мать — русской. Режиссер выступал на антинацистских митингах советской еврейской общественности в 1941 (см.: Братья-евреи всего мира! Выступления представителей еврейского народа на митинге, состоявшемся в Москве 24 августа 1941 г. М., 1941) и 1942 гг.
(обратно)708
Краткая еврейская энциклопедия / Под ред. И. Орена (Наделя) и Н. Прата: В 11 т. Т. 4. Иерусалим: Еврейский университет; Общество по исследованию еврейских общин, 1988. С. 276–277 (ссылка А. Солженицына с библиогр. уточнениями).
(обратно)709
Солженицын А. Двести лет вместе: В 2 т. Т. 2. М.: Русский путь, 2002. С. 267 (Исследования по новейшей русской истории. Вып. 8).
(обратно)710
Клейман Н. И. Устное сообщение, 2009. На допущенное Солженицыным несоответствие указывали журналист Лев Мархасёв (Мархасёв Л. Порнокомикс Сергея Эйзенштейна // Нева. 2005. № 8) и Владимир Радзишевский (Радзишевский В. [Комментарии] // Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. Т. 1. М.: Время, 2007. С. 590–591), но ни тот ни другой никак не прокомментировали это расхождение произведения Солженицына с историческими фактами.
(обратно)711
См.: Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике. 1917–1953 / Под ред. А. Н. Яковлева. Сост. А. Н. Артизов, О. В. Наумов. М.: Международный фонд «Демократия», 1999. C. 598–602. Впервые постановление было опубликовано 10 сентября 1946 г. в газете «Культура и жизнь» и 14 сентября — в «Литературной газете».
(обратно)712
Рошаль Л. М. «Я уже не мальчик и на авантюру не пойду…»: Переписка С. М. Эйзенштейна с кинематографическим руководством по сценарию к фильму «Иван Грозный» // Киноведческие записки. 1998. № 38. С. 166–167; Козлов Л. К. Тень Грозного и художник // Козлов Л. К. Произведение во времени: Статьи, исследования, беседы. М.: Эйзенштейн-центр, 2005. С. 74–75.
(обратно)713
В. Радзишевский утверждает, что сцены, которые хвалит Цезарь Маркович и ругает Х-123, — пляска опричников и эпизод убийства в соборе, — вызвали особое осуждение Сталина (Радзишевский В. Указ. соч.). Фактически это неверно: сцена пляски опричников, видимо, действительно шокировала диктатора, но сцену в соборе он при переделке фильма разрешил сохранить («Можно. Убийства бывали», — сказал Сталин в ответ на вопрос Черкасова, знавшего, как Эйзенштейн дорожит этой сценой). Однако эти два эпизода фильма, по‐видимому, были наиболее обсуждавшимися среди тех, кто спорил о фильме в 1958 г.
(обратно)714
См. об этих нападках: Bordwell D. The Cinema of Eisenstein. Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press, 1993. P. 257. Полного запрета на имя Эйзенштейна наложено не было, статьи о нем и материалы из его архива изредка публиковались в специализированных изданиях (см. библиографию в: Киноведческие записки. 1998. № 36/37). Однако в 1958 г. заметно изменился сам тип публикаций. Первая после смерти Эйзенштейна брошюра о его творчестве — «На уроках режиссуры» Виктора Нижнего — в 1957‐м была издана ВГИКом крошечным тиражом «на правах рукописи», а в 1958‐м — уже как обычная книга с предисловием Сергея Юткевича.
(обратно)715
Клейман Н. И. Устное сообщение, 2009.
(обратно)716
Когда вторая серия «Ивана Грозного» была в 1963 г. показана в родном селе Василия Шукшина Сростки (на Алтае), мать писателя, крестьянка, воскликнула в разговоре с сыном и его друзьями: «Да, тяжело царем быть!» Эта реплика, как комментирует Л. К. Козлов, свидетельствует, что женщина не восприняла этот фильм ни как оправдание, ни как посрамление единоличной власти. Разговор с матерью Шукшина описан в неопубликованном очерке Н. И. Клеймана, здесь цит. по изд.: Козлов Л. К. Произведение во времени. С. 196.
(обратно)717
Кристин Томпсон показала, что сам монтаж фильма, который она назвала «кубистическим» («„cubistic“ editing»), основан на многочисленных сознательных «нестыковках» и логических пропусках (Thompson K. Eisenstein’s Ivan the Terrible: A Neoformalist Analysis. Princeton: Princeton University Press, 1981. P. 261–286, курсив источника), которые образуют в фильме автономную систему эстетического воздействия на зрителя (P. 287).
(обратно)718
О возможных подлинных причинах запрета фильма см.: Uhlenbruch B. The Annexation of History: Eisenstein and the Ivan Grozny Cult of the 1940s // The Culture of the Stalin Period / Ed. by Hans Gunther. London: Macmillan, 1990; Добренко Е. Музей революции: Советское кино… С. 104–110. О культурно-политическом значении запрета: Platt K. M. F. Terror and Greatness: Ivan and Peter as Russian Myths. Cornell University Press, 2011. P. 232–253. О средствах, которыми на протяжении фильма Эйзенштейн последовательно создает впечатление нарастающего одиночества Грозного, см. в разборе Дэвида Бордуэлла: Bordwell D. The Cinema of Eisenstein. P. 223–253.
(обратно)719
Ромм М. Вторая вершина // Ромм М. Беседы о кино. М., 1964. В сценарий предназначенной для третьей серии фильма сцены покаяния Грозного перед иконой Страшного суда в Новгороде Эйзенштейн включил в читаемый царем синодик переиначенные имена своих репрессированных учителей и друзей: Всеволод Большое Гнездо (Всеволод Мейерхольд), Сергей Третьяк (Сергей Третьяков) и др. См. об этом комментарий Наума Клеймана в передаче Радио «Свобода» 1997 г. о фильме «Иван Грозный». Стенограмма: .
(обратно)720
Зоркая Н. М. С. М. Эйзенштейн // Зоркая Н. М. Портреты. М.: Искусство, 1966. С. 126 (весь разбор «Ивана Грозного» — с. 121–129).
(обратно)721
Об этом типе произведений и об отличии от них эйзенштейновского «Ивана Грозного» см.: Bordwell D. The Cinema of Eisenstein. P. 223–228; Platt K. M. F., Brandenberger D. Terribly Romantic, Terribly Progressive, Terribly Tragic: Rehabilitating Ivan IV under I. V. Stalin // The Russian Review. 1999. Vol. 58. № 4. October. P. 635–654; Platt K. M. F. Terror and Greatness: Ivan and Peter as Russian Myths; Добренко Е. Музей революции: Советское кино и сталинский исторический нарратив. С. 67–116.
(обратно)722
Этот монолог почти дословно воспроизводит фрагмент написанного осенью 1958 г. частного письма Солженицына, в котором тот заклеймил вторую серию «Ивана Грозного» (см. публикацию соответствующего фрагмента: Сараскина Л. Александр Солженицын. С. 464).
(обратно)723
Солженицын А. Фильм о Рублеве. С. 144.
(обратно)724
Тарковский категорически не согласился с трактовкой своего фильма как «вереницы символов», настаивая в комментарии для радио «Свобода», что стремился к историческому правдоподобию (фрагмент стенограммы интервью, которое Андрей Тарковский дал сотруднику радиостанции Марио Корти 10 июля 1984 г., опубликован в Интернете (это интервью было позже воспроизведено в авторской программе Сергея Юрьенена, посвященной фильму «Андрей Рублев»): -Rublev.html). Однако пристрастное описание Солженицына очень похоже (по мысли, но не по оценке!) на интерпретацию второй серии «Ивана Грозного», данную тем же Тарковским: «Есть фильм, который предельно далек от принципов непосредственного наблюдения, — это „Иван Грозный“ Эйзенштейна. Фильм этот не только в своем целом представляет иероглиф, он сплошь состоит из иероглифов, крупных, мелких и мельчайших, в нем нет ни одной детали, которая не была бы пронизана авторским замыслом или умыслом» (цит. по изд.: Тарковский А. Запечатленное время // Андрей Тарковский: начало… и пути / Сост. М. Ростоцкая. М.: ВГИК, 1994. С. 52 (первая публикация: Искусство кино. 1967. № 4)).
(обратно)725
Цит. по изд.: Солженицын А. Нобелевская лекция. Рассказы. Крохотки. Раковый корпус. М.: ОЛМА-Пресс; Звездный мир, 2005.
(обратно)726
Эйзенштейн С. «Стачка» 1924. К вопросу о материалистическом подходе к форме // Эйзенштейн С. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М.: Искусство, 1964. С. 115.
(обратно)727
Эйзенштейн С. Метод: В 2 т. Т. 1: Grundproblem / Сост., предисл. и коммент. Н. И. Клеймана. М.: Музей кино; Эйзенштейн-Центр, 2002. С. 443. Цитируемый фрагмент написан в 1940 г.
(обратно)728
Там же. С. 167.
(обратно)729
Там же. С. 103.
(обратно)730
Ср. аналогичный вывод, сделанный на основе анализа конкретных произведений: Михайлик Е. Не отражается и не отбрасывает тени: «закрытое» общество и лагерная литература // Новое литературное обозрение. 2009. № 100 (сокращенный вариант; полная версия: ). С. 366.
(обратно)731
Козлов Л. К. Еще о кульминации второй серии фильма [ «Иван Грозный»] // Козлов Л. К. Произведение во времени. С. 91. Курсив мой.
(обратно)732
Цит. по изд.: Солженицын А. Март Семнадцатого // Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. Т. 14. М.: Время, 2008. С. 563.
(обратно)733
Подробнее см., например: Klimoff A. Inevitability vs. Will: A Theme and its Variations in Solzhenitsyn’s August 1914 // Transactions of the Association of Russian-American Scholars in the USA. 1998. Vol. 29. P. 305–312 (переработанный русский вариант: Климов А. Тема исторической предопределенности в «Августе Четырнадцатого» // «Красное Колесо» А. И. Солженицына: Художественный мир. Поэтика. Культурный контекст: Международный сб. науч. тр. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005. С. 17–24[]).
(обратно)734
Вахтель Э. Б. Назад к летописям: Солженицынское «Красное колесо» / Пер. с англ. Б. А. Ерхова // Солженицын: мыслитель, историк, художник. Западная критика 1974–2008 / Сост. Э. Э. Эриксон-мл. М.: Русский путь, 2010. С. 634–635.
(обратно)735
Делёз Ж. Кино / Пер. с фр. Б. Скуратова. М.: Ad Marginem, 2004. С. 80. О принципах эйзенштейновского монтажа см. также, например: Aumont J., Hildreth L. Montage Eisenstein I: Eisensteinian Concepts // Discourse. 1983. Vol. 5 (Spring). P. 41–99.
(обратно)736
Солженицын А. И. Интервью с Бернаром Пиво для французского телевидения. Кавендиш, 31 октября 1983 г. // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Т. 3. Статьи, письма, интервью, предисловия. Ярославль: Верхняя Волга, 1997. С. 181.
(обратно)737
Солженицын А. Телеинтервью на литературные темы с Н. А. Струве. Париж, март 1976 г. // Солженицын А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 7. М.: Терра — Книжный клуб, 2001. С. 215–216.
(обратно)738
На влияние джойсовской поэтики потока сознания на «киноглазы» обратили внимание уже первые критики, писавшие о трилогии «США», — еще задолго до ее завершения. См., например, неподписанную рецензию на первый роман трилогии, «42‐я параллель»: Bookman (New York). 1930. April. Vol. LXXI. P. 210–211. Цит. по: John Dos Passos: The Critical Heritage / Ed. by B. Maine. P. 91.
(обратно)739
Дос Пассос Дж. 1919 / Пер. В. Стенича. Изд. 2‐е. М., 1936. С. 104. Именно это издание могло попасться Солженицыну в тюрьме: после 1936 г. роман Дос Пассоса многие годы не переиздавался.
(обратно)740
Александр Урманов интерпретирует это прямо противоположным образом, полагая, что в «Марте Семнадцатого» слово «экран», маркирующее особый тип повествования, «используется только в двух первых „экранных“ главках (гл. 2 и 13. — И.К.), а в остальных автор обходится без него» (Урманов А. В. Указ. соч. С. 69). Я с этим не согласен: в главах типа 10‐й и 24‐й (в оглавлении они названы «Сцены» или «Сцены петроградских улиц», хотя в самом тексте специально никак не обозначены) повествование имеет совершенно иной характер, чем в «Экранах».
(обратно)741
Солженицын А. Красное колесо: Повествованье в отмеренных сроках: В 10 т. Т. 5. М.: Военное издательство, 1994. С. 482. В последний, чуть сокращенный вариант романа, опубликованный в новом 30‐томном собрании сочинений Солженицына, этот фрагмент не вошел.
(обратно)742
Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. Т. 15. М., 2009. С. 445.
(обратно)743
Гл. 15 романа «Октябрь Шестнадцатого» содержит пример фрагментарного письма, но совершенно другого рода — это стилизованная записная книжка вымышленного писателя-казака Федора Ковенева.
(обратно)744
Вайль П., Генис А. 60‐е: мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 246–253.
(обратно)745
Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. Т. 11. С. 21. По-видимому, вся эта сцена отсылает к известной фразе А. Авторханова о том, что революцию делают не голодные люди, а сытые, которых один день не покормили (см., например, републикацию: Вопросы истории. 1992. № 11–12. С. 105).
(обратно)746
Цит. по: Солженицын А. В круге первом / Подгот. текста, сост. и послесл. М. Г. Петровой. М.: Наука, 2006. С. 610 (Литературные памятники).
(обратно)747
Попов Ю. Н. Новые находки трупов плейстоценовых животных на Северо-Востоке СССР // Природа. 1948. № 3. С. 75–76. Анализ этого текста и предисловия к «Архипелагу…» с биологической точки зрения см.: Формозов Н. Метаморфоз одной метафоры. Комментарий зоолога к прологу «Архипелага ГУЛАГ» // Новый мир. 2011. № 10.
(обратно)748
Я опираюсь на анализ пролога к «Архипелагу ГУЛАГ», предложенный Александром Эткиндом в диалоге: Липовецкий М., Эткинд А. Возвращение тритона: Советская катастрофа и постсоветский роман // Новое литературное обозрение. 2008. № 94. С. 174–206.
(обратно)749
См.: Темпест Р. Александр Солженицын — (анти) модернист. Ранее о модернистском происхождении эстетики Солженицына неоднократно упоминал Лев Лосев, который, однако, никогда не обсуждал этот вопрос специально. См., например, его статьи: Солженицынские евреи; Солженицын и Бродский как соседи // Лосев Л. Солженицын и Бродский как соседи. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. С. 324–325, 375–376.
(обратно)750
Солженицын А. И. Телеинтервью на литературные темы с Н. А. Струве. С. 199–229. О парадоксальной близости эстетики позднего Толстого к модернизму писали многие авторы, я позволю себе сослаться на сопоставление позиций Льва Толстого и Р.‐М. Рильке, произведенное в работе: Седакова О. Новая лирика Райнера Марии Рильке. Семь рассуждений (1979). Опубликовано в Интернете: .
(обратно)751
Солженицын А. И. Телеинтервью на литературные темы с Н. А. Струве. С. 218.
(обратно)752
Согласно мемуарам генерал-адъютанта А. Н. Куропаткина, император избрал эту фразу девизом своего царствования (см.: Куропаткин А. Н. Русская армия. СПб., 2003. С. 35) — впрочем, Куропаткин тут ссылался не на личные впечатления, а на пересказ бесед с Александром, переданный ему министром финансов России Н. Х. Бунге. Авторство фразы «Россия для русских» приписывают также М. Д. Скобелеву.
(обратно)753
Вот как объяснял эту часть своего метода Брехт: «Заголовки должны содержать общественно значимую суть явления и вместе с тем как‐то определять желаемый метод и стиль исполнения, подражая, в зависимости от этого, хронике, балладе, газете, бытописательному очерку» (Брехт Б. «Малый Органон» для театра // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. Кн. 2. М.: Искусство, 1965. С. 174–209, здесь цит. с. 205). Примеры надписей из «Карьеры Артуро Уи»: «Сцена VI. Когда рейхсканцлер генерал Шлейхер пригрозил президенту [Гинденбургу] разоблачением финансовых афер и злоупотреблений, Гинденбург 30 января 1933 года передал Гитлеру власть. Следствие было прекращено». «Сцена VII. Судя по некоторым источникам, Гитлера обучал декламации и сценической пластике провинциальный актер Базиль» (Пер. Е. Эткинда. Цит. по: Брехт Б. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. Т. 3. М.: Искусство, 1964).
(обратно)754
Platt K. M. F., Brandenberger D. Terribly Romantic, Terribly Progressive, Terribly Tragic: Rehabilitating Ivan IV under I. V. Stalin. P. 643.
(обратно)755
См. подготовленную Л. К. Козловым публикацию заметки С. М. Эйзенштейна 1947 г. об инвариантах трагического сюжета в его фильмах: Киноведческие записки. 1998. № 38. С. 97.
(обратно)756
Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: Святой, правитель, национальный герой / Пер. с нем. Е. Земсковой и М. Лавринович. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 311–312, 360.
(обратно)757
Эйзенштейн С. М. Мемуары: В 2 т. Т. 2. М.: Труд; Музей кино, 1997. С. 289. Обсуждение достоверности этой фразы Сталина см.: Шенк Ф. Б. Указ. соч. С. 374.
(обратно)758
См. анализ этого приема: Урманов А. В. Указ. соч. С. 67–68.
(обратно)759
Первый роман цикла был издан в 1939 г. в Голландии, второй, третий и четвертый — в 1948–1950‐м в Германии, однако первое текстологически выверенное издание появилось только в 1990‐м.
(обратно)760
Döblin A. Die Vertreibung der Gespenster. S. 466. Использован перевод Т. Баскаковой.
(обратно)761
Döblin A. Die Vertreibung der Gespenster. S. 518–520. Перевод Т. Баскаковой. Сохранены шрифтовые выделения источника.
(обратно)762
Сараскина Л. О Солженицыне, или Кому нужна русская литература // Сайт «Православие и мир». 2013. 3 августа (-solzhenicyna-sovershennoe-proizvedenie-video/).
(обратно)763
Bernhardt O. Alfred Döblin. Münich: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007. S. 51–57.
(обратно)764
См. об этом: Dollenmayer D. B. The Berlin Novels of Alfred Döblin. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1988. P. 130–133.
(обратно)765
Hofmann K. Revolution and Redemption: Alfred Döblin’s «November 1918» // The Modern Language Review. 2008. Vol. 103. No. 2 (April). P. 471–489, здесь цит. p. 487.
(обратно)766
Солженицын А. И. Телеинтервью на литературные темы с Н. А. Струве. С. 213.
(обратно)767
Лакшин В. Солженицын и колесо истории / Сост. С. Кайдаш-Лакшиной. М.: Вече; Аз, 2008 (статьи, переписка критика и писателя, дневниковые записи, дающие представление об увлечении Лакшина Солженицыным и о его разочаровании); Белинков А. Судьба и книги Александра Солженицына (1969) // Белинков А., Белинкова Н. Распря с веком: В два голоса. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 429–451.
(обратно)768
Ericson Jr. E. E. Solzhenitsyn: The Moral Vision. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1980; Pontuso J. F. Solzhenitsyn’s Political Thought. Charlottesville: University of Virginia Press, 1990; Mahoney D. Alexander Solzhenitsyn: The Ascent from Ideology. Lanham; Boulder; New York; Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2001; Pearce J. Solzhenitsyn: A Soul in Exile. Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 2001; Кротов Я. Солженицын как религиозный тип // Сайт «Грани. ру». 2008. 15 августа ().
(обратно)769
Скарлыгина Е. Солженицын и третья русская эмиграция (К вопросу об одной монографии) // Вопросы литературы. 2009. № 2. С. 381–406.
(обратно)770
В серии работ Даниила Цыганкова обсуждается не эстетический, а социальный смысл этой анахронистичности. См., например: Цыганков Д. Социологический анализ воззрений и общественной деятельности А. И. Солженицына: Автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 1995; Он же. «Властитель дум» в поле политики: опыт социоанализа // Авторская интернет-страница Д. Цыганкова (), сокращенный вариант статьи опубликован в журнале «Социологические исследования»: 1999. № 1. С. 78–87. Ср. также давнюю, сугубо эскизную статью о социальной «вненаходимости» Солженицына: Парамонов Б. Сюжет как явление стиля: Солженицын. Закат русской иллюзии о писателе — учителе жизни // Независимая газета. 1991. 25 апреля. С. 7.
(обратно)771
Михайлик Е. Булгаков, Шкловский, Уэллс и «косность земли» // Тыняновский сборник / Под ред. М. О. Чудаковой, Е. А. Тоддеса, Ю. Г. Цивьяна. Вып. 13: Двенадцатые — Тринадцатые — Четырнадцатые Тыняновские чтения: исследования, материалы. М.: Водолей, 2009. С. 242. Кажется, первым Булгакова и Солженицына сопоставил Владимир Лакшин: Лакшин В. Булгаков и Солженицын: к постановке проблемы // Лакшин В. Солженицын и колесо истории… С. 128–136.
(обратно)772
Пирс Дж. Родственные души: западные собратья Солженицына по перу / Пер. с англ. В. Уляшева // Новое литературное обозрение. 2010. № 103. С. 205–216.
(обратно)773
Основные факты были изложены в нескольких статьях З. Зиника и М. Айзенберга со слов П. Улитина (но в ряде случаев они поддаются проверке по другим источникам). Из литературы об Улитине см., например: Айзенберг М. Отстоять обедню // Московский наблюдатель. 1991. № 1. С. 61–62 (). Подробнее об Улитине см. также: Зиник З. На пути к «Артистическому» // Театр. 1993. № 6. С. 123–142; Он же. Приветствую Ваш неуспех // Улитин П. Разговор о рыбе. М.: ОГИ, 2002. С. 7–21; Он же. Кочующий четверг // Улитин П. Путешествие без Надежды. М.: Новое издательство, 2006. С. 7–44; Zinik Z. Ford Madox Ford: Mentors, Disciples and a Ring of Mail Conspirators // Ford Madox Ford. Literary Networks and Cultural Transformations / Ed. by A. Gasiorek and D. Moore (International Ford Madox Ford Studies. Vol. 7). Amsterdam; New York: Rodopi B. V., 2008. P. 217–242; Львовский С. Разговор на сквозняке // Сайт «Литературный дневник». 2002. 15 апреля (); Он же. [Рец. на кн.: Улитин П. Макаров чешет затылок. М.: ОГИ, 2003] // Критическая масса. 2004. № 4; Кукулин И. Подводный, но не вытесненный [Рец. на кн.: Улитин П. Разговор о рыбе. М.: О.Г.И., 2002] // Новое литературное обозрение. 2002. № 54. С. 285–288.
(обратно)774
Насколько мне известно, этот текст опубликован только в Интернете: /.
(обратно)775
Лубянка. Сталин и НКВД — НКГБ — ГУКР «Смерш». 1939 — март 1946 / Сост. и ред. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. М.: Международный фонд «Демократия», 2006 (-doc/58670).
(обратно)776
Якубович Григорий Матвеевич (1903–1939) родился в Ярославле. В советской тайной полиции служил с 1918 г. (!). Член ВКП(б) с 1925‐го. В 1935–1937 гг. — начальник Секретно-политического отдела, затем 4‐го отдела УГБ УНКВД по Московской области. В 1937–1938 гг. — заместитель начальника УНКВД по Московской области, входил в одну из троек НКВД — УНКВД, созданных для рассмотрения дел арестованных в ходе операции по приказу НКВД СССР № 00447 (о начале массовых репрессий) от 30 июля 1937 г. В 1938 г. был назначен помощником начальника УНКВД по Дальневосточному краю. Высшее из полученных званий — майор госбезопасности. Арестован 19 сентября 1938 г. 25 февраля 1939 г. приговорен к смертной казни. Расстрелян на следующий день. Не реабилитирован. Во многих исторических работах неточно называется начальником управления НКВД по Москве и Московской области. Эта ошибка появилась, видимо, потому, что Якубович неоднократно исполнял эти обязанности, когда «настоящий» начальник отсутствовал на работе. Так он обозначен в эссе Улитина «Хабаровский резидент» и в сообщениях об инициированных Якубовичем репрессиях, в том числе против православных и иудейских духовных лиц и религиозных активистов (Чарный С. «Еврейский фашистский центр» на Большой Бронной // Лехаим. 2002. Апрель [5762. Нисан] []; Ватлин А. Ю. Террор районного масштаба: «Массовые операции» НКВД в Кунцевском районе Московской области 1937–1938 гг. М.: РОССПЭН, 2004; Б.а. [В память] Священномученика протоиерея Павла (Косминков Павел Васильевич, †02.03.1938) // Сайт Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета (/); Б.а. Священномученик Димитрий Бояркинский // Сайт Храма Преображения Господня села Бояркино Московской епархии []).
(обратно)777
Зиник З. Кочующий четверг. С. 41. По еще одной версии, которую рассказывал Улитин Зинику, его «вычислили» по анонимной антисталинской записке, посланной лектору. Однако, судя по докладу Берии, члены ЛНП были арестованы одновременно, и история о записке — или о том, что Улитина по ней «вычислили», — возможно, апокриф.
(обратно)778
По словам Улитина, он оставался на оккупированной территории, где его едва не расстреляли немецкие солдаты, приняв за раненого красноармейца.
(обратно)779
Асаркан был сыном активиста Всеобщего еврейского рабочего союза (Бунда). Освобожден из ЛТПБ в 1954 г., поселился в Москве. В преддверии государственных праздников или визитов иностранных президентов и т. п. событий Асаркана как подозрительного для властей человека арестовывали и помещали в психиатрическую лечебницу — часто ему удавалось избежать этого унижения, отсиживаясь у знакомых, — как правило, у Айхенвальдов. В 1980 г. Асаркан эмигрировал в Италию, прожил несколько месяцев в Риме, но получить возможность постоянного проживания не смог по бюрократическим причинам, после чего переехал в США. Умер в 2004 г. в Чикаго.
(обратно)780
Зиник З. Приветствую ваш неуспех // Улитин П. Разговор о рыбе / Подгот. текста И. Ахметьева. Коммент. М. Айзенберга, И. Ахметьева, Л. Улитиной. М.: ОГИ, 2002. С. 12–13.
(обратно)781
У Тютчева: «Спешу поздравить. Мы охотно / Приветствуем ваш неуспех, / Для вас и лестный, и почетный, / И назидательный для всех». Стихотворение Тютчева было написано после того, как славянофил, этнический немец, филолог-фольклорист Гильфердинг не был избран действительным членом Российской академии наук. Тютчев, как и славянофилы, полагал, что Гильфердинга забаллотировали другие академики-немцы якобы из‐за своей нетерпимости к русскому национальному чувству, и приветствовал эту неудачу как признание патриотического значения работ Гильфердинга «от противного».
(обратно)782
О Стивенсе см., например: Heckler Ch. An Accidental Journalist: The Adventures of Edmund Stevens, 1934–1945. Columbia: University of Missouri Press, 2007. За репортажи из Москвы Стивенсу в 1950 г. была присуждена Пулитцеровская премия.
(обратно)783
З. Зиник, частное сообщение, август 2013 г.
(обратно)784
Например, см. весьма одобрительную рецензию: Litvinoff E. Astonishing the Muscovites // The Manchester Guardian. 1958. October 24.
(обратно)785
См. в «Детективной истории»: «„Пижона“ я уничтожил. Пленку сжег. Разыскивают книгу Салли „Рум ин Москау“. Нигде пока не нашли. Она‐то вообще есть у Эда».
(обратно)786
Первый раз он был арестован и получил лагерный срок в 1948‐м за антисталинские высказывания.
(обратно)787
Ян Каган — ученый-сейсмолог, друг Асаркана и Улитина. С 1972 г. живет и работает в Лос-Анджелесе (США).
(обратно)788
Цит. по публикации фрагмента письма в статье: Айзенберг М. Открытки Асаркана // Знамя. 2005. № 11 ().
(обратно)789
По воспоминаниям З. Зиника, из произведений Хемингуэя Улитин особенно высоко ценил «За рекой в тени деревьев» («Across the River and Into the Trees», 1950) и «Праздник, который всегда с тобой» («The Movable Feast», 1964).
(обратно)790
Из произведений Болдуина в СССР первой была опубликована пьеса «Блюз для мистера Чарли» (Иностранная литература. 1964. № 1), дальнейшие публикации последовали только в 1970‐е (Болдуин Дж. Если Бийл-стрит могла бы заговорить. М.: Прогресс, 1976). Улитин также очень внимательно относился к творчеству Сола Беллоу, особенно к его роману «Герцог» (1965). (Благодарю З. Зиника за консультации.) Беллоу в СССР было принято хвалить в общих обзорах современной американской литературы за «критику отчуждения личности в буржуазном обществе», однако его проза почти не переводилась (одно из немногочисленных исключений — рассказ «Рукописи Гонзаги» [Нева. 1961. № 7]); начиная с 1970‐х переводы книг Беллоу — этнического еврея — на русский язык начали выходить в Израиле.
(обратно)791
Улитин П. Разговор о рыбе. С. 131.
(обратно)792
Улитин П. Татарский бог и симфулятор / Публ. и подгот. текста И. Ахметьева. Коммент. И. Ахметьева, О. Рогова. Пер. иноязычн. фрагментов Т. Александровой, И. Ахметьева // Волга. 2012. № 5–6 (). «Куски урановой руды были похожи на халву или на рокфор» и «Дневник Понтия Пилата» — названия дальнейших разделов этого же сочинения.
(обратно)793
Айзенберг М. Знаки припоминания (1993) // Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. М.: Гендальф, 1997. С. 188–196, здесь цит. с. 188.
(обратно)794
Так, в рукопись «Ворот Кавказа» вклеен рукописный фрагмент, факсимильно воспроизведенный в публикации. На нем скопированы подписи Агаты Кристи и Алана А. Милна.
(обратно)795
О монтаже у Улитина см. также в статье: Kukulin I. Documentalist Strategies in Contemporary Russian Poetry // Russian Review. 2010. Vol. 69. No. 4. P. 585–614, здесь p. 592.
(обратно)796
Урицкий А. Чувство полета // Дружба народов. 2002. № 10. С. 215–217.
(обратно)797
Цитата из «Винни-Пуха» А. А. Милна (чья подпись скопирована в другом месте этого же текста Улитина) в переложении Бориса Заходера: «Вопрос мой прост и краток, — / Промолвил Носорог, — / Что лучше — сорок пяток / Или пяток сорок? — / Увы, никто на это / Ответа / Дать не мог!»
(обратно)798
«Четвертый закон диалектики» — то есть нечто небывалое, выходящее за рамки привычной системы представлений. Советские студенты всех специальностей обязаны были зубрить «три закона диалектики», постулированные в трудах Ф. Энгельса.
(обратно)799
Общежитие ИФЛИ на улице Усачева в Москве (указано комментаторами «Ворот Кавказа» в «Митином журнале»).
(обратно)800
Цит. по: .
(обратно)801
Пьеса Б. Брехта «Что тот солдат, что этот» («Mann ist Mann», 1926, в переводе Льва Копелева и Давида Самойлова) была поставлена Михаилом Туманишвили в Театре Ленинского комсомола в 1965 г. Постановка имела шумный успех.
(обратно)802
В одной из рукописей П. Улитина, хранящейся в частном домашнем архиве, на последней странице сделана надпись черной ручкой почерком писателя «Это не для вас, три товарища из г.б.». Сам фразеологизм «три товарища» восходит к названию не романа Э. М. Ремарка (1936), а, скорее всего, фильма Семена Тимошенко по сценарию Алексея Каплера и Татьяны Златогоровой, который вышел на экраны СССР в 1935‐м. Фильм «Три товарища» рассказывал о молодых мужчинах, подружившихся во время Гражданской войны и снова встретившихся в середине 1930‐х. Именно в этом фильме впервые прозвучала песня И. Дунаевского «Каховка» на стихи М. Светлова — с рефреном, который «подсвечивает» словоупотребление Улитина: «Мы — мирные люди, но наш бронепоезд / Стоит на запасном пути!»
(обратно)803
Цит. по публикации в Интернете: .
(обратно)804
Айзенберг М. Знаки припоминания. С. 190.
(обратно)805
Rossell M. Spanish Heteronyms and Apocryphal Authors. Some portraits and other fictions // Pessoa Plural (интернет-журнал, посвященный творчеству Ф. Пессоа). 2012. Vol. 2. P. 115–153 ().
(обратно)806
Мачадо А. Хуан де Майрена / Пер. В. Столбова // Мачадо А. Избранное. М.: Художественная литература, 1975. С. 254 (издание 1958 г. во время работы над этой книгой было для меня недоступно).
(обратно)807
Улитин собственноручно переплел первое издание пьесы Шварца, в настоящее время экземпляр этой пьесы хранится в частном домашнем архиве. Цит. по этому экземпляру: [Шварц Е. Л.] Тень. Сказка в 3 действиях Евг. Шварца. Л., 1940. С. 29–30. В произведении «Татарский бог и симфулятор» Улитин цитирует другую фразу из этой пьесы — выкрик уличного торговца: «Кому ножи для убийц?» (Там же. С. 29).
(обратно)808
Зиник З. Кочующий четверг. С. 12.
(обратно)809
Впрочем, характерно, что фрагмент «Хабаровского резидента», озаглавленный «РЕМИНГТОН УВЛЕКАЕТСЯ ФОЛКНЕРОМ. Фокусы Юл [а] Айтна», написан как своего рода мемуарное стихотворение в прозе, резко отличается по стилистике от окружающего текста — и является, судя по датировке «10.4.61», самым поздним фрагментом, включенным в эссе.
(обратно)810
Об эстетике Асаркана см.: Zinik Z. Ford Madox Ford: Mentors, Disciples and a Ring of Mail Conspirators…
(обратно)811
Некоторые из этих открыток републикованы в посвященном Асаркану мемориальном разделе на сайте stengazeta.net (), редакторы раздела — Михаил Айзенберг и Елена Шумилова.
(обратно)812
Зиник З. Электронное письмо к автору этой книги. Август 2013 г.
(обратно)813
Там же.
(обратно)814
Орлов Д. Ах, Булат, мой Булат… Великому поэту и барду было бы 80 // Родная газета. 2004. № 16 (51). 23 апреля. С. 18 (). Впрочем, эта статья в остальном содержит ряд фактических неточностей.
(обратно)815
Цит. по публикации в Интернете, подготовленной И. Ахметьевым: . «Ю. Иващенко» — журналист, заведующий отделом культуры газеты «Известия» Юрий Иващенко. Через год после написания «Детективной истории» он снискал себе печальную известность статьей «Бездельники карабкаются на Парнас» (Известия. 1960. 2 сентября) с нападками на авторов самиздатского журнала «Синтаксис» и его редактора Александра Гинзбурга, впоследствии — известного диссидента. «Юрий Иващенко… неплохой малый, ничего особенного, обычный алкоголик, ему сказали — он и написал» (Иослович И. Университет и ящик // День и ночь. 2010. № 3). Шутка Улитина была основана на том, что в «Неделе» — приложении к «Известиям», которые считались «либеральной» газетой (ее главным редактором был зять Н. С. Хрущева Алексей Аджубей, которому были позволены некоторые, по советским меркам, вольности), — Асаркан регулярно печатался.
(обратно)816
В свою очередь, Ли Яотан, по своим убеждениям в 1920‐е годы — анархист, — составил свое литературное имя из первого слога фамилии М. А. Бакунина и последнего слога произнесенной на китайский манер фамилии П. А. Кропоткина.
(обратно)817
Мандельштам О. Конец романа // Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. С. 270–274.
(обратно)818
О поэтике романа Эрля см.: Скидан А. Ставшему буквой (2000) // Скидан А. Сопротивление поэзии: Изыскания и эссе. СПб.: Борей-Арт, 2001. С. 57–64.
(обратно)819
Эрль В. В поисках за утраченным Хейфом: Хорошо ирфаерированный тапир (Документальная повесть). СПб.: Митин журнал, 1999. Цит. по интернет-публикации: = . Слово «ирфаерированный» произведено от слова «ирфаеризм», придуманного поэтом-авангардистом и издателем исторического авангарда Сергеем Сигеем. «Ирфаеризм — это использование готовой формы в целях создания новой готовой формы…» — объяснял Сигей в письме одному из членов группы «Хеленукты», поэту А. Нику (Николаю Аксельроду). Письмо опубликовано: Антология новейшей русской поэзии у голубой лагуны: В 5 т. / Сост. К. К. Кузьминский и Г. В. Ковалев. Т. 5B. Newtonville, Oriental Research Partners, 1986 (http://kkk-bluelagoon.ru/tom5b/transpoety.htm).
(обратно)820
Цит. по: Айзенберг М. Отстоять обедню (интернет-републикация: ).
(обратно)821
Улитин П. Собака трижды героя // Улитин П. Разговор о рыбе. С. 103.
(обратно)822
Улитин П. Черновик // Улитин П. Разговор о рыбе. С. 48.
(обратно)823
Единственное исключение в дошедших до нас произведениях — уже упомянутое эссе «Хабаровский резидент» (1961), в котором Улитин детально рассказывает об обстоятельствах, при которых был арестован в 1938‐м.
(обратно)824
Зиник З. Приветствую Ваш неуспех. С. 15.
(обратно)825
Цит. по: Beckett S. Molloy / Transl. from French by P. Bowles in collaboration with Author. New York: Grove Press, 1955. P. 118–119. Благодарю З. Зиника за указание на этот источник. Улитин внимательно следил за творчеством Беккета.
(обратно)826
См. об этом работы, объединенные в сборнике «Травма: Пункты» (Под. ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М.: Новое литературное обозрение, 2009): Рождественская Е. Словами и телом: травма, нарратив, биография; Давуан Ф., Годийер Ж.‐М. История по ту сторону травмы / Пер. с англ. Е. Трубиной; Карут К. Травма, время и история / Пер. с англ. Е. Трубиной. С. 108–132, 132–170, 561–581.
(обратно)827
О прозе Мандельштама как о письме травмы см.: Липовецкий М. «И пустое место для остальных»: травма и поэтика метапрозы в «Египетской марке» О. Мандельштама // Травма. Пункты. С. 749–783. Признание посттравматической природы романа «Бойня номер пять» и его персонажа в американской критике является настолько общим местом, что американские студенты-филологи выбирают соответствующие темы для курсовых работ по творчеству Воннегута. Из «взрослой» научной литературы см., например: Vees-Gulani S. Diagnosing Billy Pilgrim: A Psychiatric Approach to Kurt Vonnegut’s Slaughterhouse-Five // Critique: Studies in Contemporary Fiction. 2003. Vol. 44. No. 2. P. 175–184.
(обратно)828
Рождественская Е. Словами и телом: травма, нарратив, биография // Травма: Пункты. С. 108–132.
(обратно)829
Успенский Б. А. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000. С. 9–20.
(обратно)830
Цит. по изд.: Мандельштам О. Э. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. С. 480.
(обратно)831
О травме как о кризисе смыслонаделения см.: Трубина Е. Множественная травма // Травма: Пункты. С. 910.
(обратно)832
См. о Мандельштаме и его отношении к обществу: Гаспаров М. Л. Осип Мандельштам. Три его поэтики. На эту тему о других авторах: Михайлик Е. Не отражается и не отбрасывает тени: «закрытое» общество и лагерная литература // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 356–375.
(обратно)833
Цитата из очерка Ильи Эренбурга «Мы выстоим!»: «Что ищет Гитлер, врезаясь в тайники нашей страны? Может быть, он надеется на капитуляцию? У нас есть злые старики, у нас нет петэнов, и воры у нас есть, но нет у нас лавалей» (28 октября 1941 г.) (цит. по: Эренбург И. Г. Война. 1941–1945. М.: КРПА Олимп; Астрель; ACT, 2004. С. 123–125, здесь цит. с. 123). «Петэны и лавали» здесь — обобщенное обозначение капитулянтов и коллаборационистов. Анри Филипп Петен (1856–1951, прежняя транслитерация — Петэн) — маршал Франции, знаменитый военачальник, в преклонном возрасте ставший главой «режима Виши» — созданного при поддержке нацистских властей марионеточного правительства оккупированной Франции. Пьер Лаваль (1883–1945) — адвокат, политик-социалист, в 1942–1944 гг. — премьер-министр режима Виши. После победы войск антигитлеровской коалиции Лаваль и Петен предстали перед французским судом и были приговорены к смертной казни, но для Петена казнь была из уважения к его прошлым заслугам заменена пожизненным заключением. Лаваль был расстрелян.
(обратно)834
Кузьмин Д. Еще раз — к коллизии «Колкер vs. Гаспаров» // Сайт «Литературный дневник». 2000. 21 сентября ().
(обратно)835
Цит. по: Айзенберг М. Отстоять обедню.
(обратно)836
Цит. по: Vonnegut K. Slaughterhouse-Five, or the Children’s Crusade. A Duty-dance with Death. New York: Random House, 2009.
(обратно)837
Цит. по изд.: Воннегут К. Бойня номер пять // Воннегут К. Сирены Титана / Пер. с англ.; вступ. ст. А. Зверева. М.: Пресса, 1993. С. 274.
(обратно)838
Цит. по: Айзенберг М. Отстоять обедню. С. 61.
(обратно)839
Как поясняет Е. Шумилова, Улитин здесь намекает на книгу, приобретенную им в московском магазине «Дружба», где продавались книги «социалистических стран»: Хаммершлаг Я. Если бы Бах вел дневник / Пер. с венг. Кс. Стеблевой. Budapest: Corvina, 1963. Книга входила в научно-популярную серию по истории музыки «Если бы…», издававшуюся на русском языке будапештским издательством «Corvina» в 1960–1970‐е годы. Книги этой серии представляли собой относительно подробные биографические хроники известных композиторов. См., например: Ханкиш Я. Если бы Лист вел дневник / Пер. с венг. М. Погани. Budapest: Corvina, 1962; Шулер Д. Если бы Моцарт вел дневник / Пер. с венг. Budapest: Corvina, 1965; Эсе Л. Если бы Верди вел дневник / Пер. с венг. Л. Айзатулиной-Силард. Budapest: Corvina, 1966; Барна И. Если бы Гендель вел дневник / Пер. с венг. Л. Тогобицкого и Н. Аретинской. Budapest: Corvina, 1972; и др.
(обратно)840
Lejeune Philippe. Peut-on innover en autobiographie? // L’Autobiographie. Actes des VIes Rencontres psychanalytiques d’Aix-en-Provence, 1987 / Michel Neyraut (dir.). Paris: Les Belles Lettres, 1988. См. также книгу, где прослеживаются нарушения линейного повествования в трех автобиографических произведениях о детстве, написанных в разные периоды, с 1892 по 1976 г.: Lange K. Selbstfragmente. Autobiografien der Kindheit. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008.
(обратно)841
О трансформации автобиографизма у Шаламова и в целом в «лагерной» литературе см.: Михайлик Е. Незамеченная революция // Антропология революции / Сборник статей / Сост. и ред. И. Прохорова, А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 178–204.
(обратно)842
Köppen W. Jugend. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1976. S. 25.
(обратно)843
Перевод М. Габовича выполнен специально для этой книги. Приношу М. Габовичу свою глубокую благодарность.
(обратно)844
Об автобиографической поэтике Барта и его выходе за пределы жанра традиционной европейской автобиографии см., например: Schabacher G. Topik der Referenz. Theorie der Autobiographie, die Funktion ‘Gattung’ und Roland Barthes’ Über mich selbst. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008. «Über mich selbst» — название немецкого перевода книги «Ролан Барт о Ролане Барте».
(обратно)845
Анализ значения фрагментарности для автобиографической поэтики Кёппена см., например, в диссертации немецкого филолога М. Кюссманна «В поисках утерянного „я“: позднее творчество В. Кёппена»: Kußmann M. Auf der Suche nach dem verlorenen Ich. Wolfgang Koeppens Spätwerk. Eine Dissertation zur Erlangung… eines Dr. phil. Karlsruhe, 2000 (http://d-nb.info/1008324914/34).
(обратно)846
Подробнее см.: Дубин Б. В отсутствие опор: автобиография и письмо Жоржа Перека // Новое литературное обозрение. 2004. № 68. С. 154–170; Дмитриева Е. Е. Удовольствие от ограничения: загадочный писатель Жорж Перек // Новое литературное обозрение. 2010. № 106. С. 219–231.
(обратно)847
Среди многочисленной литературы на эту тему см., например, материалы, опубликованные в специальном выпуске журнала «Неприкосновенный запас» (2008. № 4 [60]): Кустарев А. Сорок лет спустя; Мертес М. 1968‐й как миф / Пер. с нем. Д. Эрнст; Элбаум М. «Система» под ударом / Пер. с англ. А. Захарова; Тартаковская И. Личное как политическое: вторая волна феминизма как эхо 1968‐го.
(обратно)848
Семья Дубровского спаслась от нацистской депортации потому, что их предупредил знакомый полицейский-француз.
(обратно)849
Его отец, морской офицер, был убит в сражении в Северном море в 1916 г. — через год после рождения маленького Ролана.
(обратно)850
Lejeune Ph. Le pacte autobiographique. Paris: Seuil, 1975. Из других работ по теории автобиографии см.: Автобиографическая практика в России и во Франции / Под ред. Катрин Вьолле и Елены Гречаной. М.: ИМЛИ РАН, 2006; Савкина И. Разговоры с зеркалом и зазеркальем: Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2007; Она же. Теории и практики автобиографического письма // Новое литературное обозрение. 2008. № 92. C. 284–289.
(обратно)851
Левина-Паркер М. Введение в самосочинение: аutofiction // Новое литературное обозрение. 2010. № 103. С. 12–40.
(обратно)852
На войне Берроуз не был. В 1942 г. он завербовался в армию США добровольцем, но быстро пал духом от казарменной обстановки и попросил свою мать, используя все связи, добиться, чтобы его признали негодным к воинской службе, — что мать Берроуза и сделала. За несколько лет до вступления в армию Берроуз был признан психически больным и некоторое время лечился, справки об этом лечении, по словам писателя, и помогли ему демобилизоваться.
(обратно)853
Как — тоже неизвестно. Дело происходило в Мексике, куда Берроуз и Джоан с маленьким ребенком бежали, чтобы избежать в США тюрьмы за хранение наркотиков (Берроузу уже было предъявлено обвинение). По словам самого Берроуза, его адвокат подкупил мексиканских экспертов, и результаты баллистической экспертизы были признаны некорректными из‐за процессуальных нарушений. Однако большая часть документов уголовного дела не сохранилась, и картина происшедшего до сих пор неясна.
(обратно)854
Цит. с изменениями по: Берроуз У. Джанки. Письма Яхе. Гомосек / Пер. с англ. А. Керви, Д. Борисова. М.: АСТ, 2004. С. 286–287. Жаргонизм «гомосек», примененный переводчиками для передачи английского «queer», кажется мне стилистически неточным, так как он получил распространение в русском языке, по‐видимому, в 1960‐е годы, а Берроуз закончил свой роман в 1953‐м. Возможно, слово «педераст» подошло бы лучше.
(обратно)855
Беседу, вероятно происходившую по‐французски, Гайсин пересказал в своем интервью: Art, Performance, Media: 31 Interviews / Ed. by N. Zurbrugg. Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 2004. P. 190.
(обратно)856
Gysin B. Here To Go: Planet R-101. Interviews with Terry Wilson. San Francisсo: Re/Search Publication, 1982. P. 51. Цит. по: Montfort N. Twisty Little Passages: An Approach to Interactive Fiction. Cambridge; London: The MIT Press, 2003. P. 69–70. Берроуз прямо ссылался на Тцару как на предшественника метода, изобретенного Гайсином и им самим: Burroughs W. S. The Cut-Up Method of Bryon Gysin // Gysin B., Burroughs W. S. The Third Mind. New York: Seaver Books, 1978. P. 29–33.
(обратно)857
Acquaviva F. Wolman in the Open. Публикация на сайте Музея современного искусства в Барселоне (Museu d’Art Contemporani de Barcelona): .
(обратно)858
Подробнее см.: Lydenberg R. Word Cultures: Radical Theory and Practice in William S. Burroughs’s Fiction. Urbana: University of Illinois Press, 1987. P. 44–55.
(обратно)859
Реве Г. Письмо из Эдинбурга // Реве Г. По дороге к концу / Пер. с нидерл. Светланы Захаровой под ред. Ольги Гришиной. Тверь: Kolonna Publ.; Митин журнал. 2006. С. 48.
(обратно)860
О литературном влиянии метода «cut-up» см.: Robinson E. S. Shift Linguals: Cut-up Narratives from William S. Burroughs to the Present. New York; Amsterdam: Rodopi B. V., 2011.
(обратно)861
Берроуз ссылается в этом эссе на работы ирландского летчика, авиаинженера и парапсихолога Джона У. Данна (1875–1949), который, исследуя «вещие» сны и тому подобные предвосхищения будущего, пришел к выводу, что человек существует на двух уровнях: во времени и вне его и теоретически может научиться одновременно воспринимать прошлое, настоящее и будущее, что приведет к изменению его/ее природы. Идеи Данна оказали большое влияние на интеллектуалов 1930–1960‐х годов — от Хорхе Л. Борхеса до Олдоса Хаксли. Возможно, отзвук идей Данна прослеживается и в образе инопланетян с планеты Тральфамадор из романа Воннегута «Бойня номер пять», которые одновременно видели настоящее, прошлое и будущее. Подробнее см.: Руднев В. П. Джон Уильям Данн в культуре XX века // Данн Дж. У. Эксперимент со временем / Пер. с англ. Т. В. Ивлевой. М.: Аграф, 2000.
(обратно)862
Цит. по изд.: Burroughs W. S. Nova Express. New York: Grove Press, 1992. P. 78–79. Об истории создания и поэтике романа см.: Lydenberg R. Op. cit. P. 95–118.
(обратно)863
Берроуз У. Нова Экспресс: роман / Пер. с англ. В. Когана. М.: АСТ, 2010. С. 94–95.
(обратно)864
Его позднее автобиографическое сочинение «Мое образование: книга снов» («My Education: A Book of Dreams», 1995) — собрание фрагментов, пересказывающих сны писателя, в части этих фрагментов применен «метод нарезок». См. об этом произведении: Давыдов Д. Ночное искусство (Сон и фрагментарность прозы) // Новое литературное обозрение. 2002. № 54. С. 246–250.
(обратно)865
См. о дадаистах в гл. 1.
(обратно)866
Этот рассказ Ю. Айхенвальда пересказывает М. Айзенберг в своем эссе «Отстоять обедню».
(обратно)867
Айзенберг М. Отстоять обедню. Е. Шумиловой Улитин рассказывал, что Асаркан в том же арестантском вагоне все время читал «Евгения Онегина» (Шумилова Е. Частное сообщение, июль 2014 г.).
(обратно)868
Первым подробно сравнил «метод уклеек» и «cut-up technique» Зиновий Зиник: Зиник З. Беженец из собственной эпохи. О современных попытках комментирования прозы Павла Улитина // Волга. 2012. № 7–8 ().
(обратно)869
Скидан А. Ставшему буквой. С. 63–64.
(обратно)870
Зиник З. Беженец из собственной эпохи…
(обратно)871
Благодарю Михаила Айзенберга за обсуждение этого вопроса.
(обратно)872
О сексуальных и семейных мотивах историософии Розанова см.: Барабанов Е. В. В. В. Розанов // Розанов В. В. [Соч.: В 2 т.] Т. 1. Религия и культура. М.: Правда, 1990. С. 3–16 (Приложение к журналу «Вопросы философии»).
(обратно)873
С Джойсом Улитина сравнивал еще в 1960‐е годы А. Асаркан, см.: Зиник З. Беженец из собственной эпохи…
(обратно)874
В беседе с писателем и критиком Конрадом Никербокером для журнала «Paris Review» 1966 года, перепечатанной в книге «The Third Mind» (Burroughs W., Gysin B. The Third Mind. New York: Viking Books, 1977. P. 8). См. также: Robinson E. S. Shift Linguals. P. 241, 259.
(обратно)875
При рождении писатель получил имя Иехи´ел-Лейб Фáйнзильберг.
(обратно)876
Улитин П. Татарский Бог и симфулятор.
(обратно)877
Цит. по изд.: Ильф И. Записные книжки. М.: Советский писатель, 1957. С. 162. См. в тех же «Записных книжках» наброски к сюжету о том, как пижонско-нэповскую Одессу 1920‐х захватывают древние римляне.
(обратно)878
Ильф И. Записные книжки. С. 101. Город Вильно — ныне Вильнюс — входивший в состав Российской империи, в русской интеллигентской среде в предреволюционные времена считался провинциальным, хотя и был центром формирования литовского и белорусского национальных движений.
(обратно)879
Ильф И. Из записных книжек // Литературная газета. 1938. № 21; Он же. Из записной книжки // Огонек. 1939. № 1. С. 18–19; № 2. С. 15; Он же. В Средней Азии (Из записной книжки 1925 г.) // Молодая гвардия. 1939. № 4. С. 100–106; Он же. Из записной книжки (1930) // Литературная газета. 1939. № 21; Он же. Записная книжка // Красная новь. 1939. № 5–6. С. 49–72; Он же. Из записных книжек // Московский альманах. 1939. С. 282–313; Он же. Записные книжки. М.: Советский писатель, 1939; Он же. Из записных книжек // Русский юмор. М.; Л.: Искусство, 1940. С. 176–180; Он же. Неизвестные страницы. Из записных книжек // Смена. 1946. № 1–2.
(обратно)880
Красная новь. 1939. № 5–6. С. 49.
(обратно)881
О роли этого жанра в советской литературе см.: Иванов Вяч. Вс. Жанры исторического повествования и место романа с ключом в русской советской прозе 1920−1930‐х годов // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. II. Статьи о русской литературе. М., 2000. С. 596–613; Он же. Соотношение исторической прозы и документального романа с ключом: «Сумасшедший корабль» Ольги Форш и ее «Современники» // Там же. С. 614–625. Из обширной литературы о произведениях этого жанра в литературах европейского модернизма см., например: Latham S. The Art of Scandal: Modernism, Libel Law, and the Roman à Clef. Oxford; New York: Oxford University Press, 2009.
(обратно)882
Улитин вообще часто говорил о творчестве Катаева в разговорах с друзьями (Шумилова Е. Частное сообщение. Июль 2014 г.).
(обратно)883
Улитин П. Разговор о рыбе. С. 59. «…он не еврей. Он падишах» — переиначенная цитата из стихотворения М. А. Светлова «Письмо»: «Будь я не еврей, а падишах, / Мне б, наверно, делать было нечего, / Я бы упражнялся в падежах / Целый день — / С утра до вечера».
(обратно)884
Улитин П. Разговор о рыбе. С. 60.
(обратно)885
«Грибоедовская Москва» — историко-культурная книга М. О. Гершензона (первое издание — 1914).
(обратно)886
Цит. по: #5.
(обратно)887
Отдельно «Мокрый снег» наряду с несколькими другими короткими сочинениями Улитина опубликован В. Б. Вольпиной в газете: Молодежный курьер (Рязань). 1994. № 33–34 (24 сентября). С. 13; № 42–43 (27 октября). С. 13.
(обратно)888
«В тон надо попасть, — мелькнуло во мне, — сантиментальностью‐то, пожалуй, не много возьмешь» (Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Т. 4. Л.: Наука, 1989. С. 520). В «Воротах Кавказа» Улитин уже не иронизирует и пишет название романа Пановой правильно: «„Граница“ в Ростове-на-Дону — это улица или переулок, отделяющий основную часть города от армянской Нахичевани, где начинаются Линии — с Первой по 32‐ю. Где‐то здесь у Веры Пановой в „Сентиментальном романе“ велись самые интересные разговоры». Нахичевань-на-Дону — город, населенный преимущественно армянами и включенный в состав Ростова в 1928 г. Однако название Нахичевань как неофициальный топоним используется в Ростове до сих пор.
(обратно)889
[Нинов А. Комментарии к «Сентиментальному роману»] // Панова В. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. Л.: Художественная литература, 1987.
(обратно)890
Нева. 1958. № 6. С. 3–142; № 7. С. 11–150.
(обратно)891
Волчек Д. Три войны соцреалиста [Беседа с М. Золотоносовым к 100‐летию со дня рождения В. Кочетова на радио «Свобода» в программе «Культурный дневник». Расшифровка стенограммы радиопередачи] // Сайт радиостанции «Свобода». 2012. 4 февраля ().
(обратно)892
Подробнее см.: Золотоносов М. Гадюшник. Ленинградская писательская организация: Избранные стенограммы с комментариями (Из истории советского литературного быта 1940–1960‐х годов). М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 525–606.
(обратно)893
Кочетов В. А. Какие это времена? // Правда. 1954. 27 мая.
(обратно)894
Золотоносов М. Праздник на станции Кочетовка // Литературная Россия. 2012. 22 июня ().
(обратно)895
Намек на персонажей — нравственных антиподов из пьесы Шварца «Тень»: ученого Христиана-Теодора и его сбежавшую тень, превратившуюся в царедворца и временщика Теодора-Христиана.
(обратно)896
Достоевский и Гончаров терпеть не могли Тургенева, каждый по собственным причинам: Достоевский считал его проводником «тлетворных» западных влияний и растлителем молодежи (см. карикатурный образ писателя Кармазинова в романе «Бесы», прототипом для которого послужил Тургенев), Гончаров же считал Тургенева плагиатором, который якобы использовал пересказанный ему в 1855 г. замысел романа «Обрыв» для своего романа «Накануне» (1859). Гончаров и Тургенев формально примирились в 1864 г., но и после этого Гончаров написал «в стол» уличавший коллегу в плагиате памфлет «Необыкновенная история». Достоевский же отказывался примириться с Тургеневым до самой смерти. Об отношениях Тургенева и Гончарова подробнее см. вступительную статью Н. Ф. Будановой к публикации: Гончаров И. А. Необыкновенная история (Истинные события) / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. Н. Ф. Будановой // И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2000. С. 184–304 (Литературное наследство. Т. 102). Гончаров и Достоевский относились друг к другу с симпатией, хотя и расходились во взглядах на литературу.
(обратно)897
См. об этом доклад Даниила Лейдермана, представленный на конференции «Illusions killed by the Life: The Afterlives of (Soviet) Constructivism», прошедшей в Принстонском университете в мае 2013 г.: -iv/.
(обратно)898
Рецепция проблематики 1920‐х «изнутри» постмодернизма была характерна также для прозы Юрия Давыдова («Зоровавель», 1994; «Бестселлер», 2001) и Александра Гольдштейна («Спокойные поля», 2006), но их работа тоже никак не связана с монтажными принципами Улитина.
(обратно)899
Айзенберг М. Отстоять обедню; Зиник З. Кочующий четверг; Он же. О некоторых попытках комментирования…
(обратно)900
Книга Эдварда Робинсона «Shift Linguals…» целиком посвящена анализу развития этой традиции.
(обратно)901
См. об этом: Семидесятые как предмет истории русской культуры / Ред.‐сост. К. Ю. Рогов. М.: О.Г.И., 1998. 304 с. («Россия/Russia». Т. 1 [9]).
(обратно)902
Об искажениях в восприятии стихов, которые вызывались этим «давлением трагедии», см.: Померанцев И. Довольно кровавой пищи // Синтаксис. 1987. № 17. С. 142–146.
(обратно)903
В своей интерпретации работы Инфанте и Горюновой я отчасти использую идеи доклада Даниила Лейдермана «„Shimmering“ and the Dematerialization of the Avant-garde in Moscow Conceptualism».
(обратно)904
Инфанте говорит, что использовал термин «артефакт» для обозначения своих работ в 1976 г. ([Б.а.] Лекция Франциско Инфанте в [клубе] Cabinet Lounge: бесконечность и вещи «второй природы». [Репортаж] // Сайт журнала «Сноб». 2013. 24 мая []), но, возможно, это случилось раньше. По словам художника, источником термина для него послужил роман Клиффорда Саймака «Заповедник гоблинов» — Инфанте и Горюнова были художниками одноименного сборника произведений Саймака. Однако сборник, содержащий роман, вышел в 1972‐м (М.: Мир; роман опубликован в переводе И. Гуровой).
(обратно)905
[Б.а.] Лекция Франциско Инфанте в Cabinet Lounge: бесконечность и вещи «второй природы». Произведения Инфанте и Горюновой и их обсуждение см. в издании: Некрасов Вс., Боулт Дж., Мислер Н., Инфанте Ф. Франциско Инфанте, Нонна Горюнова. Каталог-альбом артефактов ретроспективной выставки в Московском музее современного искусства / Пер. иностр. текстов К. Дудакова-Кашуро. М.: Художник и книга, 2006.
(обратно)906
Подробнее см.: Hobbs R. Robert Smithson: A Retrospective View. Cornell University Press, 1983; Wallis B. Land and Environmental Art / Ed. by J. Kastner. London: Phaidon, 1998; Tiberghien G. A. Land Art. New York: Princeton Architectural Press, 1995.
(обратно)907
Жадова Л. А. «Супрематический ордер» // Проблемы истории советской архитектуры. Вып. 6. М., 1983. С. 37.
(обратно)908
Leiderman D. Op. cit.
(обратно)909
Этот финал поэмы Евтушенко ритмически, грамматически и семантически отсылает к финалу стихотворения Б. Пастернака «Гефсиманский сад» (1949).
(обратно)910
См. об этом статьи в специальном выпуске журнала «Неприкосновенный запас», посвященном советским 1970‐м («длинные 1970‐е» — один из ключевых терминов этого номера): 2007. № 2 (52); неподписанное вступление к номеру: «Семидесятые» как «наше всё» (материалы к критике идеологемы). См. также: Кобрин К. Утонувшее десятилетие, или Что произошло, когда умер Брежнев // Неприкосновенный запас. 2012. № 6 (86).
(обратно)911
См. об этом, например: Вайль П., Генис А. Миф о застое // Огонек. 1990. № 7. С. 27.
(обратно)912
Hartog Fr. Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris: Seuil, 2003. Перевод одной из глав, выполненный Аллой Беляк: Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // Неприкосновенный запас. 2008. № 3 (59). С. 19–38.
(обратно)913
Koselleck R. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1979 (Ф. Артог цитирует французский перевод).
(обратно)914
Важнейшие данные по этому вопросу получены в результате исследования советских «многосерийных телефильмов» — своеобразного советского аналога «буржуазных» телесериалов: Кобрин К. Человек брежневской эпохи на Бейкер-стрит. К постановке проблемы «позднесоветского викторианства»; Липовецкий М. Искусство алиби: «Семнадцать мгновений весны» в свете нашего опыта // Неприкосновенный запас. 2007. № 3 (53). С. 131–146, 147–160.
(обратно)915
См. об этом: Кукулин И. Поэзия помогает экономике (предисловие) // Сабуров Е. Гуманитарная экономика. Статьи. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 5–23.
(обратно)916
Это был первый случай обнаружения туши мамонта в пригодном для исследований виде. В настоящее время чучело, сделанное из «мамонтенка Димы», экспонируется в Зоологическом музее в Санкт-Петербурге. Подробнее об этой находке см.: Тихонов А. Н. Мамонт. М.; СПб.: Т-во научных изданий КМК, 2005. С. 27–29 (Разнообразие животных. Вып. 3).
(обратно)917
См., например: Барабанов Е. В. О Е. Ф. Сабурове // Восемь нехороших пьес. М.: В/О «Союзтеатр» СТД СССР, 1990. С. 116; Кривулин В. Б. Охота на Мамонта. С. 8–9. Ср. также термин «большое время», появляющийся в записных книжках М. М. Бахтина в 1967 г. и обоснованный в тексте 1970 г.: Бахтин М. М. Ответ на вопрос редакции // Новый мир. 1970. № 11. С. 237–240 (впоследствии перепечатан в сборнике работ М. М. Бахтина «Эстетика словесного творчества»).
(обратно)918
См., например: Зиник З. Соц-арт // Синтаксис. 1979. № 3. В публикации указано, что текст написан в 1974 г., но вчерне он был готов уже в 1973‐м (Зиник З. Частное письмо автору этой работы. Август 2013 г.).
(обратно)919
Сценарий «Зеркала» Тарковский написал вместе с Александром Мишариным (1939–2009), сценарий «Сказки сказок» Норштейн (р. 1941) написал в соавторстве с Людмилой Петрушевской (р. 1938).
(обратно)920
Но не был вполне запрещен: книги Фрейда не переиздавались, но и не изымались из библиотек, а в книге «История психологии» М. Г. Ярошевского содержался вполне подробный очерк истории психоанализа, хотя и сопровождаемый дежурными ругательствами.
(обратно)921
Из выступления первого заместителя председателя Госкино В. Баскакова на совместном заседании коллегии Госкино и секретариата правления Союза кинематографистов о новых работах студии «Мосфильм»: «Фильм поднимает интересные морально-этические проблемы, но разобраться в нем трудно. Это фильм для узкого круга зрителей, он элитарен. А кино по самой сути своей не может быть элитарным искусством» (цит. по сокращенной стенограмме, опубликованной в: Искусство кино. 1975. № 3. С. 10). На том же круглом столе о новых работах «Мосфильма» киновед А. В. Караганов отказался понимать, зачем Тарковскому нужны фрагменты кинохроники: «…Знаки истории идут как бы параллельно основному действию, вне соотнесенности с движением характеров, действующих лиц…» (с. 6).
(обратно)922
Характерно, что, по словам М. Туровской, после показа фильма «Зеркало», который шел очень ограниченным прокатом и считался крайне труднодоступным по языку, Тарковский получил больше писем от зрителей (и восхищенных, и возмущенных), чем после какого‐либо другого своего фильма (Туровская М. 7 ½, или Фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство, 1991. С. 114–115). Очевидно, режиссер задел одну из самых болезненных «точек» самосознания тогдашнего общества.
(обратно)923
Поэма дорабатывалась до 1965 г.
(обратно)924
Цит. по изд.: Тарковский А. А. Стихотворения / Сост. В. Амирханян. М.: Эксмо, 2006. С. 173–174 (Всемирная библиотека поэзии).
(обратно)925
Цит. по изд.: Самойлов Д. С. Счастье ремесла / Вступ. ст. А. Немзера, сост. В. И. Тумаркина. М.: Время, 2010. С. 325.
(обратно)926
Одним из примеров «поэтически-сюрреалистического» изображения травмы для советских режиссеров стал фильм Фредерико Феллини «Амаркорд» (1973) и, возможно, уже упомянутый «Царь Эдип» Пазолини, который не шел в советском прокате — но его можно было увидеть на международных кинофестивалях за границей.
(обратно)927
Роль этих монтажных «вставок» в фильме Калика подробно проанализировала Ольга Гершензон: Gershenzon O. The Phantom Holocaust: Soviet Cinema and Jewish Catastrophe. New Brunswick, NJ; London: Rutgers University Press, 2013. P. 91–101.
(обратно)928
Туровская М. Указ. соч. С. 100. См. там же (С. 108) краткое замечание о роли различных тропов и «замещений» (Туровская здесь, видимо, неявно отсылает к работам Фрейда) в фильме «Зеркало».
(обратно)929
Там же.
(обратно)930
Цит. по: Там же. С. 115.
(обратно)931
Из работ на эту тему см., например: Lawrence K. The Odyssey of Style in Ulysses. Princeton: Princeton University Press, 1981; Meighan M. «Words? Music? No, It’s What’s Behind»: the Language of «Sirens» and «Eumaeus» in James Joyce’s Ulysses // International Perspectives on James Joyce / Ed. by G. Gaiser. Troy, NY: Whitston, 1986. P. 59–67.
(обратно)932
Знал ли Улитин о стихотворении И. Аксенова «Мюнхен», мне установить не удалось.
(обратно)933
В ряде случаев этот язык оформляется с помощью известных по текстам того или иного исторического деятеля «ключевых слов» — это очень заметно по воспроизведению «внутренней речи» Ленина в соответствующих главах, где, например, постоянно употребляется излюбленная «вождем» в письменной речи приставка усиления «архи».
(обратно)934
Одним из первых эту особенность советской экономики описал не социолог, а сатирик — Михаил Жванецкий — в знаменитом монологе про «дифисит», который произносит в телефильме «Люди и манекены» (1974) безымянный персонаж Аркадия Райкина в папахе, пародирующий одновременно кавказский акцент и речевые дефекты Л. И. Брежнева. Сценарий телефильма написали М. Жванецкий, Л. Измайлов и А. Райкин.
(обратно)935
Впрочем, в СССР действовал и «общезападный» тренд — увеличение доли квалифицированного труда, прямо не связанного с производством (в СССР таким трудом занимались в первую очередь инженеры, а развитие сферы обслуживания, характерное для западных постиндустриальных стран, в стране было заторможено). Этот эффект описали еще советские социологи. См. подробнее: Гордон Л., Возьмитель А., Журавлева И. и др. Социология быта, здоровья и образа жизни населения // Социология в России / Под ред. В. А. Ядова. 2‐е изд., перераб. и дополн. М.: Изд-во Института социологии РАН, 1998.
(обратно)936
Зиник З. Соц-арт (1974) // Синтаксис. 1979. № 3. С. 87, 88.
(обратно)937
Там же. С. 93. Впоследствии слово «метаискусство» мигрировало: художник Виктор Скерсис, принадлежавший в 1970‐е годы к тому же кругу соц-артистов и концептуалистов, что и А. Комар и А. Меламид, стал обозначать этим словом собственную деятельность — и сохраняет эту «фирменную марку» до настоящего времени. См. о нем, например: Мамонов Б. Парадокс Скерсиса // Художественный журнал. 2008. № 69. Ноябрь (-skrs/).
(обратно)938
Имеется в виду спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня», поставленный Петром Фоменко по одноименному роману Вахтина в театре «Мастерская П. Фоменко» в 2000 г. Спектакль был удостоен Международной премии им. К. С. Станиславского в номинации «Лучший спектакль сезона» (2000), российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2001) в номинации «Лучший спектакль малой формы». Исполнившая в спектакле главную роль Полина Агуреева получила премию «Кумир» (2001) в номинации «Надежда года».
(обратно)939
Первая публикация — посмертная: Сумерки (С.‐Петербург, самиздатский журнал). 1991. Вып. 11. С. 65. Цит. по: Очень короткие тексты: В сторону антологии / Сост. Д. Кузьмин. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 25.
(обратно)940
Иностранная коллегия — группа, созданная в 1919 г. при подпольном Одесском губкоме ВКП(б) для большевистской пропаганды среди войск стран Антанты, расквартированных в городе. Во время Большого террора часть выживших участников этой группы была расстреляна. Это «превращение в не-лиц» — одна из возможных причин снятия пьесы Славина из репертуара театров в 1937 г.
(обратно)941
Его прототипом был большевик-подпольщик Иван Смирнов (1885–1919), известный также под кличками Николай Ласточкин и граф де Ля Фер («настоящая» фамилия Атоса из трилогии А. Дюма о мушкетерах), действительно арестованный контрразведкой «белых» и казненный в Одессе.
(обратно)942
Фильм начинается — еще до титров! — с крупного плана афишной тумбы, оклеенной рекламными анонсами спектаклей Мейерхольда.
(обратно)943
Марголит Е. Полока Геннадий Иванович // Новейшая история отечественного кино. 1986–2000. Кино и контекст: В 4 т. Ч. 1. Т. II. СПб.: Сеанс, 2001. С. 470–471.
(обратно)944
Так, персонаж Сергея Юрского, не имеющий в фильме имени, фланер с одесского бульвара, передразнивает жестикуляцию Чарли Чаплина из фильма «Огни большого города» («City Lights: A Comedy Romance in Pantomime», 1931). Кадры с падающими якорями и крупные планы корабельных пушек в начале фильма отсылают к фильму Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“».
(обратно)945
Цит. по: Цибульский М. Владимир Высоцкий в Одессе (http://v-vysotsky.com/Vysotsky_v_Odesse/text02.html).
(обратно)946
Цибульский М. Владимир Высоцкий в Одессе.
(обратно)947
Дата смерти — в год Большого террора — 1938, однако Огнёв-Розанов не был репрессирован и умер от болезни.
(обратно)948
Богомолов Н. А. К истории первой книги Александра Галича // Богомолов Н. А. От Пушкина до Кибирова. Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 359–381; Он же. Александр Галич: поэтика интертекстуальности. Лекция, прочитанная 6 июня 2013 года в рамках проекта «Публичные лекции „Полит. ру“» (/).
(обратно)949
См., например: [Сельвинский Эллий Карл, Зелинский К., Чичерин А.] Знаем (Клятвенная конструкция конструктивистов-поэтов) // Сельвинский Э. К., Зелинский К., Чичерин А. Мена всех. М., 1924. С. 7–9. Эллий Карл (Эллий — латинизированная форма имени Илья, Карл — в честь Карла Маркса) — имя, которым Сельвинский пользовался в первой половине 1920‐х годов.
(обратно)950
Эти рассказы написаны в конце 1970‐х — начале 1980‐х годов и включены в сборник Сорокина «Первый субботник», составленный в 1984‐м и впервые изданный в 1992 г. (впоследствии неоднократно переиздавался как отдельной книгой, так и в составе собраний сочинений В. Сорокина).
(обратно)951
Зорин А. Л. От Галича к Пригову // Семидесятые как предмет истории русской культуры / Сост. К. Ю. Рогов. М.: О.Г.И., 1998. С. 153–166 (Россия/Russia. 1998. № 1 [9]).
(обратно)952
Галич А. Соч.: В 2 т. / Сост. и коммент. А. Петракова, вступ. ст. В. Фрида. М.: Локид, 1999. С. 165.
(обратно)953
Там же. С. 197.
(обратно)954
Стенограмма этой речи многократно перепечатывалась. См., например: Выступление М. М. Зощенко на собрании ленинградских писателей. Июнь, 1954 г. // Рубен Б. С. Зощенко. М.: Молодая гвардия, 2006. C. 325–329 (Жизнь замечательных людей).
(обратно)955
Первый вариант текста был написан Скитальцем, но наибольшую известность в предреволюционные годы получил текст неизвестного автора — «Тихо вокруг, сопки покрыты мглой…». Его цитирует Галич. С этим текстом вальс исполняется и сегодня.
(обратно)956
Гаолян — китайская разновидность злака сорго, высокое травянистое растение с колосьями. Из гаоляновых зерен в Китае делают водку.
(обратно)957
Цит. по изд.: Ахматова А. Реквием // Ахматова А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. М.: Эллис Лак, 1998. С. 21.
(обратно)958
Подробнее см.: Кукулин И. Александр Галич и эволюция русской неподцензурной поэзии 1960–2000‐х годов (К постановке проблемы) // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании: Сб. науч. статей. М.: МГПИ, 2011. Т. 2. № 10. C. 52–61.
(обратно)959
Кабаков публиковался как книжный иллюстратор с середины 1950‐х годов, однако свой оригинальный стиль в искусстве выработал только в конце 1960‐х. Поэтому его тогдашние картины можно назвать ранними.
(обратно)960
Более подробно об отношениях раннего Кабакова с авангардом 1920‐х см. в кн.: Jackson M. J. The Experimental Group: Ilya Kabakov, Moscow Conceptualism, Soviet Avant-Gardes. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
(обратно)961
Кабаков И. Тексты. Вологда: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2010. С. 30.
(обратно)962
Раппопорт А. «Веревки» Ильи Кабакова. Опыт интерпретации концептуалистского ассамбляжа // Советское искусствознание. 1990. № 26. С. 33–61.
(обратно)963
Morris I. The World of the Shining Prince: Court Life in Ancient Japan. New York; Tokyo; London: Kodansha International, 1994 (1964). P. 197.
(обратно)964
«Мне нравится, если дом, где женщина живет в одиночестве, имеет ветхий заброшенный вид. […] Сколько в этом печали и сколько красоты!» (Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья (начало XI в. н. э.) / Пер. со старояп. Веры Марковой. М.: Эксмо, 2011. С. 192). «Расскажу о человеке, похожем на плывущее по ветру облако в пустом ночном небе. Облако появилось во тьме, мгновение, другое — а оно уже изменилось, но эти изменения можно увидеть, только если пристально вглядываться. Это должно быть то же самое облако, но кто поймет, какой оно формы…» (Юмэмакура Баку (р. 1951)) (Юмэмакура Баку. Онмёдзи (1988). Пер. с яп. Светланы Колышкиной [-1–1.html]).
(обратно)965
Другую концепцию историзма Кабакова — и в целом репрезентации истории в концептуализме — см. в книге Бориса Гройса: Groys B. History Becomes Form. Cambridge, MA: The MIT Press, 2010.
(обратно)966
Авторский термин Кабакова.
(обратно)967
Кабаков И. Проверена! (1984) // Кабаков И. Тексты. С. 54–56.
(обратно)968
Цит. по републикации на сайте Арт-центра «Винзавод» (Москва). Инсталляция была воссоздана на «Винзаводе» к выставке Ильи и Эмилии Кабаковых в 2008 г. ().
(обратно)969
Об этой инсталляции подробнее см.: Boym S. The Future of Nostalgia. New York: Basic Books, 2001. P. 309–326.
(обратно)970
Рубинштейн Л. Это всё (Один из текстов «Программы работ», начатой в 1975 году) // Ковчег (Париж). 1981. Вып. 6. С. 86.
(обратно)971
Цит. по факсимильному воспроизведению текста на сайте Пермского музея современного искусства: -rubinshtejn/programma-rabot.html.
(обратно)972
По крайней мере в неофициальных кругах, к которым принадлежал Рубинштейн.
(обратно)973
Этот прием описан в статье: Сухотин М. О соподчинении текстов в поэзии Вс. Некрасова (период с 66 по 83 год) // Сайт Александра Левина (). Важна периодизация: Сухотин показывает, что этот прием Некрасов использовал уже в 1966 г. См. также о «ветвлении» стихотворных текстов: Орлицкий Ю. Преодолевший поэзию (Заметки о поэтике Всеволода Некрасова) // Новое литературное обозрение. 2009. № 99. С. 231–242.
(обратно)974
На вечере памяти П. П. Улитина, состоявшемся 31 мая 1992 г. в Государственной библиотеке иностранной литературы им. М. Рудомино в Москве, Вс. Некрасов расспрашивал ведущих вечера об Улитине как о совершенно неизвестном ему авторе (я был свидетелем этой сцены).
(обратно)975
Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. М.: Советское радио, 1978.
(обратно)976
Цит. по изд.: Некрасов Вс. Стихи. 1956–1983. Вологда: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2012. С. 523. Константин Богатырёв (1925–1976) — поэт, переводчик немецкой литературы. Сын выдающегося филолога-фольклориста Петра Богатырёва (1893–1971), жившего за границей и вернувшегося в СССР в 1940 г. Участник Великой Отечественной войны, воевал на фронте. В 1951 г. арестован по сфабрикованному политическому обвинению, отбывал срок в ГУЛАГе. В 1956 г. освобожден. Публиковал переводы из Р. М. Рильке, Э. Кестнера и многих других немецких писателей XVIII–XX вв. Принимал участие в правозащитном движении. 26 апреля 1976 г. неизвестные убили Богатырёва ударом тяжелого предмета на пороге его квартиры в «писательском» доме в Москве. Некоторые обстоятельства (в подъезде был выключен свет, отсутствовала вахтерша, всегда сидевшая внизу, убитый не был ограблен и т. п.) привели московских диссидентов к мысли, что за преступлением стоит КГБ. Похороны Богатырёва, на которых присутствовали, по оценкам КГБ, не менее трехсот человек (в их числе А. Д. Сахаров, И. Р. Шафаревич, Л. К. Чуковская, Ю. М. Даниэль, Е. А. Евтушенко, Б. А. Слуцкий, В. П. Аксенов, В. Н. Войнович, Б. А. Ахмадулина, А. П. Межиров…), превратились в политическую манифестацию: некоторые ораторы прозрачно намекали на роль спецслужб в гибели писателя. См. справку, написанную для членов ЦК КПСС тогдашним руководителем КГБ: Андропов Ю. В. О похоронах литературного переводчика К. П. Богатырева / Публ. З. Водопьяновой, Т. Домрачевой, Г.‐Ж. Муллека // Вопросы литературы. 1996. № 1 (). Цитируемое стихотворение Вс. Некрасова было написано, скорее всего, вскоре после этих похорон.
(обратно)977
Примеры, как и методология анализа, взяты из раздела о творчестве Рубинштейна в статье: Зорин А. Муза языка и семеро поэтов // Дружба народов. 1990. № 4. С. 240–248.
(обратно)978
Пригов Д. А. Машина осмысления [Предисловие] // Монастырский А. Поэтический мир. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 5–11.
(обратно)979
См. его мемуарно-аналитическую статью 1994 года: Flynt H. The Crystallization of Concept Art in 1961 // Персональный сайт Генри Флинта ().
(обратно)980
Flynt H. Essay: A Concept Art (Provisional Version) // Anthology of Chance Operations / Ed. by J. Mac Low and La Monte Young. New York: Jackson Mac Low & La Monte Young, 1963. Без пагинации.
(обратно)981
LeWitt S. Paragraphs on Conceptual Art // Artforum. 1967 (June). Vol. 5. No. 10. P. 79–83; Idem. Sentences on Conceptual Art // O to 9 (magazine, New York). 1969. No. 5. Об истории движения см.: Buchloh B. H. D. Conceptual Art 1962–1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions // October. 1990 (Winter). Vol. 55. P. 105–143; Rewriting Conceptual Art / Ed. by M. Newman and J. Bird. London: Reaktion Books, 1999.
(обратно)982
См. об этом: Гибсон Дж. Дж. Экологический подход к зрительному восприятию / Пер. с англ. Т. М. Сокольской под ред. и с предисл. А. Д. Логвиненко. М.: Прогресс, 1988. Гибсон пишет: «Для понимания картины необходимо, во‐первых, прямое восприятие поверхности картины и, во‐вторых, непрямое осознание того, что на ней нарисовано» (Там же. С. 408). Концептуалисты указывали своими произведениями на события, которые могут происходить в ментальном пространстве при непривычном соотношении образных, фактурных и семиотических элементов изображения.
(обратно)983
Так, например, картина «Water» имеет размер 121,9 × 121,9 см., что создает довольно необычные условия для восприятия.
(обратно)984
Официально эта работа так и называется — «Bits & Pieces Put Together to Present a Semblance of a Whole».
(обратно)985
«Veramusement» — неологизм Флинта, означающий то, что делается без явной цели и необходимости, по вдохновению, или, как сказали бы хиппи, «по приколу»; «veramusement» как раз и совмещает смыслы «вдохновения» и «прикола», того, что делается бескорыстно и для удовольствия (ср. объяснение этого слова в кн.: Piekut B. Experimentalism Otherwise: The New York Avant-garde and Its Limits. Berkeley: University of California Press, 2011. P. 84).
(обратно)986
Цит. по изд.: Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1956. С. 87–88.
(обратно)987
Документация деятельности группы издана в переводе на русский язык: Борьба на два фронта. Жан-Люк Годар и группа Дзига Вертов / Сост.: К. Медведев, К. Адибеков; пер. с фр. К. Адибекова, Б. Нелепо, С. Дорошенкова, К. Медведева, kinote.ru. М.: Свободное марксистское изд-во, 2010.
(обратно)988
См. о модернистских корнях поэтики Годара: Ricciardi A. Cinema Regained: Godard Between Proust and Benjamin // Modernism/modernity. 2001. Vol. 8. No. 4 (November). P. 643–661.
(обратно)989
Кроме того, на французских левых, увлекавшихся идеями Мао и критически относившихся к США, вероятно, произвел впечатление визит президента США Р. Никсона в Китай в 1972 г., увенчавшийся фактическим примирением двух враждующих государств и заключением между ними политического союза, направленного против СССР. Последние фильмы группы «Дзига Вертов» были сняты именно в 1972‐м, после чего группа прекратила свою деятельность.
(обратно)990
Термин из философской концепции постмодерна, созданной французским философом Жаном-Франсуа Лиотаром (1924–1998): Лиотар Ж.‐Ф. Состояние постмодерна (1979) / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.; СПб.: Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 1998.
(обратно)991
Немзер А. С. Фантастическое литературоведение Давида Самойлова // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. V (Новая серия). Тарту: Тartu Ülikooli Kirjastus, 2005. С. 237–258. См. также об этом стихотворении: Назаренко М. «Возможные миры» в исторической прозе // Русская литература. Исследования: Сб. науч. трудов. Вып. Х. Киев: БиТ, 2006. С. 105–115.
(обратно)992
Цит. по: Самойлов Д. С. Счастье ремесла. С. 358–360.
(обратно)993
Месяц указан потому, что важно видеть: статья Сахарова написана еще до вторжения в Чехословакию, которое произошло через два месяца после ее завершения. Ученый уже видит кризис «больших нарративов», но еще надеется на мирный выход из ситуации идеологической эрозии с помощью «конвергенции двух систем». После вторжения в Чехословакию надежд на это уже, кажется, не осталось — ни у Сахарова, ни у большинства других диссидентов.
(обратно)994
О советском публичном языке см. подробнее: Чудакова М. Язык распавшейся цивилизации: материалы к теме // Чудакова М. Новые работы. 2003–2006. М.: Время, 2007. С. 234–350.
(обратно)995
Об этой субверсии см. подробнее: Yurchak A. Everything was forever, until it was no more: the last Soviet generation. Princeton University Press, 2005.
(обратно)996
Рижский поэт-коммунист Феликс Кац в 1990 г. озадаченно писал в одном из своих стихотворений «Все непрерывно заседают, / В политике — сплошной стриптиз…» — очевидно, имея в виду, что политическая жизнь должна иметь свои «зоны сокрытия», как и женское тело. Такой взгляд был обусловлен советским разделением практик.
(обратно)997
Впервые опубликовано: Юность. 1990. № 12.
(обратно)998
М. О. Чудакова высказывала свои наблюдения намеками, например, в книге «Поэтика Михаила Зощенко» (М., 1979). Ретроспективно подробный обзор исследований историчности и репрессивности советского языка см. в ее же статье: Чудакова М. О. Язык распавшейся цивилизации. Материалы к теме // Чудакова М. О. Новые работы. 2003–2006. М.: Время, 2007. С. 234–349.
(обратно)999
Постановочный фрагмент такой лекции, где Ковалов играет сам себя, включен в художественный фильм режиссера Евгения Иванова «Никотин» (сценарий Сергея Добротворского и Максима Пежемского, 1993).
(обратно)1000
Как носорог в сцене-эпиграфе спектакля по пьесе Э. Ионеско «Носороги», поставленной в московском Театре на Юго-Западе Валерием Беляковичем в 1982 г.
(обратно)1001
См. также об этом фильме Ковалова: Avrutin L. The Soldier, the Girl, and the Dragon: Battles of Meanings in Post-Soviet Cinematic Space // Cinema Journal. 1999 (Winter). Vol. 38. No. 2. P. 72–97.
(обратно)1002
Об этой инсталляции издана отдельная книга, содержащая статью и интервью Кошута и аналитические статьи А. фон Фюрстенберг, Г. Селанта и др.: von Fűrstenberg A., Celant G., Biggiero F. Joseph Kosuth. The Language of Equilibrium / Il linguaggio dell’equilibrio. Milan: Electa, 2009.
(обратно)1003
Первым на моей памяти эту мысль высказал критик и историк литературы Игорь Виноградов в своей речи на вечере памяти писателя Владимира Кормера в филиале Литературного музея в Трубниковском пер. в Москве 29 января 1999 г. См. в неподписанном газетном отчете о его выступлении: «…Прежний читатель „толстых журналов“, искавший в них социальной критики и социального познания, теперь переключился на российские детективы и боевики, выполняющие примерно ту же функцию…» (–2.html).
(обратно)1004
См. об этом, в частности, в моих работах: Кукулин И. Ангел истории и сопровождающие его лица: О поколенческих и «внепоколенческих» формах социальной консолидации в современной русской литературе // Пути России: Культура — общество — человек: Материалы Международного симпозиума (25–26 января 2008 года) / Под ред. А. М. Никулина. М.: Логос, 2008. С. 108–127; Он же. Техногенная матка истории (Заметки о происхождении ключевого образа в фильме А. Зельдовича и В. Сорокина «Мишень») // Новое литературное обозрение. 2013. № 119. С. 206–226; Kukulin I. Documentalist Strategies in Contemporary Russian Poetry // Russian Review. 2010. Vol. 69. No. 4. P. 585–614.
(обратно)1005
В 1990‐е годы руководство Коммунистической партии Российской Федерации последовательно выступало в защиту Сталина и против расследований преступлений возглавлявшегося им режима.
(обратно)1006
Давыдов Ю. Бестселлер: Роман. М.: Вагриус, 2001. С. 71.
(обратно)1007
Лассан Э. Исторический роман как автобиография (о романе Ю. Давыдова «Бестселлер») // Žmogus ir žodis. 2004. № III. С. 21–26.
(обратно)1008
Давыдов Ю. Бестселлер. С. 9.
(обратно)1009
Лассан Э. «Плюрализм возможен, консенсус исключен»: роман Ю. Давыдова «Бестселлер» в свете «лингвистического поворота» в гуманитарных науках // Новое литературное обозрение. 2006. № 81. С. 293–311.
(обратно)1010
Давыдов Ю. Указ. соч. С. 25–26.
(обратно)1011
Кристева Ю. Об аффекте, или «Интенсивная глубина слов» / Пер. с фр. А. Маркова // Логос. 2011. № 1. С. 192–207.
(обратно)1012
Там же. С. 199.
(обратно)1013
Там же. С. 207.
(обратно)1014
Ямпольский М. Ткач и визионер. Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 39–44. Кристева пользуется взятым у Платона понятием «хора» еще с 1970‐х годов, но придает ему другой смысл — «до-личностное и несимволизируемое пространство субъекта, стадию психического развития до вовлечения в стадию зеркала» (Ольшанский Д. Хора []).
(обратно)1015
Впервые опубликовано: Юность. 1987. № 4. В отличие от предыдущего, процитированного выше стихотворения Искренко «Советская культура понесла…» здесь инициатором монтажной реконструкции отчетливо выступает субъект письма.
(обратно)1016
Первая публикация: Юность. 1987. № 4.
(обратно)1017
Понятие диафоры было введено и обосновано лингвистом Ф. Уилрайтом: Уилрайт Ф. Метафора и реальность / Пер. с англ. А. Д. Шмелева // Теория метафоры: Сборник статей. Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой. М.: Прогресс, 1990. С. 82–109.
(обратно)1018
Подробнее см.: Кукулин И. Ангел истории и сопровождающие его лица: (О поколенческих и «вне-поколенческих» формах социальной консолидации в современной русской литературе) // Пути России: Культура — общество — человек: Материалы Международного симпозиума (25–26 января 2008 года). Вып. XV / Под ред. А. М. Никулина. М.: Логос, 2008. С. 108–127. О связи травмы и эстетики возвышенного см.: Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт / Пер. с англ. А. А. Олейникова, И. В. Борисова, Е. Э. Ляминой и др. М.: Европа, 2007; Резвых П. Опыт разрыва и событие любви (Тезисы об «историческом опыте» Ф. Анкерсмита и «вечном прошлом» Ф. Шеллинга) // Новое литературное обозрение. 2008. № 92. С. 196–210.
(обратно)1019
См., например: И.К. От редактора // Новое литературное обозрение. 2006. № 82. С. 379–380.
(обратно)1020
Скандиака Н. Черепиц/перья // Новое литературное обозрение. 2013. № 123. С. 7–9.
(обратно)1021
Парщиков А. Возвращение ауры? // Новое литературное обозрение. 2006. № 82 (цит. по: ).
(обратно)1022
Там же.
(обратно)1023
Интернет-журнал «TextOnly». 2011. № 1 ().
(обратно)1024
См. одну из первых статей с анализом этого феномена на русском материале: Горалик Л. Собранные листья // Новое литературное обозрение. 2002. № 54. С. 236–245.
(обратно)1025
Об этом романе см., например: Zholkovsky A. The Stylistic Roots of Palisandria // Canadian-American Slavic Studies. 1987. Vol. 21. No. 3–4 (Fall-Winter). P. 369–400.
(обратно)1026
Цит. по: Соколов С. Палисандрия. СПб.: Азбука, 2007. С этим произведением Соколова перекликается по своему методу псевдоисторического коллажа роман Владимира Шарова «До и во время», написанный во второй половине 1980‐х и опубликованный в журнале «Новый мир» в 1993 г. Как и роман Соколова, он одновременно пародирует и исследует идею истории как «большого нарратива».
(обратно)1027
Соколов С. Триптих. М.: ОГИ, 2011. С. 156–158 (курсив С. Соколова). Из литературы о «Триптихе» см.: Гулин И. Смертью изящных // Сайт «OpenSpace». 2011. 28 ноября (/); Шатин Ю. А. «Курс дискурса» в «Триптихе» Саши Соколова: от риторики к поэтике // Критика и семиотика. 2013. № 1 (18). С. 200–208.
(обратно)1028
Шкловский В. Евгений Онегин (Пушкин и Стерн). О ритмическом смысле этих пауз см.: Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка (1922). М.: Советский писатель, 1965. С. 49–51.
(обратно)1029
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. с фр. Н. М. Любимова. М.: Правда, 1991. С. 224–227.
(обратно)1030
Благодарю Ю. Лейдермана за предоставленную возможность посмотреть эти произведения.
(обратно)1031
Шкловский В. О теории прозы. М.: Федерация, 1929. С. 216.
(обратно)1032
Лейдерман Ю. Моабитские хроники // Зеркало (Тель-Авив). 2013. № 41 (-litart.com/?p=8727). Название публикации — исполненная «черного юмора» аллюзия на «Моабитскую тетрадь» («Moabit däftäre») — обширный цикл стихотворений на татарском языке, написанных поэтом Мусой Джалилем (1906–1944) в Моабитской тюрьме Берлина в 1943 г.
(обратно)1033
Азадовский К. М. «Меня назвал „китежанкой“…»: Анна Ахматова и Николай Клюев // Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 66–70.
(обратно)1034
Ранее аналогичный ход сделал Владимир Сорокин в романе «Голубое сало» (1999).
(обратно)1035
См. об этом, например: Derrida J. Archive Fever. A Freudian Impression / Transl. from French by Eric Prenowitz. Chicago: University of Chicago Press, 1996, а также во вступительной части книги: Копосов Н. Память строгого режима: История и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
(обратно)1036
Впервые опубликовано в Интернете в 2000 г., в «бумажной» версии поэма опубликована в издании: Время «Ч». Стихи о Чечне и не только: Антология / Сост. Н. Винник. М.: Новое литературное обозрение, 2001. Здесь цитируется по этому изданию.
(обратно)1037
Впервые опубликовано в Интернете в 2001 г., затем в кн.: Медведев К. Вторжение: Стихи и тексты. М.: АРГО-Риск, 2001.
(обратно)1038
Впервые опубликовано в Интернете в августе 2008 г. (/), затем в кн.: Львовский С. Всё ненадолго / Предисл. П. Барсковой. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
(обратно)1039
Kukulin I. Documentalist Strategies in Contemporary Russian Poetry // Russian Review. 2010. Vol. 69. No. 4. P. 585–614.
(обратно)1040
Оппоненты Сухотина резко критиковали его за то, что он не написал о «симметричных» преступлениях чеченских сепаратистов. См., например: Курицын В. Работа над цитатами, собранными в первой декаде апреля 2000 // Неприкосновенный запас. 2000. № 3 (11).
(обратно)1041
«Две тысячи слов» (полное название: «Две тысячи слов, обращенных к рабочим, крестьянам, служащим, ученым, работникам искусства и всем») («Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem») — знаменитый документ «Пражской весны», открытое письмо, автором которого был писатель Людвик Вацулик (р. 1926). В письме содержались призывы к реформе коммунистической партии и всей системы власти в Чехословакии. Оно было опубликовано 27 июня 1968 г. в пражской газете «Literární noviny» и других чехословацких газетах за подписями около 70 интеллектуалов — математиков, врачей, ученых-естествоиспытателей, режиссеров, писателей и т. п. Руководство КПЧ отказалось рассматривать письмо, а после ввода советских войск новые чехословацкие власти преследовали тех, кто подписал обращение. В поэме цитируется анонимный перевод с чешского, который распространялся в советском самиздате, а сегодня помещен в Интернете по адресу: ‐s/memo/2000‐words.html.
(обратно)1042
Строки из стихотворения О. Э. Мандельштама «Европа», написанного в сентябре 1914 г.
(обратно)1043
Звиад Ратиани (р. 1971) — современный грузинский поэт.
(обратно)1044
Строки из финальной редакции стихотворения И. Х. Ф. Гёльдерлина «Мнемозина» в переводе Л. Гинзбурга. В оригинале: «Vieles aber ist / Zu behalten. Und not die Treue» (дословно: «Многое, однако, предстоит / Сохранить. И необходима верность»): Hölderlin J. Ch.F. Gesammelte Werke. Gütersloh: C. Bertelsmann Verlag, 1954. S. 285.
(обратно)1045
Кузьмин Д. От Нью-Йорка до Цхинвала // Запись в блоге Дмитрия Кузьмина от 12 апреля 2008 года: .
(обратно)1046
Барскова П. Визит в город: актуальное искусство и блокадный архив // OpenSpace.ru. 2010. 21 сентября (/).
(обратно)1047
Завьялов С. Рождественский пост // Новое литературное обозрение. 2010. № 102 ().
(обратно)1048
См.: Гинзбург Л. Проходящие характеры. Подробнее о блокаде в восприятии Гинзбург см.: Сандомирская И. Блокада в слове. Очерки критической теории и биополитики языка. С. 173–265.
(обратно)1049
Барскова П. Указ. соч.
(обратно)1050
Там же. О «блокадных» стихотворениях самой Барсковой в этом контексте см.: Sandler S. Poetry After Leningrad: Polina Barskova and Sergei Zav’ialov Re-imagine the Blockade // Paraboly: Studies in Russian Modernist Literature and Culture: In Honor of John E. Malmstad / Ed. by N. Bogomolov, L. Fleishman, A. Lavrov, and F. Poljakov. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2011. S. 315–332 (Russian Culture in Europe, 7).
(обратно)1051
Story Circle: Digital Storytelling Around the World. О воздействии Интернета на русскую литературу в целом см.: Суховей Д. Круги компьютерного рая (Семантика графических приемов в текстах поэтического поколения 1990–2000‐х годов) // Новое литературное обозрение. 2003. № 62. С. 212–241; Schmidt H. Russische Literatur im Internet. Zwischen digitaler Folklore und politischer Propaganda. Bielefeld: transcript, 2011.
(обратно)1052
-bukv.livejournal.com/144379.html. Текст цитируется с сохранением авторских особенностей орфографии и пунктуации, в некоторых случаях характерных для интернет-языка 2000‐х — например, гротескное изменение произношения слова и его фонетическая фиксация: «абсталбенеть».
(обратно)1053
Хотя строки, насколько можно судить, тяготеют к четырехиктным, так что можно сказать, что перед нами — белый четырехиктный тактовик, но с частыми перебоями основного ритма.
(обратно)1054
Гурбатов закончил Ивановское художественное училище.
(обратно)1055
Газета называется «1000 экземпляров». Точное называние имен и обстоятельств жизни показывает, что Гурбатов в своей поэме стремится быть максимально фактически достоверным.
(обратно)1056
Более сложный вариант взаимодействия старых фотографий и современного письма, уже не связанный с Интернетом напрямую, — литературное явление, которое я предложил называть фотоэлегизмом. К нему относятся стихотворение Льва Рубинштейна «Это я», поэма Бориса Херсонского «Семейный архив» и квазимемуарные книги художника Гриши Брускина. Подробнее см.: Kukulin I. Documentalist Strategies in Contemporary Russian Poetry.
(обратно)1057
См., например: Брынцева Г., Зарипова А. Владимир Путин возродил звание «Герой труда» // Российская газета. 2013. 29 марта.
(обратно)1058
Гурбатов обыгрывает двойное значение слова «реприза»: «повторение» и «клоунский номер».
(обратно)1059
Шкловский В. Евгений Онегин (Пушкин и Стерн). С. 212–213, 218.
(обратно)1060
Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1960. С. 260.
(обратно)1061
Boym S. The Future of Nostalgia. P. 41–56.
(обратно)1062
Кривулин В. Схватка двух культур // Кривулин В. Охота на Мамонта. СПб.: Блиц, 1999; Кукулин И. Обмен ролями // Сайт Openspace.ru. 2009. 27 апреля (/).
(обратно)1063
Howes S. «Killersatellit» and Randerscheinung: Punk and the Prenzlauer Berg // German Studies Review. 2013. Vol. 36. No. 3. P. 579–601.
(обратно)1064
См. об этом работы Кэрол Верналис: Vernalis C. Experiencing Music Video: Aesthetics and Cultural Context. New York: Columbia University Press, 2004; Eadem. Unruly Media: Youtube, Music Video and New Digital Cinema. New York: Oxford University Press, 2013. См. также: Calavita M. «MTV Aesthetics» at the Movies: Interrogating a Film Criticism Fallacy // Journal of Film and Video. 2007. Vol. 59. No. 3 (Fall). P. 15–31.
(обратно)1065
Shembel D. A Sixth Part of the World. A Film-Engine and a Database. DzigaVertov’s Cine-Eye, Video Games and Contemporary Digital Media // Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media. 2012. No. 8. P. 1–18.
(обратно)1066
До 2012 года эта пара была известна как братья Ларри и Энди Вачовски — так они были обозначены и в титрах снятой ими знаменитой кинотрилогии «Матрица» (1999–2003) и других фильмов. В 2006 г. журналистам стало известно, что Ларри сделал операцию по изменению пола и стал женщиной по имени Лана. Окончательно Вачовски признали этот факт в 2012 г. В титрах фильма «Облачный атлас» перечислены режиссеры Том Тыквер и Лана и Энди Вачовски.
(обратно)1067
/, проверено по состоянию на 22 января 2014 г.
(обратно)1068
Hodge M. Cloud Atlas: Why It Could Be Freaking Awesome (Intolerance) // The Relentless Pursuit of Cold Shivers. 2012. September 7 (-atlas-why-it-could-be-freaking-awesome-intolerance/).
(обратно)1069
[Б.п.] 5 Films To Watch Before Seeing ‘Cloud Atlas’ // The Film Stage. 2012. October 23 (/5‐films-to-watch-before-seeing-cloud-atlas/).
(обратно)1070
См., например: Carter E. R. ‘Cloud Atlas’: Patience required for this trip past tapas tray // Saporta Report. 2012. October 23 (-atlas-patience-required-for-this-trip-past-tapas-tray/); Link T. Cloud Atlas (review) // «Spectrum Culture» site. 2012. October 25 (-atlas.html/); White A. Supergroupies // CityArts. New York’s Review of Culture. 2012. October 26 (/).
(обратно)1071
Mitchell D. Translating ‘Cloud Atlas’ Into the Language // Wall Street Journal. 2012. November 19 ().
(обратно)1072
Если говорить о других различиях, то бросаются в глаза принципиально разные мотивировки самоубийства Фробишера: в фильме он ссорится со своим кумиром, в романе он гибнет от несчастливой любви к его дочери. Вероятно, режиссеры сочли слишком изощренной использованную здесь Митчеллом литературную игру: возлюбленную Фробишера в романе зовут Ева Кроммелинк, ее фамилия отсылает к имени бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка (1886–1970) и его пьесе «Великодушный рогоносец» (1921).
(обратно)1073
Английское словосочетание «ghost writer», буквально означающее «писатель-призрак», используется для обозначения человека, который пишет книгу или статью за другого. Название романа Митчелла основано на игре слов: оно может быть понято и как «продиктованное или написанное духом», и как «написанное за кого‐то». Заметим, что лекция Ани Типпнер о «Черной книге» Эренбурга и Гроссмана называлась «Ghostwriting» — в том смысле, что это сочинение написано за мертвых.
(обратно)1074
В новейшей русской прозе историзирующие монтажные конструкции, аналогичные тем, что применяют Воллман и Митчелл, разработали Юрий Давыдов, Александр Гольдштейн и Михаил Шишкин.
(обратно)1075
Bell M. S. William T. Vollmann, The Art of Fiction No. 163 // Paris Review. 2000. No. 156 (Fall) (-art-of-fiction-no-163‐william-t-vollmann).
(обратно)1076
Возможно, аллюзия на английское название работы А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968) — «Reflections on Progress, Peaceful Coexistence, and Intellectual Freedom».
(обратно)1077
Mitchell D. Cloud Atlas. New York: Random House, 2004.
(обратно)1078
Митчелл Д. Облачный атлас / Пер. с англ. Г. Яропольского. М.: Эксмо, 2013. С. 774.
(обратно)1079
По тексту русского дубляжа: «В основе всего сущего лежит порядок и те, кто пытаются его нарушить, крайне плохо кончают! (Кадр беседы Юинга и его жены с тестем сменяется сценой казни Сонми-451 в XXII веке.) У этого вашего движения нет будущего! Присоединитесь к нему — и вся ваша семья подвергнется остракизму! В лучшем случае вы станете парией, объектом насмешек и издевательств! В худшем — вас линчуют или распнут! (На Сонми-451 надевают убивающий шлем, совершается казнь, на экране вновь появляется семья Юингов, стоящая в гостиной американского дома XIX века, монолог тестя продолжается.) И ради чего? Ради чего? Что бы вы ни сделали, все это станет лишь жалкой каплей в бесконечном океане!» — «Но что есть океан, если не множество капель?» — отвечает Юинг, берет за руку жену, и они уходят. (В отличие от фильма в книге казнь Сонми-451 подразумевается, но не описана.) Весь финал снят и смонтирован Ланой и Энди Вачовски.
(обратно)1080
Беньямин В. Тезисы о понятии истории. С. 83.
(обратно)1081
См. об этом: Вайнштейн О. Эстетика фрагмента в литературе немецкого романтизма // Генезис художественного произведения. Материалы сов.‐фр. коллоквиума. М., 1986. С. 191–201; Она же. Индивидуальный стиль в романтической поэтике // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания / Под ред. П. А. Гринцера. М.: Наследие, 1994. С. 415–423; Она же. Язык романтической мысли. О философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля. М.: РГГУ, 1994 (Чтения по истории и теории культуры, Вып. 6); Ямпольский М. О близком (Очерки немиметического зрения). М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 124–146; Шёнле А. Апология руины в философии истории: провиденциализм и его распад // Новое литературное обозрение. 2009. № 95. С. 24–38.
(обратно)1082
Ямпольский М. Новая конфигурация культуры и поэзия // Сайт Colta.ru. 2013. 24 апреля ().
(обратно)1083
Кузьмин Д. В поисках интерлокера // Сайт Colta.ru. 2013. 30 апреля ().
(обратно)1084
Там же.
(обратно)1085
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая. Общее введение в чистую феноменологию / Пер. с нем. А. В. Михайлова, предисл. В. А. Куренного. Изд. 2‐е. М.: Академический проект, 1999. С. 176–194.
(обратно)1086
Там же. С. 278–292.
(обратно)1087
Парщиков А. Возвращение ауры? // Новое литературное обозрение. 2006. № 82. С. 391–399.
(обратно)1088
Кукулин И. «Создать человека, пока ты не человек…» Заметки о русской поэзии 2000‐х // Новый мир. 2010. № 1. С. 155–170.
(обратно)1089
О Сен-Сенькове см., например: Ямпольский М. Дзен-барокко // Ямпольский М. «Сквозь тусклое стекло». 20 глав о неопределенности. М.: Новое литературное обозрение, 2010; Он же. Новая конфигурация культуры и поэзия.
(обратно)1090
Цит. по изд.: Сен-Сеньков А. Бог, страдающий астрофилией. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 133–134.
(обратно)1091
Андрукович П. Я живу просто // Воздух. 2013. № 1–2 (–1–2/andrukovich/).
(обратно)1092
См. также: Ямпольский М. Мемориализация Холокоста как памятник субъективности // Ямпольский М. Пространственная история. Три текста об истории. СПб.: Мастерская «Сеанс», 2013. С. 327–343.
(обратно)1093
См. об этом: Кукулин И. От Сваровского к Жуковскому и обратно: О том, как метод исследования конструирует литературный канон // Новое литературное обозрение. 2008. № 89. С. 228–239; Он же. «Создать человека, пока ты не человек…» (раздел об интерсубъективной поэзии).
(обратно)
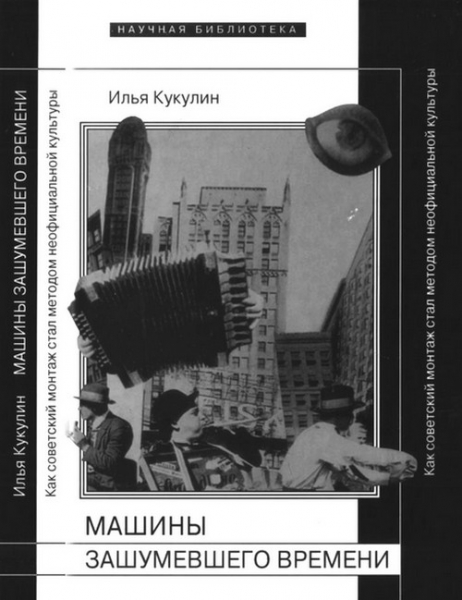

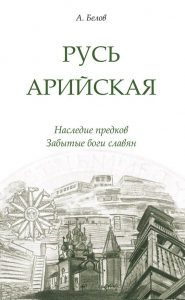
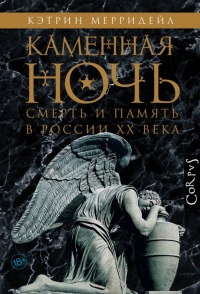
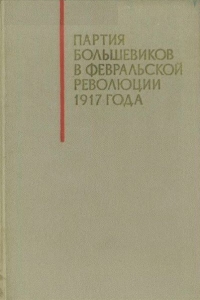
Комментарии к книге «Машины зашумевшего времени», Илья Владимирович Кукулин
Всего 0 комментариев