Алексей Сергеевич Азаров На острие меча
…Прежде всего скажу вам, что я спокоен и не испытываю никаких угрызений совести за то, что совершил и за что осужден. Напротив, я исполнен сознания, что выполнил свой долг насколько хватило сил — в равной степени по отношению к болгарскому народу и к нашим освободителям русским… В войне между Германией и Советским Союзом место каждого болгарина, каждого славянина на стороне России… Настаиваю, чтобы Митю женился и поскорее создал семью. Чтобы не довольствовался одним ребенком, как мы с его матерью. Дети — самая большая радость в жизни. Елисавета и за меня будет любить этих детей.
…Я никому ничего не должен. В своей жизни я старался больше давать, помогать, чем мог, не ожидая вознаграждения… Я хотел быть лучше, но таким уж родился. Прощайте.
Целую вас, всех родных и друзей много, много раз.
Из письма Александра Пеева, отправленного им из Центральной софийской тюрьмы в ноябре 1943 года.1
…Итак, наконец-то он ехал! Паспорт с заграничной визой открывал перед ним дорогу за кордон, и сейчас все колебания последних месяцев казались отброшенными — раз и навсегда. Синий паспорт (регистрационный номер 4049), подписанный директором полиции Антоном Кузаровым, разрешал ему, доктору Александру Костадинову Пееву, выезд в страны Европы, Азии и Африки; он был словно пропуск в будущее — этот паспорт.
Получил он его не сразу.
Вообще-то с паспортами обычно не тянули. Пятьсот левов пошлины, еще сто за гербовую марку, неделя-другая ожидания, пока бумаги медленно проползут из кабинета в кабинет по конвейеру канцелярской волокиты, и все, можно двигаться куда угодно. Но в данном случае дело стопорилось, и Пеев нервничал, терял покой.
«Неблагонадежный»… Это было как каинова печать — черный оттиск, поставленный навечно в бумагах его полицейского досье. Он догадывался, что досье было немалым, может быть на сотни листов, где донесения полицейских осведомителей перемежались официальными справками околийских управлений и участковых офицеров, а с доносами провокаторов соседствовали заключения военной контрразведки.
Дирекция полиции изучала досье, тянула и отмалчивалась почти семь месяцев.
Чиновники из политического отделения «А», возглавляемого Николой Гешевым, колебались. С одной стороны, марксистское прошлое доктора Пеева накладывало табу на просьбу о визе; с другой — высокие связи доктора. И какие! На самом «Олимпе», при дворе. Черт его знает, как тут поступить?
Пеев приходил раз в неделю, вежливо осведомлялся:
— Есть ли решение господина директора?
— Пока нет, господине… Немножко терпения, господине… В самые ближайшие дни, господине…
«Господине» было сладким, как виноградный локум. Чиновник подобострастно провожал до двери. Еще бы — связи! В досье лежали справки о близких друзьях Пеева, и даже если не вчитываться в существо справок, от одного перечня имен в душе полицейского возникал трепет. Генералы Марков, Лукаш и Никифоров, депутат Говедаров — один из лидеров правой партии «Народный сговор» и председатель комиссии по иностранным делам Народного собрания, профессор Филов, друг царя, советник МИДа Атанасов, канцлер посольства в Риме Чалчев и прочие, и прочие…
— Доброго здоровья, господине… Может быть, решится на следующей неделе. Я лично позвоню вам, господине. Да, да, лично! Прямо в контору на улицу Графа Игнатиева; сорок — тридцать шесть — вот видите, я наизусть помню ваш телефон, господине…
А что еще помнили наизусть в дирекции полиции? Точное число обысков, проведенных в квартире доктора права Александра Пеева в период с 1923-го по 1933-й? Точное число бумаг, изъятых во время обысков? Точное число друзей господина доктора, не связанных с высшими кругами, коммунистов, убитых после переворота и зверского умерщвления Александра Стамболийского?
Сам Пеев вел им свой, нигде не записанный счет. Его память была почти неестественно цепкой, в мельчайших подробностях запечатлевала все… Лучше б иначе. Лучше бы, как у других, периодически самоочищаться от того, что с движением дней становится отдаленным прошлым. Тогда бы он спал спокойно, не прислушиваясь к шагам на лестнице — такие же шаги, услужливо возрожденные памятью, напоминали о ночных налетах агентов отделения «А». «Всем быстро одеться! Не ходить, ничего не трогать!.. Где тайники, листовки, документы?.. Не двигаться, будем стрелять!»
Что-что, а стрелять агенты умели! В подземельях из коммунистов делали живые мишени; целились не в сердце, а в живот, чтобы умер не сразу, через несколько наполненных смертной мукой часов… Мужа родной сестры Харитины Николу Голубова убивали особенно изощренно. В 1922 году Голубов стал кметом Пловдива от левых партий. После переворота его схватили на улице, втолкнули в черное авто и вывезли на пустырь. Здесь агенты связали ему руки за спиной и выстрелили в живот. Долго стояли, наблюдая, как он корчится в пропитавшейся кровью пыли, скребет землю руками. Потом уехали… Никола жил еще двое суток; все это время полз — к городу, к знакомой улице, к своему дому. С глазами, безумными от боли, ночью дотащился до двери квартиры; на стон выбежала Харитина…
Что же делать с ней, с памятью?
И еще — где взять терпение, чтобы ждать?
Внешне тревоги ожидания на Пееве не отражались. Даже Елисавета — жена, самый большой и близкий в жизни друг, и та не отмечала особых перемен. Доктор Александр Костадинов Пеев во всем, что касалось дел и семейного распорядка, был немножко педантом и сейчас оставался им: поднимался в 6.30, завтракал, тщательно, до голубизны щек, брился и в 7.30, всегда спокойный, с улыбкой, входил в маленькую кофейню у Орлова моста. Две чашки кофе по-турецки, беглый разговор — немного о финансах, немного о политике, одна сигарета, не больше, — «Картел № 1», всегда один и тот же сорт, дешевый, десять левов за плоскую пачку 100 штук.
— Что происходит, господа? Как вам нравятся цены, доктор Пеев? Чашка кофе — два лева, трамвайный билет — три! Неужели правительство заинтересовано, чтобы мы ходили пешком?
Вежливая улыбка, маленький глоток.
— Я люблю ходить пешком.
— Финансы — это политика. Три лева за билет — наша экономика в миниатюре: деньги дешевеют, все без исключения дорожает. Неужели это вас не заботит, доктор?
— Я далек от политики. Честь имею…
Он знал всех посетителей кофейни. Знал и то, что среди собеседников — платные осведомители полиции. Шеф отделения «А» Никола Гешев был вездесущ: его люди выискивали компрометирующие материалы на кого угодно и вербовали без разбора, от нищего до торговца, с расчетом, что всякому злаку есть местечко в мешке. Болгары невесело шутили, что, наверное, скоро в гимназиях введут курс обучения приемам продажи ближнего своего.
Нет, он не даст поймать себя так глупо. Поэтому:
— Честь имею!
И — пешочком, не торопясь, по раз и навсегда заведенному маршруту, либо в Национальный кооперативный банк, где работал юрисконсультом, либо в контору на улицу Графа Игнатиева, 33, либо в суд.
Агенты в ежедневных донесениях отмечали его педантизм. Подчеркивали: спокоен, подозрительных знакомств не имеет, скользких разговоров не ведет. О решении, к которому он приходил все отчетливее, Пеев ни с кем не говорил, даже с Елисаветой.
Все должна была определить поездка, но дирекция тянула и тянула. Можно было, конечно, обратиться к старому приятелю генерал-майору Маркову, а еще лучше к Лукашу, начальнику Генерального штаба, ежедневно бывавшему с докладом у царя, но Пеев берег их на крайний случай, если сорвется, если окончательно откажут.
Помог человек со стороны — средней руки торговец, связанный делами с Кооперативным банком и пользовавшийся услугами Пеева как юрисконсульта. Не добившись успеха в переговорах с германскими коммерсантами, он вознамерился побывать в СССР, прощупать в Наркомвнешторге возможность задешево купить камсу и медный купорос. Заодно, думал торговец, было бы неплохо приобрести копии нескольких советских фильмов: Болгария исконно считала Россию старшим братом и все русское неизменно пользовалось в народе популярностью. Правда, правительство вело русофобскую политику, но в такие вопросы, как североморская камса на прилавках софийских магазинов или прокат фильмов на экранах второразрядных кинотеатров, обычно не вмешивалось… Пеев мог быть полезным при переговорах, и, кроме того, его познания юриста понадобились бы и потом, в случае трений с властями по поводу проката «Трактористов» или «Волги-Волги».
Соображения отделения «А» по поводу прошлого доктора Пеева коммерсанта не заботили. Он не вдумывался в них, равно как не ломал голову над способами преодоления препон. Там, где большие начальники исходят из соображений государственной политики, маленькие чиновники — подлинные вершители дел — руководствуются соображениями иными, сводящимися к сумме, прописью означенной в чеке или отсчитанной наличными. Наличными — предпочтительнее. И коммерсант, не мудрствуя лукаво, «дал». Именно тому, кому следует. Так в кармане доктора Пеева появился паспорт. С визой, с разрешением следовать в любые страны Европы, Азии и Африки.
25 октября 1939 года. Билеты на Москву в кармане. Поехали порознь: коммерсант первым классом, доктор Пеев вторым. Через Русе, где болгарский пограничник, проверив документы, равнодушно взял под козырек: все в порядке.
В Москве оба поселились в «Савое».
Торговец с самого утра носился по учреждениям, хлопотал. Пеев ждал, когда понадобится деловому своему патрону для оформления сделки.
Это было исполнением мечты — побывать в Москве, самому на все посмотреть. И он смотрел во все глаза: новые здания на улице Горького, прочные, с гранитными цоколями; Сельскохозяйственная выставка — далеко по софийским масштабам, на другом краю света, но зато какие павильоны — дворцы, а не павильоны, сказка… Он садился в троллейбус и по широкой Мещанской катил, приникнув к окну. Заговорить с соседями не решался, боялся, не поймут, все-таки болгарский язык — не русский.
Многое поражало, но больше всего не новые дома на улице Горького, не выставка, а то, что здесь жили мирно, очень мирно, даже слишком. Пеев был старым солдатом, воевал дважды, был ранен, награжден, командовал ротой и батальоном, и он размышлял над тем, как можно вкладывать миллионы и миллиарды рублей в строительство, например, в грандиозные павильоны выставки, зная, что Гитлер выдвинул и осуществил лозунг «пушки вместо мяса», а битва уже идет — фашистская Германия развязала вторую мировую войну… Разгромлена Польша, и вермахт, направляемый глобальными «идеями» фюрера, совершит новый прыжок. Куда? На запад, через Ла-Манш, или на восток?
Осеннее, очень чистое московское небо. Пеев вглядывался в него и думал, что времени для колебаний больше нет. Пора решать.
В сущности дело касалось не столько его и его личной судьбы. Оно тесно, до боли тесно было связано с Болгарией и ее завтрашним днем. Не оставалось ни малейшего сомнения, что монархо-фашистское правительство впряглось в одну упряжку с Берлином или, точнее говоря, согласилось на роль спицы в колеснице. Но если так — что ожидает Болгарию, какое будущее ей уготовано? И можно ли оставаться сторонним наблюдателем, предвидя, что твоя родина неотвратимо идет к катастрофе?
«Да, медлить дольше нельзя», — думал Пеев.
Семь месяцев ожидания вели его к решению. С кем идти? Как и куда? Все было бы проще, если бы речь шла только о нем. Формально уже не входивший в компартию, он продолжал считать себя ее членом и никогда не забывал, что партийный стаж его исчислен с 1910 года К Интернациональный долг! Формула бытия, принятая как аксиома еще тогда, когда в юнкерском социалистическом кружке он твердо установил, что посвятит свою жизнь обездоленным, пролетариату всех стран, который обязательно соединится, чтобы создать на земле новое общество — без эксплуатации и угнетения.
Странная штука — жизнь. Вот фотография, он привез ее с собой. Девять юнкеров, в наброшенных на белые гимнастерки шинелях. Идейные друзья, братья по борьбе. Социалисты. Первый во втором ряду слева — Кирилл Славов, из богатейшей семьи, единственный отпрыск и наследник. Коммунист. Помогает партии материально. Этот был и остался товарищем. А вот Иван Экономов — этот теперь фашист, полковник в отставке, в дружбе с гитлеровским послом в Софии Бекерле и рекламирует ее на каждом перекрестке… И совсем уже странное соседство — Никифор Никифоров и Марков. Оба сейчас генералы; первый — самый близкий друг и товарищ Пеева, кристальной души человек; второй — монархист, каких мало. Да, жизнь размежевывает, а то и делает врагами, ставя по разные стороны барьера. И надо решать. Бесповоротно.
Торговец, занятый своей камсой, дал Пееву свободный день.
— Развлекитесь, доктор. Знаете, и в Москве есть интересные места. Вы не ужинали в «Национале»? — Европа, люксу с!
Утром Пеев, не заглядывая в записную книжку, набрал номер телефона.
— Станко? Это Сашо! Я в Москве. Нам надо встретиться.
Станко — политэмигрант. Номер его телефона получен в Софии от надежного товарища. Но и ему, этому товарищу, Александр Пеев не сказал, зачем хочет повидать Станко.
Осторожность, самое основное сейчас — осторожность. Надо думать не только о сегодня, но и о дне завтрашнем. Решение мое, и отвечаю за него только я… Только я один!
Станко приехал в «Савой». Слушал серьезно и, как показалось Пееву, отчужденно. Сказал:
— Это продуманное решение или интеллигентский авантюризм?
— Я думаю о войне.
— Здесь считаются с такой возможностью и принимают все меры.
— Я не о том, Станко! Скажи просто: можешь помочь или нет?
Станко пожал плечами, и у Пеева мелькнула короткая, болью отозвавшаяся в сердце мысль. Выходит, зря ехал, напрасно мучился, колебался, так трудно шел к своему, к словам, сказанным в этом разговоре и знаменовавшим для него полное самоотречение.
— Да, — сказал Пеев и устало улыбнулся. — Я понимаю. Что ж, на нет и суда нет.
Станко протестующе поднял руку.
— Погоди! Это очень серьезный разговор.
Пеев молчал, думал о своем. Серьезный разговор? А разве то, с чем он приехал и что предложил, несерьезно? Разве несерьезен выбор, сделанный им? Сюда, в Москву, он приехал, чтобы в надвигающейся войне сражаться вместе с русскими за Россию и Болгарию. Только не за монархическую Болгарию, придаток к Германской империи, а за социалистическую, свободную. Именно в этом он видел свой долг.
— Ты что-то сказал, Станко?
— Я спросил, когда ты едешь?
— Завтра. Может быть, на день-два задержимся в Киеве, у моего патрона там дела.
— Уезжай спокойно.
— И это все?
— Все, Сашо… А теперь расскажи, как в Софии? Боже мой, чего бы я не дал, чтобы хоть в полглаза глянуть на Лозенец и Витошу…
Ах, Витоша, Витоша, болгарский изумруд…
Песенка была простой; Пеев подтянул мелодию: «Ах, Витоша, Витоша…» Пел и думал: значит, все-таки мое решение здесь не нужно. Патрон закупит свою камсу, и мы уедем. Господин юрисконсульт Пеев, выказав необыкновенное рвение при оформлении сделок господина коммерсанта, имеет честь отбыть восвояси…
Назавтра он уехал.
Станко, прощаясь, не сказал ничего определенного. Крепко обнял, попросил поклониться Софии. Торговец по возвращении пел дифирамбы юридическому мастерству Александра Костадинова Пеева. Он неплохо заработал и старался выглядеть благодарным, по собственной инициативе подыскивая Пееву новую клиентуру.
Нормальная, чуть педантичная жизнь. Подъем в 6.30. Кофе две чашки в день в кофейне у Орлова моста. Пешие прогулки перед работой. Изредка, когда Елисавете надоедало сидеть дома, недорогие билеты в Народный театр… И горькая, не уходящая мысль: я оказался не нужен.
Скрашивало жизнь лишь то, что газеты без особых колебаний напечатали несколько статей доктора Пеева, его объективные заметки о Советской России. Статьи прошли, и некоторые офицеры запаса, с которыми Пеев сталкивался в Военном клубе, перестали с ним раскланиваться. Клуб был местом привилегированным, членом его состоял сам Борис III, его величество, царь болгар, и членская карточка клуба означала, что владелец ее — истинный монархист, частичка элиты. Купцы, средние промышленники, лица мещанского сословия сюда не допускались. За редчайшими исключениями.
…Размеренная жизнь. Не жизнь — существование. Кофейня, суд, в три часа обед. В пять — возвращение домой. Книги, одна сигарета в день. Сон… Нет, сна почти не было… Он не умел менять решения, особенно когда считал их правильными. В будущей войне — он это точно знал! — его место должно быть там, где он, старый солдат, может принести наибольшую пользу Болгарии. Лукаш, Марков, приятели-генералы были с ним откровенны; без обиняков говорилось, что Борис III ориентируется на военно-политический союз с гитлеровской Германией. Об этом же не раз говорил Богдан Филов, профессор, ставший премьером, и тем не менее не считавший нужным порывать давнее светское знакомство с семьей Пеевых. Этот был откровеннее всех: «Борис смотрит Гитлеру в рот. Вот оно как, мой милый».
Для всех них он был свой. Свой среди своих. Считалось, что его марксистские убеждения, участие в партии — все это прошлое, ушедшее без возврата. Да и зачем вспоминать, если и Марков, и Лукаш сами поигрывали когда-то в социалистов. Особенно Лукаш — этот, помнится, был радикал, чуть ли не с бомбами на власть тьмы. Молодость, молодость…
Поседевшие члены Союза офицеров запаса, каждое 24-е число собирались в Военном клубе на бульваре Царя-Освободителя: играли в карты, светские и дворцовые новости передавались из уст в уста негромкими голосами хорошо воспитанных людей. Пеев был непременным участником бесед: слава ветерана мировой войны обеспечивала ему положение в Союзе.
Марков сказал: «Гитлер готовится к войне с Россией. Это факт. Мне известны подлинные документы».
«Война… Как же быть? Неужели я ездил в Москву зря?»
В последней декаде февраля почта принесла продолговатый конверт. Посольство Союза Советских Социалистических Республик приглашало доктора Александра К. Пеева, побывавшего в СССР и выступившего с объективными и дружественными статьями в болгарской печати, 23 февраля 1940 года посетить прием в честь Дня Красной Армии. Неужели?..
Знакомый редактор вылил на него ушат холодной воды, сказав, что подобные приглашения получили многие софийские публицисты, не клеветавшие на Страну Советов. Обычное приглашение, не более.
И все же он надеялся и потому на приеме, улучив момент, постарался оказаться рядом с военным атташе. Воспользовавшись случаем — оба одновременно потянулись к подносу с напитками — представился:
— Александр Костадинов Пеев, юрист и журналист. Простите, господин полковник, не могли бы вы уделить мне несколько минут? Дело в том, что я пишу политические обзоры для той части прессы, которая сохраняет объективность в оценке вашей страны. В этой связи мне было бы весьма интересно знать вашу точку зрения на острейшую, как вы понимаете, проблему дня: лояльна ли Германия в отношении СССР в рамках договора? Мои друзья в болгарском Генштабе относятся к этому скептически и познакомили меня с документами, позволяющими делать вывод, что Берлин использует договор как ширму.
Полковник слушал с каменным лицом. Спросил:
— Как вы находите нашу кухню? — Коротко кивнув, корректно улыбнулся. — Прошу извинить!
К нему, лавируя меж гостями, направлялся германский посол Бекерле. Полковник, все так же холодно улыбаясь, пожал ему руку, заговорил по-немецки.
С приема Пеев ушел подавленным. Судя по всему, военный атташе посчитал его провокатором. В лучшем случае — нахальным газетчиком, ищущим сенсации. «Но что же делать? Не могу же я сидеть и ждать?»
На площади перед посольством, смешавшись с авто дипломатов, пофыркивали моторами полицейские машины. Штук десять, не меньше. За посольством следили в открытую. В левой печати осторожно намекали, что РО1 и отделение «А» пытаются внедрить в его технический персонал агентуру. Газеты за это штрафовали; попахивало политическим скандалом. Ни слова об агентуре — государственный секрет! Зато секретом не было, да и быть не могло, открытое наблюдение, установленное Гешевым и РО за русскими. Каждый день жители Софии могли наблюдать, как две-три машины следовали, словно приклеенные, за авто с номером посольства СССР.
«Нет, пожалуй, атташе и не мог поступить иначе. Советские не хотят нарваться на провокацию. Они правы». Эта мысль успокоила, и к дому он подошел в почти нормальном расположении духа… Что ж, будем ждать.
Опять ждать! Сколько?
28 февраля 1940 года. Вечер. Знакомая, выверенная постоянством маршрута дорога от банка к дому — по улице Марии Луизы и дальше, не спеша, ровным шагом. Обычная прогулка, прерванная случайным прохожим.
— Доктор Пеев?
— Да, это я…
— Могу я с вами поговорить?
— Если по делам, то не здесь и не сейчас, а завтра в конторе.
— По делам. Но лучше сейчас.
— Если вы настаиваете…
Сказал и подумал: странно, говорит, как болгарин, но лицо не болгарского типа.
— Меня зовут Сергей. Просто Сергей. А еще удобнее, если вы будете называть меня Испанцем.
Он еще не понял. Спросил:
— Почему Испанцем?
— Удобнее. Впрочем, не лучше ли будет, если мы побеседуем не здесь, а у меня дома? Это недалеко, на этой же улице… Хороший дом, два входа…
Он больше ничего не добавил. Да и вряд ли стоило говорить на улице о том, что полиция не осведомлена о проживании Испанца в Софии и, наконец, что встреча отнюдь не случайна…
2
Его величество Борис III, царь болгар, любил водить паровозы. Стоя у реверса, Борис III не забывал поболтать о том о сем с машинистом и кочегаром. Два адъютанта вносили в паровозную будку корзины с булочками дворцовой выпечки, и царь собственноручно оделял бригаду едой. Об этом много говорили, и говорили по-разному. Князь Кирилл считал, что венценосец недопустимо опрощается, снисходя до лиц, стоящих на нижней ступени социальной лестницы; премьер-министр Богдан Филов полагал иное: демократические тенденции, явственно проглядывавшие в поступках царя, могли снискать ему популярность, крайне необходимую в тяжелые для двора времена.
У царя на этот счет было свое мнение. Он знал, что свитские чины за спиной посмеиваются над его странностями, судачат — каждый на свой лад, одобряя или порицая. Знал он и то, что его считают слабовольным, игрушкой в руках сильных людей. И вождение паровозов не было для него ни актом политики, ни демонстративным шагогл через пропасть, отделявшую круг избранных от круга отверженных. Он просто любил водить паровозы. Вот и все. Что же касается укоренившегося мнения о его слабоволии и неспособности самостоятельно избирать правильный курс страны, то оно его вполне устраивало, ибо порой снимало ответственность за рискованные шаги двора и правительства.
Чистокровный немец по происхождению, представитель второстепенной герцогской династии, он никогда и ни с кем не делился своими замыслами, предпочитая поддерживать впечатление, что правление его номинально, а подлинной властью располагают другие.
Маленькая Болгария, еще недавно считавшаяся задворками Европы, все более превращалась в средоточие сложных, противоречивых интересов. Надо было продумать свою игру. А за реверсом хорошо думалось. Здесь не мешали. Паровозная будка была, пожалуй, едва ли не единственным местом в Болгарии, где царь на время становился недосягаемым для агентов, приставленных к его особе РО, директором полиции Антоном Кузаровым, начальником жандармерии генерал-майором Кочо Стояновым, полномочным представителем германского абвера доктором Делиусом и английскими резидентами.
Любил Борис и прогулки в дворцовом саду по утрам. Царь вышагивал по глухим боковым дорожкам, обдумывая свои комбинации и решая, на кого опереться при их осуществлении. Болгария была единственной в мире монархией, по существу, не имевшей дворянства и аристократии, то есть именно той прослойки, которая уже в силу происхождения, естественно, служила верной опорой трону. Турки, десятилетиями угнетавшие страну, истребили тех, в ком текла «голубая кровь»… Промышленники и коммерсанты? Среди них были сильны русофильские тенденции. Случайно ли лучшие улицы в городах, больших и малых, носили имена Гурко, Скобелева, Толстого, Аксакова, других деятелей российских — политических, культурных и иных. Промышленники и коммерсанты, входящие в состав городских самоуправлений, были крестными отцами этих улиц… Нет, с представителями торгово-промышленных кругов приходилось быть настороже. Тогда что же — армия? Но и она была неоднородной. В высшем генералитете произошел раскол: лишь меньшинство стояло за военный блок с Германией, другая часть полагала, что подобный союз гибелен для Болгарии, а большинство — жиронда в мундирах — не имело определенного мнения, считая, однако, что страна не должна быть втянутой в войну ни на чьей стороне…
И еще — коммунисты. Проблема номер один. Кочо Стоянов ежедневно докладывает, что партия, ушедшая в подполье, продолжает работу и репрессивные меры не в силах ее парализовать. Пока она не скручена в бараний рог, не раздавлена, нечего и думать об участии в войне бок о бок с Германией. Стоянов утверждает, что в этом случае возможно восстание. Его данные подтверждают начальник РО подполковник Костов и Антон Кузаров, опирающиеся на бесчисленную агентуру Николы Гешева.
Итак, как же быть? Москва требует дать ясный ответ: какую позицию займет Болгария, если назреет военный конфликт? На чьей она будет стороне?.. Еще настойчивее немцы. Богдан Филов, по поручению царя ведущий переговоры с Бекерле, всякий раз докладывает, что из Берлина посол получает категорические директивы: Болгария должна присоединиться к Тройственному пакту… Или… Что за этим «или»? Оккупация? Но если так, потерпят ли немцы, став хозяевами в стране, само существование царского двора? Принадлежность к Сакс-Кобург-Готтской династии — шаткая гарантия остаться у власти, если рейхсканцлер введет в страну войска. Происхождение и симпатии много ли весят на политических весах?
…Да, призрак возможной оккупации буквально навис над Болгарией.
Доктор Александр Костадинов Пеев, думая об этом, терял покой. Последнее время, встречаясь с Испанцем, он невольно любой разговор переводил в одну и ту же плоскость — что ждет Болгарию. Испанец был хорошим слушателем, внимательным и немногословным. В хитросплетениях болгарской политики он разбирался, пожалуй, лучше Пеева, и там, где Пеев склонен был видеть по-человечески понятные колебания царя, Испанец угадывал тонкий и хорошо продуманный расчет.
— Вы преувеличиваете его податливость и напрасно считаете, что Филов хоть сколько-нибудь самостоятелен в решениях. Политика Бориса — политика лавочника, прикидывающего потери и барыш.
Вероятнее всего, он войдет в сделку с немцами — на любой основе! — при наличии генерального успеха германских войск. Это будет сделка, направленная против нас.
— Вы считаете возможным нападение на СССР?.. Знаете, я разговаривал с Филовым, он упомянул, что немецкая армия превосходно подготовлена.
— Филов с вами откровенен?
— В известной степени.
Пеев имел основания говорить так. Их связывала одна страсть — археология, премьер-министра профессора Филова и адвоката Пеева. Оба не были дилетантами в этой области, и солидные научные издания считали возможным ссылаться на их авторитет.
За Пеевым, помимо прочего, числилось выдающееся открытие — ситовская надпись, цепочка загадочных наскальных значков, обнаруженная им недалеко от Пловдива и ставшая предметом споров ученых. Надпись не поддавалась расшифровке, и ученые гадали: кем, когда и на каком неведомом языке исполнены таинственные письмена.
Думая об археологии, Пеев улыбался про себя. Трудно поверить, но увлечение пришло в самой прямой и непосредственной связи с активной деятельностью в партии. Знал бы об этом Филов! В середине двадцатых годов политическая полиция, не собрав достаточных для суда улик, в превентивном порядке дважды отправляла Пеева за колючую проволоку концлагерей. Один раз он просидел несколько месяцев в сборном лагпункте под Асеновградом, вторично угодил в горный лагерь с особым режимом.
Житель равнин, в заключении он полюбил горы. Сидя за «колючкой», мечтал о часе, когда сможет с рюкзаком за плечами побродить по ущельям и перевалам. А еще он любил историю, и две любви — к истории и горам, — объединившись, слились в одну — глубокую и постоянную страсть к археологии. Выйдя на свободу, Пеев ежегодно, если позволяли время и средства, уезжал в Белую Церковь, под Пловдивом, в Родопы и здесь, с природой наедине, чувствовал себя превосходно.
Он был хорошим партийным работником; работал там, где этого требовали интересы партии. Стал организатором отделения партии в Карлово; от Карловской околии прошел депутатом в Народное собрание. Затем редактировал партийную газету «Правду» в Пловдиве, а после фашистского переворота 9 июня 1923 года и запрета компартии стал редактором «Работника», выходившего под флагом «независимого еженедельника». Газету не раз подвергали штрафам и, наконец, закрыли. Обыски в квартире Пеева, вызовы в полицию стали чем-то привычным: если две-три недели проходили спокойно, даже Елисавета удивлялась.
После гибели Голубова с Пеевым говорил представитель ЦК. Сообщил, что есть решение: Пеев должен формально выйти из партии и прервать с ней связь.
Пеев не сразу понял почему, протестовал; и представителю ЦК пришлось терпеливо и спокойно объяснить ему, что руководство видит в нем крупного ученого — историка, археолога, юриста — и что надо думать не только о нынешнем дне, но и о будущем.
Партия берегла Пеева, как могла. Белый террор захлестывал страну, и два заключения в концлагерь можно было считать пустяком в сравнении с тем, что ожидало его, продолжай он оставаться функционером.
Пеев был огорчен решением, отстранявшим его от активной борьбы, но представитель ЦК оставался непреклонным, и Александр подчинился воле партии.
Из Пловдива Пеевы переехали в Софию. На улице Графа Игнатиева, в доме, где в кабинетах-клетушках вели прием адвокаты, среди белых эмалированных табличек появилась новая: «Д-р права Александр К. Пеев». Он сравнительно быстро завоевал популярность, неплохо зарабатывал, возобновились старые связи по гимназии, по юнкерскому. Близким другом стал начальник военно-судебного отдела армии генерал Никифор Никифоров, юнкерская кличка — Форе.
В четырехкомнатной квартире на бульваре Евлогия Георгиева, 33, созданный стараниями Елисаветы, стабилизировался семейный уют. Кожаные кресла, добротные занавеси на окнах, поглощающие шум, темного дерева удобная мебель. Обычное житье-бытье представителя среднего класса.
Здесь, в маленьком кабинете, с собой наедине, вынашибал Пеев решение. Трудно и не сразу. Итогом его были — долгое ожидание и встреча с Испанцем.
Испанец стал его учителем. В маленькой квартирке с двумя входами на улице Марии-Луизы, в кабинете на бульваре Евлогия Георгиева, встречаясь по вечерам, Пеев проходил особый курс новых для себя наук. Шифровка и дешифровка. Способы устройства и использования «почтовых ящиков», через которые сведения будут идти по назначению. Приемы конспирации. Приемы ухода от слежки. Приемы, облегчающие контакт с нужными людьми. Хитроумные уловки при распознавании дезинформации, сфабрикованной контрразведкой.
Это были азы, схема. Остальное придется изобретать, додумывать, набираясь опыта в процессе работы. «Скоро вам придется остаться одному», — однажды сказал Испанец. «А вы?» — «Я уеду».
В разговорах с Пеевым он был откровенен, отвечал на любой вопрос, если он не затрагивал биографии самого Испанца или людей, с которыми был связан. Здесь Испанец умолкал, словно набирал в рот воды. «Это не интересно», — говорил он, и Пеев так никогда и не узнал, что его учитель исколесил половину Европы, был в тылах у Франко, работал против немцев во Франции и раз десять чудом избегал смерти. «Право же, Сашо, это совсем не интересно. Лучше давайте продумаем еще раз, на кого вы можете опереться? Филов годится только как «источник» и ни о чем, разумеется, не должен догадываться. Марков и Лукаш тоже кажутся мне сомнительными кандидатурами. Так кто же?»
— Я предлагаю Форе. Он мой друг.
— Никифоров? Я помню, что он был председателем чрезвычайного суда по делу коммунистических групп. Правда, давно.
— Он сильно изменился с тех пор. И к тому же он настоящий патриот и ненавидит фашизм.
— А коммунистов? Их он тоже ненавидит?
— Знаете, Испанец, можете мне не верить, но с Форе произошли радикальные перемены. Как-то он обмолвился, что коммунисты — единственные, кто понимают нужды народа и интересы Болгарии в целом.
— Смелое утверждение для генерала! Но вы уверены, что это не фраза?
— Он был социалистом… в молодости. И потом он, как бы это сказать, очень считается со мной, что ли… Нет, не точно. Мы друзья. Так будет правильнее.
— Серьезный аргумент. Вот что, рискните поговорить с ним в открытую. Без обиняков. И учтите, Сашо, нам не нужны «вербанты», люди, работающие за деньги. Это не чистоплюйство, а здравый реализм. В деле, которым мы заняты, необходимы союзники, единомышленники, близкие нам по духу и пониманию задач.
К разговору о Никифорове они больше не возвращались. Очевидно, Испанец считал, что Пеев сам должен принять решение.
«Что я знаю о Форе?», — думал Пеев. «Много и мало. Вместе учились. Откровенны, как братья… В этой давней истории с моей женитьбой Форе был на моей стороне. Все отвернулись, а он остался другом».
Курсантом училища юнкеров Пеев стал не по своей воле. В семье отца —13 детей. Жили бедно, и единственной возможностью получить образование для Сашо было право отца, ветерана турецкой войны, на стипендию для своих мальчиков в военных училищах… Стипендия — вексель, подлежащий отработке. После окончания юнкерского, стипендиаты не имели возможности выбирать полк, долгий срок служили по назначению в провинциальных подразделениях. Подъем — плац — «взвод, напр-рр-ра-во!» — шагистика — отбой. Серая шинель, серая жизнь. Даже жениться нельзя. Чтобы вступить в брак, требовалось свидетельство о доходах в 5 тысяч левов. А у подпоручика армейского в кармане — таракан на аркане, две звездочки на плечах и голодный свет в очах. Так шутили, выпив сливовицы, армейцы — парии пехотные, обреченные на безбрачие. Пеев подделал свидетельство, и Форе был его соучастником. Подпоручику Александру К. Пееву это стоило погонов, отторжения из среды. Коллеги раззнакомились с ним; Форе стал еще ближе.
…Пеев зашел к Никифорову в апартаменты военно-судебного отдела (ВСО), разместившегося в желтом шестиэтажном здании на углу улицы Аксакова. В доме помимо ВСО располагались торговые представительства, конторы коммерсантов. Он был забит людьми, как улей. Пройдя по коридорам, Пеев прикинул, что если Форе согласится, то встречаться удобнее всего будет именно здесь: уйма посетителей и неясно, кто к кому идет. Вот только согласится ли?
Никифоров был занят, пришлось ждать. Адъютант положил на столик перед Пеевым газеты: «Днес», «Слово», «Зора». Очередная статья премьера Филова и его портрет. Лицо благообразное, только улыбка как наклеенная. Улыбка фарисея.
— Генерал просит вас, — сказал адъютант, и Пеев вошел в кабинет, просторный, как зал для танцев.
— Здравствуй, Форе! Я не слишком некстати?
— Ты же знаешь, что я всегда рад тебе! — сказал Никифоров. — Чертов кабинет! Просто балдею в нем. Дела, бумаги, писанина. У меня есть полчаса свободных, не хочешь ли погулять?
Дом был в сотне метров от царского дворца и Борисова сада.
Сели на скамейку; Пеев поднял с земли прутик, постучал по колену.
— Знаешь, Форе, что я вспомнил? Свою женитьбу.
— Да, забавно вышло. И от службы избавился и жену получил. Как там Елисавета?
— Эль? С ней все в порядке… Но и ты был хорош!
Никифоров засмеялся: пример Пеева оказался заразительным. Вскоре и сам Форе проделал такой же трюк со свидетельством и тоже вылетел из армии. В 1910-м. Он и раньше был на грани увольнения: под предводительством Пеева и с группой надежных ребят-социалистов в день освящения Народного театра освистал монарха Фердинанда Саксен-Кобургского. От кары спас дядя, видный генштабист. А еще раньше, на первом курсе юнкерского, сколько суток карцера отсидел за участие в пеевском марксистском кружке!.. Да, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Так говорили латиняне и были правы.
Карьера. Несмотря ни на что, он, Форе, в конечном итоге сделал блестящую карьеру.
Казалось бы, все превосходно: оклад, положение, вес. Но почему неспокойно на душе? Почему рука всякий раз останавливается, не спеша подписать обвинение тем, кто ведет антиправительственную работу в армии? И кто, скажите на милость, заставляет его, надев парадный мундир, идти во дворец, хлопотать за людей, коих он по присяге должен карать, а не миловать? Лукаш подкусывает, зовет розовым. Он бы, пожалуй, и рад подставить ножку, да мешают давние приятельские отношения и родственная связь Форе с Любомиром Лулчевым, первым советником Бориса III.
— Трудно мне, Сашо. Ты и не знаешь, как трудно!
— Что трудно, Форе?
— Недавно получил материалы на офицерский кружок. Совсем мальчишки. Антиправительственная пропаганда среди солдат.
— Что им будет?
— А что может быть? Ты же сам юрист.
— Смертная казнь. Царь конфирмует приговор?
— Я говорил с ним… пока безрезультатно. Немцы давят на правительство. Делиус наглеет, ведет себя как сатрап. Представляешь, Костов из разведки конфиденциально уведомил меня, что люди Делиуса вмонтировали в моем кабинете аппаратуру, подслушивают разговоры. Считается, что я ярый русофил и вдобавок с сомнительным прошлым.
— Форе…
— Что? Что «Форе»?
— У меня серьезный разговор. Послушай, Форе… Я хочу предложить тебе помогать мне. Нам…
…Два с половиной часа говорили они — двое на дорожках Борисова сада. О чем думал Никифоров, слушая Пеева, что вспоминал? Юность, листовки, написанные ими совместно в юнкерском? Молодых офицеров, патриотов Болгарии, обреченных на смерть за слова правды? Рабочих, одетых в шинели, не желающих воевать ни за царя, ни за Гитлера и подыхать во имя чужих прибылей?.. Что вспомнил он, генерал армии его величества Бориса III, председатель высшей военно-судебной инстанции, слушая Александра Пеева и сказав в заключение одно-единственное, словно свинцом налитое слово «согласен», меняющее жизнь, судьбу, будущее…
— Теперь нас стало двое, — сказал Пеев Испанцу.
Испанец пришел, как всегда, вечером. Часа полтора занимались в кабинете по программе шифровки-дешифровки; выпили кофе. На столе лежала книга Алеко Константинова «Бай Ганю». Ей предстояло стать в будущем книгой кода.
— Грустно, — сказал Испанец. — Грустная это штука — расставание. Не так ли, доктор?
— Вы?..
— Да, я скоро уеду. Центр отзывает меня. Кстати, Сашо, вам предстоит познакомиться с Эмилом.
— Кто это?
— Музыкант… Я хотел сказать — радист. Эмил Попов, совладелец радиотехнической мастерской. Через его передатчик будете держать связь с Центром.
— Где мы встретимся и когда?
— Завтра. В кофейне бай Спиро на углу Витоши и Алабина. Скажете ему: «Воздух теплый, прямо пар плывет», он ответит: «Да, денек сегодня боевой».
— Что он за человек, этот Попов?
— Сами увидите. Но, до встречи, Сашо!
…Порция малеби и стакан бозы. Бай Спиро — толстый, неповоротливый, но обслуживать умеет. Да и кофейня у него чистенькая, приятно посидеть. Пеев вытирает лоб, медленно отпивает глоток бозы. Жарковато…
— Ну и погодка, Спиро! Воздух теплый, прямо пар плывет.
Молодой парень за соседним столиком — широкие плечи, лицо красивое, чуть угрюмое — словно нехотя вмешивается в разговор.
— Особенно жарко, если набегаешься, как я. Да, денек сегодня боевой.
— У меня тоже.
Пеев вышел первым, Попов — чуть помедлив. Встретились на Алабина, пошли рядом.
— Я — Попов.
— Знаю. Пока встречаться не будем. Я дам вам знать, когда появится надобность.
Все так, как инструктировал Испанец.
Не прощаясь, разошлись.
Вечером, проверив, нет ли слежки, дважды изменив маршрут и выйдя на улицу Марии-Луизы через пустынные переулки, Пеев пришел к Испанцу.
Последний вечер… Испанец был задумчив и грустен. Предложил:
— Давайте-ка выпьем, доктор, за нас с вами, за хороших людей.
Сам плеснул в бокалы сливовицы. Морщась, неумело проглотил. Долго не мог перевести дух. Пеев смотрел на него: усталое лицо, седина у висков. Не молод… Вот и уходит, обрывается живая связь с Центром, с людьми. В коридоре, после последних разговоров о делах, о технике связи, Испанец, прощаясь, обнял Пеева, прижал к плечу. Сказал сам себе:
— Ну, ну, что за сантименты!
С силой пожал руку.
Больше им не довелось увидеться… Никогда.
3
Ноябрь 1940 года.
Пеев по утрам все чаще настраивал свой приемник «Блаупункт» на РВ-64 и радиостанцию имени Коминтерна. Это было рискованно: по указанию полицейских властей приемники, находившиеся в частном пользовании, опечатали таким образом, чтобы болгары не могли слушать Лондон и Москву. Пеев, сняв свинцовые пломбы и сургучные нашлепки на картонках, ловил позывные Москвы… Сообщали о новом шаге Правительства СССР. Болгарскому правительству — в который раз! — протягивали руку дружбы: предлагали подписать пакт о дружбе и взаимопомощи. В ответ премьер Богдан Филов, по поручению царя, встретился с эмиссарами Гитлера и Риббентропа, и, как расплывчато формулировалось в коммюнике болгарской стороны, делегация «вступила в переговоры о присоединении к Тройственному союзу».
Царь — этот машинист-любитель — на всех парах гнал Болгарию к войне; за его спиной, контролируя повороты реверса и определяя курс, стояли немцы. Глава министерства войны 1 генерал Даскалов совершил ознакомительную поездку в ставку ОКБ2. Министр вернулся в полном восторге: четкость организации штаба, боевые качества вермахта произвели на него неизгладимое впечатление. Делясь наблюдениями с Никифоровым, он утверждал, что в мире нет силы, способной остановить германского солдата. А какая выучка, какая дисциплина! И самоотреченная преданность фюреру и национал-социалистской идее у всех, от новобранца до фельдмаршала!..
О кардинальном повороте в политике свидетельствовало не только это. Были факты более мелкие, но тоже по-своему красноречивые. Однажды утром на бульваре Евлогия Георгиева сменили эмалированные таблички. Проснувшиеся жители узнали, что их удостоили чести проживать на бульваре Адольфа Гитлера.
«Бай Ганю», еще недавно такой новенький, в мягком белом переплете, изрядно поизмялся. Пеев, запершись в кабинете, составлял сообщения Центру. Никифоров что ни день доставлял ценную политическую информацию. По роду работы он присутствовал на заседаниях Высшего военного совета при министре войны, где теперь наряду с обычными вопросами повестки дня (перемещения генералитета, представление к крестам) рассматривались и решались проблемы, связанные с дислокацией войск, методами взаимодействия с германскими частями, прибытие которых в Болгарию ожидалось в ближайшее время.
Через тайники, оборудованные Пеевым в разных концах города, информация Никифорова попадала в мастерскую по ремонту радиоаппаратуры «Эльфа» на улице Константина Стоилова, 18 (владелец — дипломированный инженер Иван Попов, технический руководитель — младший компаньон, брат Ивана, Эмил Попов). Тридцать рабочих мастерской — свидетельство того, что предприятие процветало. Доктор Пеев подписал с «Эльфой» контракт на обслуживание своего «Блаупункта», и Эмил Попов из почтения к солидному клиенту иногда заглядывал к нему на дом: нежный немецкий аппарат нуждался в периодическом осмотре и профилактических ремонтах… Так бывало в экстренных случаях, когда информация, собранная Пеевым через Никифорова, в Союзе офицеров запаса, в беседах с Марковым, ставшим командующим армией, Богданом Филовым, генералами Луковым, Лукашем, полковником Генштаба Стефаном Димитровым, — информация, очень серьезная и достоверная, не могла ждать, отлеживаясь в тайнике. Эмил Попов приходил с чемоданчиком, раскладывал на столе в кабинете инструменты, протирал клеммы спиртом, и Елисавета, не догадывавшаяся еще ни о чем, расплачиваясь, давала старательному мастеру лишние десять левов «на чай». Эмил, подавляя улыбку, брал, кланялся. Двойственность положения его не тяготила, скорее забавляла. Он был старым подпольщиком и привык к самым неожиданным ситуациям.
Круг помощников Пеева непрерывно расширялся. Осторожный и разборчивый прежде в выборе знакомств, не желавший портить репутацию дружбой с ярыми монархистами и фашистами, он теперь пожимал им руки, старался встречаться как можно чаще. Так в орбиту его связей попал Симеон Бурев — богатый негоциант, афишировавший свои контакты не только с германскими промышленными кругами, но и со службой безопасности при германском посольстве и доктором Делиусом. Пеев, около двух лет под благовидными предлогами уклонявшийся от предложений стать личным адвокатом Бурева, уведомил последнего, что согласен принять предложение и даже пошел дальше: через посредство Бурева стал юрисконсультом Стояна Николова, богатейшего в Болгарии человека. Помогая ему оформлять контракты, Пеев черпал сведения экономического характера, абсолютно точные данные об имперской промышленности. Со своим юрисконсультом Николов держался дружественно, как равный. Подчеркнуто интеллигентный, любивший вовремя и к месту процитировать Гейне и Лессинга, он в недалеком прошлом был ассистентом кафедры коммерческого права в университете и отошел от науки, дабы вложить свой ум и миллионы в более прибыльное дело — судоверфи. Взлетев на вершину золотой горы, он тем не менее не порывал старых связей с коллегами-юристами, памятуя, что юристы в Болгарии составляют особый клан, из которого выходит подавляющее большинство государственных деятелей — депутатов, министров, даже премьеров. Случалось, что еще совсем недавно безвестный адвокат при поддержке клана занимал ключевой пост, становился вершителем судеб. Пеев считался светилом, с ним стоило быть дружелюбным и предупредительным.
Доверие Николова накладывало отпечаток и на поведение Бурева — младшего партнера, нуждавшегося в субсидиях архимиллионера. Он стал для Пеева ангелом-хранителем, не ведая, конечно, что помогает не столько своему личному адвокату, сколько подпольщику, связанному с Центром.
Фашизация страны шла быстрыми темпами. Охотились уже не только на коммунистов. Кочо Стоянов, шеф жандармерии, не вникая особо в суть дела, выдавал ордера на превентивный арест любого, кто пользовался славой левого. После встречи Богдана Филова в Зальцбурге с рейхсминистром Риббентропом и подписания неких документов, содержание которых не разглашалось, в январе 1941 года правительство опубликовало решение о присоединении к Берлинскому пакту и согласилось пропустить части вермахта на территорию страны. Одновременно было признано целесообразным срочно расширить концлагерь для политических в Гонда-Вода.
Кочо Стоянов выписал несколько сот новых ордеров.
В том числе и на превентивный арест Пеева.
Утром, спозаранку позвонил Бурев. Спросил:
— Доктор, у вас есть большой чемодан?
— Зачем он вам понадобился, Бурев?
— Не мне, а вам. Ладно, ладно, шучу. Все в порядке. Орднунг, как говорят наши коллеги-немцы. Стоянов совсем спятил, решил выслать вас в горы. Я поговорил с кем следует, и ему дали нагоняй. Спите спокойно, доктор, и помните: Симеон Бурев ваш друг… Слава богу, Симеон Бурев — это кое-что значит в Софии! Я сказал им, что вы мой личный адвокат, персона грата. Кстати, как вы считаете, есть смысл подписать контракт с теми, из Берлина? Условия мне кажутся не слишком льготными.
— Я попробую добиться скидки, — суховато сказал Пеев. — Спасибо, Бурев, я ваш должник. Впрочем, это была какая-то ошибка с ордером, не так ли?
— Я же сказал: Стоянов спятил!
Кнопки, нажатые Буревым в авральном порядке, вызвали нужный отклик: ордер отозвали и доктор Пеев получил возможность безбоязненно продолжать свои ежедневные прогулки по Софии, пить две чашки кофе по-турецки в кофейне у Орлова моста и по вечерам живо интересоваться бессмертными строками «Бай Ганю».
Да, «тройка» Пеева работала вовсю и была на пороге того, чтобы стать «пятеркой». Уже несколько недель он подумывал о том, чтобы привлечь к делу двух надежных, с его точки зрения, людей: давнего и доброго приятеля Александра Георгиева и двоюродного брата Янко Пеева. Оба они представлялись подходящими кандидатурами.
С Александром Георгиевым Пеев познакомился в 1932-м, когда молодой публицист, тяготевший к социалистам, принес ему, редактору еженедельника, экономическую статью, где в слабо завуалированной форме говорилось об обнищании болгарского пролетариата. До этого пробы пера Георгиева безапелляционно отвергались провинциальными и столичными газетами. Лишь изредка удавалось ему опубликовать материал, и, как правило, в первый и последний раз в данном издании: после его появления агенты полиции быстро втолковывали редакторам, что к чему. Пеев, совмещавший редакторский пост с должностью шефа отдела экономических и финансовых исследований Болгарского земледельческого банка и изрядно понаторевший во всем, что касалось трактовки финансовых выкладок, без труда угадал в статье второй, скрытый смысл и, заострив кое-какие положения, на свой страх и риск напечатал ее в очередном номере… Их газетное содружество продолжалось недолго: в 1934-м Пеев ушел из банка. Не по своей воле. Власти наконец нашли повод придраться — анекдотический на первый взгляд, но принятый советом директоров всерьез: выяснилось, что шеф отдела из личных средств приобрел для библиотеки банка тома Большой Советской Энциклопедии… Скандальная история, кладущая пятно на безупречную банковскую деятельность по кредитованию архиправых коопераций землепользователей. Ехидная «Зора» не преминула куснуть совет директоров, держащий на службе прокоммунистических субъектов, да еще на ответственных постах!
Три года Пеев и Георгиев не виделись. Встретились случайно на бульваре Витоши, когда Георгиев, перебравшийся наконец в столицу, мыкался без жилья и без работы. Пеев отвел его к себе. Предложил: «Привози свою жену, и живите у меня, сколько надо».
Сейчас Александр Периклиев Георгиев собирался в Германию. Инженер без диплома, он хотел получить его, но не смог попасть в болгарский университет — обычная история, если у тебя нет текущего счета. Когда-то и сам Пеев, а следом за ним Никифор Никифоров покинули родину, чтобы завершить образование в далеком Брюсселе. Правда, здесь была «маленькая» разница: Георгиев и Никифоров жаждали только получения диплома, тогда как Пеев уезжал по прямому указанию секретаря Общего рабочего синдикального союза Георгия Димитрова, и не столько стажировался на юридическом факультете, сколько изучал опыт пролетариата Запада в борьбе с классовым врагом.
Георгиев мог быть полезен в Берлине.
Еще больше пользы способен был принести брат — Янко Пеев, посол в Каире, свободомыслящий скептик, недружелюбно относившийся к царю и ненавидящий фашизм. Он давно потерял веру в «святые идеалы монархизма», а острый ум подсказывал дипломату, что Болгария идет к катастрофе.
Янко Пеев был одним из осведомленнейших людей в МИДе. Легкий характер обеспечивал ему всеобщую дружбу, а долгий стаж службы по министерству и семейная неудача — парадокс! — тесным образом связывали его с видными политиками. Расставаясь в свое время с супругой, ушедшей от него к Кьосеиванову, бывшему до Филова болгарским премьером, Янко и не предполагал, что разведенная жена, заняв выдающееся положение в обществе, навсегда сохранит к нему чувство благодарности и постарается оказывать протекцию. Но так случилось — по пословице «не было счастья, да несчастье помогло» — и Янко, занимавший до этого секретарские посты в посольствах его величества, вдруг сам стал послом, и, как поговаривали, подруга Кьосеиванова хлопотала о новом местечке для него — в Токио.
Легкий характер, паркетный шаркун, протеже бывшей жены… И вдобавок — масон, высокого, 33-го ранга. Не слишком лестная характеристика! Но Александру Пееву было известно и другое: за маской лощеного дипломата, завсегдатая салонов крылся искренний болгарский патриот, человек тонкий и наблюдательный. Маска помогала жить, предохраняла от «друзей», лезших в душу, а масонские таинства — камуфляж для Кочо Стоянова и контрразведки.
Приезжая в Софию, Янко останавливался в «Славянской беседе», оттуда звонил брату. У них была традиция — обеды вдвоем, без посторонних, когда можно поговорить по душам. Скоро Янко должен опять приехать. С ним можно и нужно откровенно, только откровенно… А с Георгиевым? Пожалуй, тоже.
Георгиев собирал чемоданы. Из германского посольства пришло уведомление, что консульский отдел выдал въездную визу.
Пеев пригласил Георгиева в кабинет, плотно притворил дверь. В коротких, хорошо обдуманных фразах изложил суть дела. Георгиев выслушал молча, на лбу его собирались тяжелые морщины. Сказал медленно:
— Это очень ответственный шаг.
— Вам я верю, Сашо.
— Поверит ли Центр?
— Я говорю с вами от его имени.
Оставшиеся до отъезда в Берлин дни потратили на обучение шифровальному делу и приемам пользования симпатическими чернилами. Договорились, что Георгиев будет использовать для прикрытия своих информаций частные письма Пееву — по возможности короткие и, разумеется, с самым невинным содержанием.
Пеев через рацию Попова связался с Центром, изложил свои соображения и получил «добро». Одобрили и предполагаемый контакт с Янко. И словно волшебство! Пеев еще дешифровывал последние строчки, а телефон затренькал, заговорил в ухо голосом Янко — выбросил витиеватую фразу на непонятном языке:
— Янко? Ты откуда?
— Из «Славянской беседы», мой дружок. Приезжай, поужинаем.
Он любил розыгрыши, Янко Пеев, и к зрелым годам сохранивший мальчишескую склонность к шуткам. Мог, зная, что Пеев не владеет иностранными языками, кроме французского, приписать в письме добрых полстраницы на английском, турецком или арабском. Изучил их в совершенстве. Его считали знатоком Востока, да так оно и было: работая сначала генконсулом в Стамбуле, а потом посланником в Албании, он добрую половину времени посвящал изучению исламизма и восточной поэзии.
Ужин был плотный, мясные блюда, болгарские «специалитеты». Янко любил и умел поесть. Пил он коньяк; Пеев — умеренно — сливовицу. Трудно перейти от шуток и взаимного подтрунивания к серьезному, но и отложить разговор было нельзя: Янко приехал всего на сутки.
Когда Пеев решился и сказал о главном, Янко оторопел.
— Ты понимаешь, на что ты пошел? Это же верная петля!
— Я тебя в петлю не зову.
— Прости! — Янко, словно защищаясь, поднял руку. — Я не коммунист, и мне многое не по вкусу. Твои убеждения — твои, мои — мои.
— Гитлер предпочтительнее?
— Нет конечно, но я полагаю, что мы не зайдем так далеко. Легкий союз, балансировка, нейтралитет… Но как ты решился на это?.. Ей-богу, голова идет кругом!
— Значит, нет?
— Я так не сказал. Могу подумать?
— Да, естественно.
— Хорошо. Я должен все очень серьезно обдумать. Скажу априори: комбинации правительства с участием Гитлера мне не импонируют. Я не хуже твоего, а возможно, и более объективно представляю ситуацию. Но пойми… это нонсенс: я и подпольная работа. Нет, я не готов к ответу.
Они расстались, закончив ужин в молчании. Обнялись почти сухо.
Утром вновь, в неурочное время, затренькал телефон.
Звонил Янко: ни шуточек, ни розыгрышей. Сдержанным тоном деловое:
— Я подумал. Не спал всю ночь… Передай своим друзьям, что я готов побеседовать с ними. Готов встретиться лично. Прощай, через час поезд. Поцелуй Митко и Эль.
…Оставаясь один, Александр Пеев с предельной обстоятельностью пытался проанализировать свою работу. Нет, он не колебался. Колебания остались в далеком прошлом, но точно эхо звучали в ушах слова брата: «Ты нелегал?» Для Пеева подполье являлось самым действенным способом продолжить политическую борьбу с монархизмом и фашизмом. Что важнее — ура-патриотизм, шовинистический по сути и заставлявший закрывать глаза на то, что твоя страна, единственная и милая родина, становится сателлитом Германии, или же марксово «пролетарии всех стран, соединяйтесь!», когда с исторической определенностью необходимо поступиться этим «патриотизмом» ради все той же Болгарии и ее завтрашнего дня?
Ответ был один и напрашивался сам собой.
Пришла пора посвятить в свои дела Елисавету, Эль. Прежде он никогда не уединялся по вечерам в кабинете, теперь это стало правилом, связанным с перешифровкой, и Эль молча удивлялась перемене, не спрашивала, ждала, когда Сашо все объяснит сам.
Он объяснил.
Эль упрекнула: «Ты зря скрывал!» Договорились не посвящать в тайну Митко. Сын уже вырос, состоял в студенческой организации, к нему и так уже присматривалась полиция. Елисавета считала, что незачем подводить сына под удар. Пусть поживет в неведении. Пока…
Объем информации нарастал. Сведения поступали от военных, через Никифорова, от промышленников — Бурева и Николова. Из Германии не часто, но аккуратно шли письма Сашо Георгиева. Он превосходно устроился, подружился с германскими офицерами, дал им понять, что национал-социализм отвечает сокровенным его чаяниям. Болгария считалась теперь союзницей империи, и с Георгиевым были достаточно откровенны. Передавая информацию Попову, Пеев замечал, что тот сильно похудел и осунулся. В мастерской хватало работы, и, бросая ее ради радиосеансов, Эмил вынужден был доделывать отложенное по ночам, за счет сна. И так изо дня в день. Под постоянной угрозой ареста.
Почти на пределе, весь внутренне натянутый как струна, жил и Никифор Йорданов Никифоров — ближайший помощник Пеева.
Министр войны генерал Даскалов, окруженный всеобщей неприязнью за слишком уж откровенно оплаченные марками симпатии к немцам, неожиданно проникся к Никифорову небывалым доверием. Скорее всего, потому, что Никифоров был одним из немногих, не шептавшихся о нем за глаза. Генеральская жиронда и проанглийская оппозиция, лидеры которой сами мечтали о министерском кресле, добыли документы, доказывающие, что Даскалов состоит на содержании сразу у трех служб рейха — МИДа, абвера и гестапо.
По отношению к Даскалову Никифоров держался ровно, не выказывая неприязни и не давая понять, что презирает его. Генерал в ответ платил покровительством и доверительными беседами. В середине июня 1941-го вызвал к себе в кабинет.
На столе белела «Зора»; красным карандашом было густо отчеркнуто сообщение софийского агентства об опровержении ТАСС. Никифоров читал его еще утром и не поверил своим глазам. ТАСС, по уполномочию и т. д., категорически опровергало слухи о возможном нападении Германии на Советский Союз. Что это? Ошибка? Просчет? Или же дипломатический пассаж, смягчающий обстановку? Хорошо, если последнее.
Даскалов выслушал доклад о проектах военно-судебного ведомства, разгладил газету мягкой рукой. Спросил:
— Читали?
Никифоров пожал плечами.
— Забавно, — сказал Даскалов задумчиво. — Выходит, это не вчера закончилась переброска целой армии через Солун и Ниш! Так сказать, не верь глазам своим…
— Мне кажется, это просто дипломатический ход. А что за ним — трудно сказать. Вряд ли известно, что именно думают русские.
— Сейчас это несущественно. Вчера мы были у Бекерле — я, Филов, Цанков, Луков и Стоянов… Яйца разбиты, осталось изжарить яичницу!
— Война с СССР?
— Именно так. В этой связи настаиваю, генерал, чтобы военно-судебный отдел проследил за качеством приговоров. Никакого либерализма. За агитацию, попытки саботажа — расстрел. В отдельных, исключительных случаях — заключение на предельные сроки. Армия должна монолитно подойти к Рубикону событий…
Как бы два человека слушали Даскалова — генерал-майор Никифоров и подпольщик Никифоров. Первый, согласно кивая, прикидывал, каким способом спустить на тормозах директиву министра, второй соображал, где и когда повидаться с Пеевым. Случай экстренный — следовательно, немедленно у него дома.
4
Война!
22 июня 1941 года, вероломно нарушив пакт о ненападении, фашистская Германия всей своей нацеленной на агрессию мощью обрушилась на СССР.
В жизнь Александра Костадинова Пеева вошли горечь и тревога за тех, кто принял на себя главный удар и сейчас, не жалея жизней сражался на полях России. Пеев понимал: именно там решалась и судьба Болгарии. Теперь он вел то, что на языке специалистов называется «регулярным радиообменом на непостоянных частотах».
Эмил Попов, не жалуясь, работал с полным напряжением. Окончив сеанс, слушал Москву, подолгу рассматривал карту. Восточный фронт растянулся от Белого до Черного моря. Пеев, встречаясь с Поповым, объяснял, куда нацелены немецкие удары, спокойно предсказывал, что гитлеровцев отбросят, погонят, разгромят. Эмил соглашался — слова звучали убедительно, но в душе не мог понять, на чем основана уверенность собеседника. Казались несовместимыми — спокойствие Пеева и сводки с Восточного фронта, публикуемые официальной «Зорой» с комментариями, не оставлявшими надежд.
22 июня 1941-го прибавило седины на висках Пеева.
Ночью, перед сном, он подошел к зеркалу, с удивлением потрогал белые пряди на висках. Днем их не было. Остро, как от удара, болела голова. Он сел, подумал: «Надо держать себя в руках». Казалось, сколько поводов было в прошлом, чтобы поседеть. Концлагеря, непрестанные обыски, увольнения со службы. Совсем не гладка жизнь. Уж он-то знал, что это значит. Но волосы не поддавались натиску времени и испытаний. А тут… «Надо держать себя в руках, Сашо! Ты не смеешь распускаться!»
…Никифоров не засиживался в Софии. Колесил по странё. Под предлогом проверки Шуменского военно-окружного суда съездил в Бургас и Варну. Столичное начальство, прибывшее с инспекционными целями, пригласил на ужин начальник ВМС. Чокался за здоровье, жаловался, что коммунисты разлагают экипажи кораблей антивоенной пропагандой; и Никифоров без особого труда установил, что в недалеком будущем ожидается переброска через проливы тральщиков германского флота и вспомогательных судов. Начальник ВМС очень надеялся на немцев: дисциплинированные матросы имперских морских сил должны были, по его мнению, повлиять на болгарских моряков.
Вернувшись в Софию, Никифоров поделился впечатлением от поездки с начальником штаба армии генералом Лукашем и советником царя Любомиром Лулчевым. Отметил, что начальник ВМС ведет себя как трус и паникер.
— Пожалуй, у него есть все основания не чувствовать себя спокойно, — возразил Лулчев. — На кораблях брожение. Что же касается немцев, то они будут здесь в конце месяца, и тогда удастся списать на берег наиболее ретивых агитаторов. А там отправим их в гарнизоны и тихо, без шума возьмем под стражу.
Никифоров размял сигарету, легко затянулся.
— Несколько тральщиков не обеспечат охраны побережья.
— Почему же! Судите-ка сами, генерал.
Лулчев тщательно, загибая пальцы, перечислил корабельный состав германского соединения, щеголяя специальной терминологией, как это делают штатские, оказавшиеся приобщенными к военному делу, назвал количество орудий, суммарный вес бортового залпа. Потом перескочил к сухопутным войскам, посетовав, что немецкие части прибывают и размещаются не в том темпе, который был определен параграфами соглашений.
Во второй беседе с Лукашем Никифоров, очень к месту ввернув цифры, услышанные от Лулчева, уточнил и перепроверил их. Лукаш, не терпевший малейших неточностей, внес коррективы по последним данным Генштаба.
От Никифорова информация перешла к Пееву и проследовала дальше — к Попову. Покончив с этой частью дела, Никифоров вновь уехал — опять на побережье — изучать стратегические пункты, отведенные по диспозициям министерства войны для концентрации немецких дивизий. Пока он отсутствовал, на его служебном столе пачками скапливались не утвержденные еще смертные приговоры по процессам «подрывных групп». Они лежали, короткие, исполненные трагического смысла… Ожидание. Недолгая оттяжка во времени, после чего неминуемо должны были последовать залп и торопливое отпевание гарнизонного священника… Как смягчить участь подпольщиков?.. Борис III, неожиданно проявивший интерес к военно-судебному ведомству, повелел, чтобы в статью 681 военно-судебного закона внесли изменения, в силу которых смертные приговоры должны были немедленно приводиться в исполнение и обжалование их не допускалось. Никифоров без труда угадал за строчками рескрипта мрачные фигуры Гешева и полковника Недева, помощника министра по разведке и контрразведке. Не обошлось здесь, очевидно, и без подполковника Костова из РО. Режим «закручивания гаек» имел верных слуг и апологетов.
Вернувшись, Никифоров отправился к министру, тяжело шлепнул на стол пачку приговоров. Мрачно сказал:
— Это лишь ускорит восстание. Новые искры в бочку с порохом.
— Что вы предлагаете?
— Думаю, что совершенно необходимо добиться у монарха права контролировать суды и убедить его, что без проверки и утверждения в военно-судебном отделе смертные приговоры не должны приводиться в исполнение. Массовые казни скрыть нельзя; каждая новая не укрепляет, а разрушает режим и армию; солдаты будут бунтовать.
Даскалов покивал седеющей головой.
— Это убедительно. Прошу представить доклад.
Никифоров засел за бумаги, собрал и проанализировал статистические данные, аргументировал выводы; и доклад пошел «наверх», чтобы возвратиться назад с резолюцией царя: «Одобряю. Борис». Это спасло жизни антифашистам, арестованным в Варне, и группе членов ЦК БКП, выданных провокатором. Председатель суда полковник Младенов сообщил, что собирается приговорить к расстрелу четырнадцать обвиняемых; Никифоров доложил материалы процесса министру таким образом, что тот наполовину сократил список. Семь членов ЦК избежали расстрела. Не чудом. Их спас Никифоров.
Министр и двор доверяли генералу Никифору Йорданову Никифорову. Он был для них абсолютно «своим» — пока… Монархист, опора трона.
С Пеевым обстояло иначе.
Вновь назначенный директор службы ДС 1 Павлов распорядился передать ему для изучения досье на всех видных в прошлом марксистов, по тем или иным причинам отошедших от партийной деятельности. Гешев, не слишком охотно делившийся с начальством добычей, счел себя оскорбленным, но повиновался, представив папки на 872 человека. Одновременно, опережая начальство, он приставил филеров к каждому из них, приказав наблюдать неотступно и тщательно. В середине списка подозреваемых, среди других, чья фамилия начиналась на «П», стояло и имя Александра Костадинова Пеева. Слежку за ним возглавил полицейский инспектор Любен Сиклунов — старательный, с давним опытом работы в охранке.
Его люди не спускали глаз с дома 33 на бульваре Адольфа Гитлера. Ходили по пятам. Пеев чувствовал их присутствие; порой за ним ходили так плотно, что хотелось повернуться и спросить: «Ну как, братец, еще не надоело?» Однако он не стремился ускользать, вел себя как обычно и, только запершись вечером в кабинете, с привычной тщательностью анализировал: что это — результат прямых подозрений или превентивная мера? Прочти он доклад Сиклунова, и все бы стало на места, внеся спокойствие, но доклад был известен только Николе Гешеву — даже не Павлову! — и лишь ему одному. «Доктор Пеев утром, как только выйдет из дому, к восьми часам направляется в сладкарницу у входа в Борисов сад возле Орлова моста. Там он обычно встречается с офицером запаса полковником Ерусалимом Василевым, сторонником нынешней власти и известным в прошлом патриотом (доктор Пеев является его личным адвокатом); со Стояном Власаковым, одним из редакторов газеты «Мир» — журналистом, в прошлом «народняком» с русофильским уклоном, пользующимся доверием в обществе; с Костой Нефтеяновым — кооперативным деятелем, никогда в прошлом не имевшем левых проявлений; с профессором Грозьо Диковым из Софийского университета; с богатым торговцем из Софии и другими. Они пьют кофе до половины девятого, после чего каждый направляется по своим делам. Доктор Пеев идет в суд и к десяти приходит в Национальный кооперативный банк. Работает с директором банка в одной комнате, а директор — наш человек. В обед, к двенадцати часам, доктор Пеев обычно выходит из банка, садится в трамвай № 4 на площади Святой Недели и едет домой обедать. После обеда выходит из дому обычно в два часа и отправляется в банк. Иногда встречается с генералом Никифором Йордановым Никифоровым и вместе с ним гуляет по Борисову саду. До сих пор не замечено, чтобы доктор Пеев встречался с коммунистами. Я беседовал с Симеоном Ивановым Буревым и полковником запаса Ерусалимом Василевым. Оба уверяют, что доктор Пеев политикой не занимается».
В этом рапорте, в целом правильном, были две мелкие погрешности и две крупные. Мелкие касались часов прихода и ухода Пеева из кафе и банка; крупные были связаны с персонами генерала Никифорова и торговца. Поперек первой страницы Гешев плотным почерком, выработанным за годы службы в канцелярии, вывел резолюцию: «Наблюдение за доктором Александром Пеевым продолжать. Не надо забывать, что он наш идеологический враг». Ни генерал, ни торговец в разряд «идеологических врагов» не попали. Да и какие, спрашивается, претензии можно предъявить обоим: один служит трону, другой, мобилизованный из запаса, работает в цензуре на телеграфе. Очень, очень благонадежные люди, с безупречными послужными списками.
А между тем и в мировоззрении торговца происходил сдвиг. Пеев с интересом присматривался к бывшему компаньону по поездке в Москву… Перемены эти не были чем-то экстраординарным. Многие знакомые Пеева, принадлежащие к различным слоям общества, под влиянием многообразных событий меняли свои оценки и взгляды, заметно «левели».
Среди них оказался и не кто иной, как Георгий Говедаров, один из лидеров «Народного сговора», депутат Народного собрания нескольких созывов, человек, которого царь в знак благоволения называл на «ты» и «друг мой».
Партийная принадлежность не мешала Говедарову иметь свое мнение по поводу происходящего, а в глубине души у него теплилась хорошо упрятанная под броней «прогерманизма» с детства привитая семьей симпатия к России. Вслух он об этом не распространялся: был вообще, по природе молчалив и сдержан.
Впрочем, говорил он прекрасно. В 1939-м в Народном собрании обсуждался вопрос: ехать или нет в Москву парламентской делегации для осмотра сельхозвыставки. Поездку инспирировал двор, считая, что так вот, без «протокола», парламентариям удастся не только полюбоваться павильонами, но и прощупать советских официальных лиц — о, разумеется, в частных беседах! — на предмет ориентации Кремля в отношении Болгарии. Считалось, что надо будет сколотить небольшую группу для поездки, не привлекая к этому особого внимания. Говедаров произнес в парламенте речь, как всегда блестящую и зажигательную, агитируя за поездку. В итоге 93 депутата изъявили горячее желание стать гостями выставки. «Девяносто три? — сказал с изумлением Борис, выслушав доклад председателя палаты. — Как это понимать? У нас что, в Народном собрании коммунистическое большинство?»
Говедаров по-прежнему был принят при дворе. Царь называл его «друг мой» и на «ты», но держался холодно и отчужденно. Это, впрочем, не мешало Говедарову быть одним из осведомленнейших людей в стране и в то же время одним из самых надежных информаторов Пеева.
Загадочная метаморфоза? Нет, закономерность. Честный, как известно, ищет общества честных, патриот идет к патриотам.
…22 июня 1941-го, выслушав по радио сообщение о войне, Пеев, не советуясь с Елисаветой (знал, что одобрит), позвал сына к себе. В коротких точных фразах объяснил, что является руководителем группы подпольщиков; в таких же коротких и точных фразах изложил суть. Попросил:
— Будь очень осторожен… Теперь ты знаешь все и не имеешь права рисковать. Я требую — слышишь, требую! — чтобы ты отошел от ремсистов 1. Так надо. Ты все понял?
— Все. Ты прав, отец.
— Хорошо, иди. И забудь.
— Я хочу тебе помогать, — сказал сын.
Молчание. Резкая складка на лбу отца.
— Я использую тебя на связи, — был ответ.
5
«…В посольство СССР поступил служащий по имени Борис, платный осведомитель полиции. Примите меры…» Пеев отложил ручку, сунул ее меж страниц «Бай Ганю». Подумал: Центр, конечно, меры примет, но как быть нам самим? Не нравятся мне связи Эминла Попова, слишком много людей посвящены в его дела. Слишком много…
Испанец, делясь опытом, особое внимание уделял конспирации и был прав: в стране, пронизанной полицейскими метастазами, лишь хорошая конспирация могла отвести от группы угрозу провала.
А она существует, эта угроза? У Пеева не было ответа. Теоретически любые звенья в цепочке, идущей от него к Попову, Никифору Никифорову или Янко Пееву, либо ниточки, связывающие Эмила Попова с его друзьями, могли подпасть под подозрение людей Гешева по самому незначительному поводу. Кроме того, недавно возникла новая опасность: Никифоров случайно узнал, что по требованию представителя абвера Делиуса из Германии переброшены автобусы с пеленгаторными установками. Их разделили поровну между военной разведкой и отделением «А» службы ДС. Впрочем, Гешев, кажется, не собирается ими пользоваться, полагается на агентурную часть, ухитрившуюся внедрить осведомителей едва ли не в каждый дом Софии.
О Гешеве в салонах и кофейнях болтали разное. Одни превозносили как великого мастера сыска, единственного «европейца» в службе ДС, применяющего неожиданные и тонкие методы. Другие ругали за неспособность и примитивизм, утверждая, что единственный способ, доступный ему для развязывания языков, — зверские побои и пытки. Невысокого роста, хорошо одетый, замкнутый, появляясь где-либо, он внушал страх. Даже не страх — ужас. Достоверно известно было, что он сильно пьет и почти всегда в одиночку. Иногда, во время допроса, приказывает принести в кабинет две бутылки ракии, предлагает арестованному бокал на брудершафт, чокается, шутит. Если с ним отказываются пить, агент для особых поручений Гармидол цо прозвищу «Страшный», звериной лапой разжимает рог, вливает в глотку стакан за стаканом. Гармидол — палач, садист. Сколько арестованных женщин изнасиловано им, скольким мужчинам переломал он кости, содрал ногти, выжег или вырезал метки на теле? Это известно только Гешеву. Иногда Гармидола используют для убийств, если против подозреваемого нет улик. У «Страшного» свой прием: подкараулит ночью на улице, переломит хребет и — кинжалом по шее, отсекая голову напрочь. В полицейской газетной хронике убийства приписывают «коммунистическим террористам».
Гешев… Мнения разные, но ясно одно: на посту начальника отделения «А» он пережил всех своих шефов, совершив стремительный подъем от безымянного сотрудника № 07179 до всесильного руководителя охранки. Не директор полиции Антон Кузаров, а он пользуется правом непосредственного доклада царю и бывает во дворце чаще, чем глава службы державной сигурности Павлов… Да, воистину Болгария подлинно демократическое государство, где покои либерального монарха доступны любому гражданину. Это цитата из «Зоры», редактор которой неожиданно показал себя в строках оных блестящим сатириком.
Так как же все-таки быть с друзьями Попова? Иван Владков. Совсем юнец. Пылкий, восторженный. Владков — зять Попова, Эмил ему доверяет. Сейчас Ивана мобилизовали, направив в секретную часть канцелярии пятого запасного батальона в Тырново. Самое удобное время прекратить с ним связь, но у Попова на этот счет, к сожалению, свое мнение, и вот итог: Владков по собственной инициативе прислал Попову сведения о штатном расписании батальона. С военной точки зрения данные стоят мало, с политической — круглый ноль. Пеев пожалел, что дал уговорить себя Эмилу, который, считая, что всякая информация нужна, включил ее в очередную радиограмму. Никифоров, узнав об этом, мрачно покачал головой: «Зачем засорять эфир, Сашо? Кроме того, если, не доведи господь, свалится беда, такая штучка подведет под смертную казнь». Пеев, знаток юриспруденции, и сам понимал это. Данные о дислокации германских войск, политические прогнозы, министерские новости, в первую голову интересовавшие Центр, в случае провала трудно было квалифицировать как шпионаж, наносящий прямой ущерб Болгарии. С обвинением по статье 681 можно будет бороться, и любой сколько-нибудь уважающий себя юрист поколеблется класть их в основу смертного приговора. Испанец не раз и не два обращал на это внимание Пеева, предостерегал: не дайте повода обвинить себя в работе против болгарской армии и, следовательно, Болгарии, как таковой. Радиограммы о политике и немцах в худшем случае позволят приписать вам «работу против третьей державы для третьей державы». Формула гибкая, здесь для грамотного юриста — простор.
Злополучная радиограмма о штатном расписании — несомненная ошибка. Ни в коем случае нельзя было идти на поводу у Попова. Учтем! Это было в первый и последний раз.
Настольная лампа позолотила переплет «Бай Ганю». Пеев потянулся к ручке, но раздумал. Откинулся в кресле и закрыл глаза. «Думай, Сашо, думай! Ты отвечаешь за все!» Кто там еще в группе Попова?
Один из друзей Попова подбил его принять участие в изготовлении бомб для партизан; «Эльфа» и квартира Попова превратились в пиротехническую мастерскую. Пеев поговорил с Эмилом. Самым суровым тоном, каким мог, объяснил, что у них принципиально иные задачи, но по глазам парня видел, что не убедил его. Правда, Попов пообещал перенести бомбосборочную в другое место, но можно ли быть уверенным, что он сделает это? Хуже всего, что там же, в «Эльфе», установили ротатор, печатают антифашистские листовки. Какая уж тут конспирация!
Нет, хватит уговаривать. Придется приказать. Если надо — Попов получит приказ прямо от Центра.
Совсем непросто руководить людьми. Разъяснять, уговаривать. В принципе Пеев прекрасно понимал Эмила, его желание делать бомбы для партизан, печатать листовки. Сбор и передача информации — тихое дело, не похожее на активную борьбу. Сидеть на ключе передатчика, прижимать его, нежными движениями пальцев извлекая точки — тире, цифры, цифры, цифры. Пассивность. А у молодости избыток энергии. Бомбы — вот это стоящая штука! Партизаны остро нуждаются в них: отряды жандармерии Кочо Стоянова ведут бои в горах, преследуя партизан. Мало оружия. «Партия делает упор на вооруженную борьбу» — так было написано в одной из листовок, отпечатанных на ротаторе Эмила. Пеев знал это указание партии и радовался ему, понимая, что оно поднимает массы на борьбу, сплачивает их. О группе Антона Иванова, громящего жандармские карательные экспедиции, ходят легенды. Растет число ятаков \ помогающих подполью хлебом, деньгами, укрытием. Кочо Стоянов объявил: за голову каждого ятака награда 10 тысяч левов. За два года военно-полевые суды вынесли 12 861 смертный приговор. Все так, и тем не менее с Эмилом придется поговорить всерьез. Цифры в телеграммах не бомбы, но они тоже способны взорвать — и не поезд, не полицейский автомобиль — монархию!
Борис III, похоже, болен. Физически и душевно. Во время прогулок по Борисову саду его стал сопровождать целый легион охранников. Езда на паровозах отошла в область преданий. Личный врач царя утверждает, что у Бориса развилась мания преследования: он ни с кем, кроме Лулчева, не встречается наедине. Всех подозревает в предательстве, и Кочо Стоянов, верный пес, обещал «раскрыть заговоры»… Какие? Неважно, какие именно! Стоянов припугнул царя: дескать, покушения на царскую особу готовят македонские автономисты, добруджанские террористы, агенты самовластного Павлова и Филова. Никифоров, сообщая об этом, отпустил в адрес царя несколько шпилек, но Пеев не подхватил шутку. Стоянов знает, что делает. Запугивая Бориса, он развязывает себе руки. И Гешеву тоже. Державна сигурност и жандармерия получили удобный предлог для внесудебных расправ. По сути, теперь можно убить любого, а в оправдание убийства приклеить покойному ярлык «заговорщика»… Белый террор, сходный с тем, который уже пережила страна после фашистского переворота в 1923-м. Тогда на улицах и в квартирах хватали кого угодно, волокли за город, на стрельбища, в казармы — пытали, отрезали уши, вспарывали животы.
Никифоров пожал плечами.
— Не думаю, чтобы история повторилась.
— Она повторяется, Форе.
— Филов достаточно интеллигентен, чтобы не допустить этого. Он обуздает Стоянова. Да и Павлов не бог. Над ним стоят военные, новый министр Михов не жалует полицию и добивается, чтобы большую часть политических дел передали Костову в контрразведку.
— Филов? Что ты знаешь о нем, Форе?
Сам Пеев слишком хорошо представлял себе образ мыслей господина профессора Филова. Когда-то почти дружили. Общая страсть к археологии. Богдан Филов чрезвычайно ценил монографию Пеева «Беглый взгляд на прошлое Пловдива». Вот она, стоит на полке. Такой же экземпляр пылится в библиотеке Филова. Став премьером, он свел на нет прежнее знакомство, и если, скажем, Говедаров «левел», то глава правительства «правел» столь стремительно, что в деле уничтожения коммунистов мог дать сто очков вперед самому Стоянову. Ему принадлежала фраза оброненная год назад в одной из последних бесед с Пеевым: «Счастье, коллега, что заблуждения ваши рассеялись, словно туман. При мне Болгария избавится от коммунистов до конца. Я не сторонник терапии, я — хирург».
С тех пор Пеев больше не был принят господином премьером. Филов вычеркнул из памяти все: взаимную симпатию ученых, лестные отзывы, данные им о книге, восторженную статью в журнале по поводу открытия надписи в горах близ села Ситово. Говедаров, и раньше относившийся к Филову с брезгливым презрением, назвал его шлюхой, забывшей стыд в немецкой постели. У него был неведомо как и от кого попавший ему в руки документ о платном сотрудничестве Богдана Филова с отделением гестапо в Софии.
— Ты видишься с Филовым, Форе?
— Чрезвычайно редко. Иногда он вызывает меня по делу.
— Упаси тебя господь задавать ему вопросы о политике.
— Ты думаешь?..
— К сожалению, я уверен, Форе.
— Но мне доверяют. Министр войны Михов настоял, чтобы меня ввели в Высший военный совет и сделали советником короны по военно-юридическим вопросам. Без благословения Филова это не было бы возможным.
— Тем более. Берегись Филова и береги его расположение.
Каламбур вышел не бог весть каким, но оба улыбнулись. Дорожки Борисова сада, где они, прогуливаясь, вели разговор, были покрыты легким, быстро тающим снегом. Капризные в Софии зимы. Утром — мороз, к обеду — жаркое солнце, вечером — дождь. Плащ Никифорова с золотыми генеральскими погонами потемнел от влаги, от него под лучами шел парок.
Пеев любил эти прогулки, редкие, как все в нашей жизни, что приносит удовольствие. К сожалению, так уж устроено: судьба красит бытие черными и белыми полосами. Черные — потолще, белые — поуже.
А сейчас какая полоса?
Пожалуй, белая.
Пеев прищурился, поглядел на небо. Почти голубое. Капризы зимы. Расставшись с Никифоровым, пошел не спеша, сворачивая с улицы на улицу, выбрался к собору Александра Невского, остановился, залюбовавшись. Поразительная, какая-то внеземная красота линий чаровала; белое и золотое — стены и купол… Александр Невский разгромил германских завоевателей, шедших на Русь с огнем и мечом. Болгарский народ по стотинке собрал средства на храм, именем Невского нареченный. Символика? Не только. Скорее, одна из зримых черт, говорящих о братских узах, сближающих славянские государства. Вопреки ориентации двора, вопреки политике Филова; всем этим гешевым, стояновым и костовым вопреки.
Дома Елисавета возле обеденного прибора положила несколько писем. Два были от Янко из Каира, одно — длинное, с берлинскими штемпелями на конверте — от Александра Георгиева.
Георгиев писал, что «Гитлер ведет пропаганду близкого решающего удара против СССР, но население Германии уже не верит ему». Любопытно. Надо передать в Центр. Интересно и другое: «В городе Вицлебене есть большие склады продовольствия и горючего. Английская и американская авиация бомбят жилые кварталы. Вокзалы в Берлине, Мюнхене, Кельне, а также индустриальные районы Рурской области нападению не подвергаются, и движение поездов между этими пунктами, как и между сотнями других, не нарушено. Военные заводы работают (самолеты не бомбят их); они производят вооружение и оборудование для фронта».
Сообщение перекликалось с известиями, сообщенными Никифоровым во время разговора в саду. Министр войны генерал Михов, сменивший опального Даскалова, недавно ездил на Восточный фронт и в Берлин. Встретился с Гитлером и вернулся в полном восторге. На закрытой пресс-конференции в министерстве убеждал доверенных журналистов, что Германия полна сил и союзная авиация не добивается успеха массированными налетами. После конференции конфиденциально поделился с членами Высшего военного совета другим: фюрер проявил недовольство существованием в Болгарии либеральных политических течений и отсутствием ограничений для евреев. Михов подсказал Филову проект: выселить 40 тысяч евреев в Польшу, «национализировав» их имущество и обратив его на снаряжение новых дивизий. Филову проект понравился, и он поручил юристам подготовить указ и представить его на подпись царю. «Две проблемы будут решены, — сказал Михов. — Еврейская и финансовая». Никифоров спросил: «Почему в Польшу?» Михов не стал скрывать: «На территории генерал-губернаторства имперский министр Франк устроил для иудеев резервации. Особого рода, конечно. Вы понимаете? Впрочем, это не наше дело, господа, не так ли?»
Пожалуй, обо всем этом надо сообщить Центру… Теперь, что там пишет Янко?
Янко Панайотов Пеев и в письмах оставался самим собой. Прекрасно зная, что его корреспонденция не перлюстрируется, перемежал рассказы о житье-бытье политическими заметками и едкими «бо-мо» в адрес высокопоставленных лиц. Чисто французский стиль, милый сердцу утонченного дипломата. Но если отбросить шелуху, ядро было крепким. Именно от Янко Центр своевременно узнал, что в начале сорок первого в Анкаре должно было победить проанглийское течение во главе с Сараджоглу; и опять-таки из его же послания А. Пеев извлек в январе сорок второго данные о неудачах нацистского посла фон Папена, пытавшегося склонить турецкое правительство к союзу.
Центру все еще никак не удавалось впрямую связаться с Янко, хотя о нем не забывали. Попов получил несколько радиограмм, специально посвященных Янко.
Цифры. Цифры. Цифры. Телеграммы.
Окончив очередное донесение, Пеев скатал папиросные бумажки в тугие шарики, отдал сыну.
— Митко, когда будешь заряжать тайники, убедись, что нет слежки.
— Разумеется.
Митко серьезен не по годам, и слова отца для него — боевой приказ. Помощник из него идеальный: ловок, быстр, аккуратен. Разрыв с ремсистами обогатил его полицейское досье успокоительными рапортами охранки. Более того, дошло до курьеза: однажды прежние друзья подстерегли Митко на пустой улице, сказали: «Выходит, яблоко от яблони…
Так?» — «Вы о чем, ребята?» — «У твоего отца в петличке болтается белый крестик. Так? Придет время, его повесят на другом кресте. Революция не пощадит ренегатов. Так и передай». Эта история стала известной студенчеству, а через осведомителей, внедренных в молодежную среду, — отделению «А». Пеев, услышав рассказ сына, потрогал пальцем крестик — уменьшенную копию офицерского креста «За храбрость». Миниатюрка была своеобразным удостоверением, выдаваемым Союзом офицеров запаса своим членам. Этакий знак благонадежности. Однако верят ли ему в полиции? «Боюсь, что нет!» — подумал Пеев и зябко повел плечами. Мысль была неприятной, пугающей. Совсем недавно Гешев добился от Павлова вторичного приказа о превентивном аресте доктора Александра К. Пеева. Хорошо, что Говедаров и Симеон Бурев узнали об этом вовремя.
Говедаров, официальный — черный костюм и перчатки, — в сияющем хрустальными стеклами автомобиле поехал к министру внутренних дел и социального обеспечения. Сразу прошел в кабинет. Демонстративно, не спрашивая позволения, сел.
— Я по поводу Пеева, дорогой. Изволь отменить приказ Павлова.
Они были на «ты»; министр побаивался парламентского льва, за которым стояли представители весьма влиятельных кругов.
Говедаров, не дав министру возразить, усилил нажим.
— Я за него ручаюсь. Надеюсь, этого достаточно?
Министр боялся депутатов, но царя — еще больше. Гешев мог, миновав всех, доложить Борису и дать подножку собственному начальству.
— Хорошо, я постараюсь… что могу… Я позвоню тебе завтра.
Из министерства Говедаров поехал к Буреву, усадил его в свой автомобиль, и полчаса спустя господин министр внутренних дел имел неудовольствие слушать возмущенный бас миллионера.
— А мне плевать на Гешева и Кузарова! Если понадобится, я дам пинок и тому, и другому.
Бурев мало считался с «пиететом» и правилами хорошего тона. Фунты стерлингов, доллары и рейхсмарки вполне позволяли ему вести себя так.
Стоя в дверях, Бурев подвел итог.
— Пеев — мой юрист. Прошу запомнить это.
Министр отменил приказ, и Павлов смирился.
С Буревым было опасно спорить. Промышленник финансировал многие правительственные мероприятия, вкладывал деньги в военные усилия и кредитовал князя Кирилла.
Гешев был тверже Павлова.
— Я не верю Пееву. Коммунисты не меняют коней — это аксиома.
— У вас есть факты?
— Интуиция и логика бывают сильнее фактов.
— Неубедительно. Ваши люди ничего не смогли добыть. Пожалуйте, тот рапорт Сиклунова — после поездки Пеева в Пловдив. Зачитать? «Пеев встречался в Пловдиве с генералом Марковым, командиром второй армии, с полковником Стефаном Димитровым, командующим артиллерией в Пловдиве, со Стефаном Стамболовым, адвокатом, с депутатом Георгием Говедаровым. Все они пользуются влиянием. К нему не приходил ни один коммунист, в которых в Пловдиве недостатка нет». Где же здесь криминал, господин Гешев?
— Будет и криминал, — пообещал Гешев и откланялся.
Не мог же он сказать министру, что новых арестов требует доктор Делиус. Гешев и Павлов были приняты им в посольстве и имели доверительную беседу. Майор абвера Отто Вагнер, предпочитавший настоящему имени псевдоним «Делиус», заявил, что чистка — необходимость. У него в Болгарии была своя агентура — по данным Гешева, огромная, — и документы полиции и контрразведки он читал едва ли не раньше полковника Костова и Павлова. Естественно, что ему было известно о раскрытии контрразведкой 76 подпольных коммунистических групп в течение только одного, 1942 года. Был он и в курсе того, что в 1-м и 6-м пехотных полках, в 1-м кавалерийском полку, в артиллерийской школе, транспортном батальоне, на аэродромах «Божуриште» и «Враждебна» действуют кружки и ячейки. Осведомители Делиуса, работавшие в РО, передали ему копию доклада Костова, где, в частности, говорилось: «Теперь уже не подлежит сомнению тот факт, что «наступление» коммунистов на армию было повсеместным, настойчивым и хорошо организованным… Они проникли во все без исключения войсковые части, управления и учреждения». Оценивая обстановку, майор Вагнер считал, что корни надо искать в среде гражданской, особенно среди интеллигентов, и, выкорчевывая их, не останавливаться ни перед чем.
Кроме того, на закуску Делиус выложил Павлову и Гешеву убийственную новость: пеленгаторы засекли в Софии несколько нелегальных раций.
Гешев потер щеку, словно умылся.
— Мы примем это к сведению, майор!
А что еще ответишь немцу? Он прав, целиком прав: проморгали.
«Будет и криминал», — пообещал Гешев министру.
Сиклунов получил распоряжение взять доктора Пеева под особый контроль. Его группе были приданы новые люди. Гешев не собирался отступать: это было не в его характере.
Павлов по собственной инициативе связался с Постовым. Попросил помочь. Полковник, хотя и не любил действовать совместно с полицией, пообещал прикрепить к спецгруппе Сиклунова нескольких агентов контрразведки.
Был на исходе 1942 год.
6
Впервые Отто Вагнер побывал в Болгарии в октябре 1939 года, когда адмирал Канарис, всемогущий глава абвера, командировал его в Софию в качестве помощника начальника отдела 1-А полковника Блоха, совершавшего инспекционную поездку. Адмирал считал, что агентура абвера на Балканах действует недостаточно энергично; Вагнеру поручалось подхлестнуть ее и, если потребуется, взять на себя руководство резидентурами. Всегда улыбающийся, светский, в безупречном костюме от дорогого портного, Вагнер, путями неисповедимыми, оказался вскоре вхож в столичные салоны, конторы промышленников и кабинеты политических деятелей. «Отто Делиус, коммерческий посредник» — значилось на его визитной карточке из бристольского картона.
В Софии Вагнер пробыл около месяца и вновь появился весной сорокового, уже в качестве торгового атташе при посольстве Германии. Короткое время спустя начальник РО подполковник Костов получил от него строго конфиденциальное письмо, в котором говорилось: «Дорогой подполковник! Как вы знаете, доктор Делиус — мой псевдоним. Я аккредитован при вашем Министерстве иностранных дел официально как доктор Отто Делиус, родившийся 12 февраля 1896 года в Фрейбурге. Необходимо поддерживать эту легенду, поскольку тайна — в интересах нашей специальной службы. Вам отдельно я представляю свои личные данные и прошу Вас держать их в секрете, чтобы никто не мог установить идентичность Делиуса и Вагнера. Делиус». Несколько позже, проясняя, кто есть кто, «торговый атташе» известил Костова, что он — «Отто Вагнер, майор, родился 14 апреля 1898 года в Мангейме. По служебному положению приравнен командиру полка». Естественно, что Делиус, не заинтересованный в широкой рекламе, не счел нужным добавить, что контрразведкам доброго десятка государств он известен под другими именами: доктор Фрей, доктор Кун и просто Кара. Умолчал он и о том, что Канарис ценит его как выдающегося специалиста по шпионажу и контршпионажу на Балканах.
В специальной инструкции, полученной Делиусом от Канариса, помимо прочих задач в качестве одной из важнейших выдвигалась проблема координации работы РО-2, РО-3, отделения «А», службы ДС в целом и жандармерии в борьбе с болгарской компартией. Делиусу предписывалось оказывать карательным органам Болгарии практическую помощь путем обмена опытом, передачи агентуры и проведения совместных акций.
За два года Делиус добился многого.
Секретный денежный фонд его был практически неограничен, и, не стесняясь в расходах, «торговый атташе» быстро собрал компрометирующие материалы на Гешева, Костова, Стоянова, Кузарова и Павлова. Он знал о каждом из них именно те подробности, которые эти господа предпочли бы забыть раз и навсегда, и постепенно, не опускаясь, впрочем, до грубого шантажа и предпочитая тактику слабо завуалированных намеков, прибрал к рукам их всех до одного. Комната Делиуса на втором этаже посольства превратилась в штаб-квартиру секретных служб, откуда он, не выходя за порог, влиял не только на болгарскую разведку и контрразведку, но и на двор и самого царя. В частности, ни в одной стране мира штатные сотрудники абвера не пользовались такими льготами, как в Болгарии. Через Костова офицеры Канариса получили легальные болгарские паспорта и особые удостоверения, обеспечивающие им экстерриториальность. Подобного не удавалось добиться ни одному эмиссару Канариса — даже тем, кто работал у Антонеску и Хорти в странах-сателлитах. Адмирал оценил достижения Вагнера и выразил ему особую благодарность. Впрочем, благодарил он не Вагнера и не Делиуса, а просто Доктора — именно этот псевдоним «торговый атташе» предпочитал всем прочим, хотя докторской степени не имел и образование пополнил не в университете, а у резидентов-практиков, под началом которых сделал первые шаги на поприще шпионажа, диверсий и террористических актов.
Пункт абвера, возглавляемый Доктором, был как бы государством в государстве — со своими законами, нравами и тайным судом, выносившим приговоры отступникам и инакомыслящим. Приведение приговоров в исполнение Доктор обычно поручал Гешеву или Кочо Стоянову, и те действовали молниеносно. Словом, все шло своим, хорошо организованным чередом, и ничто, казалось, не предвещало для Доктора потрясений.
И вот — рации!
Пеленгаторы, нащупавшие их, оказались бессильными определить конкретные пункты расположения передатчиков. Не поддавались и шифры, используемые для перекрытия текста.
После долгих колебаний Доктор информировал Берлин.
Колебания эти были вызваны деликатным обстоятельством: посол Бекерле терпеть не мог «торгового атташе», поскольку помимо дипломатических нес функции представителя гиммлеровской службы безопасности, в свою очередь раскинувшей в Болгарии агентурную сеть и конкурировавшей с абвером по всем статьям.
Сейчас Бекерле получал великолепный повод насолить коллеге Доктору, а рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер дорого дал бы за возможность нанести удар адмиралу Канарису.
Дело с радиостанциями получало первостепенное значение.
В Берлине Канарис и Гиммлер, каждый в своих интересах, были намерены выжать из «дела» максимум возможного. Доберись Делиус до передатчиков, и Канарис рапортовал бы рейхсканцелярии о новом блистательном достижении абвера, пекущегося неусыпно о государственном интересе империи. Опереди Бекерле Доктора с разгромом радиогрупп, и с таким же рапортом отправился бы Гиммлер, не преминув отметить при этом, что Канарис и его эмиссары оказались слепы и беспомощны.
Бекерле не опускался до знакомства с Гешевым или Павловым. Он предпочитал платить начальству, а не исполнителям и держал на содержании министров, парламентских лидеров и — на паритетных началах с британской Интеллидженс сервис — советника царя Любомира Лулчева.
Так, дело «О нелегальных радиостанциях в Софии» превратилось в своеобразный магнит, притянувший к себе сотни людей — от полицейского инспектора Сиклунова, с его безымянными, под номерами, агентами, до Лулчева, Канариса и Гиммлера, мнивших себя фигурами масштаба международного.
Обо всем этом Пеев не знал. Не догадывался он и о вмешательстве Доктора в расследование, хотя фамилия Делиуса была ему известна и раз или два он встречался с «торговым атташе» на официальных приемах в клубе Союза офицеров запаса. Делиус производил приятное впечатление — обходительная улыбка, остроумные реплики.
…Январь 1943-го.
Сталинград и разгром 300-тысячной войсковой группировки Паулюса словно камень стряхнули с сердца Пеева. Не камень — скалу. Митко, по молодости экспансивный, ликовал: «Фашистам конец!» Пеев и Елисавета не спорили с ним, но в разговорах между собой сходились на том, что немцы еще достаточно сильны и до конца войны, к сожалению, далеко. Той же точки зрения придерживался и Никифоров, черпавший из бесед с министром войны Миховым и начальником штаба Лукашем достоверные сведения о боеспособности и количестве дивизий вермахта. Союзники, опубликовавшие в свое время коммюнике о скором открытии второго фронта, не торопились сдержать слово, и Советская Армия, по существу, одна вела тяжелые сражения на европейских полях битвы. Ради жизни на земле, ради победы над нацизмом.
Во имя этой же цели делал все, что мог, и Александр Пеев.
Война…
Пеев превосходно понимал, что нейтралитет Болгарии день ото дня становится все более призрачным. Еще недавно беспечная София сейчас походила на фронтовой город, готовящийся к осаде.
Ввели затемнение и светомаскировку. По ночам улицы патрулировались солдатами и жандармами. Тех, у кого не было пропусков, и лиц, вызывающих сомнения, доставляли в казармы и участки. Оттуда зачастую задержанных, без судебных волокит, отправляли в концлагеря. Охрану военных объектов взяли на себя немцы, — солдаты в зеленых стальных шлемах стреляли без предупреждения.
Царь Борис счел необходимым свести к минимуму приемы и балы, отдавал дань обстановке. На войну было ассигновано сорок процентов бюджета — 8 миллиардов левов…
Гешев придал группе Сиклунова дополнительно 20 агентов, поручив проследить все без исключения связи Пеева и взять под надзор его знакомых.
«Тени» ходили за Пеевым по пятам. Становилось все труднее работать. Заметил шпиков и Никифоров. Однажды подвел Пеева к окну своего кабинета, показал.
— Как ты считаешь, Сашо, что это значит?
— Последствие ордеров на мой арест — тех, что Дирекции не удалось реализовать; ищут повод и прощупывают всех, с кем встречаюсь.
— Прекратим встречи?
— Это бросится в глаза. Нет, паниковать не стоит. У Дирекции в списках моих приятелей должно быть с полсотни имен, среди них «сговоровцы», монархисты, фашисты. Шарада, в которой легко запутаться. Но я рад, что ты заговорил об этом. Все может быть, Форе. Да, все! И я наметил тебя руководителем группы на случай, если со мной что-нибудь случится.
Никифоров не был суеверен, но тут не сдержался, трижды стукнул костяшками пальцев по деревянной крышке стола.
— Бог с тобой, Сашо!
— Это не шутки, Форе. Я обязан принять меры предосторожности.
…Он, действительно, принял все меры, какие мог.
Генерал-майор Никифор Никифоров, скорее всего, останется вне подозрений и сможет на ходу перенять руководство группой.
«Все мы ходим на острие меча», — думал Пеев. И был прав.
Где-то в середине февраля Попов тоже заметил, что за ним следят. Люди Любена Сиклунова всерьез взялись за изучение «Эльфы», обнаружив в журнале постоянной клиентуры фамилию и адрес Пеева. Не составляло труда выяснить, что обслуживанием «Блаупункта» доктора занимался сам технический руководитель мастерской. Гешев не делал из этого факта поспешных выводов, но решил проверить, почему Эмил оказывает такое предпочтение далеко не самому состоятельному клиенту.
Кроме того, отделение «А» интересовалось всеми софийскими радиотехниками без исключения. Костов на одном из совещаний выдвинул мысль, что радиста, скорее всего, следует искать среди специалистов. Он, конечно, считался с тем, что радиста могли специально перебросить через кордон, но наряду с этим версия о местном происхождении хозяина радиоточки требовала тщательной разработки.
Делиус, председательствовавший на совещании, пожал плечами.
— Допустим, он местный. Допустим, имеет отношение к радиомастерским. Как вы его выявите?
— Будем мобилизовывать радиотехников в армию. В Софии их около семидесяти. Уйдут в казармы один, другой, двадцатый, тридцатый, и бог даст, рация заглохнет. Кроме того, станет ясно кто.
— Как быстро это можно сделать?
— Не слишком скоро. У большинства есть законные льготы и отсрочки от призыва. Месяцев пять, я думаю.
— Это долго, — подвел Делиус итог. — Но действуйте! Как часть комплекса мероприятий — годится.
Радиомастерские закрывались одна за другой: «Симменс», «Камертон», «Эфир», «Электрон»… Рация работала, и Делиус ничем не мог успокоить Берлин, откуда все настоятельнее требовали конкретных результатов. Неспокойно чувствовал себя и посол Бекерле, получивший по прямому проводу нагоняй от Гиммлера. Рейхсфюрер не стеснялся в выражениях. «В вашем гардеробе семьдесят шесть костюмов, — жестко сказал он. — Не спорьте, я не ошибаюсь. Именно семьдесят шесть. Так вот, я знавал послов, которые сейчас довольствуются одним — арестантским. Не заставляйте меня разочаровываться в вас, Бекерле».
В марте повестку о призыве получил брат Эмила, числившийся основным владельцем «Эльфы». Ему предписывалось в трехдневный срок явиться в казарму. Следовало ожидать, что очередь Эмила надеть шинель не за горами, и тогда его «музыка» по наследству переходила к запасной радистке. Пеев не любил полагаться на авось и заранее четко распределил роли.
Педантизм? Что ж, он сам считал себя немножко педантом, относя это качество к числу деловых достоинств. Именно умение рационально организовать жизнь позволяло ему долгие годы совмещать бездонную по объему работу партийного функционера с археологическими изысканиями, адвокатской практикой, обязанностями депутата Народного собрания и редактора газет «Время», «Земледельческое знамя» и «Пахарь». Помимо этого он как-то ухитрялся найти в сутках час, чтобы заняться политическим образованием сына, вместе с Елисаветой посещал театры, кино, и никогда не уставал.
Сколько он помнил себя, дом — семейный дом Эль и его — был полон народу. Здесь подолгу жила многочисленная родня, дневали и ночевали друзья. По вечерам приходил, засиживаясь порой заполночь, Христо Топракчиев, знаменитый в Болгарии летчик-ас времен первой мировой. За ним на огонек заглядывал Христо Данов — археолог, начинавший свой путь в роли скромного участника исторического кружка, организованного Пеевым в Пловдиве.
А были еще приемы во дворце, традиционные посещения клуба, выступления в суде, консультации промышленников по коммерческому праву.
Были книги, которые он читал в огромном количестве.
Была марксистская литература, требовавшая тщательного изучения.
Было новое дело, ставшее архиважным, главным — руководство группой, выполнявшей сложные задачи.
Педант? Что же, пусть так. Если это на пользу, он согласен. В одном из рапортов Сиклунов отметил умение «объекта» в течение дня проделывать фантастическое количество дел. Он был цепок и наблюдателен, инспектор Любен Сиклунов, и полагал необходимым разрабатывать «объекты» всесторонне, с максимальной детализацией данных. Занявшись Пеевым и «Эльфой», он не поленился не только собрать характеристики на каждого из тридцати рабочих мастерской, но и составил абсолютно точный план двухкомнатной квартиры Эмила на улице Царя Симеона, 25, отметив на схеме, где стоит комод, а где фикус в кадке, описав замки на двери и расположение окон. Он и сам не знал, понадобится ли это или нет, но с жадностью скупца клал в свою полицейскую торбу и щепочку, и гаечку — впрок, на будущее. Одновременно, с неменьшей тщательностью, он изучал политическое лицо Эмила и представил Гешеву заключение, что технический руководитель «Эльфы»…«политически благонадежен».
— Это точно? — спросил Гешев.
— Каждый рабочий опрошен в отдельности. Квартальный надзиратель, со своей стороны, отзывается положительно.
Гешев захлопнул папку с бумагами, положил в нижний ящик стола. Значит, не Попов… Надо искать.
Линии пеленгов, прочерченные операторами пеленгаторных автобусов, сходились на квартале возле церкви святого Георгия — настоящем муравейнике, с тысячами жителей. Нечего было и думать о повальных обысках: они, скорее, предупредили бы радиста об опасности, чем вывели бы на него. Представлялось нереальным внедрение агентуры. В каждую квартиру не внедришь! Как же быть? Долгое время в Софии работали три рации. Потом две умолкли, перестали выходить в эфир, перебравшись в другие города, где их засекли на старых частотах. Оставалась одна, последняя, выявления которой Доктор требовал с таким выражением лица, что у Гешева по спине пробегал холодок. Кроме того, отделение «А» занималось поисками неуловимой нелегальной радиостанции «Христо Ботев», используемой коммунистами для широковещательных передач, подрывавших моральный дух населения. О Германии и ее фюрере дикторы «Христо Ботева» говорили такое, что Доктор белел от ярости.
В последнее время, к удовольствию Делиуса, слышимость станции заметно ухудшилась. Порой голоса дикторов полностью «затухали»… Пеев, со своей стороны, также отметил этот факт и в очередной телеграмме Центру просил, если есть возможность, принять меры к улучшению слышимости. В этой телеграмме он особо подчеркивал, что «Христо Ботев» пользуется огромным влиянием и авторитетом в народе. Сам он ежевечерне, в привычный час настраивал «Блаупункт» на нужную волну и слушал болгарскую речь — спокойный голос диктора, перечислявшего города, оставленные гитлеровцами под ударами советских войск. Каждое сообщение было как праздник.
Передача кончалась, и Пеев подходил к окну, отдергивал штору. «Тень» стояла на противоположной стороне бульвара, у парапета, сжавшего гранитом крохотную речушку. Всегда в одном и том же месте. Постоянная, как календарь.
Сиклунов и его люди не даром ели свой хлеб. Гешев ежедневно, в пачке других, получал сводку-отчет о каждом шаге доктора Пеева. В столе у него лежал ордер на превентивный арест. Должен же доктор дать повод! Черт побери, неужели зацепка так и не сыщется?.. Ничего, доберемся!
Впрочем, о Пееве Гешев думал так, походя. Одно из многих дел в общей текучке. Гораздо больше занимало его сейчас предложение, высказанное Доктором на очередном совещании с участием Павлова и Костова.
Берлинские специалисты подсказали Делиусу остроумный «ход».
В свое время, занимаясь поисками нелегальных раций в Брюсселе, корифеи функабвера, удостоверившись, что передатчики сидят где-то в районе Моллеенбек, стали последовательно, дом за домом, отключать электричество в определенном квартале, сужая круг поисков.
Это заняло около недели.
На восьмой или девятый день движение рубильника, выключившего электроэнергию, заставило станцию умолкнуть. Ток немедленно дали снова, и рация заработала, закуковала, но теперь она уже была в силках: контрразведка знала номер дома, а остальное было делом техники.
Делиус по-военному коротко изложил свою идею.
— Ваше мнение, господа?
— Превосходная мысль, — первым сказал Гешев. — Отделение «А» берется реализовать ее в Софии.
За бесстрастной маской бескорыстного службиста Гешев скрывал бешеное честолюбие. Неудовлетворенное. Требующее лавров и наград. Когда-то оно толкнуло его, выходца из бедной семьи, всеми правдами и неправдами добиться возможности поступить в университет. Профессора считали его способности более чем скромными, утверждали, что адвоката из него не выйдет. Он и сам понимал, что это так; почти не занимался изучением права, сконцентрировав внимание на криминалистике. Диплом ему дали словно из милости, но криминалистику и полицейскую технику Никола Гешев знал назубок! В Дирекции полиции на сереньком фоне самоучек знание это вывело его в первые ряды. В первые, но не на вершину. Начальником службы державной сигурности стал карьерист Павлов — человек весьма средних способностей. Как знать, не отметит ли Доктор рвение Гешева и не поможет ли пересесть в более высокое кресло?
— Отделение «А» сочтет выполнение операции делом чести!
Делиус внимательно оглядел Гешева.
— Вот как? Может быть, действительно, есть смысл, господин Павлов, поручить акцию Гешеву? Вы поможете ему, полковник Костов?
Костов, обиженный — перехватили — не подал виду. Сказал:
— Само собой.
— Я дам вам для усиления группы двух своих офицеров.
Встал. Коротким кивком закрыл совещание. У двери придержал Гешева за локоть. Посмотрел в упор — глаза голубые, острые. И опять у Гешева, как бывало уже не раз, по спине пополз леденящий холодок.
7
День был ясным, радостно-теплым, и Пеев, продлевая удовольствие от прогулки, не спеша шел по бульвару. Желтые плиты, окропленные дворниками из леек, зеркально отражали солнечные лучи. Плиты эти были одной из достопримечательностей Софии, может быть менее значительной, чем, скажем, готика летней резиденции царя в Лозенеце или ажурные узоры мечети Аль-Буюк, но тоже, на свой лад, необычной. Горожане гордились ими, хвастались перед приезжими. Говорили, что предок Бориса III, Фердинанд, купил их не то в Будапеште, не то в Вене, перекрыв на торгах сумму, предложенную Францем-Иосифом, и что других таких нет во всей Европе, а возможно, и в мире. Утверждали, что они не боятся ни времени, ни перепадов температур, ни ударов любой силы — вечны, как пирамида Хеопса. Пеев знал эту историю и сейчас разглядывал желтые многоугольники, словно видел впервые. Они были с секретом: мастер-австриец нигде не запатентовал состав и, умирая, унес с собой рецептуру, так и не сообщив потомкам, какие компоненты нужны, чтобы создать материал, по виду схожий с керамикой, а по прочности — со сталью.
Тайна. Она притягивала и волновала.
«Кончится война, — подумал Пеев, — займусь ими вплотную. Интереснейшая это штука, секреты старых умельцев. Нельзя, чтобы они пропадали, уходили из рук человечества».
Дело, назначенное на сегодня в суде, неожиданно отложили, и у Пеева появились два совершенно свободных часа — незапланированный отдых. Он шел, каблуки мягко стучали по плитам, солнечное тепло растекалось по коже, и было так хорошо, как в детстве, когда нет у тебя взрослых забот, деловой канители, оплетающей сутки жесткими путами.
Впрочем, а было ли оно беззаботным, детство?
Сколько он помнил себя, всегда находились дела — великое множество дел, порожденных нуждой. Отец, Костакий Пеев, небогатый купец, уделял торговле времени меньше, чем политике. В доме его бурно витийствовали те, кто причислял себя к «общественным деятелям». Здесь, в пловдивском особнячке, была основана партия «народняков», ура-патриотическая, ставшая в последующие два десятилетия откровенно шовинистической. «Народняки» несколько раз становились правящей партией, но счастья это Болгарии не принесло. Увлекшись политикой, Костакий Пеев разорился дотла. Тринадцать его детей едва ли не голодали, дом ветшал, и Сашо — главный столяр в семье — то и дело чинил изъеденные жучком половицы, укреплял грозивший обрушиться балкон, бегал в лавочку, торговался с хозяином, помогая матери экономить стотинки. Мало кто догадывался, что кмет Пловдива Костакий Пеев, бывший министр Восточной Румелии, два десятка лет несший на плечах почетное бремя «отца города», балансирует на грани нищеты, и Сашо, его любимцу, приходится самому латать дырявые подметки.
Детство… Его как будто и не было.
И юность тоже уплотнилась, сжалась до предела во времени. Похоже, он как-то сразу, минуя множество стадий, шагнул в зрелость — пору настоящих, исполненных смысла забот.
«Народняки» в доме Костакия Пеева спорили до хрипоты. Вслушиваясь, Сашо едва удерживался от реплик. В кружке тесняков он доставал социалистическую литературу, читал Маркса, Ленина. Болтовня об общенародном благоденствии под эгидой просвещенной монархии вызывала желание вмешаться, спросить: «Кого обманываете, господа?»
В 1909-м Александр познакомился с Елисаветой. Девушка училась в классе у Харитины, сестры, и у нее же занималась в нелегальном кружке. Их сблизил реферат, написанный Пеевым и прочитанный Харитиной. «…Полная анархия в производстве и распределении сейчас создает то, что миллионы человеческих существ живут в нужде, не зная отдыха, борясь с голодом». Тоненькая девочка — голубые, родниковой чистоты глаза — подошла к нему, робко спросила: «Это вы написали? У вас есть время поговорить со мной?»
Через несколько месяцев он сделал ей предложение. Получил согласие и заказал два обручальных кольца. На внутренней стороне колец было выгравировано: «ЦЖ. 26 августа 1909 г.» Буквы «ЦЖ» означали — «На целую жизнь». Попа, повенчавшего их и посвященного в то, что банковское удостоверение о капитале 5 тысяч левов подложное, сослали в монастырь. Пеева из армии уволили, и чета уехала в Софию. Денег едва хватило, чтобы снять комнату на чердаке. Здесь и жили, кормясь самым дешевым — горными травами, салатом. Сашо приняли в университет, а Эль отказали: родители спрятали ее документы, заявив, что не желают видеть дочь рядом с голодранцем. Эль пошла к декану, профессору Иширкову, тот зачислил ее на курс условно… В 1912-м Пеева призвали. Балканская война.
Окопы, ранение и тройное офицерское жалование за «нахождение на театре военных действий». Деньги, полученные за пролитую кровь, позволили уехать в Брюссель, завершить образование.
Уехал студентом-недоучкой в капитанских погонах, приехал назад доктором права, адвокатом. Казалось бы, все устроилось, но он упрямо не хотел «благополучия». Продолжал работать во имя лучшего будущего.
Одиннадцать краткосрочных арестов, два заключения в концлагеря.
Когда вернулся домой после второго, многомесячного, сын был сильно болен, лежал в жару. Денег в доме не было… Пеев наклонился над кроватью Митко, закусил губу. Сказал Эль:
— Уж лучше б я заболел!
Сын услышал, возразил серьезно:
— Что ты, папа, ты должен быть здоровым, чтобы зарабатывать…
Ему было шесть лет, и он уже хорошо знал, как плохо жить без отца.
Митко и Эль. «ЦЖ» — на целую жизнь.
Шагая по желтым плитам бульвара, Пеев размышлял.
Диалектика развития и борьбы…
Она разводит по разные стороны исторического барьера, и она же с предельной четкостью, в годы испытаний, делит людей на друзей и врагов. Порой неожиданно делит, и союзником, соратником становится тот, кто вопреки происхождению и воспитанию, привычной среде делает правильный выбор… Вот, скажем, Янко. Дипломатический лев Янко Панайотов Пеев. Кровное родство здесь роли не играет. Чепуха это, «голос крови» и все такое прочее. Янко родился в семье генерала, начальника тыла болгарской армии. Окончил Сорбонну. Отец его, отдыхая за письменным столом от штабных бумаг и дворцовых приемов, писал книги — злую сатиру, высмеивающую нравы двора. Писал, ну и что? Мешало ли это ему получать кресты и чины? Нет, нисколько. Фердинанд и сам любил почитывать сатиры генерала, случалось, выбирал из них словечки посмешнее и вворачивал в разговорах. Янко Пеев пришел к отрицанию монархии через знание ее сокровенных тайн, через «вольтерьянство», неверие, разочарование — сложный и извилистый путь.
Сейчас он получил назначение в Токио — посол его величества Бориса III, царя болгар, при дворе божественного микадо…
Пеев свернул с бульвара, осторожно оглянулся через плечо. «Тень» индифферентно вышагивала сзади, держась шагах в двадцати, не увеличивая и не укорачивая дистанции. В саду у питьевого фонтанчика Пеев уронил платок, нагнулся и привычным движением сунул под плиту два крохотных комочка папиросной бумаги. В шифровках были сведения от Георгиева из Берлина и сообщения от Никифорова. Форе тоже не сидел сложа руки: его приятельские отношения с новым министром Миховым крепли, и генерал был откровенен, как до него Даскалов. Никифоров на днях пожаловался министру на слежку. Михов позвонил Костову, хотел задать головомойку, но полковник заверил его, что люди РО не имеют отношения к наблюдению за начальником ВСО. «Павлов переходит границы, — раздраженно сказал Михов. — Я займусь этим. Вас не будут беспокоить, генерал!» Он еще долго распространялся на тему о шпиономании, раздуваемой Павловым и Гешевым, а кончил признанием, что и за ним самим, похоже, приглядывают агенты отделения «А». Костов, по негласному распоряжению Михова перетряхнувший штат канцелярии министра, выявил адъютанта и порученца, состоящих на содержании у службы ДС, и посоветовал не поднимать скандала, а перевести обоих в провинциальные гарнизоны.
— Они и себе самим не верят, Павлов и Гешев, — закончил министр. — Я скажу Костову, он их одернет.
Никифоров подумал: «Гешеву чихать на Костова», — но вслух ничего не сказал. Поблагодарил Михова, а заодно, будто вскользь, поинтересовался, под чьей юрисдикцией, по мнению министра, будут штабные офицеры германских дивизий, прибывающих в Болгарию в апреле? Подлежат ли они ответственности перед окружными инстанциями за уголовно наказуемые проступки или же будут подсудны «кригсгерихтам»? Вопрос был спорный, поднимали его не раз, и Михов живо поддержал беседу, сказав, что Никифорову, очевидно, придется вступить в прямые переговоры с генералами — командирами тех двух дивизий, которые ожидаются из Греции… Никифоров утрамбовал в памяти фамилии генералов и даты прибытия соединений и, обогащенный данными, нужными Пееву, откланялся.
«Тень» проводила его от здания министерства войны до дома на улице Аксакова. Гешев умел заставить своих агентов стараться вовсю. Про Николу Гешева говорили, что он «женат на полиции». Собственной квартиры у него как будто не было; ночевал он чаще всего в кабинете, здесь же обедал, завтракал и ужинал. Сюда — редко — приводил женщин… «Настоящий фанатик сыскного дела, — подумал Никифоров. — Такой и мать родную не помилует».
Страх — не за себя, за Сашо — на миг сдавил сердце. «Не дай бог!.. Нет, нет, не хочу даже думать об этом! Но почему он настоял, чтобы меня считали преемником? Неужели?..»
Усилием воли Никифоров усадил себя за стол. Взялся за папки с бумагами. На отдельном листочке торопливым косым почерком, сокращая слова, записал данные, полученные от Михова. Пеев обычно заходил в дом на улице Аксакова после трех. На часах было два с минутами.
…Желтые плиты. Желтый от солнца день.
Пеев вытер платком намокшие усы, отошел от фонтанчика. «Тень» двинулась следом, не удаляясь и не приближаясь. Приходилось отказаться от мысли заглянуть в «Эльфу» и поговорить с Эмилом. Убрал ли Попов бомбы и ротатор из дома? Второй передатчик, кажется, еще не готов.
Думая об этом, Пеев дошел до кофейни бай Спиро. Сел за столик, заказал стакан бозы и газету. Бай Спиро принес «Мир», уныло сверстанную, со слепой печатью на ноздреватой, скверного качества бумаге… Здесь, в кофейне, пароль Испанца свел Пеева и Эмила. Более трех лет назад… Неужели так давно? Тридцать шесть месяцев. Что ж, группа неплохо поработала… А где же филер? Ах, вот он, за окном. Не заходит. Надо обязательно повидаться с Поповым и предостеречь.
15 апреля 1943 года.
Первый по-настоящему теплый день весны.
Эмил вечером, готовясь к радиосеансу, не закрыл окна: не хотелось, чтобы исчезло струившееся с улицы тепло. Отблеск заката лежал на ветвях деревьев и тротуаре. Эмил разглядывал его, словно чудо, а пальцы сами по себе привычно придавливали головку радиоключа. Колонки цифр шифровки, превращаясь в точки, тире Морзе, устремлялись в эфир, недоступные уху плыли над Софией — на север, в Центр.
Тоненький — голоском сверчка — писк в наушниках.
Точка, точка, тире…
И вдруг — пауза.
Эмил щелкнул тумблером, механически проверил штеккеры на входе. Все было в порядке, но передатчик не работал. Стрелка на индикаторе напряжения упала к риске «ноль». Что за черт? Перегорели пробки или авария на электростанции?
Эмил снял наушники, выглянул в окно. В окнах соседей не было света. Значит, весь дом без энергии. Вот уж некстати: время радиосеанса строго лимитировано, операторы Центра, не дождавшись продолжения, могут уйти из эфира, и тогда придется ждать до завтра.
Света не было три минуты.
Через сто восемьдесят секунд передатчик ожил.
Пальцы — на ключ, и вот вновь поплыли в эфир: точки, тире. «По сведениям, полученным в компетентных кругах, немцы собираются…»
На ветвях дерева и тротуаре, угасая, уже не золотом, багрянцем отсвечивал закат. Словно кровью облили…
— Ну как кебабче, Белина? Хватит работать, ужинать пора!
Хороший день. Жаль, что кончается.
Ничего, завтра будет не хуже.
Завтра…
8
Пеленгаторы прощупывали эфир.
Команды пеленгомашин, в полном составе переведенные из Германии по распоряжению руководства отдела «Восток» функабвера, были укомплектованы специалистами, имевшими многолетний опыт выявления нелегальных передатчиков. Часть из них еще недавно входила в состав 621-й радиороты, сумевшей обнаружить в Брюсселе и Париже радиогруппы советских разведчиков, охота за которыми шла свыше трех лет. «Брюссельцы» и «парижане» использовали ухищренные методы передач, и начальнику функабвера, генералу Фельгибелю, не раз приходилось получать взыскания от Кейтеля за проявляемую им якобы медлительность при поисках раций.
Операцией по выявлению русских радиогрупп занимались и Гиммлер, и Канарис; ей придавали огромное значение в рейхсканцелярии, а результатов все не было. Начальник РСХА обергруппенфюрер Кальтенбруннер и адмирал Фридрих Вильгельм Канарис, на время забыв о распрях между военной разведкой и службой безопасности, были вынуждены создать совместный штаб по борьбе с «парижанами» и «брюссельцами», за каждой акцией которых наблюдали не только они, но и Борман, и Гитлер. Наконец операторам 621-й радиороты повезло, и генерал Фельгибель смог, с облегчением вздохнув, выполнить настоятельную просьбу Делиуса о переводе части специалистов в Болгарию. Пеленгоавтобусы, совершив путешествие через половину Европы, прибыли в Софию и поступили под начало полицейатташе при германском посольстве капитана Гофмана.
Четыре автобуса Гофман, с санкции Доктора, выделил РО, четыре — службе ДС. Глава службы Павел Павлов переподчинил их Николе Гешеву, подстраховываясь на случай неуспеха.
И не зря!
Шесть с лишним месяцев пеленгаторы, квадрат за квадратом обшаривая Софию, не могли засечь точных координат нелегальных передатчиков Центра. Стопка перехваченных радиограмм все росла, а Доктор и Гофман были все еще далеки от цели. Кончилось тем, что две из трех нелегальных раций перебазировались в провинцию, на время ускользнули от функабвера, а последняя, засевшая где-то в квартале церкви святого Георгия, куковала и куковала, доводя операторов до тихого отчаяния. Радист работал с поразительной быстротой, сеанс кончался раньше, чем пеленгаторы успевали засечь его по параметрам, необходимым для фиксации на «сетке», и оставалось одно — докладывать Гофману, как и прежде, что районом поисков остается целая зона с десятками домов, сотнями квартир и тысячами жителей.
Число перехваченных шифрограмм перевалило за семьдесят. Доктор после очередного нагоняя из Берлина устраивал разносы Гофману, тот раздавал выговоры командирам пеленгоавтобусов, а Костров и Гешев, по своим каналам, жаловались послу Бекерле, обвиняя функабвер в отсутствии рвения. Как и в случае с «парижанами» и «брюссельцами», дело дошло до рейхсканцелярии, до Бормана; и обстановка накалилась. Делиусу пригрозили Восточным фронтом.
Шесть с лишним месяцев!..
Рация, засевшая где-то возле церкви святого Георгия, мало-помалу превратилась в кошмар, равно опасный для Доктора, Гофмана, Костова, Павлова, Гешева, Стоянова и Кузарова. Семь специальных служб занимались ею — и безрезультатно.
Павел Павлов имел повод похвалить себя за предусмотрительность. Если бы не подсказка из Берлина о трюке с электроэнергией, операторам и сейчас предстояло бы довольствоваться ролью регистраторов передач.
15 апреля оказалось переломным.
Диспетчер городской энергосети, действовавший по плану отделения «А», «вырубил» дом 25 по улице Царя Симеона. Рация умолкла — на три минуты. Список жильцов дома, немедленно доставленный Гешеву спецгруппой инспектора Сиклунова, содержал среди прочих фамилию радиоспециалиста Эмила Попова. Гешев, не сдержавшись, швырнул в лицо Сиклунову бумаги: «Не ты ли писал в докладной «благонадежен»?!» Сиклунов побагровел, пачка бумажек хлестнула по щеке, как пощечина.
Всю ночь Гешев, запершись, просидел в кабинете. Телефоны были отключены, срочные донесения агентов, требовавшие резолюций и виз начальства, переадресовывались к заместителям шефа отделения «А», специально вызванным для такого случая из дому. Кузаров и Павлов, пытавшиеся по прямому проводу связаться с Гешевым и получить от него какие-то разъяснения, получили короткий ответ: «Потерпите до утра». Не добавив ни слова, Гешев положил трубку.
Досье Эмила Попова, и только оно одно, занимало Гешева сейчас.
Рапорты и сводки были давно знакомы, но он перечитывал их вновь и вновь, подчеркивал красным карандашом фразы, не привлекавшие прежде внимания. Секретарь четырежды приносил крепчайший черный кофе. В пятый раз Гешев вызвал его звонком, чтобы приказать доставить досье доктора Александра Костадинова Пеева.
«Заходил в сад. Стоял у фонтанчика, пил воду. Ничего предосудительного не совершал, контактов не имел…» Красный карандаш Гешева выделил из текста рапортов эту фразу. Варьируясь в словосочетаниях, но везде единая по смыслу фраза о саде и фонтанчике кочевала из рапорта в рапорт, и даты посещения сада доктором Пеевым и радиотехником Поповым совпадали. Пеев приходил днем, около трех; в три тринадцать — три пятнадцать у фонтанчика с питьевой водой появлялся Эмил. Тайник и цепочка связи. Как же Сиклунов прохлопал ее?!
На двух отдельных листах, тщательно сверяясь с досье, Гешев написал фамилии и адреса людей, близких подозреваемым.
С доктором Пеевым оказались так или иначе связанными промышленник Симеон Бурев, генерал Лукаш, генерал Марков, командующий 2-й фракийской армией, премьер Богдан Филов, полковник Стефан Димитров из Пловдивского гарнизона — дальний родственник, начальник военно-судебного отдела генерал-майор Никифор Никифоров, парламентарий Георгий Говедаров, архимиллионер Стоян Николов, полковник запаса Василев, генерал Луков, шеф жандармерии Кочо Стоянов, еженедельно обедавший с доктором в клубе Союза офицеров запаса, стажер Берлинского университета Александр Георгиев, посол в Токио Янко Пеев… С ума можно сойти! Высший свет и — вдобавок! — командир отдельного корпуса жандармов!
На полях списка Гешев написал: «Чудовищно!» Придвинул второй листок…
Здесь разношерстная публика, которую Попов, вполне возможно, использовал на связи, для отдельных поручений и сбора мелкой информации.
Сбоку Гешев приписал: «Сиклунов! Разберись и всех проверь».
Утром, с глазами красными от бессонницы, созвал своих заместителей, Сиклунова, следователя Милко Ангелова — восходящее светило отделения «А», переведенного под крыло Гешева из уголовной полиции.
Коротко, в самых общих чертах, изложил план.
Выслушал предложения, сошедшиеся на том, что первым надо брать Попова, во время радиосеанса. Через час вместе с Павловым поехал в германское посольство. Делиус пригласил Гофмана, придирчиво выспросил подробности и одобрил план.
К 16.00 четыре пеленгоавтобуса были стянуты в район церкви святого Георгия.
Расположившись веером, настроились на известную частоту.
16.30.
«МСК вызывает ЛНТ… МСК для ЛНТ…»
Четыре оператора уверенно засекли рацию.
Вызов, повторенный несколько раз подряд… Пауза… Короткий ответ корреспондирующей станции.
Сиклунов и группа захвата быстро, стараясь не шуметь, поднялись по лестнице дома 25. Один из агентов, помудрив над замком, вскрыл его отмычкой.
Попов не успел сдернуть наушники.
— Руки на колени! Вы арестованы!
Из-за спин агентов Сиклунова выдвинулись два немца, офицеры абвера, выделенные Доктором. Ловко, с профессиональной сноровкой надели на Попова наручники. Лицо Эмила дернулось: от виска ко рту пробежала судорога.
— Ну, ну, — сказал Сиклунов. — Не падай в обморок!
Эмил промолчал.
Немец выдернул из передатчика антенну, смотал ее; откинул зеленый щиток рации, зачем-то поколупал пальцем защитную краску. Сказал второму:
— Русская модель, это несомненно.
Он был экспертом, и Доктор не случайно включил его в группу захвата.
Гешев, мягко ступая по скрипящим половицам и наклонив голову к правому плечу, обошел комнату. Сделал знак агентам: начинайте. Эмил сидел, не поднимая глаз, словно ослеп и оглох. Агенты быстро, не суетясь, открывали ящики комода, перекладывали белье, взламывали половицы, а он застыл, немой и равнодушный, точно, происходящее касалось кого-то постороннего, не его. Сиклунов, возившийся в коридоре, тихонько свистнул, вошел в комнату с сияющим лицом. В руках пухленькая пачка папиросных бумажек. Гешев взял их, не рассматривая, положил в карман. Следователь Ангелов, пристроив папку на коленях, писал протокол обыска.
Все было так просто и деловито, что Эмилу стало жутко.
Ни криков: «Говори!», ни побоев, на которые Гешев, по слухам, так щедр. Ничего! Будто шло рядовое, порядком наскучившее дело…
В восемь с минутами обыск закончился.
Гешев сказал:
— Ну пошли.
На улице не было машин. Плотно сомкнувшимся кольцом окружили Попова, сели в трамвай. Агенты спинами отгородили Эмила от пассажиров. На остановке у Львова моста сошли, прогулочным шагом — цепочкой — добрались до четырехэтажного, выкрашенного охрой здания Дирекции полиции. Переступая порог, Эмил споткнулся, его поддержали.
— Входи!
В кабинете Гешева, в уголке, на самом краешке стула скромненько — руки на коленях — сидел Гармидол. Хотел было встать и уйти, но начальник жестом удержал его. Невыразительно спросил Попова:
— Знаешь, кто это?
Эмил бросил взгляд на полицейского: непомерной ширины плечи, сломанный нос профессионального боксера, расплющенные уши.
— Это Гармидол, — сказал Гешев, и Эмил вздрогнул.
Страшная слава пыточника гуляла по всей Болгарии.
— Хочу верить, — сказал Гешев мягко, — что здесь ему не найдется работы. Ты сиди, Гармидол, отдыхай пока. И ты садись, Попов. Кофе хочешь?
— Нет, — сказал Эмил.
Единственное, чего ему хотелось сейчас, — умереть.
Гешев по привычке склонил голову к правому плечу, предложил:
— Давай поговорим, а? Ты только радист или, по совместительству, руководитель? Или нет? Руководитель — другое лицо, может быть, русский?
— Я не буду отвечать.
— Почему же? Улики налицо. Или это у вас так положено — запираться до конца?
Эмил повторил:
— Я не буду отвечать.
Ангелов записал в протокол его ответ. Немцы, сидевшие у стены, выпрямив спины, с непроницаемыми лицами вслушивались в разговор. Они понимали по-болгарски, говорили тоже свободно, но пока не вмешивались. Свое дело они сделали, теперь очередь Дирекции полиции.
Гешев вынул из кармана шифровки, найденные в тайнике. Разгладил их, пересчитал. Прижал кнопку звонка и приказал секретарю:
— Отправьте полковнику Костову копии. Подлинники — в наше отделение дешифровки. Немедленно.
Похоже, он считал песенку Эмила спетой, не делал тайны не из чего. Эмил вспомнил, что в квартире остались агенты — засада. Скоро придет сестра. «Что же будет?!» От Марии к Ивану Владкову протянется ниточка, которую ему, Эмилу, отсюда не оборвать. Молчать нельзя! Глупо молчать. Надо говорить, вроде бы признаваться, брать все на себя. Надо отвести удар от друзей… Значит, такая линия поведения: работал с рацией один, руководитель лично не известен, шифровки брал в тайниках. Каких и где? Что придумать?..
— О чем замечтался, Попов?
Гешев приподнял голову от плеча, улыбаясь, посмотрел на Эмила.
— Глупо…
— Что «глупо»?
— Запираться, — сказал Эмил, радуясь, что голос звучит достаточно ровно. — Вы правы, улики налицо.
— Что же ты нам расскажешь?
— Все.
— Ну, начинай, а мы послушаем.
— Хорошо. Я радист, позывные станции МСК. Регулярное расписание: с шестнадцати тридцати по софийскому до семнадцати. С паузами для смены частот.
Ангелов, попискивая вечным пером, заполнял протокол. Павлов стоял у окна, разглядывал улицу.
Стекло было серым, плохо промытым. Люстра под потолком едва желтела: день еще не кончился и в комнату врывалось солнце. Сквозь мутное стекло окна Эмил видел Витошу, затуманенную у вершины; с улицы доносились голоса…
— Продолжай, Попов, — сказал Гешев. — Это очень интересно. А кто руководил?
— Я его не знаю.
— Вы не встречались?
— Ни разу.
— Так я и думал, — соглашаясь, сказал Гешев.
Оба немца встали, чопорно дернули подбородками, пошли к выходу. Им больше нечего было здесь делать. В дверях задержались. С шумом, бряцая шпорами, не вошел, ворвался генерал Кочо Стоянов.
— Здравствуйте, господа! Этот?
— Радист, — сказал Павлов от окна. — Он же Эмил Попов, технический руководитель мастерской «Эльфа».
— Молчит?
— Говорит, но мало.
Стоянов молча обошел Попова, словно вещь. Стал за спиной:
— Почему мало говоришь?
— Он работал на Москву, — бесцветно докончил Павлов.
Стоянов сделал шаг, другой, стал напротив. Наклонился. Не замахиваясь, неожиданно ударил Эмила в лицо.
— Ах ты!..
Гешев поспешил вмешаться.
— Бить не надо!
Кочо Стоянов был истериком. Глаза его налились кровью, губы дрожали. Сто килограммов мускулов и жира, облаченные в мундир, надвинулись на Гешева.
— Ты кому приказываешь?
Павлов нехотя повернулся от окна.
— Здесь мы командуем, генерал.
Гешев сказал Ангелову:
— Забирайте его в камеру. Там допросите. Лучше, если он все напишет сам. Да и снимите цепочки. Он не медведь, а здесь не цирк. Сиклунов, помоги Ангелову! Быстро, быстро!
Эмила взяли под руки, повели к двери. У выхода он оглянулся: Павлов, покачиваясь на носках, стоял перед Стояновым, прищурясь рассматривал квадратное лицо генерала.
— Иди, иди, Попов! Ночью увидимся. Гармидол, вон отсюда!
Кочо Стоянов был конкурентом, влез без приглашения, и Гешев, когда Попова увели, не церемонился. Грозный вид шефа жандармерии его не пугал. Кочо — властелин живота своих жандармов — был холуем Филова, а тот во многом зависел от Доктора и Бекерле. Делиус же, санкционируя план операции, запретил применять к радисту «третью степень». У него были свои виды на Попова, и сейчас Стоянов едва не спутал все карты.
Без посторонних Гешев отбросил вежливое «вы».
— Слушай, Кочо! Ты не у себя в жандармерии. Пришел, так сиди спокойно. Не мешай. Иначе Лулчев приведет тебя в чувство.
— Я служу царю!
— Только ли? Вот тут у меня лежит список лиц, от которых резидент получал информацию и с которыми дружил. Там числишься и ты, Кочо! Я не шучу.
— Это так, — с ленцой сказал Павлов. — Поезжай домой и не приходи сюда без надобности.
Стоянов с размаху хлопнул дверью.
Павлов помедлил, прислушался.
— Когда будем брать Пеева, Гешев?
— Полагаю, завтра.
— Почему не сегодня?
— За сутки в квартиру Попова могут прийти люди… Разные посетители. Посмотрим, что даст засада, и если арестуем кого-нибудь, то допросим. Как знать, не получим ли данных о Пееве?
— А если он узнает об аресте Попова?
— Не страшно. Оборвать связи разом нельзя. Надо предупредить того, этого. Пусть побегает по городу, поводит «хвост» и засветит своих сотрудников.
— Рискованно!
— Да, риск есть, но и польза не мала.
— На вашу ответственность, Гешев.
Вечером в квартире Попова задержали его сестру. При личном обыске у нее ничего не обнаружили, но агенты, следуя инструкции, отобрали краткое письменное объяснение и отвезли Марию в Дирекцию. Архивисты Дирекции полиции и служащие сектора учета службы державной сигурности пересматривали десятки папок и досье, отбирая материалы, имеющие отношение к тем, кто был внесен Гешевым в список № 2.
Марию задержали до утра. Гешев не стал с ней беседовать: из архива прислали лишь краткую справку, не давшую зацепок. Спрашивать же Марию, почему она посещает квартиру брата и не замечала ли она чего подозрительного в его поведении, мог только новичок, наивно полагающий, что сам факт ареста развязывает языки… Нет, на такую легкую удачу Гешев не надеялся. Решил подождать, а утром, судя по обстановке, принять решение.
Вторую ночь подряд Никола Гешев не ложился спать.
Пил кофе. Курил. Ждал.
Утром затрещали телефоны. Агенты, следившие за Пеевым, доносили о его маршруте. Кофейня у Орлова моста — банк — трамвай № 4 домой — снова банк — дом на улице Аксакова… Здесь, в коридорах, его потеряли. В здании было много контор, часть владельцев состояла клиентами адвоката; филерам не удалось с лестничной клетки определить, какую именно дверь открыл Пеев.
— Арестуем при выходе? — спросил по телефону Сиклунов.
— И не думай. Пусть ходит.
— Я послал своих к фонтанчику.
— Убери. Часа в четыре осторожно обыщите там все. Одень своих садовыми рабочими — халаты, секаторы, словом, как положено.
Из отдела дешифровки сообщили: шифр не поддается, нужен «ключ». В квартире Попова при обыске Йе Нашли ничего, что могло бы помочь криптографам. Костов, с которым Гешев проконсультировался, считал, что радисты, как правило, не сами пшфруют донесения. Код и работа с ним — прерогативы резидента. Показания Попова, принесенные Ангеловым, подтверждали это: «С руководителем группы я лично никогда не встречался, получал информацию в виде колонок цифр, отпечатанных на машинке. Содержание телеграмм мне не известно…»
— Больше не разговаривайте с ним, — сказал Гешев. — Пусть посидит в одиночке, поломает голову, почему не вызываем на допрос. Иногда неопределенность бывает страшнее всего.
— Я думал, что стоит намекнуть о Пееве.
— Черепаха бежит быстрее всех, так ей кажется.
Смысл габровской шутки обидно кольнул Ангелова, но спорить он не стал. В конце концов, начальству виднее.
В 17.0 °Cиклунов доложил: Пеев вышел из дома на улице Аксакова и отправился, по всей видимости, к себе, на бульвар Адольфа Гитлера; агенты продолжают наблюдение.
— Ну и прелестно, — сказал Гешев. — Ступай отдохни. Два часа в твоем распоряжении. Я и сам посплю.
Секретарь достал из шкафа подушку, серое солдатское одеяло. Постелил на диване. Гешев зевнул, перекрестил рот.
— Иди, секретарь. Я сосну часок. Разбудишь в полседьмого.
Лег. Натянул одеяло. Уже засыпая, скользнул мутнеющим взглядом по застекленному книжному шкафу. На полках, тесно прижатые друг к другу, стояли тома Маркса, Ленина, Димитрова — изъятая у арестованных нелегальная литература. Никола Гешев читал ее, и многие страницы знал наизусть…
В 18.30 секретарь разбудил его.
9
Обложка «Бай Ганю» совсем истрепалась. Пеев пользовался книгой уже три с половиной года, и каждая складка на странице, надрывы на супере и титуле были словно шрамы ветерана, прошедшего сквозь бои.
Три с половиной года на острие меча.
Тишина квартиры гулко отдавалась в висках. Треснула половица, и посторонний звук ударил по нервам. Пеев расстегнул рубашку, помассировал сердце. Оно билось с болезненной частотой, и Пеев подумал, что, слава богу, Елисавета не видит его сейчас и припадок не напугает ее. Он знал, что нервное истощение доходит до кризисной точки. На прошлой неделе врач, осмотрев его, предложил немедленно бросить практику и ехать на курорт. Сказал: иначе я ни за что не ручаюсь. Пеев, вручая врачу гонорар, подумал: «Какой уж тут курорт! Работать надо, работать…» Врач выписал рецепт, и Пеев собрался было зайти в аптеку, но кто-то встретился по дороге, отвлек, и лекарства так и остались не заказанными.
Впрочем, так ли уж это важно — лекарства? Валерьянка ему не нужна; кофеин и всякие там стимуляторы — тоже. Надо сменить обстановку, а это невозможно. Ни один солдат не смеет мечтать о демобилизации раньше, чем прозвучит последний выстрел войны. А это будет не завтра и не послезавтра, и «Бай Ганю» покроется новыми шрамами, и операторы Центра, измученные хроническим недосыпанием, не скоро уйдут на отдых.
Пеев сверился с «Бай Ганю» и вывел новую группу цифр. Колонки были длинными, и, чтобы перепечатать их на «ундервуде», требовалось не менее часа. Пеев прикинул и решил, что до возвращения Елисаветы, гостившей у приятельницы, успеет управиться, если поднажмет. Печатал он плохо, одним пальцем, и, кроме того, требовалась особая внимательность, чтобы не перепутать цифры, а это замедляло работу.
Еще раз сверившись с «Бай Ганю», Пеев потянулся через стол, открыл «сейф» — стенной деревянный шкафчик со старинным замком-секреткой. Достал несколько листков папиросной бумаги, задев по дороге мешочек из плотной парусины. Нежно и печально зазвенело золото. Кольца, колье, монеты. Это было чужое золото — символ не столько богатства, сколько беды. Его принес на днях лавочник Соломонов, попросил взять на сохранение. Давний клиент Пеева, еврей, он получил повестку в полицию и предписание о выезде из Болгарии. «Умоляю, доктор, — сказал Соломонов. — Сохраните это для внучат, надеюсь, их не тронут». Глаза у него были полны слез. Пеев взял мешочек, сел писать расписку. Соломонов пожал плечами: «Что вы! Найдут и узнают, что это у вас. Нет, нет, не надо! Вы же честный человек, ваше слово дороже расписки. Что будет с нами, доктор? С Басей, Рувиком, со мной?» Пеев промолчал. Он знал правду: 40 тысяч евреев решено выслать для уничтожения. Срок: апрель — май. Он сообщил об этом Центру 23 марта и тогда же информировал, что группа депутатов Народного собрания заявила Богдану Филову протест против антиеврейских мероприятий. Филов сунул протест под сукно.
Пеев запер «сейф» и заправил листок в машинку.
08725… 23691… 335…
Допечатать не успел.
Снова громко и отчетливо хрустнула половица. На этот раз так, точно ее придавил своим весом кто-то большой и тяжелый. Пеев оглянулся, слепо зашарил рукой по столу, нащупывая ампулу: от двери, с пистолетом у бедра, шел к нему человек в черном, высокий, с призрачно-белым лицом.
— Эй, эй, доктор! Не шути, пожалуйста.
Ох, как же быстро работает мысль! Ампула уже захвачена пальцами, а мозг отдает новый приказ: отпусти! Ни к чему. Я-то умру; это легко и просто и избавит от всего. Но тогда возьмутся за Елисавету и Митко… Все, что предназначено мне, выпадет на их долю. Я знаю, что буду молчать… Надо спасать Митко и Эль.
Сказал ненужную фразу:
— Кто вы такие?
Человек с алебастровым лицом нехорошо улыбнулся.
— Я Никола Гешев. Слышал, доктор?
От двери в комнату шагнули еще трое. Гешев повел в их сторону рукой с пистолетом.
— Это мои, хорошие парни, доктор! Знакомься: следователь Милко Ангелов, агенты Куков и Антонов… Ты сиди, не двигайся, доктор!
Обыск длился два часа. Куков в ровные пачки увязал книги. Завернул в мешок, взятый на кухне, пишущую машинку. Ангелов уложил в портфель незаконченную шифровку, черновик и томик «Бай Ганю». Гешев, ни во что не вмешиваясь, сидел в кресле. Искали тщательно, но аккуратно, стараясь ничего не сломать и не повредить. Мешочек с золотом Соломонова не тронули: Гешев пересчитал вещицы, прикинул на ладони вес и засмеялся, когда Куков сказал, что это, наверное, русское золото, для оплаты агентуры. «Русское? Возможно, возможно… А ты что скажешь, доктор?» Пеев массировал сердце. Боль не уходила, но он был до странности спокоен. Голова работала трезво. Гешев повторил вопрос, и Пеев коротко объяснил, что ценности принадлежат клиенту. Добавил: «Это легко проверить». Гешев кивнул, завязал мешочек и, примерившись, ловко кинул его на место — в «сейф».
— Ничего не портить и не ломать, ясно? Где жена и сын, доктор?
— Елисавета в гостях, а Димитр уехал из Софии.
— Верно. Ты всегда говори мне правду, доктор. Это будет тебе на пользу.
На алебастровом лице Гешева дрожала, расплывалась улыбка. Никак не могла исчезнуть. Пеев смотрел на Гешева, думал, что правильно сделал, не покончив с собой. Надо бороться до конца и спасти тех, кто под ударом. Все брать на себя. На одного себя.
Квартира постепенно наполнялась людьми. К концу обыска прибыл Павел Павлов с двумя немцами. Пеев был знаком с ним, встречался в клубе. Павлов поклонился, протянул руку:
— Здравствуйте, Сашо. Вот уж не ожидал!
Пеев сделал вид, что не заметил руки. Подумал:
«Разыгрывают спектакль… Только ничего не выйдет. Совершенно ничего». Все и правда походило на пьесу, где действующим лицам полагалось вести себя вежливо и чуть ли не благожелательно и, согласно известному психологам правилу парадоксов, тем самым подавлять психику и волю противной стороны. Немцы были индифферентны; один сел, закурил сигару, другой замер у стены, так и простоял до самого конца.
Стрелка настольных часов подходила к девяти.
Стукнула входная дверь, и пожилой агент ввел Елисавету. Поддержал за локоть, не дал упасть, когда она, увидев мужа, вдруг стала оседать, сползать в полуобмороке.
Гешев вскочил, придавил Пеева, рванувшегося было к жене.
— Сиди, доктор! Дай ей воды, Сиклунов!
Елисавету усадили, она приходила в себя.
— Смелее, Эль! — сказал Пеев и глазами добавил то, что не хотел говорить вслух: возьми себя в руки, не дай радости этим увидеть нас униженными и растоптанными.
…В нижнем коридоре Дирекции полиции Елисавета и Пеев переглянулись в последний раз. Их развели, втолкнули в разные комнаты. Пеев хотел посмотреть вслед жене, но Сиклунов исподтишка больно ударил его, метя по почкам, и тут же спросил: «Что это с вами? Оступились?»
В огромном кабинете Павлова было чинно и прохладно.
Павлов сел за стол, сложил руки. Безымянный палец на правой украшен перстнем с печаткой. Справа, с торца, в низком кресле утонул Гешев. Слева на диване разместились Кочо Стоянов и подполковник Сава Куцаров из РО, которого Пеев знал как завсегдатая Народного театра.
Павлов тихо сказал:
— Вас не будут сегодня допрашивать. Шифр изъят, доказательства налицо. Добавлю, что Эмил Попов арестован. Задержаны и другие. Мне очень жаль, доктор Пеев, что вы пошли на это. Мы люди одного круга, и единственное, что меня сейчас интересует, — причины, по которым вы совершили роковой для вас шаг. Быть может, вас шантажировали?
Пеев протестующе поднял руку:
— Шантажировали? Вы не верите в то, что говорите!
— Следовательно, вы сотрудничали с русскими добровольно?
— Разумеется!
— И вам не платили? — с издевкой спросил Куцаров.
— Ни стотинки.
Пеев понимал: это только преамбула. Потом все изменится, и Павлов, быстро забыв о том, что они «люди одного круга», передаст его Кочо Стоянову, от которого пощады не жди. И Гешев тоже не гуманист: пытает, когда нужно, сам, а если устанет, то на смену приходит Гармидол… Когда это случится? Наверное, не очень скоро. Сейчас они что-то задумали: недаром не сломали в квартире ни спички, разрешили взять с собой одеяло, несколько смен чистого белья, книги по философии и бумагу. Даже сигареты оставили, хотя в камерах, насколько известно, не разрешается курить. Какую комбинацию они готовят и почему с такой поспешностью сообщили ему об аресте Попова? И что будет с Митко, уехавшим в Пловдив к родственникам? Арестуют или нет?
Павлов расцепил сжатые пальцы. Привстал.
— До утра, доктор Пеев! Подумайте, пожалуйста, в камере, не стоит ли рассказать все начистоту? Я предвижу, что вы изберете тактику признания очевидного и умолчания о том, что, с вашей точки зрения, нам неизвестно. Вы адвокат, и опыта вам не занимать. Однако должен лишить вас надежд: большинство фигурантов установлено, речь пойдет только об определении подлинных ролей тех, кто работал на вас. Доброй ночи, доктор Пеев!
Ночь…
Она кажется болотом, зыбким, засасывающим. Тянется, давая время запутаться в мыслях. Что им известно? Какие имена? Почему не допрашивали, не били? В кабинете сидели немцы, значит, дело касается не только местных властей, но и Берлина… Передадут гестапо?
Спать он не мог. Никто не спит в тюрьме в первую ночь. Даже те, кто обладает стальными нервами. А у него нервы не были стальными. Обычные, порядком истрепанные перенапряжением месяцев и лет.
Большая холодная камера, маленькое, под потолком, окно.
Надо и здесь остаться человеком. Сохранить себя. Надо драться, — до последнего патрона. Будут ловушки, хитроумные приемы, «нелогичные» ходы, на которые, как известно, Гешев большой мастер. Будут пытки… Ты готов, Сашо?
Утром принесли кофе, какую-то еду. Он заставил себя есть, сделал глоток безвкусного пойла. Залязгал замок, и на пороге возник Гешев.
Белое лицо, склоненное к правому плечу, несмываемая улыбочка.
— Не спали, доктор? Ничего. Сейчас вас побреют, и вы поедете.
Пеев не спросил куда. Главное он знал: в Дирекции затеяли комбинацию, и, следовательно, оставалось верить и надеяться, что удастся, разгадав смысл полицейской акции, внести в нее свои коррективы.
Двое агентов, Куков и Антонов, на трамвае отвезли его в контору, а оттуда в банк. Куков сел в кабинете, а Антонов остался в коридоре. Директор, с которым Пеев делил кабинет, отсутствовал, очевидно предупрежденный Гешевым; ровно в два Куков сказал: «А теперь — домой». По дороге заехали к бай Спиро; Антонов заказал три стакана бозы, но спохватился, забрал свой и пересел за соседний столик… Гешев, перед тем как Пеева выпустили за порог Дирекции, объяснил, что к чему.
— Ты будешь ходить на работу, доктор. Сегодня и завтра… и сколько мне понадобится. Не один, конечно. И в кофейню будешь ходить, как всегда. Только вот что — не пытайся бежать. Куков тебя пристрелит. Понял? Ты же юрист и знаешь, что суд может оказаться снисходительным, а с Куковым шутки плохи. Так что не торопи свою смерть, доктор, и будь благоразумен. Кстати, хочу тебя обрадовать: мы дешифровали твои телеграммы, и можешь не ломать голову, кто нам известен, а кто нет. Все известны… Что же ты не похвалишь нас, доктор?
Он откровенно издевался, не скрывал торжества.
Пеев пожал плечами.
— Что вам известно! Чепуха! Я работал один. Я и радист.
— Значит, уже не один?
— Да, двое…
— А Никифоров, Янко Пеев, Георгиев из Берлина? Не лги, доктор!
Итак, им известны имена… Откуда? Из радиограмм? Скорее всего, да! В конторе, в кофейне, по дороге домой Пеев ломал голову, вспоминал. Восстанавливал по строчкам тексты переданных когда-то радиограмм. У него была бездонная память, и строчки возникали в ней, словно проявлялись на негативе…
18 апреля 1943 года.
В тот час, когда Пеева вывозили из Дирекции с расчетом, что рано или поздно в кофейне, в банке или в конторе к доктору придет какой-нибудь человек, не попавший еще в поле зрения контрразведки, в этот самый час министр войны Михов, получив сообщение Костова о разгроме группы Пеева, созвал Высший военный совет.
Адъютант министра передал генерал-майору Никифору Никифорову указание оставить все дела и прибыть на заседание немедленно. «Экстренное заседание!» — сказал адъютант.
…Много лет спустя Никифоров вспомнил этот день и написал о нем — скупо, с лаконизмом историка: «Я вызвал шофера, оделся и поехал в министерство. День был необычайно теплым. Я велел шоферу ехать к центру не спеша, а сам смотрел на прохожих и не мог избавиться от мысли, что произойдет что-то плохое. Когда я приехал в министерство, там уже собрались все члены совета. Последними в зал вошли шеф немецкой военной разведки в Болгарии Делиус и генерал Кочо Стоянов. Как только Кочо Стоянов начал говорить, я понял, что предчувствия не обманули меня. Он сообщил, что в Софии раскрыта нелегальная группа, руководимая известным адвокатом Александром Пеевым. Группу раскрыла немецкая военная разведка… в ближайшие дни ожидаются важные разоблачения. Предполагалось, что Пеев, как офицер запаса, использовал свои широкие связи среди военных. В конце заседания каждому члену совета поручили проверить в своем секторе все возможные каналы утечки военной информации.
Моим коллегам надо было радоваться этой новости, а они встретили ее с унынием. Я не боялся их взглядов, хотя чувствовал, что покрываюсь холодным потом. Все равно, думал я, вам не остановить ход событий. Если бы упомянули мое имя, я собирался сказать: «Господа, ваши дни сочтены. Думайте об этом». Но говорить этого не пришлось. Теперь все зависело от того, выдержит ли Пеев».
…Его вывозили из Дирекции десять дней подряд.
Всегда одним и тем же маршрутом. На трамвае. Машин в Болгарии было мало; те, что имелись, работали от газогенераторов, поскольку бензин экономили до предела, выдавая лишь для нужд генералитета, министров и членов царской фамилии. Куков и Антонов наблюдали за Пеевым, не спуская глаз, но к доктору никто не подходил, да и сам он не делал попыток заговорить с кем-либо или попытаться бежать. В контору являлись клиенты, и Куков, коротавший время на деревянном диванчике под видом посетителя, не мог придраться ни к одной фразе, произнесенной доктором. Обычные юридические консультации, не больше.
Оставалось предположить, что или связники Пеева кем-то предупреждены, или же у доктора имелись иные, одному ему известные способы контактов, и Гешев — автор комбинации — приказал отменить выезды.
Делиус, как и в случае с Эмилом Поповым, строжайше запретил применять к Пееву «третью степень», а без пыток, по мнению Гешева, допросы не дали бы результатов, и Пеева не спрашивали ни о чем. Раза два Гешев приходил в камеру, садился на кровать, угощал сигаретами. Пеев курил свои, и так они и сидели друг против друга, не произнеся за час и десятка фраз.
Уходя, Гешев говорил угрожающе:
— До скорого, доктор! — и едва удерживался, чтобы не ударить Пеева в холодное, спокойное лицо.
На полную дешифровку телеграмм ушло несколько суток.
Начальник отделения криптографии, докладывая результаты, волновался так, что бумажки сыпались из рук.
Полковник Костов скрипнул зубами.
— Это ложь! Вы фальсифицируете, Гешев!
Начальник державной сигурности Павел Павлов покачал головой:
— Успокойтесь, господин полковник. К сожалению, все правильно!
— Но вы понимаете, о ком идет речь? Высшие генералы — Марков, Даскалов, Луков, Лукаш… Никифоров прямо помянут как помощник.
— Делиус знает?
— Еще бы, — сказал Гешев любезно. — Не только знает, но и считает, что генералы готовили заговор. Убийство царя.
Костов был настороже и быстро разгадал, кому и зачем роет яму Гешев. Война складывалась не в пользу нацистов, и при дворе имя нынешнего премьера Богдана Филова, ориентировавшегося на Берлин, приобретало значение одиозное. Князь Кирилл и его супруга, слывшие англофилами, пытались свалить премьера, предлагая Борису III кандидатуры «умеренных» — Муравиева и Багрянова. Царь колебался, и Лулчев, занявший позицию нейтралитета, советовал ему подождать. Делиус и Бекерле, читавшие документы полиции, РО и ДС, как свои, не сидели сложа руки: в свою очередь пытались воздействовать на царя и сохранить Филова у власти. В этой ситуации многое зависело от военных: генералитет не сказал своего слова, а за ним стояла реальная сила — штыки, и, останови Михов и прочие выбор на Багрянове или Муравиеве, песенка Филова была бы спета. Ге-шев, очевидно, получил инструкцию Доктора скомпрометировать генералов и вывести их из «игры». А что, если он, применив пытки, заставит Пеева подписать признание о наличии заговора? Что, если Павлов свяжет воедино имена Даскалова, Лукаша, Никифорова и притянет к ним имя Михова? А заодно руководителей РО? Может так быть?.. Да, конечно.
Костов встал.
— Министр войны информирован?
— Нет еще, — все так же любезно сказал Гешев. — Среди подозреваемых много его друзей, члены Высшего совета, предшественник… Какой же смысл спешить с информацией? Сначала пусть Пеев выложит все, что знает, а потом, сформулировав выводы, Дирекция полиции…
— Это что же — частное дело Дирекции? Я правильно понял?
Павлов тихонечко вставил:
— Государственное дело, полковник. Доктор Пеев — не просто разведка, но и политика. Большая политика. Больше, чем вы думаете.
Той же ночью доктора Александра Костадинова Пеева, заключенного камеры № 36 на четвертом этаже Дирекции полиции, избили надзиратели. Били вдвоем, не изощряясь и даже не очень сильно: важна была не столько боль от ударов, сколько сам факт унижения, непереносимый, по мнению Павлова, для человека интеллигентного, привыкшего ко всеобщету уважению… Доктор не кричал; но даже кричи он изо всех сил, голос его не был бы услышан: тридцать шестая, отведенная Пееву предусмотрительным Гешевым, находилась в особом коридоре и была изолирована от других камер. Окно здесь было меньше, чем в других помещениях; вентиляция заделана; поэтому днем двери камеры не запирали, боясь, что Пеев задохнется; у порога на стульях сидели надзиратели. Двое. Они же и били ночью.
Избитого доктора Пеева привели к Гешеву.
Дали полотенце — вытрись.
Гешев, выдержав паузу, спросил:
— Никифоров?
— Что Никифоров?
— Не играй в прятки, доктор! Всю правду о нем — сюда, мне. Кончились забавы! Итак, генерал Никифоров твой заместитель? Бери ручку, пиши.
Пеев вытер разбитую губу. Глаза его блестели живо, остро.
— А о Михове писать?
— И о нем.
— И о Кочо Стоянове? И о директоре Кузарове? И о премьере Филове?
— Я не шучу.
— Я тоже, Гешев. Все эти лица давали мне информацию. Все без исключения. Почему же я должен говорить об одном Никифорове?
Гешев ждал вопроса, протянул бланки дешифрованных радиограмм. Красным карандашом в них были отчеркнуты места, где говорилось о Никифоре Никифорове и его роли. Пеев прочел, невесело усмехнулся.
— Все это не так, Гешев.
— Здесь нет ошибки.
— В тексте нет, а по существу — все ошибка. Никифорова выдумал я. Вы-ду-мал. Понимаешь, Гешев? Мне было важно, чтобы в Центре считали, будто со мной сознательно сотрудничают видные люди. От этого зависел мой вес. Вот я и выдумал, что он мой заместитель, а Никифоров ничего не знал. Он просто болтун, такой же, как Даскалов, Филов или Лукаш. Ну как?
— Превосходно, — сказал Гешев. — Блестящий поворот. Однако генерала не спасешь. И Янко Пеева. И всех прочих. Здесь не суд и состязательность сторон не предусмотрена. Так что оставим юридические увертки… доктор! Будь реалистом. Пойми, тебе придется сказать все.
— Я уже сказал.
— Ложь.
— Другого не будет, Гешев.
…Он, как мог, отводил от товарищей беду. Делал все, что было в его силах. В протоколе, который вел Гешев, в эту ночь появилась запись, повторенная затем в других: «Генерал Никифор Никифоров никогда не являлся моим заместителем. Царский сатрап, он виноват лишь в том, что был откровенен со мной, как и его коллеги по военным кругам…»
Пеев — солдат на посту — боролся за Янко, Елисавету, Эмила Попова, Никифорова. Гешев терял терпение, стал нередко кричать, но при этом все же ни разу не сорвался с тормозов до конца. Не вызывал Гармидола. Не передал Пеева Кочо Стоянову. И главное, не дал Пееву понять, что попытки выгородить Форе напрасны: Никифор Йорданов Никифоров, бывший генерал-майор, бывший начальник ВСО и член Высшего военного совета, 28 апреля 1943 года был отрешен от всех должностей, декретом царя лишен звания и арестован. Делом его занимался полковник Недев — новый начальник РО, назначенный вместо внезапно снятого с поста полковника Костова.
10
Александру Периклиеву Георгиеву относительно повезло: его арестовало не гестапо, а политическая полиция — ЗИПО. Поэтому Георгиева отвезли не на Принц-Альбрехтштрассе, где, как известно было любому берлинцу, в подвалах существовали камеры пыток, а в полицей-президиум на Александерплац. Георгиев частенько бывал здесь, на площади, обедал в «локаль», и официантки относились к нему как к завсегдатаю: обслуживали быстро и приносили порции побольше. При жестком нормировании, введенном вскоре после Сталинграда и начавшегося, чтобы уже никогда не остановиться, «эластичного сокращения фронта», добавки к пайковому стандарту были нелишними: болгарскому студенту Георгиеву, стажеру экспертной конторы доктора Граверта, полагалось снабжение по низшей категории.
Впрочем, «локаль» и сердечные официантки остались во «вчера». «Сегодня» и, пожалуй, «завтра» воплотились в образе пожилого, с глубоким рубцом на щеке, очень худого мужчины с короткой фамилией Верк.
Криминаль-инспектор доктор Верк.
Он руководил обыском в пансионе и арестом; ему же поручили вести допросы. Сухим голосом, лишенным интонаций, Верк задал Георгиеву положенные анкетные вопросы и, не упустив ничего, записал ответы: гражданство — болгарское, местожительство — в Берлине, частный пансион фрау Кунерт, место учебы — Берлинский университет, место работы — экспертная контора. И так далее и тому подобное.
Была суббота, конец дня, но доктор Верк не торопился. Под напряженным взглядом Георгиева методично разложил на столе какие-то бумаги, очистил суконочкой перо, спросил, не повышая голоса:
— Когда и где вы познакомились с доктором Александром Коста диновым Пеевым?
«Вот оно что!» — подумал Георгиев и перевел дух. С того самого момента, когда сотрудники ЗИПО приехали за ним в пансион, он гадал о причинах ареста. Теперь все становилось на места, и Георгиев, согласно еще в Софии продуманной «легенде», стал отвечать. С Пеевым знаком с 1932 года; с 1937-го снимал комнату в его квартире; особенно близки не были — какая уж близость между знаменитым адвокатом и студентом-недоучкой; после прибытия в Берлин вели нерегулярную переписку. «Уничтожил ли Пеев письма? В Софии, очевидно, провал… Упоминается ли мое имя в радиограммах?»
Верк слушал, иногда кивал. Дав Георгиеву закончить, сказал все так же сухо и бесцветно:
— Вы подозреваетесь в ведении шпионажа в пользу СССР против Германской империи. Следствие предлагает вам проявить добрую волю и сделать чистосердечное признание.
Георгиев был юристом, и тонкое различие между произнесенным «подозреваетесь» и ожидаемым им «обвиняетесь» вкупе с тем, что дело повело ЗИПО, а не гестапо, сказало ему многое. Во-первых, у немцев не было прямых улик, и во-вторых, для властей он продолжал оставаться гражданином дружественной страны, а не государственным преступником, лишенным легитимационных прав.
— Это недоразумение, — сказал Георгиев со сдержанным возмущением. — Я могу пригласить адвоката?
— Позже.
— А представителя посольства?
— Посольство извещено.
«Все идет не так плохо, — перевел Георгиев ответы Верка с языка юридического на болгарский. — Сашо молчит. Если бы он дал показания против меня, гестапо не согласовывало бы арест с посольством и не прибегало к услугам ЗИПО. Я исчез бы в подвалах Принц-Альбрехтштрассе, и конец».
Георгиев выпрямился на стуле.
— Я хочу сделать официальное заявление. Все, что происходит, я расцениваю как прискорбное недоразумение. Мое поведение здесь, в Берлине, свидетельствует о лояльности к Германии. Господин Граверт, хозяйка пансионата, уполномоченный НСДАП в университете, надеюсь, не откажутся подтвердить это. Круг моих знакомств ограничивается студентами и служащими конторы, в основном членами национал-социалистской партии. Наконец, я активно участвую в работе болгаро-германского сообщества… Я отметаю подозрения в шпионаже!
— Хорошо, — сказал Верк и зашелестел бумагами. — Я записал ваше заявление и со своей стороны хочу внести ясность. Сейчас вам будут зачитаны выдержки из радиограмм государственного преступника Пеева, отправленных им в Центр. В них есть ссылки на вас как берлинского информатора. Зачитываю: «Георгиев из Берлина. В городе Вицлебене есть большие склады горючего и продовольствия».
— Это все?
— Нет, почему же. В распоряжении следствия достаточно документов такого рода. Что вы на это скажете?
Георгиев пренебрежительно пожал плечами.
— О связи доктора Пеева с Москвой я не осведомлен. Что же касается ссылок на меня, то Пеев, как я понимаю, извлекал сведения из писем, отправленных — заметьте! — легально и прошедших имперскую почтовую цензуру. Надо думать, что у специалистов, занятых проверкой переписки, достаточно опыта, чтобы отличить обычный рассказ о буднях Германии от шпионской информации. Я требую, чтобы были предъявлены мои письма к Пееву! Прочтите их и убедитесь: содержание корреспонденции совершенно невинно…
Он говорил и говорил, соображая при этом, изъяты все же письма или нет и, если изъяты, удалось ли контрразведке проявить невидимый текст. Ссылки на то, что «Георгиев передает из Берлина», согласно уголовному праву, мало что значат. А в ЗИПО, судя по всему, за рамки права пока выходить не намерены: мешает положение «дружественного иностранца».
Верк записад ответ, сложил бумаги. Сказал:
— Хорошо. Подумайте до завтра. Вас отведут в камеру, а утром я вызову вас на допрос. Искренне надеюсь, что, поразмыслив хорошенько, вы поймете, сколь слабы позиции вашей защиты. Не опаздывайте с признанием, господин Георгиев!
Камера. Вечер. Глазок в двери, тишина. И одиночество, лишающее уверенности. Георгиев сел на железный табурет, машинально посмотрел на затянутую решеточкой лампу под потолком. «Вся надежда на тебя, Сашо! На твою выдержку и молчание. Что до меня, то я и шагу не сделаю в сторону от «легенды». Может быть, это, в свою очередь, хоть чем-нибудь поможет тебе, Сашо?»
День истекал. Первый из долгих, как вечность, семидесяти четырех дней, которые Александру Георгиеву предстояло провести в ЗИПО. Все ожидало его: перекрестные допросы, поединки с Верком, минуты, когда будущее казалось беспросветно черным, а единственным выходом — самоубийство; угрозы, карцер, дни и ночи, выдержать которые мог только тот, кто знал, во имя чего шел на все это.
«Дело Александра К. Пеева, обвиняемого в совершении…» Оно росло как снежный ком, и секретные службы — немецкие и болгарские — придавали ему выдающееся значение. Александр Георгиев занимал в нем скромное место, гораздо скромнее того, что отводилось Пееву, Никифорову, Янко Пееву и Попову.
Эмил Николов Попов, «музыкант».
Эмила допрашивали трое, всегда трое: Делиус, Гешев и новый шеф РО Недев. Вопросы ставили так, чтобы он не мог сообразить, кто именно арестован и что говорит. Однажды предъявили заключение экспертизы, гласившее: тексты радиограмм, переданных Поповым, отпечатаны на машинке марки «ундер-вуд», принадлежащей Пееву. «Признаете, что были с ним связаны?» — «Нет!» — сказал Эмил. — «Вам дадут очную ставку». — «Я и тогда отвечу: нет».
На третьем допросе появился Гармидол.
Гешев вышел из-за стола, подтолкнул «Страшного» к Эмилу.
— Познакомьтесь-ка… Слушай, Попов, приглядись к Гармидолу. Неправда ли, красавец? Только не возражай, парень, а то Гармидол терпеть не может, ежели слышит, что его называют гориллой или выродком. Он тогда совсем голову теряет… Так вот, Попов. Ты ври себе, ври, сколько хочешь. Отрицай все. Я еще потерплю немного, а потом сюда доставят твою Белину и сестричку твою, Марусю, — милая такая девочка. Тебя привяжут к стулу, а Гармидол позабавится. А после него позабавятся надзиратели, у нас их человек сорок…
— Сорок шесть, — поправил Недев.
— А ты молчи себе или ври на здоровье. Ладно?
Эмил против воли закрыл глаза. По спине тек пот.
— Что… чего вы хотите?
Делиус постучал о крышку стола карандашом.
— Будьте благоразумны, господин Попов. Вы мужчина и должны понимать, что проиграли по всем статьям. Проигравший же, как известно, должен платить. Господин Гешев, покажите ему векселя и спросите, согласен ли он их отработать?
Гешев выдвинул ящик стола, достал две четвертушки бумаги, заполненные колонками цифр. Перебросил Попову.
— Прочитай и скажи, все ли на месте.
Номера, цифро-буквенные обозначения «ключа» и подписи оказались правильными. Две дезинформационные телеграммы, сработанные криптографами Доктора и Недева, внешне ничем не отличались от шифровок Пеева. Попов с трудом сглотнул ком, застрявший в горле, кивнул: «Да».
— Ну вот, Попов, — сказал Гешев с удовлетворением. — Как видишь, сделано на совесть. Я хочу, чтобы ты поехал вместе с нами к себе домой и, как обычно, в полпятого передал их Центру. Все проще простого: ты передашь, а девочки, Белина и Маруся, останутся нетронутыми. Согласен, Попов?
Плечи Эмила обмякли.
Гешев подошел вплотную, спросил:
— Согласен или нет?
Голос отказал Эмилу. Он кивнул.
— Превосходно! — похвалил его Делиус. — А вы сомневались, господа.
Машину и на этот раз не вызывали. Поехали трамваем — старым вагоном четвертого маршрута, проданным софийскому транспортному обществу бельгийской компанией «Себион» еще в начале века. Вагон дребезжал, мерзко взвизгивал, тормозя на поворотах, и Эмил едва не терял сознание. После спертой атмосферы камеры и вынужденной неподвижности чистый воздух и движение кружили голову; страх за Белину и Марию подкашивал ноги.
Слабый, как ребенок, цепляясь за перила, он поднялся на второй этаж своего дома. Гешев трижды, с неравными интервалами, нажал на пуговку звонка. Один из агентов, сидевших в засаде, открыл, вытянулся.
— Господин начальник, за время дежурства…
— Заткнись! — сказал Гешев и подтолкнул Попова в спину: — Входи.
Передатчик стоял на прежнем месте. Эмил сел, уперся взглядом в окно, в балкон с распахнутой дверью. Прямо напротив, на другой стороне улицы — метрах в двух по прямой — был другой балкон. Подумал: если бы охранники отвернулись, зазевались, можно было бы выскочить, перемахнуть через перила — и уйти.
— У тебя есть часы? — спросил Гешев.
— Нет.
— Возьми мои, только не урони. Их мне министр подарил. Хорошие часы, фирма «Омега», всех нас переживут.
Стрелки на циферблате показывали 16.00.
Сбоку, придвинув стул поближе к передатчику, пристроился немец. Подключил к выходным клеммам вторую пару наушников.
Эмил смотрел на него, на балкон напротив и думал, что надо во что бы то ни стало вставить в радиограмму сигнал, говорящий о том, что рация провалена и работает под контролем врага. Удастся или нет? Здесь многое зависело от опытности немца-оператора, которому предстояло вести контроль за радиообменом… Балкон… Он притягивал взгляд. Всего несколько метров — и свобода.
Из глубины комнаты за Эмилом внимательно наблюдал Гешев. Лицо его было непроницаемым, сигарета вяло тлела в углу рта.
В 16.25 немец включил передатчик. Дал нагреться лампам, жестом показал Эмилу, чтобы тот взял наушники. Дезинформационные телеграммы лежали слева от ключа Морзе — на привычном для Эмила месте. Здесь же была и заляпанная чернильными кляксами школьная линеечка, ею он обычно отделял ряды в колонках.
— Ты готов, Попов? — спросил Гешев, не вынимая изо рта окурка.
— Да, — сказал Эмил.
— Когда начнешь, помни о своих девчонках.
— Пожалуйста, начинать! — сказал немец. — Мы имеем регулярный время.
Эмил положил пальцы на ключ. Теперь все решала скорость. В подписи следовало заменить одну букву на другую — лишний значок по азбуке Морзе. Это означало провал.
Он отстукивал точки — тире, а пот заливал глаза.
Соленые капли скатывались к губам. «Простите меня, Маруся и Белина…» Открытый текст: МКС вызывает ЛНТ. И еще раз: МКС вызывает ЛНТ… Пауза… Ответный сигнал: «Передавайте!»
Никогда еще Эмил не работал столь быстро. У немца, слушающего эфир, против воли округлились глаза. Он явно не ожидал такой скорости и не поспевал за Поповым. Первую телеграмму Эмил уложил в две минуты; заключил измененной подписью и сдернул наушники. Пальцы немца, вооруженные карандашом, забегали по блокноту. Центр отвечал, словно и не было сигнала. Попов подумал: «Не поняли? Что я наделал! Центр клюнул на радиоигру, и я — предатель».
Немец подписал последнюю строчку, глазами показал: «Наушники!»
Эмил взялся за ключ. Цифрогруппа… Пятая, седьмая… Двадцатая… Чуть медленнее, чем в первый раз, вновь отстукал искаженную подпись.
Оператор Центра выдал в эфир «квитанцию» — окончание приема и прекратил радиообмен. Карандаш в руках немца застыл, опустился на стол.
— Что случилось? — спросил Гешев.
— Конец, — сказал немец.
— Он что-нибудь сделал не так?
— По-моему, нет… Нет, все имело быть правильно.
Гешев повернулся к Эмилу.
— Счастлив твой бог! Завтра повторишь.
Эмил исподлобья посмотрел на балкон: два метра до свободы. Вытер пот со лба. Попросил сигарету. Гешев щелкнул портсигаром, дал прикурить. У него, судя по всему, было превосходное настроение.
— Неплохо начинаешь, Попов! Твоя жизнь в твоих руках. Ты хочешь жить?
— Да, — сказал Эмил искренне.
— Я подумаю, что можно будет сделать для тебя. С судом у нас по ряду вопросов не существует расхождений. Думаю, если мы походатайствуем, ты отделаешься концлагерем.
Эмил заставил себя выдавить улыбку.
— Покорно благодарю.
Вечером в камеру ему принесли приличный ужин. Надзиратель сказал, что еду заказали в ресторане и что распоряжение об этом дал лично Гешев.
В первый раз за дни заключения Эмил поел с аппетитом.
Лег на койку. Закинул руки за голову, закрыл глаза и вновь увидел балкон в доме напротив. Мысленно прикинул: один прыжок, а потом — вниз по столбу. Могут не успеть подстрелить… «Завтра повторишь», — сказал Гешев. Может быть, завтра?.. Когда выходили из дома, Эмил специально помедлил, осмотрел улицу: наружного наблюдения не было.
«Балкон», — подумал Эмил, отворачиваясь к стене.
С этой мыслью он и заснул.
11
Новый 1943 год не сулил Борису III покоя. События складывались грозно, и царь становился все более мрачным и подозрительным. Он уже не верил никому, даже тем, кто составлял самое ближайшее окружение. Богдану Филову, недавнему наперснику и главному советнику, — за то, что тот слишком далеко завел Болгарию в альянсе с Германией; князю Кириллу и его супруге Евдокии — поскольку те откровенно ориентировались на Лондон; министру Михову — ибо он зависел от выдвинувших его на пост генералов; генералам — эти, по мнению царя, предпочли бы увидеть на троне монарха, покорного их воле; Стоянову, Павлову, Гешеву, Недеву — потому, что каждый из них обладал сетью агентуры, проникшей во все слои общества, и, следовательно, пользовался почти неуправляемой тайной властью. Не верил он и личному советнику Любомиру Лулчеву, зная, что тот, с одной стороны, получает жалованье от полиции, а с другой — гонорары от Доктора и резидента Интеллидженс сервис в Софии.
Все чаще и чаще царь уединялся в своих покоях, отказываясь принимать кого бы то ни было. Искал выхода… и не находил. Все было запутано, неясно, тревожно. Война развивалась совсем не по плану Берлина, доведенному до сведения Бориса Гитлером и Риббентропом во время встреч в Берхтесгадене. Похоже, «тысячелетняя империя» идет к краху.
Посол в Берлине докладывал, что немцы, еще недавно обожествлявшие фюрера, проявляют скептицизм в оценке его шагов, доверительно беседуя с иностранцами, не скрывают недовольства Гитлером и его окружением. Какое тут «единство консолидированной нации», провозглашенное НСДАП в своей программе, если господина фюрера и рейхсканцлера за глаза зовут «богемским ефрейтором», второе лицо в государстве Германа Геринга — «жирным боровом», а Генриха Гиммлера — «кровавым кретином»! Да, немцы — и не только простой народ! — быстро трезвеют, и это отражается на боеспособности вермахта, и без того деморализованного «эластичным сокращением» фронтов… Победа русских и их союзников не за горами. Это ясно… Но вот вопрос: в какой мере и степени она отразится на положении Болгарии? Удастся ли удержать трон? Коммунисты, вдохновленные победами Советской Армии, развернули в горах настоящую войну. Жандармские части генерала Дочо Христова оказываются бессильными в борьбе с ними. В район Средна-Гора министр войны подтянул даже кадровые дивизии, но и они не добились успеха. Попытка блокировать зону партизанского движения сорвалась, и дивизии понесли серьезные потери. Больше того, на сторону партизан переходят целые взводы. Кочо Стоянов потребовал ассигновать 12 500 тысяч левов на особый премиальный фонд для поощрения жандармов. Сумму эту предполагалось израсходовать в виде «тантьем» за головы убитых ятаков и боевиков. Борис III добился, чтобы Народное собрание приняло закон об ассигнованиях, однако и эта мера, долженствующая стимулировать карателей, не внесла сколько-нибудь заметного перелома в горную войну: партизанские бригады росли и росли, в них вливались все новые добровольцы, а среди жандармов, напротив, все чаще отмечались случаи подачи рапортов об увольнении по «болезни» и «семейным обстоятельствам»!.. Крысы!.. На кого же опереться?
Смутные времена. Тяжкие времена — для дворца, для правительства. Для Бориса III, чья врожденная угрюмость мало-помалу начала перерастать в душевное заболевание. Лейб-врач по секрету сообщил князю Кириллу и Евдокии, что его величество балансирует на грани помешательства. Кирилл, выбрав удобный момент, поговорил с Борисом откровенно. Напомнил, что, когда 2 марта 1941 года немцы, по соглашению с правительством и двором, вошли в Болгарию, Филов, Павлов, Даскалов и другие подталкивали царя на более решительные шаги и добились, что в декабре Болгария объявила «символическую войну» Англии и Соединенным Штатам. «Мы дали втянуть себя в авантюру, — сказал Кирилл. — Символическая война? Как бы не так! В ответ на ее объявление американцы бомбили Софию. Правда, обошлось без больших разрушений и жертв, но кто гарантирует, что в недалеком будущем налеты не повторятся — более мощные, смертоносные?»
Получив от Любомира Лулчева запись беседы, Борис заперся в рабочем кабинете, перечитал текст. Распорядился вызвать Павла Павлова, Кочо Стоянова и полковника Недева с материалами о «горной войне» и следственными делами Пеева и Никифорова.
Кочо Стоянов, как обычно, вел себя напористо, почти грубо.
— Необходим террор! Настоящий террор. Кроме того, верхушка армии должна подвергнуться чистке. Павлов, покажи документы! Будь честным и не бойся сказать, что Лукаш, Луков, Марков, Никифоров и Даскалов сколотили заговор!
— Это не совсем так, — сказал Недев.
— А как? Генералы вымазали себя грязью с ног до головы. Помнишь Заимова? Или его дело не научило разведку ничему? Тебе мало того, что имена генералов сплошь и рядом упоминаются в телеграммах Пеева?
Борис жестом остановил Стоянова. Сказал с неудовольствием:
— Помолчи, генерал… Павлов — он прав?
— Пеев не дает показаний. Больше того, отрицает, что генералы сотрудничали с ним. Говорит, что придумал псевдоним Никифорову, чтобы завоевать авторитет у русских: дескать, у меня заместитель — генерал… Честно говоря, эта версия мне кажется правдоподобной. Трудно допустить мысль, что виднейшие военачальники окажутся в одной компании с такими, как Эмил Попов. Слишком велика общественная дистанция.
— Ваше мнение, Недев?
— Господин Павлов близок к истине. Я докладывал министру войны, и генерал Михов разделил нашу точку зрения.
Кочо Стоянов, оставшись в меньшинстве, замолчал: подумал, что Доктор и Бекерле на этот раз не добьются успеха. Царь не пойдет на чистку руководства армии: штыки есть штыки, самая реальная из сил; и Борису III ничего другого не останется, как делать вид, что он верит в невиновность Никифорова. Да и кто на его месте осмелился бы сейчас восстанавливать против себя генералитет? Кроме того, если Никифорова по-настоящему прижать, он может многое свалить на Даскалова, чье имя также поминается в телеграммах. Даскалов же — человек абвера; его выдвинул в свое время адмирал Канарис. Доктор голову снимет с любого, если Даскалов пострадает… Что ж, так и следует информировать посольство.
Совещание окончилось ничем: царь не принял решения.
Среди ночи неожиданным телефонным звонком пригласил Михова.
Министр войны приехал быстро и был подтянут, словно и не ложился спать. Недев подготовил его еще с вечера, подав пространную докладную с протокольной записью разговора с царем. Зная характер Бориса, Михов не сомневался, что тот не сможет долго ждать, вызовет в крайнем случае утром. Недев помимо докладной представил краткое заключение, из которого явствовало, что объяснения Никифорова, данные военному следователю, не выдерживают критики и, если Пеев сознается, генерала придется судить. Здесь же он указал, что в таком случае придется привлечь к суду и командующего 2-й фракийской армией, начальника Генштаба, ряд других военных, виновных в разглашении секретных сведений. Под суд пойдет и бывший начальник РО Костов, также делившийся с Никифоровым тем, что составляет особо сохраняемую государственную тайну. Михову, любившему Костова и едва спасшему его от грозы переводом в гарнизон, такая перспектива не улыбалась. Помимо того, он не без оснований полагал, что у Костова найдутся в запасе документы, порочащие самого министра, и тогда отставка, а может быть и разжалование, неминуема.
По дороге во дворец Михов продумал аргументацию. Решил, что надо обязательно напомнить Борису о генерале артиллерии Заимове 1 и о том резонансе, какой вызвало это дело: паника в «свете» и официальный визит посла Бекерле, от имени рейхсканцелярии выразившего возмущение тем фактом, что Займов имел возможность узнавать и передавать Центру политические и военные секреты раньше, чем они доводились до сведения членов Высшего военного совета. В своей ноте германский посол утверждал, что работа Заимова в пользу русских обошлась рейху в десятки тысяч солдат и офицеров вермахта, сложивших свои головы на полях России. Локализовать скандал не удалось. Не помогли ни закрытые двери суда, ни то, что о расстреле Заимова сообщила одна «Зора» в пяти строчках нонпарели, без комментариев. Стали широко известны речь защиты и последнее слово Заимова в суде, когда он заявил, что гордится тем, что помог приблизить победу правого дела и поступал сознательно во имя будущего Болгарии. Коммунисты ухитрились напечатать листовки с текстом последнего слова, распространили их в казармах, и солдаты получили опасную пищу для ума.
Царь слушал Михова не перебивая. Время от времени по лицу его пробегала короткая судорога.
Михов подвел итог:
— Представляется целесообразным дело в отношении Никифорова прекратить.
— Совсем?
— Приостановить производством, — поправился Михов. — Выпустить Никифорова из-под стражи и не трогать до конца войны.
— Где он содержится?
— На гауптвахте.
— Я хочу видеть его. Хочу говорить с ним сам.
В голосе царя послышалась истерическая нота.
— Михов! Он не имеет права на жизнь! Неужели ничего нельзя придумать? Автокатастрофу, падение в пропасть?
— Слишком прозрачно.
— Да, ты прав. Я хочу его видеть, пусть утром привезут.
Никифорова разбудили около шести утра.
Принесли завтрак; солдат забрал мундир со споротыми погонами и вернул его через полчаса вычищенным и выглаженным. Парикмахер побрил генерала, помассировал щеки.
Никифоров не спросил, зачем все это, был готов к любому исходу. Следователи военно-судебного отдела, недавние подчиненные, пускали в ход все: перехваченные радиограммы, сводки наблюдений агентов РО и отделения «А», намекали на признания Пеева, уличающие-де Никифорова; шантажировали угрозой физического устранения без суда. Никифоров показаний не давал. Никаких. Сидя в камере, он старался думать не о себе, а о других, ломал голову, что там с Пеевым, каково ему приходится? Был уверен, что Сашо при любых обстоятельствах не обмолвится и словом о соратниках — его не согнешь, Сашо! Ивее же… Следователи, кажется, многое знают. Никифорову предъявили около ста радиограмм, расшифрованных РО. Умело сгруппированные, они характеризовали объем деятельности Никифорова. От военных вопросов до общеполитических проблем. Следователи зачитывали: «Никифоров передал, что генерал Михов и командующий 2-й фракийской армией открыто говорили офицерам своего штаба и дивизий, что сила немцев растаяла на фронтах и что они не в состоянии предпринимать наступательные операции стратегического масштаба». Спрашивали: «Вы платили Михову и Маркову за их сведения?» Не получив ответа, выкладывали очередную телеграмму: «6 апреля 1943 года. Бывшего министра Спаса Ганчева называют инициатором создания оппозиционной группы. Эта группа настроена проанглийски. Убедившись, что Германия проигрывает войну, она оказывает давление на дворец и правительство, призывая их ориентироваться на Англию. Больше того, кое-кто из них хочет призвать английские войска для оккупации Болгарии». Никифоров слушал, понимал: его стремятся обвинить не только в ведении разведки, но и в создании широкого антиправительственного заговора. Ищут возможности объединить всех, кто упоминается в телеграммах, в один «кружок» и создать сенсационный по масштабам процесс. Понимал он также, что именно в конструкции «дела» кроется шанс на спасение: следствие неизбежно должно втянуть в свою орбиту людей, чье могущество не поколеблено ни военными неудачами, ни интригами группировок, роющих друг другу яму. А что, если взять и «признаться»? Соблазнительная возможность, но она губительна для Пеева. Главные «заговорщики» так или иначе вывернутся, вытянув и Никифорова, однако Сашо окажется обреченным… Нет, только не это!
С гауптвахты во дворец Никифорова отвезли в автомобиле.
Он ехал по Софии, старался не смотреть в окно. На сердце было тревожно, и, рассчитывая последствия, Никифоров все тверже приходил к мысли, что ему готовят западню. На обратном пути могут организовать что-нибудь вроде «попытки к бегству»: выбросят где-нибудь на пустынном шоссе — и залп в спину. У Кочо Стоянова огромная практика в таких делах.
Царь ждал его в саду. Один.
Не здороваясь, показал на скамейку в беседке.
— Садись, рядовой.
Никифоров расправил плечи.
— Генерал-майор, ваше величество!
— Ты же разжалован. Не так ли?
— Это незаконно. Моя вина не доказана.
Царь сел, посмотрел на часы.
— У меня мало времени. Хочу поговорить с тобой…
Внезапно вскочил, нагнулся к самому лицу.
— Никифоров… Как на духу… ответь… Скажешь правду — ничего не будет! Словом своим обещаю… Был заговор? Был? Говори!
Никифоров отстранился. Сжал губы.
— Мое имя в любом случае помешало бы мне опуститься до мышиной возни. Я слишком уважаю себя, ваше величество, чтобы интриговать или вступать в сделки за чины и посты.
— Я не о том! Против меня… против династии был заговор? Михов, Даскалов… другие. И ты! Что замыслили?
Слова вылетали отрывисто, лихорадочно:
— Такого заговора не было.
— Клянись! Сейчас икону принесут… ты же христианин, Никифоров!
— Слово чести!
Царь обмяк, грузно сел. Вынул платок, вытер лоб и шею. Тускло сказал:
— Верю. Пусть так и будет. Ты свободен, генерал-майор… Я так решил. Суда не будет. Я гуманист и никому не желаю зла. Никому, так и скажи всем… Иди, генерал.
Никифоров отдал честь и повернулся по-уставному. Пошел в глубь сада по желтенькой песчаной дорожке. Песок скрипел под подошвами, мешая думать. Что это было? Спектакль? Настоящая истерика? Нет, пожалуй. Царь недаром был неплохим актером-любителем. Играл на дворцовой сцене в пьесах Шекспира. Выбрал роль и на этот раз и «сделал» ее едва ли не вдохновенно: многие поверили бы, что решение освободить пришло под влиянием наития, слепой веры в святость слова чести, данного Никифоровым. Политический расчет, холодная оценка обстоятельств при этом остались бы где-то на втором плане… «Заговор»? Вот тут-то и суть! Борис боится последствий большого процесса. Боится дать повод к кардинальным переменам в верхах. Значит ли это, что Никифорову уже ничто не угрожает? Нет и еще раз нет. В силе остается угроза внесудебной расправы. Надо держаться настороже.
Он шел к выходу из сада, навстречу свободе, не догадываясь, что помимо прочих соображений, открывавших дверь камеры, было еще одно, принадлежащее Николе Гешеву и согласованное с Павлом Павловым и директором полиции. Верный испытанной тактике ловли «на живца», Гешев предложил начальству использовать Никифорова — помимо его воли, конечно! — как «огонек», на который должны рано или поздно прийти его товарищи, избежавшие ареста. Никифоров, выпутавшийся из неприятностей и сохранивший мундир и друзей среди генералов, должен был, по предположениям Гешева, либо сам установить связь с кем-либо из подпольщиков, либо принять у себя курьера Центра.
— Рисковать, так по-крупному, — сказал Гешев начальству.
Куцаров спросил Павлова:
— Вы согласны с Гешевым?
— При известных условиях все может быть.
Ответ был обтекаемым, поддающимся любому истолкованию.
— Я беру ответственность на себя, — сказал Гешев.
— Что-нибудь новое есть?
— Так кое-что…
«Новое» было, но Гешев предпочел промолчать.
25 апреля 1943 года Эмил Попов бежал из-под стражи.
Вышло это до странного просто.
После очередного радиосеанса Гешев ненадолго отлучился, а немцу-оператору срочно понадобилось побывать в туалете. Балкон был не заперт; Эмил, ни секунды не мешкая, влез на перила и прыгнул на тот, что был напротив. Соскользнув по деревянной подпорке, коснулся ногами земли и, еле сдержавшись, чтобы не побежать, мерным шагом дошел до угла. Вскочил в трамвай…
Дышать было трудно; в горле застрял ком. Эмил сглотнул его, выглянул в окно: на улице было спокойно. Шли прохожие, чистильщик сапог на углу поигрывал щетками, полицейский патруль неторопливо шагал по мостовой. Старушки в черных платках, натянутых на брови, несли завязанные в белые салфеточки куличи. «Пасха», — вспомнил Эмил.
День «христова чуда».
Счастливейший день! Точнее, вечер: Эмил бежал сразу же после того, как кончился вечерний радиосеанс, в 22.30. Бежал… Ну разве же не чудо?!
Ощущение свободы было прекрасным. Пьянило.
Эмил хмелел от воздуха, как от сливовицы. Когда шел по городу, его покачивало.
Куда идти?
Еще в камере Эмил продумал маршрут и убежище на случай удачи. Попетлял по городу, оборачиваясь на углах и не находя филеров, трижды проскользнул через проходные дворы, на ходу вскочил в трамвай, на ходу спрыгнул через несколько остановок. Теперь можно идти спокойно.
…Несколько дней Эмил прятался на Церковной у одного из рабочих «Эльфы». Через него связался с подпольщиками, и ему посоветовали перебраться на улицу Селемица, дом 10, где было надежнее. Здесь, на чердаке дощатого барака, устроили тайник и Эмил провел в нем пятнадцать суток, целиком ушедших на то, чтобы с помощью товарищей восстановить радиогруппу. Части запасной, так и не собранной до конца рации один из них хранил у себя на квартире. Требовалось незаметно вынести из «Эльфы» аккумулятор и мелкие детали, нужные для монтажа. У Эмила был свой шифр, полученный от Испанца на самый крайний случай; ключом служила книга, к счастью, не попавшая при обыске в число изъятых.
Ему купили одежду, достали деньги. Когда рацию собрали, Эмил решил уходить. В Априлово. В горы. На месяц или два, чтобы связаться с партизанами, а затем вновь вернуться в Софию.
19 мая Эмил встретился в последний раз с товарищами.
Открыли бутылку ракии, налили в маленькие стаканчики. Подняли тост:
— За твою удачу, Эмил.
— Спасибо! За вас, за всех наших!
— Можешь завтра идти, мы справимся без тебя.
— Не забудьте об Иване Владкове.
— Кто-нибудь съездит к нему в гарнизон. Если все будет тихо, встретимся.
— Так… Надо найти людей, без связников трудно придется. Наметили кого-нибудь?
— Привлечем ремсистов. У нас хорошая опора.
— Ну, успеха вам…
— Ладно, Эмил, все будет сделано.
На рассвете 20-го Попов ушел в горы. Рабочий с «Эльфы» сопровождал его. В дальнейшем ему предстояло стать курьером между Эмилом и его товарищами. В деревне Комины, входящей в партизанскую зону «Район Драгальцы», Попов остался, снял комнату у немолодой крестьянской четы. Здесь его должны были найти посланцы партизан, к которым Эмил Попов отправил ятаков.
Горы… Скалы. Зелень. Холодное козье молоко. Покой.
Попов считал дни, изнывая от вынужденного безделья. Партизанские связные все не шли. То ли ятаки перепутали адрес, то ли случилось худшее, и их перехватили жандармы, но, так или иначе, связных все не было, и Эмил томился, не находил себе места.
Дважды в неделю рабочий с «Эльфы» навещал его. Докладывал, что товарищи шлют приветы, просят отдыхать и не волноваться. Отыскали Владкова, говорили с ним. Иван здоров и рвется в дело. Полк, в котором он служит, настроен революционно; в каждой роте — кружки; РО арестовало нескольких руководителей, но на их место приходят новые, так что контрразведчики беснуются; еженощно солдат выводят из казарм, а их сундучки перетряхивают, ищут листовки и книги.
Неделя. Еще неделя. И еще…
Рабочий с «Эльфы» явился в неурочный день. Был чугунно-черен.
— Несколько наших арестованы. И твой свояк — тот, что в полку, тоже.
Эмил машинально потянулся к вороту, расстегнул пуговицу.
— Отдохни, вечером возвращаемся!
Эмил и рабочий с «Эльфы» вошли на окраину Софии, когда на вершине Витоши еще спала черная ночная туча. Пустыми улицами, прячась в подворотнях от патрулей, добрались до нужного дома. Здесь расстались: рабочий отправился к себе, а Попов, подождав несколько минут и убедившись, что ничьи шаги не нарушают покой, поднялся по лестнице и постучал в дверь: два тихих удара, один сильный и еще два тихих.
Ему открыли, втащили за плечи в сени.
— Слава богу, ты здесь! Ты уже знаешь?
— Да! Как это случилось?
— Ума не приложу! Выследили? Проходи, поговорим. Здесь ты в безопасности, старина.
«В безопасности»… Услышь Гешев эту фразу, он засмеялся бы. Вполне возможно, потер бы руки. Или выпил бы стопку ракии за Гермеса — покровителя торговцев, жуликов и сыщиков. Побег Попова был организован им самим. Специальная группа Сиклунова глаз не спускала с Попова с того момента, когда он спустился на тротуар по деревянному столбу, подпиравшему балкон. В спецгруппе были лучшие филеры отделения «А»; они ни разу не попали в поле зрения Эмила и других участников организации. Но лучшим среди них всех был, бесспорно, осведомитель Сиклунова, ставший для Попова чем-то вроде невидимой тени. Его Гешев выделил особо.
Этим осведомителем был тот, у кого остановился Эмил в первые дни после побега — доверенный из доверенных, знавший всех и вся, рабочий из радиотехнической мастерской «Эльфа». Агент № 10671.
12
Он и в камере старался остаться самим собой. Это было нелегко. Тюремная система, хорошо продуманная, сконструированная с расчетливой жестокостью, обычно сравнительно быстро расшатывала в человеке то, что было присуще ему на свободе и казалось монолитно незыблемым. Одиночка с ее тишиной и гулкими, как гром, ночными шорохами в коридоре порождала страх перед замкнутым пространством — клаустрофобию, которую врачи-психиатры относят к числу редко излечимых заболеваний. С течением монотонных дней, абсолютно точно размеренных режимом: подъем, кофе, обед, прогулка, отбой; без признака новизны, без перспектив на какое-либо изменение завтра или в отдаленном будущем, заключенным овладевало отупение. Не хотелось ходить, умываться, выметать мусор. Зачем? Зачем двигаться, думать, хотеть жить? Все равно в тюремном быту ничто не сдвинется ни на йоту, а конец определен заранее — залп из семи винтовок и небытие… Раз в сутки выводили на оправку — это было развлечение. Иногда менялись постоянные надзиратели — пища для ума. И все… Появлялось странное, близкое к патологии желание быть вызванным на допрос — следователи, конечно, все жилы выматывают, каждая очная ставка, каждый разговор «по душам» приближают неотвратимый конец, однако уже то хорошо, что можно говорить, видеть небо и дома за окном кабинета, трогать руками привычные вещи — ручку, стол, бумагу.
На одиннадцатый день ареста у Пеева отобрали книги.
На двенадцатый — бумагу и вечное перо.
Тогда же запретили прогулки.
Пеев пробовал протестовать, но надзиратель показал ему распоряжение начальника службы ДС Павлова: «Полная изоляция». Камера № 36 — в особом «кармане» этажа — была отгорожена от остальных; стены — в три кирпича и дополнительная дверь в начале коридорчика. Четыре этажа по девять камер на каждом. Где-то рядом люди, но их не увидишь и не услышишь… Зловещая тишина, от которой временами хочется выть, кататься по полу.
Он не выл, не катался. Мысль работала с предельным напряжением: гулял по камере, вспоминая наизусть целые страницы Шекспира, Толстого, Бальзака. Восстановил в памяти «Отца Горио» и «Холстомера». Устав ходить, принимался за гимнастику, мочил в кружке с водой платок и растирался докрасна. Тщательно причесывался, приглаживал усы. По ночам клал брюки под тощий матрасик и утром радовался, что стрелка на них словно из гладильни. Чистой тряпочкой до блеска полировал туфли.
— Заключенный Пеев, на выход!
Он выходил — прямая спина, подтянутый, недопустимо элегантный для тюремных условий. Надзиратели, вопреки обыкновению, не пытались его бить по дороге в допросную: арестант из камеры № 36 внушал им если не уважение, то нечто вроде боязни. Между ними лежала не дистанция даже — пропасть. Обращаясь к нему, они употребляли отмененное тюремным уставом «вы».
Допросы вели Павлов, Недев, Гещев и Ангелов.
Иногда все четверо сразу; чаще — порознь. Требовали признания, что Никифоров — основной фигурант. Убеждали, что, если это так, Пеев автоматически превратится из главного обвиняемого во второстепенного; гарантировали сохранение жизни и концлагерь со сносным режимом. Пеев повторял сказанное раньше: сотрудничество генерала — плод моей фантазии, о своей роли Никифоров и подозревать не мог; если б догадался — наверняка доложил бы в РО.
Гешев не спорил, принимал все, как должное. Записав показания, пророчил:
— Ничего, доктор! Ты ври, ври! Висеть будете рядом.
Павел Павлов тихим голосом вдалбливал по капле свое:
— Вы же умница. Подумайте, кто ценнее для человечества — солдафон Никифоров или доктор права Пеев? О вас даже сейчас многие говорят с восторгом: светлая голова, мыслитель… При некоторых условиях для вас можно будет добиться мягкого приговора и быстрого помилования. Такие люди, как вы, доктор Пеев, нужны государству… По секрету: за вас хлопочут Говедаров, Кьосеиванов, Бурев. Между нами, вспомните, Кьосеиванов когда-то был «левым», подвергался репрессиям, но одумался и был прощен. Стал министром-председателем, а теперь посол, доверенное лицо его величества… В конце концов, Сашо, — ты, надеюсь, позволишь называть себя так, по старой памяти? — так вот, в конце концов, ты никого не спасаешь своим упрямством. Я сам похлопочу, если хочешь, перед государем.
— Похлопочите лучше о бане.
— Черт! Как же ты груб, Сашо.
— Не груб, а реалистичен: на помилование не надеюсь и заступничества у Бориса не ищу. Что же касается гигиены, то она здесь, в тюрьме, не в почете у властей. В камерах антисанитария, клопы. Белье черное от грязи.
После этого вывод в баню отменили вообще. Надзиратели ссылались на письменное распоряжение: «На неопределенный срок».
Раз в неделю на допросах появлялся Недев.
Курил душистый табак, щурился. «Никифоров во всем признался. Заявил, что сотрудничал с антифашистами сознательно, и гордится этим».
— Дайте очную ставку!
— Понадобится — дадим.
Через месяц с небольшим к Никифорову вдруг утеряли интерес, целиком переключившись на Александра Георгиева. «Как и на какой основе вы его завербовали? Сколько платили? По каким каналам посылали ему деньги в Берлин? Кто был на связи? Имена, фамилии, клички!»
Пеев иронически приподнял бровь.
— Браво, господа! Вы и сами в это верите?
— Георгиев признался. В Берлине быстро начинают говорить. Сами понимаете: гес-та-по!
— Пытают неповинного? Это омерзительно!
— Он все выдал, ваш Георгиев.
— Под пыткой многие идут на самооговор. Георгиев никогда не был моим помощником.
Допрос вел Недев. Окутанный сладким табачным дымом, он коротко, с театральным восторгом на лице, похлопал кончиками пальцев.
— Браво! Вы, как всегда, предельно логичны, доктор Пеев… Тогда, полагаю, вам ничего не стоит приложить логическую мерку к одному факту. В телеграммах есть ссылки на сообщения Георгиева из Берлина. В вашем доме изъята вся — подчеркиваю: вся! — переписка семьи за много лет. Деловые письма, частные. У вас, как я понимаю, существует завидная привычка сохранять корреспонденцию. Так?
— Допустим.
— Почему же, скажите на милость, среди сотен писем нет ни одного, полученного вами от Георгиева? С какой целью вы их уничтожали?
От быстроты ответа многое зависело. Пеев, в свою очередь, поаплодировал Недеву.
— Браво, полковник! Я совершенно обезоружен. Вы выиграли… Или нет? Скажите, вы внимательно просмотрели переписку?
— Там нет писем от Георгиева!
— Я не о том. Вы обратили внимание на личности адресантов? Не трудитесь вспоминать, я внесу ясность сам: у меня сохранялись лишь те письма, которые посылались членами семьи. Кроме них я оставлял корреспонденцию клиентов. Георгиев не родственник и не клиент. Зачем же было копить его послания, для коллекции?
— Но вы же ссылались на них!
— Ссылался. Письма Георгиева проходили цензуру, в них не содержалось ничего секретного. Я извлекал то, что считал полезным, а затем рвал. Кстати, прошу заметить, что на Георгиева я ссылаюсь реже, чем, скажем, на генерала Даскалова или премьера Филова. Или эти двое вне вашей компетенции, полковник?
После допросов в камеру он возвращался в изнеможении. Обтирался мокрым платком, заставлял себя сделать несколько приседаний. Перебирал в уме подробности, анализировал — не сорвалось ли с языка чего лишнего? Не дал ли зацепки?
Подходил к двери, стучал.
— Я — подследственный! Почему меня лишили бумаги и карандашей!
— Запрещено!
— Требую свидания с начальником тюрьмы.
— Запрещено! И не шумите, свяжем.
Пеев отходил, ложился на койку. Дверь была железная, взгляд упирался в нее, изученную до мельчайших подробностей… Павлов одновременно с приказом о лишении прогулок дал и другой — запирать дверь. В камере висела густая, как желе, спертая вонь. Пеев задыхался, сердце то и дело перехватывал спазм, но стучать, требовать, чтобы открыли, дали глотнуть воздуха, было бессмысленно. «Запрещено!»
Дважды по ночам ему становилось плохо. Приходил врач, щупал пульс, качал головой. Обещал добиться отмены запретов, но ничего не менялось.
Однажды, когда вели на допрос, в нижнем коридоре Пеев чуть ли не лицом к лицу столкнулся с Елисаветой.
Серое платье, серое лицо.
Елисавета вскинула руки к вискам.
— Сашо!
— Эль? Ты арестована?
— Да, и Митко тоже…
Надзиратели отшвырнули их друг от друга.
— Я в двадцать четвертой, а Митко в девятнадцатой!
— Эль… Вас должны освободить… Вы же не виноваты!
Его толкнули с такой силой, что он еле устоял на ногах. Когда выпрямился, Елисаветы в коридоре не было.
В кабинет Гешева вошел с изуродованным гримасой лицом. Знал, что это так, но ничего не мог с собой поделать. Сказал гневно:
— С этой минуты я отказываюсь давать любые показания. Арестованы жена и сын. Это произвол в отношении невиновных!
Павлов опередил Гешева, у которого по щекам загуляли желваки.
— Превентивные меры. Елисавета Пеева содержалась под домашним арестом, ее бы не тронули, но агенты утверждают, что она…
— Не лгите, Павлов! Ваши агенты соврут что угодно и под присягой. Провокаторы! Что они наплели вам в угоду? Что Эль встретилась с подозрительным лицом, которое конечно же ускользнуло от наблюдения? Или это слишком тонко для них, и, не утруждаясь раздумьями, агенты состряпали рапорт, дескать, Елисавета Пеева пыталась скрыться в советском посольстве? Вам не стыдно, Павлов? Вы погрязли во лжи, господа!
— Я не позволю…
— Позволите, Павлов! Ну да ладно. А Митко за что взят? Он студент, к моим делам отношения не имел. В последнее время был в Пловдиве у родни. Что вы стряпаете против него?
Допрос был сорван, и Павлов вызвал конвой. Пеев шел назад, думал. Дошла ли до Пловдива весть о моем аресте? Когда Митко взяли?
…Димитра задержали 22 мая в пять часов утра. Освободили не скоро — в июне, в одно время с матерью: «За недостаточностью улик и невозможностью предать суду». Отказ Александра Пеева давать показания возымел последствия: Павлов, обсудив с Гешевым каждую мелочь, пришел к выводу, что на данном этапе следствия Эль и Митко не представляют особой ценности, другое дело — доктор Пеев! Как знать, не подействует ли на него сей акт доброй воли и не станет ли он податливей?
Елисавета и Митко встретились внизу, в канцелярии тюрьмы. Обнялись, заплакали. Пятьдесят с лишним дней заключения лишили их надежд, каждый понимал, что если им было тяжело, почти невыносимо, то как же тяжело приходится Александру Пееву! Какая Голгофа ему предстоит!
От Дирекции до дома их проводили агенты. Не скрываясь. Остались на улице, под окнами. Старший предупредил: «Выходите пореже. И не болтайте со знакомыми о тюрьме и ее порядках. Иначе снова попадете туда».
На следующий день Елисавета собрала передачу.
Постояла несколько часов перед закрытым окошком в двери канцелярии. Дождалась, когда открыли. Протянула узелок.
— Кому?
— Александру Костадинову Пееву.
— Запрещено!
Эль едва не расплакалась; собрала волю в кулак; постояла немного и ушла. А что она могла? Чем помочь Сашо? Да и кто в состоянии помочь, если даже Говедаров оказался беспомощен? Министр внутренних дел, социального обеспечения и здравоохранения Габровский принял Говедарова стоя. Всячески выказывал почтение; слушая, что-то записывал в блокнотик.
Говедаров, энергично взмахивая рукой, приводил довод за доводом, словно укладывал кирпичи в фундамент. Весомо, прочно.
— Вы говорите, Пеев работал на Центр? Тем лучше! На Центр, против немцев. Отбросим дипломатию, господин министр! На чью сторону сейчас склоняется чаша весов на полях сражений? Кто выигрывает войну? Кто обречен и неминуемо сойдет со сцены? Ответы очевидны, и не принять их в расчет нельзя. При этих условиях процесс Пеева означает ваш завтрашний крах, господин министр. Победители не простят вам того, что в решающую минуту вы сделали неверный выбор.
Габровский закрыл блокнот. Узкие губы сжались в ниточку.
— Я понимаю. Но, поверьте, я бессилен. По делу Пеева Павлов и Гешев мне не подчинены. Только царь может что-либо решить.
Потер ладонью лоб, добавил:
— Это дело, как кошмар, для меня, господин Говедаров. Клянусь честью, я был бы рад не иметь представления о том, что оно числится в производстве по моему ведомству. Попробуйте предпринять демарш у Филова. Это все, что я могу посоветовать.
Говедаров навестил Пеевых в день освобождения. Рассказал об отказе Габровского. Пообещал, что переговорит с Филовым, но при всем при том посоветовал не строить иллюзий. «Готовится расправа. Будьте мужественны и примиритесь с неизбежным».
— Примириться?
Елисавета и Димитр строили планы: встретиться с Филовым, добиться приема у царя. Строили, тут же отметали. Ни премьер, ни Борис III не заинтересованы в спасении государственного преступника Пеева… Неужели нет выхода? Сокурсница Димитра по юридическому факультету Богушевская была дочерью бывшего министра, пользовавшегося влиянием при дворе. Поклялась, что поговорит с отцом. Богушевский через дочь передал ответ: «Заступничество ничего не даст». У сокурсницы на глазах стыли слезы; она была влюблена в Димитра и страдала. Шепотом, прижимая губы к уху Митко, сказала: «Есть еще один путь. Говорят, Гешев берет. Сотни тысяч…» Димитр и раньше слышал, что Никола Гешев не брезгует взяточничеством. В одной камере с ним сидел функционер, избежавший таким образом смертной казни: товарищи, через посредника, передали начальнику отделения «А» 100 тысяч левов… А впрочем?.. А впрочем, кто поручится, что камерное одиночество с Димитром делил «функционер», а не провокатор, полицейская «наседка», толкавшая Пеева-младшего на криминальный поступок? При отсутствии иных улик, факт дачи взятки был достаточным для многолетнего заключения… Но сокурсница — она-то не провокатор!
Как быть?
Брал Никола Гешев взятки или нет — достоверно не известно. Ясно другое, «спасать» Пеева он бы не стал. И никто не мог бы его спасти. Царь, лично надзиравший за делом, какое-то время колебался, прикидывал, не стоит ли потянуть с процессом до конца войны, когда прояснится обстановка и будет проще сделать выбор: карать нещадно или же, напротив, награждать как «лицо, способствовавшее отечеству… и так далее». Делиус, осведомленный об этих колебаниях через Недева, переслал во дворец краткую, убийственно страшную для царя справку: за 1941–1942 годы в Болгарии раскрыто 290 нелегальных организаций; в 1943-м, за истекшие месяцы, совершено 194 акции саботажа и 1491 террористический акт, включая вооруженные нападения на сотрудников ДС и РО. Убиты: бывший начальник Дирекции полиции Пантев, генерал Луков, депутат Янев… Не сам ли царь на очереди?
Борис III пришел в ярость. Выслушав очередной доклад Павлова, вывел резюме:
— Такие, как Пеев, вдохновляют коммунистических террористов. Поторопитесь с обвинительным заключением. К Пееву применить статью 681-ю, к остальным тоже. Смертная казнь! Я так хочу! Вы с чем-то не согласны, Павлов?
Начальник ДС покачал головой. Он был полностью согласен, и тень, скользнувшая по его лицу, означала совсем другое. Павлову предстояло доложить царю новую ошеломляющую весть: из последних по очереди расшифровки телеграмм неопровержимо явствовало, что некий таинственный «восточный» источник Пеева — не кто иной как его превосходительство посол Болгарии в Токио Янко Панайотов Пеев.
Павлов смотрел на царя и тянул время, боясь припадка. Борис III и по значительно менее серьезным причинам впадал в неистовый гнев.
— Шестьсот восемьдесят первая? — переспросил Павлов. — Да, так! Только так, ваше величество!
— Я устал, Павлов. Иди!
Начальник ДС захлопнул папку с бумагами. Перевел дух. Царь сам дал ему отсрочку. Нет, пусть уж с вестью о Янко Пееве едет во дворец министр иностранных дел. В конце концов, это по его епархии.
…Пеев участие Янко в работе группы отрицал. Начисто. Категорически. Держался версии, повторяющей ту, что избрал когда-то для отмежевания Александра Георгиева.
— Янко писал мне, сообщал политические новости. Не более того. Смешно и юридически бездоказательно утверждать, что он помогал мне сознательно.
Недев выложил телеграммы. Оригиналы, изъятые у Эмила Попова, перевод, выполненный криптографами РО, заключение экспертизы об идентичности шрифта машинки Пеева и той, на которой печатались шифровки.
— Извольте прочесть. Здесь речь идет о связи, о том, что Янко Пееву можно доверять. Подпись везде ваша.
— Я отказываюсь отвечать. Это фальшивки…
Недев встал, сунул пальцы за ремень мундира, расправил складки.
— Хорошо бы, если так…
Фраза вырвалась случайно, но была сказана искренне. Недев не был в восторге от оперативности и мастерства криптографов, докопавшихся до Янко Пеева. Едва удалось погасить историю с Никифоровым, и вот — на тебе, новый сюрприз, еще хлеще прежнего! Посол его величества — соучастник Пеева! Факт, который невозможно скрыть, и хорошо, что Пеев не признается, дает возможность оттянуть день, когда придется доложить царю.
Иной точки зрения придерживался Гешев.
— Вы хотите замять скандал, господа? А надо ли? Янко Пеев хороший аргумент в споре с теми, кто кричит о необходимости либерализации. Им мы заткнем рот оппозиции в парламенте; им же приструним Говедарова — они же друзья закадычные! Оздоровим обстановку!
— Надо информировать министра иностранных дел, — сказал Павлов.
Недев поддержал его.
— Это разумно. Без его санкции арестовать Янко Пеева нельзя. Возьмите миссию на себя, Гешев.
— Хорошо. Мне всегда достается грязная работа, но я не брезглив, господа!
Разговор с министром вышел долгим. Телеграммы заставили его задуматься; Гешев — хороший физиономист — легко уловил колебания: министр, очевиднее всего, верил и не верил, допускал мысль, что ему подсунули фальшивки, сработанные в отделении «А».
— Есть еще что-нибудь? Показания, компрометирующие господина посла, признание Александра Пеева?
— Нет… Телеграммы дешифрованы не нами, а РО.
Гешев выдержал паузу, добавил подчеркнуто холодно:
— Надо принимать решение, господин министр. Если вы отказываетесь, я еду к царю.
— Да… Возможно, вы правы. Янко Пеев будет отозван. Не с поста, конечно, а под предлогом доклада мне и премьеру. Надеюсь, к его приезду вы или докажете его вину, или опровергнете клевету. Лучше всего, если его уличит доктор Пеев. Брат не станет возводить напраслину на брата.
«Доктор Пеев! — подумал Гешев, спускаясь по лестнице. — Черта с два он заговорит. Я попробую, конечно, но если не выйдет, то к господину послу придется применить не статью закона, а превентивную меру».
«Превентивная мера»! Перед тем, как откланяться, Гешев предусмотрительно попросил министра точно определить маршрут следования Янко Пеева из Токио в Софию. Настоял, чтобы в Анкаре была сделана остановка на сутки. На вопрос: «Зачем?» — ответил сухо: «Так нужно!» Подумал: «Будут трудности, Заграничной службой ведает Праматоров из отделения «В». Придется действовать через его голову или заставить Павлова дать приказ. Значит, будут посвящены трое. Это много. Ладно, там посмотрим».
…Ночью Пеева подняли на допрос.
Гешев был в кабинете один. Сидел, курил. Рубашка расстегнута. Пепельница полна окурков. Глаза красные, воспаленные.
— Садись, доктор. Пришел час попрощаться. Решено не судить тебя, расстрелять без приговора.
Ты не улыбайся, я не шучу. Мне поручили переговорить с тобой напоследок и сделать предложение. Или ты расскажешь все, дашь нам Янко Пеева и связников с Центром, явки, или ровно в час ночи я собственноручно пристрелю тебя. Все. Думай, доктор!
Пеев побледнел. Прикусил губу — сильно, до крови.
— Гешев! Тебя же женщина родила… Дай бумагу, я напишу письмо жене и сыну. Последнее.
— Зачем? Письма — прах и сам ты скоро станешь горстью праха. Ты выбрал молчание, твое дело… Ладно, поехали!
В зашторенном автомобиле Пеева вывезли за город. Выволокли из кабины, поставили у дерева. Лицо его казалось белым овалом — белее сорочки.
— Еще не поздно, доктор.
— Я не меняю решений!
Агентов было трое. Гешев — четвертый.
Четыре выстрела…
Когда вынырнул, выплыл из обморока, не сразу понял, что это мутное, белесое над головой. Ах, да, луна. Жив…
Его вывозили на расстрел три ночи подряд. Он поседел. Все стало белым: голова, усы… Нестерпимая белизна, с голубым отливом, словно снег на вершине Витоши. Нетающий снег.
13
Даже близкие к Николе Гешеву люди не догадывались, что его — здоровяка, если судить по внешнему виду, давно, с выматывающим постоянством, мучают головные боли. Не помогали ни аспирин, ни патентованные пилюли, купленные в лавочке германского посольства. Боль делала Гешева раздражительным и вспыльчивым, но он сдерживал себя, взрываясь лишь тогда, когда кто-нибудь вмешивался в его дела или ломал планы. В такие часы Гешев запирался в кабинете, пил ракию, рюмку за рюмкой, и изощренно ругался.
В кабинете было душно; за стеклом книжного шкафа серыми рядами, сплоченные, как в строю, теснились томики коммунистической литературы.
Гешев скользнул по ним мутным взглядом, открыл дверь в приемную.
— Секретарь! Ты где? Ну что, привезли?
— Звонил Абаджиев, сказал, что тот безнадежен.
— А Сиклунов?
— Мертв, господин начальник.
Гешев тоскливо выругался и закрыл дверь. Рассеянно пригладил коротко — ежиком — остриженные седеющие волосы. Присел боком на стол, выпил рюмку ракии… Плохо дело, совсем плохо. Болван Сиклунов все напортил — дурак, тупица, царство ему небесное. А еще говорят, что петров день — счастливый день. Вот и верь после этого попам!
А как отлично все началось.
Спецгруппа Сиклунова, опираясь на данные агента № 10671, тщательно продумав все и вся, подготовилась к захвату Попова и его людей. Осведомитель сообщил, что в петров день они соберутся на улице Антим I в квартире некоего боевика. Гешев прикинул: практически все связи Попова установлены. Похоже, новых фигурантов не предвидится. Пора брать.
Сиклунову и инспектору Абаджиеву было приказано возглавить группу захвата. Гешев сам проинструктировал агентов. Приказал брать всех живыми; хозяев квартиры, после ареста, временно поместить в местном участке, остальных — порознь — доставить в Дирекцию полиции. Оружие применять в самом исключительном случае.
Что толкнуло Сиклунова полезть в квартиру первым, не разведав предварительно, что к чему? 10671-й сообщал, что они вооружены, значит, требовалось проявить осторожность. За медалью полез? За благодарностью? Вот, мол, какой я, Любен Сиклунов, отважный и бесстрашный! О, сволочь дохлая, упокой господь его душу…
В рапорте сказано: «Старший группы господин Любен Сиклунов, презирая опасность, ворвался в комнату и выстрелил в человека, показавшегося из чулана, но не попал. Ответными выстрелами, произведенными этим человеком с близкого расстояния, господин Любен Сиклунов был убит на месте. Я открыл огонь и попал стрелявшему в грудь…»
Все, все изгадил!
Сам подох и подох боевик, у которого был «ход» к партизанам и городскому подполью. Если бы взяться за него по всем правилам, сколько бы всего он мог дать следствию! Ну, ничего, жив Попов…
Гешев выпил еще рюмку, постепенно успокаиваясь, спрятал в шкафчик бутылку. Вызвав секретаря, распорядился, чтобы не проворонил звонка из Тырново. Отделению РО в пятом запасном полку было предписано по согласованию с Недевым арестовать канцеляриста секретной части Ивана Владкова и, не допрашивая, этапировать в Софию в распоряжение отделения «А».
Междугородняя молчала до вечера.
Около восьми Тырново вызвало Софию. Офицер РО пятого полка сообщил, что наряд жандармерии взял Владкова под стражу — с трудом, ибо Владков оказал сопротивление.
— На чем его отправили? — спросил Гешев.
— Поездом, — был ответ.
— Не сбежит по дороге?
— Исключено. Его охраняют пять жандармов.
«Хоть здесь не напортили», — подумал Гешев.
Провел ладонью, словно стряхивая пыль, по ежику. Сел в кресло. Допросить Попова сейчас или подождать? Гармидолу Попова передавать нельзя: изувечит так, что работать с ним будет невозможно.
Гешев на листке из служебного блокнота записал: Эмил Попов, Александр Георгиев, Янко Пеев, Иван Владков. Отдельно вывел: Александр Костадинов Пеев… Все в сборе… Нет, все-таки попы правы: петров день — счастливый день! Арестованные заговорят, обязательно заговорят. Когда «расколются», надо будет дать им очные ставки — сначала с Поповым, потом с Пеевым. В первую очередь добиться признаний арестованного торговца, он с Пеевым сотрудничал давно, вместе ездили в Москву. Факт поездки можно обыграть. Преподнести так: Москва с дальним прицелом привлекает болгарских коммерсантов к торговле с Советами. Дают им кредиты, запутывают, а когда те увязнут, шантажом вынуждают сотрудничать с Центром. Если торговец подпишет протокол, премьер Филов озолотит отделение «А». Болгарский МИД, газеты, ноты, меморандумы, разоблачительные статьи! Инцидент подорвет позиции тех, кто стоит за блок с союзниками, и повысит шансы Филова в борьбе за сохранение власти… Кто сказал, что полиция всего лишь инструмент в руках правительства? В Болгарии наоборот: правительство превращается в инструмент полиции. Политика определяется не только в кабинетах министров, но и здесь, у Львова моста, в Дирекции, главным звеном которого является ДС и отделение «А».
Одно плохо — Пеев молчит. Отказывается от показаний или стоит на своем, и тягачом его не сдвинешь! Не применить ли «третью степень»? Да нет, три мнимых расстрела — средство посильнее избиений, но и они результатов не дали. Показаний на Георгиева и Янко Пеева у отделения «А» нет.
И в Берлине — чистый ноль.
Доктору звонил Верк, запрашивал материалы полиции на Георгиева. Прислал дубликаты своих протоколов. Ответы Георгиева сходятся в основном с тем, что говорит Пеев. Верк поставил Делиуса в известность, что, если в ближайшие недели не удастся получить чего-нибудь нового, Георгиева придется освободить.
Контора и университет дали отзывы о его благонадежности, положительно характеризует его и блоклейтер НСДАП по месту нахождения пансиона — партийный уполномоченный, надзирающий за поведением и образом жизни обитателей квартала… Если Верк освободит Георгиева, то в Софии ничего с ним не сделаешь. В досье есть материалы, что близким другом Георгиева является не кто иной, как ловченский владыка Филарет, наставник и духовник наследника престола Симеона. Филарет учился с Георгиевым в гимназии и покровительствует ему.
К ночи Гешев протрезвел. Спустился во внутренний дворик, до пояса вымылся водой из ведра. Вернувшись к себе, наверх, достал папку с делом Пеева. Строчка за строчкой вчитался в текст, ища в нем зацепки — упущенные им или Ангеловым детали, наводящие на новых людей, или новые обстоятельства. Прочел перехваченные пеленгацией и найденные в квартире Попова радиограммы. Стало опять неспокойно. Черт возьми, Пеев за годы работы на Центр проник, пожалуй, в святая святых правительства и двора. Вот, пожалуйста, хорош примерчик: «Докладная записка Филова содержит англофильские тенденции. Ожидается смена кабинета». Как будто сам читал записку или участвовал в совещании, где обсуждался состав будущего правительства. Кто сообщил Пееву данные?
А Центр, в свою очередь, запрашивает так, будто обращается в справочное бюро, а не за разведданными. Словно заранее уверен, что для Пеева нет тайн и преград. «2.4.1943. СК 187 ч. 22, 08. Имеем сведения, что при военном министре создана комиссия, в которую входят представители германского командования, для разработки вопросов, связанных с общей мобилизацией по предполагаемому вступлению Болгарии в войну. Проверьте эти сведения. Сообщите о последних разногласиях в Народном собрании, что представляет из себя оппозиционная группа, какие цели преследует, кто возглавляет эту группу». Или: «Просим указать точно, по каким маршрутам и в каком количестве следуют итальянские части на советско-германский фронт в течение февраля и марта 1943 года, сообщите номера и названия этих частей. Повторите ваши телеграммы относительно оккупационного корпуса и разногласий в парламенте». Или эта: «14.4.1943. СК 160 ч. 15, 41. Срочно повторите место и район сосредоточения германских войск в Румынии». Каково! И ведь Пеев ответил. Быстро, чуть не через сутки. Ну и оперативность! Он что, господь бог? Всеведущ, всемогущ? Откуда ему, к примеру, стало известно о секретных переговорах? «11. 3. 1943. СК 165 ч. 14, 38. Царь отправил Николу Мушанова в Турцию для переговоров с турецкими и английскими официальными лицами. Директор по печати Николов предложил Говедарову выехать в Турцию. Однако царь имеет и свои связи через Драганова в Мадриде». Кто выдал, выболтал, разгласил? Мушанов? Или Говедаров с Николовым? Этих не допросишь, а сами они не прибегут с покаяниями.
А может, Пеев держал кого-нибудь из них на жаловании? Платил русским золотом?.. Да нет, бред все это — русское золото, бриллианты из тайной кассы Кремля. Такие штуки были хороши в двадцатых годах, когда газеты печатали все, что не дай, лишь бы побольше было «разоблачений» и сенсаций. Сейчас в басни о золоте и ребенок не поверит… Мушанов, Николов, Говедаров… Кругом измена, заговоры… Уж если Янко Пеев пошел на сотрудничество с Центром, то кому верить? На кого обопрется трон в трудные времена? Выходит, вся Болгария против режима — от ятака до посла?
«Хватит! Буду отдыхать!»
Гешев позвал секретаря.
— Меня нет. Уехал я. Для всех — уехал.
Заперся, достал ракию. Выпил и прилег на диван.
В кабинет вползла ночь, черная, как мысли. «Неужели идем к краху? Царь сходит с ума, у Филова вырывают власть… Столько лет я служил им… Кому? Его величеству Борису III, герцогу Сакс-Кобург-Готтскому, князю Тырновскому, графу Рильскому и прочая, и прочая, и прочая. От простого агента до начальника дошел. А что нажил? Презрение, обидные клички. Даже такие, как Павлов, руку стараются не пожимать, боятся запачкаться… Ну и черт с ними! За моей спиной Доктор. Настоящая власть. Я не как другие, пойду с немцами до конца. Одной веревкой связаны».
Сигарета, дотлев, обожгла губу. Ракия высушила горло, нёбо саднило.
Гешев попытался заставить себя уснуть, но не смог. Встал. Крикнул секретаря, чтобы привели Пеева. Секретарь хотел выйти, но Гешев ухватил его за плечо.
— Пусть Пееву скажут, что не на допрос. Просто поговорить с ним хочу. И наручники не одевайте. Понял?
Вытряс из пепельницы окурки, проветрил комнату. Достал из шкафчика второй стакан. Сказал Пееву, которого привел дежурный надзиратель:
— Садись, пожалуйста, доктор. Прости, что разбудил.
— Опять расстреливать повезешь?
Лицо у Пеева точно восковое, глаза запали, на губах трещины.
— Сегодня не повезем. А вообще, хватит… Просто поговорить хочу. Выпьешь со мной?
— Нет конечно.
— Брезгуешь? Ладно, я и один могу. Твое здоровье, доктор.
Ракия была густой, домашнего приготовления. Крепкая, не обжигала даже, а разъедала.
— Пеев, тебе жить осталось немного. Врать не станешь. Скажи, почему ты с ними? С русскими? Ты же из «сливок нации», мне во дворце говорили, что ты министром мог бы быть, если б хотел. Почему не с нами? С ними?
— Долгий разговор, Гешев.
— А я не спешу. Ты говори, говори…
— Коротко отвечу — не поймешь, а долго не стану — противно тебя видеть.
— Скажи — страшно, так вернее.
— Противно. Ты же человеческое потерял…
— Значит, не скажешь?
Пеев в упор посмотрел на Гешева. Прикрыл веками глаза.
— Запиши, Гешев, если хочешь: «В ответ на вопрос Николы Гешева обвиняемый Пеев виновным себя в действиях против своей родины не признал и заявил, что все, что делал, считал и считает правильным. Далее он заявил, что руководствовался в своих поступках исключительно интересами Болгарии, но не порабощенной, царской, а свободной страны, в которой навсегда будет уничтожено угнетение человека человеком». Все, Гешев. А теперь можешь вызывать Гармидола. Больше я ничего не скажу.
— А если и впрямь вызову? Не спеши на тот свет, доктор!
— Ты меня ненадолго переживешь. Революция уничтожит тебя, Гешев.
Гешев зевнул, перекрестил рот.
— Ску-учно, доктор. Думал, скажешь что-нибудь оригинальное. Тривиально изъясняешься… Ладно, иди досыпай. Завтра Владкова привезут, я тебе с ним очную ставку дам и с другими тоже. Пока ты спал себе на коечке, мы тут многих загребли. Сейчас сидят у Ангелова и говорят. Тебе, кстати, от них привет. Просили передать, чтобы ты не запирался. Ни к чему.
— Не знаю я никого!
— Знаешь! Ладно, подумай еще. Эй, секретарь, вызови конвой!
Увели… И снова ночь, черные мысли. Если не ломать комедию, если ответить себе самому с предельной откровенностью, то надо признать, что революция не призрак — надвигающаяся реальность. Пеев из тех, кто внес в нее лепту.
В служебном блокноте Гешев вывел аккуратными буквами: Пеев — Центр — фронты — коммунисты — революция. Подчеркнул. Приписал: «Победы русских давали левым в Болгарии материал для пропаганды, а та подводила колеблющихся к выбору. Вина Пеева не укладывается в рамки ответственности за шпионаж. Она шире, и его надо судить как политика. Опасность его состоит еще и в том, что он является выдающимся человеком, способным влиять на людей из любых слоев и обращать их в свою веру».
Несколько месяцев спустя этот тезис, весь без изъятия, повторил в военном суде прокурор полковник Любен Касев. Исходя из него, Касев потребовал для Александра Костадинова Пеева расстрела…
14
…Борис III возвращался из ставки Гитлера. Свидание царя с рейхсканцлером «тысячелетней империи» прошло бурно. Гитлер, не стесняясь высоким саном гостя, кричал, что болгары предают его, и требовал отправки на фронт десяти полноценных дивизий. Борис, у которого не было надежных соединений, способных выдержать мало-мальски серьезные бои и не сдаться в плен русским, попробовал было убедить фюрера в нереальности требования, но успеха не добился и пришел к выводу, что имеет дело с человеком, не способным правильно понимать реальную обстановку. Такой пойдет на все: нарушение гарантий, оккупацию… Под конец встречи царя охватил страх, который ему не удалось скрыть, показалось, что немцы не выпустят живым, в лучшем случае — упрячут в камеру, закуют, замуруют заживо… Страх не покинул царя и на аэродроме, и тогда, когда самолет, эскортируемый «мессершмиттами», взял курс на Софию. Все думалось: сейчас произойдет самое жуткое, выплюнут свинец пулеметы истребителей эскорта, собьют, сожгут…
Царю стало дурно. Потерял сознание… Смерть…
28 августа над дворцом приспустили и подняли штандарт.
На троне воцарился малолетний Симеон II, от имени которого власть в свои руки взял регентский совет — генерал Михов, князь Кирилл и бывший премьер Богдан Филов. Пост министра-председателя занял Добри Божилов.
Перемены.
Все их ждали — одни с испугом, другие с надеждой.
Но ничего не изменилось. Гешев, целые сутки живший под гнетом мысли, что новое правительство совершит поворот на сто восемьдесят градусов и тогда люди, вроде Пеева, выйдут на свободу, а он, Гешев, и такие, как он, займут место в камерах, получил письмо от членов регентского совета с благодарностью за службу и просьбой не покидать «боевой пост и впредь с прежним рвением отправлять нелегкие обязанности, возложенные долгом перед людьми и историей». Филов и прочие не только отпустили ему грехи прошлые, но и выдали индульгенцию на совершение новых — бессрочную, за подписями и государственной печатью.
Это в известной мере скрасило для начальника отделения «А» и его шефа по ДС Павла Павлова, также сохранившего кресло в Дирекции, впечатление от двух сокрушительных ударов, нанесенных по полицейскому престижу.
Первый удар был получен из Берлина. Инспектор Верк, не добившись признаний Георгиева и не имея из Софии данных, уличающих болгарского стажера в шпионаже, вынес постановление о прекращении дела, освобождении Георгиева из-под стражи и выдворении его в страну подданства — Болгарию. Гешев сунулся было к Павлову с ордером на арест, но начальник дс, не колеблясь, разорвал бумагу на клочки. Духовный пастырь Симеона Филарет в день, когда Георгиев пересек границу царства, позвонил министру внутренних дел и мягким тоном, за коим угадывался металл, посоветовал, оставить чадо церкви Александра в покое. Филарет пошел дальше, не ограничившись только этим советом, и пожелал, чтобы министр, через подчиненных, помог будущему ученому завершить свой научный труд по теме «Организация дунайского речного транспорта в Болгарии», поскольку клевета недобросовестных чиновников из ДС помешала Георгиеву окончить его в Берлинском университете.
Павлов проглотил пилюлю: с Филаретом было опасно ссориться. Регенты регентами, но духовник царя мог при случае такое напеть в ухо венценосному ученику, что начальник ДС распростился бы с карьерой.
Гешев предложил:
— Установим наблюдение, на чем-нибудь Георгиев споткнется, и тогда…
Павлов не дал ему докончить.
— Лучше сразу пишите рапорт об отставке с пенсией! Нет, нет, Георгиев для нас больше не существует. Займитесь-ка Янко Пеевым, он на днях прибывает в Анкару. Это куда перспективнее.
Анкара… Недев, посвященный Гешевым в план ареста бывшего посла, выделил людей; двух сотрудников дал и Праматоров из отделения «В». Они должны были встретить Янко на аэродроме, посадить в машину и увезти в горы. Здесь, в заранее подготовленном доме, срочно оборудовали камеру со всем необходимым для допроса. Отсюда Янко Пееву предстояло выйти или после полного признания, чтобы следовать в Софию, или же — вперед ногами. Труп в этом случае предполагалось сбросить в ущелье в машине — обычная для извилистых горных дорог автокатастрофа.
Шофера посольства подменили поручиком из РО.
Янко Пеев, беспечный, с улыбкой щурящийся на солнце, сошел с трапа. Отыскал черный «хорьх» с известным номером, поблагодарил кивком, когда шофер открыл дверцу. Портфель с документами оттягивал ему руку, и шофер поторопился бережно перенять поклажу господина посла. Помог усесться поудобнее на стеганых шевровых подушках заднего сиденья. Мягко тронул «хорьх» с места.
Янко Пеев попросил отвезти его в посольство, но шофер ответил, что его превосходительство посланник в Анкаре отвел гостю загородный дом. «Наверно, хочет побеседовать конфиденциально, — подумал Янко. — Здесь, разумеется, мало что известно о токийских коллизиях и военных аспектах политики Хирохито».
Встревожившийся было неожиданным изменением маршрута, он успокоился и равнодушно уперся взглядом в спину шофера. Она была неестественно широкой, как у призового борца. Приплюснутые уши и могучая шея дополняли сходство. «Неприятный тип, — подумал Янко. — По-видимому, не только водитель, но и телохранитель. Что ж, в Анкаре всегда было неспокойно… восточные нравы…»
Размышляя об этом, он пропустил момент, когда две машины на полном ходу обогнали «хорьх», внезапно затормозили, перегородив дорогу. Взвизгнули тормоза. Шофер потянулся за пазуху, но тут же замер, остановленный резкой командой, отданной по-английски:
— Сидеть! Руки на колени! Не шевелиться!
Трое неизвестных окружили «хорьх», распахнули дверцы.
— Господин Пеев? Просим выйти…
— В чем дело?
— Выходите, пожалуйста!
Янко выбрался с заднего сиденья, ступил на искрящуюся под солнцем дорожку, усеянную битым горным кварцем. Спросил:
— Может быть, вы объясните, в чем дело?
Моложавый мужчина в безупречном костюме ответил, понизив голос:
— Прошу пересесть к нам. Вам нельзя ехать в Софию. Понимаете почему? Временно разместим вас в Анкаре, а затем переправим в любую страну по вашему выбору.
Янко оглянулся: двое спутников мужчины в костюме из «тропикала» связывали шофера. Взяли с сиденья портфель.
По дороге Янко спросил:
— Чем вызвано все это?
— Вас хотели убить, — был ответ. — Сначала пытать, потом устранить.
Из Анкары, помывшись и приведя себя в порядок в номере маленькой, недорогой гостиницы, Янко позвонил болгарскому посланнику.
— Мой друг, прошу передать регентам, что я решил отдохнуть. Знаете, нервы. Поеду на воды, а потом поживу в Ираке. Станут ли числить меня или нет впредь по министерству иностранных дел — забота не из важных. Здоровье дороже.
Ночью на машине он уехал — не на воды, в Стамбул.
Гешев, прочитав телефонограмму из Анкары, позвонил Павлову и Недеву. Когда сошлись у него в кабинете, игнорируя старшинство в чинах, спросил обоих начальников с откровенной угрозой: из чьего аппарата произошла утечка сведений? Кто отвечает за провал — ДС или РО? После споров нашли козла отпущения, Праматорова. Павел Павлов устроил ему нагоняй, предупредил о «неполном служебном соответствии». Впрочем, это мало что меняло. Янко Пеев был вне пределов досягаемости, отыскать его не представлялось возможным, и Гешев, болезненно переживший анкарскую историю, отыгрался на арестованных. Всех их, исключая Александра Пеева и Эмила Попова, передали в руки Гармидола. Пеева и Эмила Попова Гешев по-прежнему трогать не решался, ибо приказ Доктора сохранял силу. Делиус считал, что в суде оба они должны выглядеть хорошо, видом своим опровергая распространяемые газетами мира сообщения о зверствах гестапо и охранок стран — сателлитов Германии.
— Вас беспокоит престаж? — спросил Гешев.
Делиус небрежно махнул рукой.
— Слишком мелко берете. Умейте за частным видеть общее и за вопросом, кажущимся вам всего лишь престижным, завтрашний день. Ваш, мой, наших единомышленников.
Яснее, пожалуй, нельзя было признать, что крушение «третьей империи» не за горами, и Гешев не стал развивать тему. Откланялся. Вернувшись к себе, в дом у Львова моста, принял окончательное решение: «Надо умывать руки». Это было тем легче сделать, что регентский совет неоднократно запрашивал, когда РО и Дирекция полиции наконец передадут дело Пеева в суд? Гешев заготовил нужные бумаги и отнес их Павлову на подпись. Начальник ДС понял все с полуслова, вывел резолюцию: «Согласен». Директор полиции Антон Кузаров утвердил решение о переводе обвиняемых в Софийскую центральную тюрьму и о передаче материалов предварительного расследования военным властям. Одновременно он представил Николу Гешева к ордену — за образцовое несение службы.
Софийский централ.
Каторжный режим: минимум еды, минимум времени для прогулок, минимум квадратных метров площади в камерах.
Доктор Александр Костадинов Пеев перестал существовать. Появился заключенный номер 2840. Еще до суда лишенный всех прав — общечеловеческих и гражданских.
…Он целыми днями ходил по камере — взад — вперед, десять, пятнадцать, двадцать километров, заполненных мыслями. Память работала безотказно, и он извлекал из ее недр детали, письмена, которые, казалось бы, давно должны были стереться со скрижалей… Голос Испанца, его руки с нервными тонкими пальцами… Горшок с цветами на окне в пловдивском доме, где помещалась редактируемая им «Правда». Однажды горшок исчез, на его месте появился перевязанный трехцветной лентой пакет. В нем была бомба и письмо: «Даем три дня. Если не уберешься, взорвем редакцию». Фашистские террористы демонстрировали патриотизм — краски на ленте повторяли краски национального флага… А какой номер телефона был в конторе? 40–36. А дома? 4-20-64… Нет, не забыл! И лица друзей — Форе, Эмила, Янко, Сашо Георгиева — не утеряли отчетливости черт. Он видел их так, словно друзья были рядом, шли вместе по дороге, проделываемой им от угла до угла, километр за километром… С ними он беседовал — мысленно, разумеется. Говорил с Эль, давал советы сыну, как жить, как добиться того, чтобы не было стыдно ни за один миг, из отмеренных тебе судьбой. «Слушай, Митко! Ни один человек не может существовать без идеалов. Надо только различать идеалы подлинные и мнимые. Надо уметь отмести красивую формулу, пустопорожнюю фразу об абстрактном благоденствии или, скажем, о всеобщем братстве и взять себе как руководство для дела те философские категории, которые насыщены конкретным содержанием… Ты не понял? Хорошо, я буду конкретнее. Марксистско-ленинская философия — вот единственная наука, дающая нам истинные идеалы, достижение которых выведет человечество из тупика… Слушай, Митко!..»
Он останавливался, обрывал себя. Сын не услышит, а написать нет возможности. По-прежнему не дают ни бумаги, ни карандаша. Заявить протест? Кому!
Пеева давно не допрашивали. Не было ни очных ставок, ни вызовов к прокурору, хотя тюремное начальство известило, что дело перешло из ведения Дирекции полиции и РО в производство полковника Любена Касева. Юридические нормы предусматривали новые допросы и иные следственные действия для обоснования обвинения, но у полковника Касева, очевидно, имелись свои взгляды на законность, и он решил, что формальности не имеют значения. Значит ли это, что приговор предрешен? Возможно… 681-я статья и положения Закона о защите государства — смертная казнь… «Готов ли ты, Сашо?.. Да. Я готов и спокоен».
Перемена декораций в правительстве Пеева не обольщала. Добри Божилов был ставленником Филова, а тот играл в регентском совете первую скрипку. Пеев помнил их обоих: угрюмый, с волевой складкой у рта, Филов и суетливый Божилов, с округлыми жестами и безвольным подбородком. У этих курс не изменится. Их мессия — Адольф Гитлер, и только он один. Значит, процесс пойдет по заранее заготовленной схеме, и единственное, что следует попытаться сделать, — хоть как-нибудь облегчить участь товарищей. Стоять намертво: «я и Эмил — вот и вся группа. Остальные — жертвы полицейского оговора. А Владков? Злополучное штатное расписание, похищенное им в штабе полка, — роковая ошибка! — дает Касеву возможность требовать смертной казни и для Владкова. Как его спасти! Молодой, совсем мальчишка еще…»
В Дирекции полиции Гешев привел Владкова на очную ставку. Не лицо у парня было — маска. Синяя, вздувшаяся. Синяки, бугры, шрамы… Спросили, указав на Пеева: «Узнаешь этого господина!» Тот ответил: «Впервые вижу». — «Ты же ему передал штатное расписание полка!» — «Передал, кому следует. А кому — не скажу. Пытайте — не скажу».
Пеев закусил губу, резко встал.
— Гешев! Дай парню сесть! Вызови врача. Неужели не видишь — он еле держится!
— Обойдется. Думай лучше о себе, доктор.
Владков благодарно посмотрел на Пеева.
— Спасибо. Я сильный, не упаду.
Все ты держишь в себе, память! И руки Испанца, и изуродованное лицо Владкова, и каштаны на бульваре Дондукова, сладко пахнувшие в пору цветения. Здесь ты гулял с Эль, в маленькой сладкарнице покупал пирожные, шел куда хотел: в Борисов сад, в кино, домой, на окраину, к шоссе, ведущему на Витошу… Было и не было.
А что будет?
В первой декаде октября полковник Касев наконец соизволил вспомнить о формальных нормах закона. Прибыл в тюрьму, вызвал Пеева в допросную, раскрыл папочку.
— Вам предъявлено обвинение в шпионаже. Вы — юрист, и я не считаю необходимым растолковывать вам смысл параграфов. Вам понятно, что влечет за собой занимаемая вами позиция отрицания? Боюсь, адвокату не удастся привести смягчающих вину мотивов… От имени суда предлагаю: полную правду — на стол; взамен — жизнь.
Пеев холодно улыбнулся.
— Насколько я помню, вы тоже юрист, полковник?
— Доктор права, как и вы.
— Странно. Законовед обязан знать, что, предлагая сделку обвиняемому, да еще от имени суда, он совершает уголовное преступление. Вы не прокурор, вы уголовник, милостивый государь!
— Оскорбляете? Оружие бессильных…
— Не трудитесь продолжать! Я не оскорбляю вас, а констатирую факты. При демократическом режиме вас бы судили.
— Я не желаю дискутировать… Есть у вас дополнения, заявления, ходатайства?
— Да. Прошу распорядиться о выдаче мне бумаги и письменных принадлежностей. Я должен подготовиться к суду.
Касев помолчал с минуту, кивнул.
— Хорошо, вам дадут. Это все? Тогда до встречи в суде.
Камера. Одиночка с крохотным оконцем. День за днем.
Он писал. Много, торопливо, не зная, что, когда кончит, записки его попадут не к Эль и Митко, а к Гешеву, который распорядится их уничтожить. При этом Гешев будет считать, что никто никогда не узнает ни о существовании записок, ни о приказе, и ошибется, ибо в дело окажется посвященным третий — помощник адвоката Димитр Александров, молодой человек, тождество которого с Димитром Александровым Пеевым тюремной администрации не удастся установить…
Они виделись в тюрьме — отец и сын. Трижды.
Димитр, используя протекцию Говедарова, добился, чтобы одна из адвокатских контор выдала ему доверенность на участие в процессе в качестве помощника защитника. По полицейским правилам регистрации, официальные документы разрешалось заполнять на любое из двух имен — родовое и по отцу. Родовое «Пеев» в доверенности опустили; внесли отцовское — «Александров»…
Три коротких свидания — по пятнадцать минут каждое. Якобы для того, чтобы помощник адвоката мог уточнить у обвиняемого спорные места в показаниях.
Три разговора — сумбурных, с длинными паузами… О доме, политике, самочувствии Митко и Эль, здоровье Форе, погоде, домашних делах… о чем угодно, кроме процесса и его возможного исхода. Пеев и сын понимали: здесь ничего не изменить. Димитр едва не плакал, стискивал зубы: в глазок за ходом свидания наблюдал надзиратель… Пеев сильно похудел, одежда болталась на нем мешком. Руки и лицо были прозрачными. Белые волосы, белые усы. Митко смотрел на них не отрываясь…
Четвертого свидания помощнику адвоката Александрову не дали: заключенный № 2840 по распоряжению председателя военного суда полковника Ивана Добрева был переведен на особый режим изоляции.
«Особый» — это значит без прогулок, без общения с кем-либо… Иван Добрев не сам принял решение. Так посоветовали в регентстве. Мать Симеона И, вдовствующая Иоанна, постепенно все больше и больше забирала власть в свои руки, оттесняя от кормила Кирилла и Михова, казавшихся ей ненадежными. Подобно Борису, Иоанна молилась на Гитлера — фанатично и истово. Фюрер между тем требовал от новых правителей доказательств лояльности. Многосторонних и недвусмысленных. Вдовствующая царица вспомнила о деле Пеева, приказала доложить, как продвигается подготовка к процессу… Выслушала, подумала, соблаговолила изречь высочайшее: «Никаких поблажек!» Словно казнила заранее…
И опять — день за днем, неделя за неделей. Тюремные будни. Хорошо еще, что хоть бумагу и ручку забыли отобрать. Продолжал записки, вспоминал о недоделанных делах, людях, с которыми сводила судьба… Сколько он знал, с кем только не дружил! Знаменитые артисты Боян Дановский и Петр Димитров, звезды болгарского театра, любили его, как брата. Георгий Димитров учил азам революционного дела, предрекал большое будущее. Выдающиеся теоретики военного дела сулили блестящую штабную карьеру.
Пеев торопился записать все, что помнил. Тюремная администрация официально известила: процесс будет проведен не позднее ноября. Времени оставалось ничтожно мало, считанные сутки. Или часы?
На пальце Пеева тускло золотилось тоненькое обручальное кольцо. На его внутренней стороне были выгравированы буквы «ЦЖ» — «на целую жизнь».
Похоже, она подходит к последнему рубежу — жизнь…
Что ж, он ни о чем не жалеет. Ни о чем! И если бы дали новую — прожил бы ее, как ту, какая была. «Дорогие Эль и Митко! Я сознательно пришел к пониманию своего места в классовых лагерях. Выбор, как вы знаете, был совершен давно и окончательно. Все, что сделано, сделано с полным пониманием ответственности, которую я взял на себя. И вы должны держать голову высоко, ибо дело наше — правое».
Заключенный номер 2840 очень любил жизнь…
15
— Подсудимый Александр Костадинов Пеев, встаньте! Признаете себя виновным?
— Нет, не признаю.
— Подсудимый Эмил Николов Попов?
— Не признаю.
— Подсудимый Иван Илиев Владков?
— Не признаю.
Суд походил бы на фарс, если б не трагическая сущность, заложенная в заранее предрешенный приговор. Пеев со своего места за барьером, отделявшим обвиняемых от зала, посмотрел на судейское трио. «Павлины» — золотое шитье, погоны с вензелями, тыловых достоинств ордена на многоцветных лентах… Да нет, павлины — это не точно. Правильнее, марионетки, приводимые в движение, невидимыми ниточками, протянутыми из зала, где, оживленно перешептываясь, с видом театральных завсегдатаев, явившихся на премьеру оперетки, сидели те, кто считал себя солью земли и повелевал в Болгарии всем: людьми, землей, жизнью и смертью, этими вот марионетками за столом на возвышении — «софийским военно-полевым судом».
Говорить по существу подсудимым не давали. Обрывали в середине фразы, требуя предельного лаконизма — «да», «нет», — исключавшего всякую возможность защищаться, ибо «да» и «нет» были всего лишь констатацией фактов, а не их объяснением, и мотивы, лежащие в основе поступков, оставались где-то в стороне, не нужные ни суду, ни господам в зале. Оставалась еще надежда высказаться до конца в последнем слове, но Пеев вспомнил, что военно-полевой суд идет по особым регламентациям, вне рамок процессуального права, и председатель может, ежели сочтет нужным, прервать говорящего в любом месте. А он сочтет — это уж точно. Достаточно посмотреть на господина полковника Ивана Добрева, проследить, с каким вниманием взирает он на лица публики, ища одобрения или порицания, чтобы понять: объективности и беспристрастию нет места в зале судебного присутствия.
Слева от председателя — капитан Христо Иванов, первый член суда — желчный неврастеник, знакомый по клубу Союза офицеров запаса, где за ним укрепилась репутация неумного болтуна, общения с коим нужно избегать, если не хочешь зазря погубить вечер. Второй член суда — поручик Паскалев. Этот известен как оголтелый антикоммунист, произнесший как-то фразу о том, что болгар сначала надо пороть, потом вешать, а уж затем учить. Даже коллеги-офицеры после этого избегали подавать ему руку.
Да, ничего не скажешь, состав суда как на подбор!
А кто же в зале? Пеев скользнул глазами по рядам. Впереди — Кочо Стоянов, рядом с ним — Павел Павлов, полковник Недев, пятеро штатских, Любомир Лулчев и директор полиции Кузаров. В глубине — несколько дам и — отдельно — Никола Гешев в обществе белобрысого немца. Кто еще? Секретарь святейшего синода, советники регентов, подтянутый, с моноклем в глазнице Делиус… Всего человек сорок — сорок пять.
Касев — прямоугольный, задрапированный в мантию, встал и эффектным жестом поднял руку.
— Господин председатель, господа. До сих пор остается невыясненным вопрос о роли генерала Никифорова. Ответьте, Пеев, являлся ли Никифоров вашим сотрудником!
— Нет!
— Нельзя ли подробнее?
— Вы требовали однозначных ответов.
— Но не для данного случая.
— Хорошо. Отвечу так. На предварительном следствии я показал, что генерал Никифоров был неосторожен в разговорах со мной, и я извлекал из них многостороннюю информацию. Хочу добавить, что я выношу благодарность генералам Михову, Даскалову, Лукову, Лукашу, Маркову, полковнику Генштаба Димитрову и некоторым другим военным деятелям за их усилия в части передачи мне объективных сведений о немецких войсках, политическом положении, предстоящих переменах и переговорах между правительством Болгарии и лидерами фашистской Германии.
В мертвой тишине зала, нестерпимо резанув перепонки, скрипнуло перо стенографистки. Касев, словно пробудившись, вскинул брови.
— Какой цинизм!
Добрев постучал карандашом о графин с водой.
— Доктор Пеев! Следите за вашей речью! У суда складывается мнение…
Пеев засмеялся — открыто, не скрывая издевки.
— Складывается? Скажите — давно сложилось!
В зале, вставая с кресла, грузно заворочался Кочо Стоянов.
— Заткните ему рот!
Пеев оглянулся на стенографистку. Склонившись над тетрадью, она записала реплику. Отлично! Стенограмма, коли сохранится, будет точным документом, во всем объеме фиксирующем «объективность» и «беспристрастность».
— Господин председатель! В такой обстановке лишено смысла давать показания. Кочо Стоянов насаждает в суде нравы охранки. Полагаю, что он скоро потребует нас линчевать.
— Сядьте, Пеев! Продолжайте, господин прокурор.
Пошло, покатило, поехало. Любен Касев сам спрашивал, сам и отвечал. «Да» и «нет» подсудимых превращались у него в отправные точки для длинных интерпретаций, и члены суда, выслушивая их, одобрительно и важно кивали, соглашались.
Так было в первый день и в последующий.
Лишь однажды Пееву удалось высказаться до конца.
— Обвинение против меня сформулировано по статье 112 «г»… Согласно определению «государстве венная тайна», заложенному в законе, это «факты или сведения, или предметы, сокрытие которых от другой державы необходимо для блага болгарского государства и особо для его безопасности». Согласно этому определению, могут ли данные, переданные нами Центру, считаться государственной тайной?.. Картина ясна. Все мероприятия нынешнего правительства… приносят пользу только Германии. Следовательно, сокрытие этих тайн необходимо не нам, не болгарам, а фашистской Германии, ведущей агрессивную войну на уничтожение народов. В таком случае уместен вопрос: есть ли налицо хоть один из элементов статьи 112 «г», то есть имеется ли здесь «государственная тайна», сокрытие которой закон признает необходимым? Абсолютно очевидно — нет! Отсюда следует, что не может быть и речи о совершении мною и моими товарищами преступления.
Иван Добрев не нашел оснований, чтобы прервать Пеева. Вопрос касался трактовки закона, и делом Касева было разбить аргументы, противопоставив им свою логику юриста… Вот только удастся ли? Система защиты, избранная Пеевым, не содержала изъянов, и Добрев понимал, что Касеву придется туго. Единственное, что остается, — подменить одни понятия другими, подтасовать факты, и суд поможет ему сделать это. Так зачем же прерывать Пеева? Пусть говорит.
Пеев догадывался, о чем думал Добрев, и, продолжая, еще некоторое время придерживался чисто юридических моментов, стараясь создать базу для последних, самых важных выводов, которые обязательно надо высказать, и таким образом, чтобы председатель не получил возможность заткнуть рот.
— Господа судьи! Это мое понимание закона находит подкрепление в том объективно существующем обстоятельстве, что Болгария не является прямой участницей военного союза с фашистской Германией и одновременно не находится в состоянии войны с СССР, что лишает суд возможности предъявить нам обоснованное хоть каким-нибудь законным актом обвинение в разглашении «государственной тайны», подрывающем безопасность державы. Это ясно даже не юристу, а гимназисту, умеющему применять меры ординарной логики. И наконец, хочу спросить: какой из двух сторон в смертельной войне между Германией и Советским Союзом следует помогать, дабы сохранить неприкосновенным суверенитет нашей державы? Понятно, не Германии! Понятно также, что справедливым будет способствовать ее разгрому!.. Перехожу к обвинению в коммунистической деятельности. В наше время служить коммунизму означает, что, с одной стороны, ты служишь человечеству и его будущему, а с другой — своей родине и ее будущему. В то время, когда силы мира предельно дифференцированы, когда коричневая чума противостоит красному знамени, честные люди, естественно, сплачиваются под флагом борьбы за счастье человечества. Они поднимут рано или поздно красный флаг и над свободной Болгарией. Встаю рядом с ними с сознанием, что помогаю всем, чем могу, грядущей победе!.. Я кончил, господа!
У Добрева определенно была замедленная реакция. Он спохватился, когда Пеев уже сел. Рука председателя механически потянулась к колокольчику, замерла на полпути и опустилась на папку с делом. «Опоздал!»
…Третий день был днем приговора.
Добрев, монументальный, всем видом демонстрирующий непреклонность, читал, словно декламировал.
— Семнадцатое ноября тысяча девятьсот сорок третьего года. Военно-полевой суд в составе… от имени его величества Симеона II, царя болгар, рассмотрел…
Формулировки были путаные, корявые, и Пеев подумал, что при правильном отправлении правосудия адвокату в кассационной жалобе ничего не стоило бы камня на камне не оставить от приговора. Но это — в нормальном суде, а не в военно-полевом…
«1. Подсудимые Александр Костадинов Пеев, Эмил Николов Попов и Иван Илиев Владков приговорены:
а. за то, что в военное время — с 1940 года по апрель 1943 года, в период, когда болгарская держава находилась в состоянии войны… проникали в государственные тайны, собирая их внутри державы и передавая через специальную радиостанцию… тогда, как сохранение этих тайн необходимо было для блага и безопасности нашей державы, — на основании ст. ст. 112, п. 1, 112 «г» п. 3 и 118 Наказательного закона вкупе со ст. ст. 22 «б» и 22 «г» Закона о защите государства —
каждый к наказанию: смерти через расстрел, с лишением прав, и дополнительно по ст. 30, пп. 1–4, б и 7 Наказательного закона —
к уплате в пользу государственной казны по 500 000 левов штрафа каждый;
б. за то, что в военное время в 1942/43 гг. они изыскивали средства, содействовали и помогали нелегально существующей в Болгарии БКП и ее членам, на основании ст. ст. 3 и 17 Закона о защите государства —
каждый к наказанию: смерти через расстрел, с лишением прав по ст. 30 Наказательного закона.
По правилам совокупности и согласно ст. 64 и 66 Наказательного закона подсудимые за совершение названных двух преступных деяний должны понести единое наказание, а именно каждый:
смерть через расстрел, с лишением прав по ст. 30 Наказательного закона, и уплату в пользу государственной казны штрафа в размере 500 000 левов.
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».
Среди осужденных не было: Никифора Никифорова, Янко Пеева, Александра Георгиева — помощников Пеева, которых ему удалось спасти от расправы.
…Осужденных к казни развели по глухим одиночкам. Проявили «милосердие» — разрешили написать последние письма. Завещания долго читали в канцелярии, выискивая «криминал» и… не передали родным, отправив в архив.
Вот они, эти письма.
Иван Ёладков — жене.
«…Знаю, что, может быть, скоро паду в борьбе против подлого болгарского капитализма, против предательской буржуазии. Вся моя жизнь скрашена борьбой за социализм, борьбой за свержение эксплуатации. Не тужите! Знайте, что я пал в этой великой борьбе против подлого фашизма, который уничтожил свободу, культуру, сделал нас бесправными рабами.
Я люблю свободу, мирный труд, люблю и вас обоих. Прошу тебя, дорогая моя Маруся, сохрани нашего дорогого ребенка, чтобы он вырос бойцом, которым будет гордиться освобожденная социалистическая Болгария, как она будет гордиться тобою и мною, павшим в борьбе.
Знаю, уверен, что ты будешь заботиться о нем. Трудно растить ребенка без отца. Победа близка, и это должно поддержать тебя. Милая моя, сделай так, чтобы ребенок стал настоящим борцом. Когда он вырастет, расскажи ему о смерти его отца и дяди.
Скорблю о вас. Но скорбь моя переходит в гордость: я умираю как честный человек.
Свобода и социализм близки. И если я сожалею о чем-либо, то только о том, что не увижу Болгарию свободной. Умираю спокойно, потому что знаю, что светлый день не за горами. Враг спешит — расправа готова…»
Эмил Попов — соратникам по подполью:
«Дорогие товарищи! Смерть не так страшна, как думают многие. Умереть предателем действительно страшно. Предать свой народ — самое большое преступление. Но я могу спокойно сказать, что моя жизнь принадлежит народу. Я никогда не жил только для себя. Обращаюсь к тем товарищам, которые еще колеблются, надо ли бороться. Пусть гордо поднимут голову и сообща добьют врага человечества — фашизм. А сколько великого в жизни, отданной этой великой борьбе! Победа идет. Она близка. Моя смерть, как и смерть тысяч других, таких же, как я, ускорит победу: смерть учит нас еще сильнее ненавидеть врага и не прощать его. Будьте беспощадны. Эмил Попов».
Доктору Пееву разрешили написать два письма — 17 и 19 ноября 1.
Он догадывался: письма будут перлюстрированы. Значит, надо говорить так, дабы контрразведка получила не улики, не повод использовать твое завещание, чтобы грязью облить Советский Союз, БКП, а документ, опровергающий полицейские и судебные инсинуации.
Александр Пеев — жене и сыну.
«Милые мои Елисавета и Митко! Недавно я вернулся из судебной палаты, где нам огласили приговор. Я думаю, вы уже узнали, что я осужден по ст. 112-й Наказательного закона к смертной казни через расстрел и по ст. 3-й Закона о защите государства к смерти через расстрел и по совокупности к смерти через расстрел и штрафу в 500 000 левов. Теперь я относительно спокоен. Я нахожу, что приговор несправедлив, т. е. по ст. 112 «г» я могу быть признан виновным только с натяжкой, а по ст. 3 Закона о защите государства вина приписана неосновательно и бездоказательно. Я не состоял ни в какой связи и не оказывал никакого содействия нашей коммунистической партии, ее подразделениям и членам. При этом в части «шпионажа» было выявлено и доказано в процессе (и прокурор с этим согласился!), что я не похищал государственные тайны, и сведения, переданные мной, были получены от друзей в обычных разговорах…
Я думаю о вас и желаю, чтобы вы были здоровы. Не считайте, что с моим исчезновением кончится мир. Жизнь берет свое. Живите в согласии и любви… Целую вас много, много раз — ваш Сашо».
Последние письма…
Он писал и думал не о себе. Оберегал партию от клеветы. Форе и Янко — от возможных обвинений в будущем. Жену и сына — от опасности быть привлеченными за соучастие… Он всегда думал о других больше, чем о себе.
Регентский совет с поразительной поспешностью конфирмовал приговор.
Смертникам об этом не сообщили ничего.
Димитр Пеев метался по Софии, стараясь поднять на ноги тех, кто мог бы повлиять на регентов и добиться замены смертной казни пожизненным заключением. Вспомнил о бывшем министре Марко Богушевском, с дочерью которого учился; позвонил, добился приема. Богушевский выслушал, пожевал губами: «Ничего не могу сделать, молодой человек. Весьма сожалею…»
Георгий Говедаров поехал к Филову. Не садясь и не принимая поданной руки, сказал, глядя в упор на регента:
— Богдан, ты совершаешь чудовищную ошибку! Суд ничего не доказал, обоснования с точки зрения юриспруденции зыбки и их легко разнести. Приговор свидетельствует только о том, что в Болгарии нет суда, есть произвол. Подумай о международном общественном мнении, Богдан. Задумайся и о том, что, санкционируя приговор, ты лишаешь себя в будущем права надеяться на сколько-нибудь снисходительное отношение.
— Я не меняю лошадей, — сказал экс-премьер.
Говедарова передернуло.
— Господин Филов, в таком случае я буду говорить официально. Группа депутатов, которую я представляю, протестует против применения смертной казни, считая, что приговор содержит грубые юридические ошибки и основан на передержках и натяжках. Это фальсификат, а не документ, имеющий законную силу, господин регент.
— Что же хотите вы и депутаты?
— Замены смертной казни заключением.
— Всем троим? Или кому-нибудь отдельно?
— Всем троим!
Филов встал, вышел из-за стола. Сказал тихо, разделяя слова.
— Нас здесь двое, Говедаров. И я тебе отвечу. Жаль, что расстреляют троих. Лучше, если бы было триста три, три тысячи триста три, сто тысяч… Ты понял, Говедаров? Кстати, думаю, что ты опоздал. Их, возможно, уже расстреляли. На вчера было назначено. Так-то!
Вернувшись домой, Говедаров записал разговор в дневнике. Всегда корректный, не удержался от определения, аттестующего Филова: «Редкий негодяй, выродившийся в зверя».
Елисавета через председателя суда Добрева добивалась свидания с мужем. Взывала к гуманизму, к сердцу, рассудку, умоляла. Полковник ответил: «Не вправе, госпожа». Отказал наотрез.
Димитр, в свою очередь, пытался упросить Касева.
Прокурор, обласканный правительством после приговора, был благодушен. Успокоил.
— Вашего батюшку расстреляют не завтра. Еще, быть может, успеете встретиться.
Почесал переносицу, пояснил свою мысль:
— Завтра — праздник Михаила-архангела, покровителя полиции. Мы же не варвары какие-нибудь, чтобы казнить в такой день. Будьте спокойны, молодой человек.
Говедаров обзванивал депутатов. Предлагал срочно составить и подписать петицию, адресованную Симеону II. Депутаты подолгу расспрашивали, кто уже дал согласие, обещали подумать. Говедаров понимал: одно дело — участие в парламентской оппозиции, совсем другое — открытый протест против приговора, угодного регентам, вдовствующей царице, Дирекции полиции, Кочо Стоянову и Гешеву. Каждый, небось, прикидывал, а что если ДС возьмет на заметку, спровоцирует, доберется до шкуры? Гешев-то не пощадит!
Истекли двое суток.
Минул день Михаила-архангела — последняя отсрочка, данная «гуманным» Любеном Касевым, от которого зависела дата приведения приговора в исполнение.
22 ноября с утра вершину Витоши затянуло серым. Потом она почернела. Пошел дождь.
Говедаров предпринял последнюю отчаянную попытку. Позвонил генералу, начальнику школы офицеров запаса, на полигоне которой обычно расстреливали осужденных по политическим статьям. Генерал был другом детства, верным, преданным. Говедаров верил, что сможет уговорить его отказаться от позорной «чести» предоставить стрельбище для уничтожения тех, кто завтра станет национальной гордостью страны.
— Я не получал приказа, — сказал генерал. — Мои люди в этом не участвуют.
— Заклинаю тебя, выставь караул у полигона. Не допусти! Я выиграю целые сутки и надеюсь, что смогу убедить Иоанну.
Генерал помолчал. Ответил:
— Говедаров, я бы сделал это, но машина уже пришла… Мне кажется, что на полигоне стреляют… Да, да прости их господи. Наверное, так… Ты опоздал, Говедаров.
16
22 ноября 1943 года.
16 часов 20 минут.
Стрельбище школы офицеров запаса — три длинных тоннеля, по пятьдесят метров, в глубине которых насыпь из песка и шлака. Идет мелкий, необычный для этого времени года дождь. У солдат намокли шинели, по лицам, стекая с козырьков фуражек, скатываются капли. Подпоручик из полевой сумки достает винтовочные патроны, отсчитывает: три, еще три, еще три… и еще. Пальцы не слушаются его. Подпоручик молод, совсем мальчишка, ему бы не солдатами командовать, а Стивенсона читать, но выбор начальства пал на него и семерых рядовых его взвода, и теперь он, пытаясь скрыть от подчиненных дрожь, отсчитывает патроны. Боевые, со стальными наконечниками на пулях.
Зябко, промозгло, страшно.
Те трое стоят у насыпи.
Когда командир отделения — три лычки на погонах — отвел их в глубь тоннеля и оставил, одних против шеренги солдат, шеренга заходила ходуном, винтовки вразнобой клацнули затворами.
Подпоручик оборачивается к отцу Балабанчеву, местному священнику — черная ряса, белое лицо.
— Батюшка, пойдите к ним… спросите, не хотят ли помолиться?
Отец Балабанчев осеняет себя крестом, и подпоручик с невольной радостью отмечает, что у священника тоже дрожат пальцы. Значит, не он один боится, значит, не так уже это стыдно, что озноб, унижающий офицерское достоинство, продирается сквозь сукно мундира, леденит кожу, мышцы, сердце.
Утром подпоручика наставляли:
— Вам доверено… высокая честь… враги державы и нации…
Он стоял навытяжку перед полковниками Касевым, Недевым и Добревым, тянулся изо всех сил, делал вид, что все нипочем. Враги есть враги, приказ есть приказ. Что тут обсуждать? Браво, с юнкерским шиком вскинул руку к козырьку:
— Раз-зрешите исполнять?
— С богом, подпоручик!
Полковники уехали, а подпоручик побежал на оружейный склад получать боевые патроны. Взял две пачки. Держался чуть загадочно, словно играл в игру с «тайной» — немножко для себя, немножко перед другими. Еще до конца не понимал, что предстоит сделать.
Понял позднее, когда из низенькой двери на задний двор Софийского централа вывели тех. Поодиночке. Быстро, чтобы ни подпоручик, ни солдаты не успели вглядеться в лица, втолкнули в тюремный автобус. Подпоручик расписался в бумажке…
Только тогда дошло: что же это, мамочка родная; ведь не игра все это, не стрельба по мишеням предстоит. По людям! Выходит, зачислили в палачи?!
Что же это?!
Подпоручик ощупывает пакет на груди, во внутреннем кармане мундира.
— Батюшка, да не стойте вы, бога ради! Идите к ним.
Отец Балабанчев еще раз осеняет себя крестом.
Он священник не тюремный. Рядовой служитель церкви из местного прихода. Когда позвали ехать сюда, не сказали зачем.
Те — одинокие, овеянные дыханием смерти, — стоят у насыпи.
— Дети мои, облегчите душу молитвой перед… перед…
Старший из трех, белоснежно-седой, приходит священнику на помощь, твердым голосом подсказывает конец фразы:
— Перед расстрелом?
— Да… Очиститесь, сын мой.
— Я и так чист. Перед людьми. Перед Болгарией. Перед совестью.
— Ваше имя, сын мой?
— Александр Костадинов Пеев.
— А ваше, дети мои?
— Иван Илиев Владков.
— Эмил Попов. Мы атеисты, батюшка, так что не тратьте времени. И не волнуйтесь так.
— Пусть господь укрепит ваши души.
Седой с мягкой улыбкой останавливает отца Балабанчева.
— Нам не страшно, господин священник. Не трудитесь… Лучше обещайте сообщить нашим семьям, что мы не потеряли человеческий облик перед смертью, пощады не просили. Обещаете?
Из темноты, держась поближе к стене тоннеля, подходит подпоручик. В руке у него три белых лоскута. Повязки на глаза.
Седой отводит его руку.
— Не требуется.
Подпоручик суетливо убеждает:
— Не для вас… Для солдат, господа. Очень прошу, господа…
Глаза у троих такие, что и пятьдесят метров не отгораживают от взглядов. Три пары глаз словно шесть стволов, нацеленных на солдат и подпоручика.
— Умоляю, господа…
Отец Балабанчев, единственный свидетель, слышит этот разговор. Навсегда, до конца дней своих он запомнит его…
Седой обнимает товарищей. Сначала молоденького, в изодранной форме пехотинца, потом того, что постарше.
— У вас есть последние желания?
У младшего, тяжелые, беззвучные, начинают течь слезы. Качает головой: «Нет».
Седой повторяет.
— Не завязывайте глаза.
Третий — Эмил Попов — медленно, аккуратно складывая одежду, начинает раздеваться.
— Отдайте вещи жене. Пусть сошьет сыну костюм. Мы люди бедные.
Простые слова, но от них подпоручику становится еще страшнее.
Пытаясь заглушить страх, он достает пакет, срывающимся голосом читает вслух приговор…
16 часов 31 минута.
Те — недвижимые — стоят у насыпи.
— Отделение! За-ря-жай!
Те обнимаются в самый последний раз.
Седой поднимает руку.
— Солдаты! Да здравст…
Семь выстрелов — треск, а кажется, что гром… Тишина… Подпоручик закрывает руками лицо. Шатаясь, идет к насыпи. Если недострелили, полагается добить…
Седой жив. Отрывает голову от земли. Стонет:
— Больно…
Подпоручик срывающимися пальцами вытягивает, выцарапывает из кобуры пистолет. Закрыв глаза, нажимает спусковую скобу. Бессильно приваливается к стене тоннеля, рвет крючки на вороте мундира.
А дождь все моросит, небо серое, от шинелей солдат поднимается парок.
22 ноября 1943 года в 16 часов 31 минуту по софийскому времени были казнены монархо-фашистским режимом выдающиеся болгарские патриоты, дети своего народа —
АЛЕКСАНДР ПЕЕВ,
ЭМИЛ ПОПОВ,
ИВАН ВЛАДКОВ.
А день еще не кончился. И жизнь не кончилась.
Выполняя волю погибшего, отец Балабанчев едет к семье Пеева. Елисавета и Димитр молча, черные от горя, слушают его.
— Где похоронили?
— В сотом блоке.
Сотый блок — место для упокоения нищих и бродяг. В самом углу кладбища. Не смогли унизить при жизни, решили унизить после смерти. Безымянные холмики, без табличек и крестов.
Вечер…
В канцелярии тюрьмы равнодушный чиновник выбрасывает на оцинкованный прилавок вещи казненного. Подвигает Димитру ведомость. Перечисляет:
— Кольцо — одно, бумага — одиннадцать листов, книга — одна, вечное перо — одно, одеяло — одно, спичек — коробок, сигарет «Картел № 1» — початая пачка. У нас учет строгий, ничего не пропадает. Расписались?
Завернув вещи в одеяло, Димитр с узелком на плече пешком идет через весь город — от Централа до дома. Прохожие расступаются перед ним, а он их не видит — мутные пятна, серые тени…
Дождь не унимается, и у вершины Витоши — черная, не тающая туча.
Менее чем год спустя рабочие, крестьяне, солдаты восстанут, обратят свое оружие против регентства и фашистов. И тогда же пустит пулю в лоб подпоручик Атанасов, смертью смывая с себя позор.
Но все это произойдет в сентябре сорок четвертого.
22 ноября 1943 года.
Три бойца, смертью смерть поправ, пали на боевом посту.
…Я исполнен сознания, что выполнил свой долг насколько хватило сил… Я работал сознательно… потому что был убежден, убежден и сейчас, что дело, за которое я боролся, — правое.
Александр К. Пеев
…Моя смерть, как и смерть тысяч других, таких же, как я, ускорит победу…
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
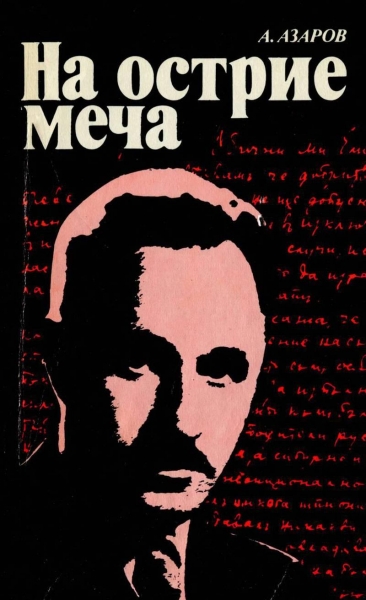


Комментарии к книге «На острие меча», Алексей Сергеевич Азаров
Всего 0 комментариев