Александр Пыжиков Корни сталинского большевизма
Моему отцу Пыжикову Владимиру Алексеевичу посвящается
Вступительное слово
Автор много лет занимался советским периодом отечественной истории: именно ему посвящены две крупные работы, вышедшие в начале 2000-х годов. Однако сегодня эти исследования нельзя признать удовлетворительными. Они выполнены в традиционном постсоветском стиле и немногое дают для ответа на вопрос о том, почему выжило и укрепилось советское государство. Углубление в документальный пласт той эпохи, конечно, позволяло уточнить какие-то детали и сюжеты, но не более того; уникальность советского проекта оставалась не проясненной. Ощущалась потребность в использовании новых подходов или, говоря иначе, требовалась иная «исследовательская» оптика. Постепенно приходило осознание того, что понять этот период, занимаясь исключительно лишь им самим невозможно. С другой стороны, становилось все более очевидным: если считать большевизм в советском исполнении производным от марксистского наследия, то это означало бы ограничиваться лишь внешней стороной дела. Такое изучение советского феномена можно назвать поверхностным, не отражающим глубинные процессы, разворачивавшиеся в нашей истории.
Именно поэтому автор решил непосредственно обратиться к их исследованию, пытаясь выявить корни бурного XX века. Данная книга «родилась» не на пустом месте. В 2013 году в свет вышел труд «Грани русского раскола: заметки о нашей истории», получивший различные отклики. Конечно, затронутые там вопросы, а точнее сам исследовательский ракурс, оказались неожиданным для многих, кто интересуется отечественной историей. В качестве стрежня российской истории, книга предложила рассматривать старообрядчество – явление, идущее из глубин русского народа и сказавшееся на судьбах нашего отечества. Однако в общественном сознании глубоко укорено восприятие староверия как патриархальных остатков, далеких от реальной жизни. Исторический интерес к теме поддерживает лишь небольшой круг людей, популяризирующих этнографическую, филологическую и краеведческую тематику. Этим уже многие десятилетия изучение многообразной конфессиональной общности пока и ограничивается. Увидеть место староверия в отечественной истории по-прежнему препятствует и дореволюционная статистика: абсолютно не отражая действительности, она поддерживает отношение к старообрядчеству как к сугубо маргинальному явлению. Преодолеть данное «научное» наследие стало нашей практической целью. Это открывало путь к объяснению российского XX века, прошедшего под знаком большевизма.
Перед читателем книга, которая настраивает на осознание того, что произошедшее с нашей страной в прошлом столетии стало не следствием чьего-то провидения, а результатом действия сил, подспудно тлевших в толще народных слоев. Их стремительное высвобождение и вызвало к жизни невиданный в истории человечества советский проект. Иными словами, родословная той эпохи впервые выводится здесь из староверческих корней, так и не вырванных из глубин русского народа. Такой взгляд, избавляя старообрядчество от «печати» маргинальности, презентует его в качестве фактора, определившего ход отечественной истории недавнего прошлого. Сделаем важное замечание: применительно к советскому периоду речь пойдет не о практикующих староверах или никонианах (чего некоторые упорно не желают понять), а о выходцах из той или иной среды, обретших новое – уже нерелигиозное качество. Безусловно, реалии революционного движения, а затем и коммунистической партии лишают смысла разговоры о какой-либо конфессиональной идентификации. Однако также верно и другое: в ту пору атеистами не рождались, а значит, представители народа несли в себе черты тех религиозно-психологических архетипов, которые закладывались на этапе личностного формирования и в дальнейшем определяли поведенческую модель. Учет данного обстоятельства обязателен для правильного восприятия идеи данной книги.
В ней содержится попытка обосновать понятие «внецерковного православия» (беспоповства), отразившего качественные сдвиги в русском религиозном сознании после церковного раскола второй половины XVII века. Эта неожиданная новация, по нашему мнению, помогает лучше описать процессы, протекавшие в народной среде, во многом так и не принявшей навязанной сверху церковной реформы. Любопытно также и то, в каких социальных группах наиболее ярко выразилась русская беспоповская традиция. Именно в этой связи предпринято выяснение конфессионального «лица» российского пролетариата – с середины 20-х годов основного источника резкого расширения ВКП(б). Для подкрепления выдвинутых идей к исследованию широко привлечены произведения советской литературы. Профессиональные историки, как известно, не уделяют большого внимания писательским трудам, а между тем именно острый художественный взгляд фиксирует важные детали, не отраженные в документах. Мы решили обратиться к некоторым основательно забытым произведениям, чтобы узнать, насколько в них отражена старообрядческая ментальность уже в новой действительности. Интересны страницы о том, как менялась большевистская партия, как под старой вывеской пестовалась новая патриотическая доктрина, кто становился ее носителем, а также взглянуть на партийно-государственную элиту как на выходцев из разных конфессиональных общностей.
Эту работу можно рассматривать еще и как шаг в выполнении одной важной задачи. Ее в свое время предельно четко сформулировал советский лидер Ю. В. Андропов. В 1983 году он заметил, насколько мы не знаем страны, в которой живем, и призвал приложить все усилия для осознания нашего исторического пути. В этом заключалось своего рода завещание Юрия Владимировича, адресованного нам. Сегодня по прошествии десятилетий, глядя на то, что произошло с нашей страной еще явственнее чувствуется: без понимания прошлого излечение России от поразившего ее цивилизационного недуга невозможно в принципе.
Уверен, что наша работа станет отправной точкой для дальнейших размышлений и не оставит читателя равнодушным.
Глава 1. Внецерковное православие русского народа: к постановке проблемы
Название главы, открывающей книгу, у многих вызовет недоумение. О каком собственно внецерковном православии может идти речь? Каждому хорошо известно: распространение русского православия происходило в церковных формах и неразрывно связано исключительно с ними. Если сказать иначе, то вне церковной традиции никакого православия никогда не было и быть не могло. Конечно, на разных этапах исторического пути России, начиная с периода после монгольского завоевания, неизбежно возникали и существовали различные религиозные движения. Их описание достаточно полно представлено в литературе.[1] Эти ереси, подвергавшие сомнению церковную доктрину, подпитывались чуждыми религиозными источниками и неизменно рассматривались в качестве отклонений, утративших связь с истинной религией русского народа. С этой точки зрения разговор о существовании православия вне церкви представляется лишенным какого-либо смысла. Причем оторвавшихся от церковно-православных форм, РПЦ даже отказывалась идентифицировать в качестве этнических русских.
Вне всякого сомнения, данный взгляд имеет глубокие исторические корни. Само становление Московского государства, формирование русского социума происходило на базе широкого религиозно-общественного движения, неотъемлемой частью которого являлась православная церковь. Как справедливо замечено, в те далекие времена национальная консолидация, религиозная по своему характеру, осуществлялась «не во имя совместной защиты своих частных интересов и даже не во имя защиты своего строго ограниченного этноса, ведь он еще не сложился». Люди «объединялись во имя защиты христианского начала, поскольку именно это было на тот момент единственным основанием позволявшим отличать «своих» от «чужих»[2]. Русское православие, а не геополитические причины, экономические интересы и уж тем более не повышенная захватническая агрессивность московских князей, стало фундаментом возвышения Северо-Восточной Руси в XIV веке и затем образования огромного по территории государства[3].
Однако, церковное православие как ось, вокруг которой строилась русская государственность и жизнь народа, не смогло выдержать надлома, произошедшего в течение второй половины XVII столетия. Реформа богослужения, предпринятая патриархом Никоном при мощной поддержке властей, вызвала небывалые волнения чем-то напоминающие «смутное время» с польско-литовской интервенцией начала века. Изменение религиозного обихода по греческим образцам вызвало неприятие у значительной части населения. Простые русские люди, не отягощенные, в отличие от верхов, имперскими амбициями, отвергали навязывание подобных новшеств. Главная причина отторжения заключалась в том, что эти новшества расценивались как ущемление старины, попадающей под чуждую религиозную унификацию. Напомним, репутация греков в XVI – начале XVII веков находилась на крайне низком уровне. Константинопольская Вселенская церковь стала «полем» противоборства иезуитов и протестантов за влияние, велась едва прикрытая торговля патриаршим престолом и церковными должностями[4].
Не удивительно, что авторитет этого религиозного центра был основательно подорван. Литературные памятники старообрядческой мысли второй половины XVII века подробно раскрывают суть претензий к навязанной сверху церковной реформе[5]. Тем более, что последняя сопровождалась нашествием священнослужителей с Украины – выпускников местных духовных учебных заведений. Они энергично взялись наставлять «темных русских» в новой для них вере, заполучив на долгие десятилетия монополию на епископские кафедры РПЦ[6]. Идейное противостояние не ограничилось интеллектуальными спорами, быстро обретя силовой характер. Осада Соловецкого монастыря, бунт на Волге Степана Разина, стрелецкая «хованщина» в Москве – все это свидетельства борьбы, захлестнувшей Русь.
Эти трагические события явились не просто частью нашего прошлого, еще одной страницей отечественной истории, а стали кровоточащим надломом, разорвавшим общественные ткани той эпохи. В результате Русская православная церковь, облаченная в «греческую веру», перестала восприниматься многими русскими людьми в качестве своей, родной. Не стоит говорить, насколько это впечатление усилило низведение церкви при Петре I на положение одного из государственных департаментов, выстроенного на чужеземный манер. Надо сказать, что именно император-преобразователь решил законодательно оформить взаимоотношения господствующей церкви и поверженной старой веры. Начало этому положил акт от 8 февраля 1716 года, установивший запись и двойное налоговое обложение раскольников. Тем самым, после десятилетий гонений и физического уничтожения, государство пошло на юридическую фиксацию их статуса, вновь подтвержденную затем указом от 16 октября 1720 года[7]. По замыслам предложенная легализация староверов должна была хоть как-то упорядочить в империи положение со старой верой на условиях властей. Однако эти надежды не сбылись: как известно, по указу 8 февраля 1716 года в раскол записалось всего лишь около 191 тыс. человек[8], что составляло около 2 % от плативших подать. Указ Петра имел и еще одно важное значение: этим документом принадлежность к староверию определялась податными слоями, что исключало официальное пребывание в нем дворян и прочих служивых людей.
Говоря иначе, петровское решение юридически фиксировало разведение двух ветвей православия не только по вероисповедному, но и по социально-классовому признаку. Раскольничий мир прочно обосновывался в народных низах, стараясь минимизировать контакты со структурами империи. Стремление к закрытости объяснялось не только причинами административного давления, но и глубоким осознанием собственной правоты. За непроницаемой для других завесой было удобнее поддерживать свой жизненный уклад, основанный на вере предков, а не на «Табели о рангах». Религиозный раскол надолго ушел из поля зрения и государственной администрации, не проявлявшей к нему интереса. Власти лишь изредка просматривали поступавшие с мест сведения о числе староверов: по этим официальным данным их удельный вес среди населения империи не превышал тех же 2 %. А Екатерина II в 1782 году вообще сняла эту проблему, отменив их двойное налогообложение, что фактически означало ослабление учетных мероприятий[9]. Образованные слои также не баловали старообрядцев вниманием. Достаточно сказать, что почти за полтора столетия существования раскола (к середине XIX века) в России не появилось и сотни посвященных ему книг и статей[10]. А среди выходивших изданий преобладали богословские сочинения полемического характера, связанные с вопросами религиозного просвещения: различные «Доказательства», «Беседы», «Обличения» и т. п. Эта продукция синодальных типографий обычно активно скупалась и уничтожалась самими раскольниками[11].
Утвердившаяся конфессиональная разобщенность наложила неизгладимый отпечаток на развитие России, чья действительность коренным образом стала отличаться от европейских реалий. Напомним, завершение религиозных войн сопровождалось там разведением противоборствующих сторон по разные стороны государственных границ. В одних странах – Италия, Испания, Австрия, Бельгия, Франция, Польша, Бавария и т. д. – оставалось католичество. В других – Англия, Нидерланды, Швеция, Дания и целый ряд германских княжеств – возобладали различные протестантские течения. Таким образом, каждая страна являла собой, с конфессиональной точки зрения, практически однородное образование. Однако в России противостояние между приверженцами старого обряда и последователями патриарха Никона не привело к территориальному размежеванию. Получалось, что на географической карте страна по-прежнему была единой, а по сути, разделившись внутри себя, образовала два социума с различной социальной и культурной идентификацией. Вот это судьбоносное обстоятельство не было осмысленно ни властями, ни образованным обществом. Для них тема для размышлений попросту отсутствовала, поскольку предоставлявшиеся цифры о количестве раскольников не располагали к сколько-нибудь серьезному изучению их общности.
Вместе с тем в ней происходили важные процессы и, прежде всего, в конфессиональном отношении. Осмысляя произошедшее, религиозное сознание противников никоновских новин на протяжении XVIII столетия разрабатывало концепции наступления последних времен, пришествия антихриста, прекращения священства и т. д. Результатом работы старообрядческой мысли стало появление в расколе различных беспоповских течений, где наиболее полно выразилось неприятие государства и его церкви, а также радикализм при решении социальных и политических проблем. В народных слоях Нечерноземного центра России, Севера, Поволжья, Урала и Сибири прочно укоренились крупные ветви беспоповщины – поморцы, федосеевцы, спасовцы, филипповцы, бегуны-странники, часовенные и т. д. Отличаясь различными вероисповедными оттенками, эти течения сходились в общем: не имея никогда епископа, они категорически не приемли иерархии. Следствием этого стала утрата таинств, которые поначалу делились на «нужнопотребные» и «простопотребные», но затем ими или вовсе пренебрегли, или доверили совершение мирянам. В тоже время, несмотря на такие кардинальные изменения богослужебной практики, беспоповцы оставались в полной уверенности, что пребывают в истинно русской вере; они активно использовали книги и иконы дониконовских времен[12]. Разумеется, господствовавшая церковь крайне негативно относилась к подобным «православным», рассматривая их как отщепенцев, утративших всякую связь с литургией и предавших религиозные идеалы[13].
Между тем, отрешаясь от оценок синодального официоза, нельзя не признать, что в русском православии происходило формирование устойчивой внецерковной традиции, доселе действительно нетипичной для русского народа. Ее появление – это логичное следствие деформированности русского религиозного сознания, произошедшей после раскола. Представители беспоповских течений реализовывали духовные потребности уже исключительно вне церковных форм, потерявших в их глазах какую-либо сакральность. Однако, в научной литературе утверждению понятия «внецерковное православие» препятствует ряд обстоятельств, на которых необходимо остановиться. С внецерковностью связывали, в первую очередь, различные сектантские объединения, которые действительно не имели никакого отношения к православной традиции как таковой. Что же касается самого старообрядчества – части непосредственно православного мира, то его принято ассоциировать, прежде всего, с церковными староверами, т. е. поповцами, сохранившими иерархию и таинства. От господствующей РПЦ последние отличались лишь тем, что апеллировали к древности и чистоте своих обрядов. Наличие полноценной церковной инфраструктуры предопределяло поведенческую модель поповцев: практически все они находились на виду, будучи приписаны к разнообразным старообрядческим церквям и монастырям, где только и могли исполнять свой культ. С другой стороны, заботы о поддержании публичной церковной организации предполагали тесные контакты с властями (выдача разрешений, различные согласования и т. д.). Поповцы в силу своего существования не могли игнорировать регистрационные процедуры со стороны как гражданской, так и духовной администрации. Поэтому официальные реестры, учитывавшие раскольников, неизменно состояли, главным образом, из представителей поповского согласия. Беспоповцев там всегда значилось заведомое меньшинство. (Более свободное отправление религиозных нужд не требовало церковной инфраструктуры, а значит и регистрация не являлась для них жизненно важной). Отсюда знакомство с официальной статистикой создавало однозначное впечатление, что среди староверов в целом, именно поповцев – подавляющее большинство. Этим фактом, никогда не ставившимся под сомнение, оперировала и продолжает оперировать историческая наука.
Хотя в действительности все обстояло совершенно иначе. Доля поповцев редко когда превышала 10 % от общего числа старообрядцев; остальные же относились к многочисленным беспоповским толкам. Однако имеющиеся в распоряжении исследователей документы свидетельствовали об обратном. Осознание данного обстоятельства затруднялось тем, что приверженцы беспоповщины не только не утруждали себя регистрацией, но и вообще, как правило, числились обычными синодальными прихожанами. В результате «силуэты» внецерковного православия на российском религиозном ландшафте были едва различимы. Существуя по факту, оно оставалось скрытым под завесой официальной статистики, на деле имеющей мало общего с жизнью. О масштабах распространения внецерковного православия можно судить по исследованиям, изредка проводившимся царскими властями. Так, цикл изысканий по определению приблизительной численности староверов был предпринят в середине XIX века, когда комиссии МВД направлялись в различные губернии для сверки официальных данных с истинным положением дел. По итогам их работы власти пришли к выводу, что количество раскольников в 10 – 11 раз превышает заявленное в отчетах, хотя и эти цифры, по-видимому, не до конца отражали реальную ситуацию[14]. Но самое интересное оказалось в другом: выявленные массы неучтенных староверов, обеспечивших такой впечатляющий статистический скачок, оказались именно беспоповцами, лишь формально числившимися в лоне РПЦ[15].
Например, еще молодой И. С. Аксаков, участвовавший в обследовании Ярославской губернии, после поездок по уездам и селам был поражен тем, что везде «почти все старообрядцы, да еще, пожалуй, беспоповцы»[16]. Хотя по документам местной администрации все кругом значились православными, да и само население при расспросах с готовностью подтверждало принадлежность к синодальной церкви[17]. Кстати, именно от Ярославской комиссии власти получили информацию о существовании согласия бегунов-странников, располагавших разветвленной сетью по всей стране[18]. В других поволжских губерниях было выявлено значительное количество спасовцев, как бы растворенных среди правоверной паствы. Известный знаток раскола П. И. Мельников-Печерский доводил их количество в середине XIX века до 700 тыс. человек. Как утверждали адепты этого старообрядческого согласия, истинное священство на Руси утрачено, а потому нет и никаких таинств; таинства, связанные с РПЦ, якобы только пустая форма, в них даже можно принимать участие; спасение же дается только по Божьей милости[19]. Кстати, признание неоднородности российской конфессиональной среды проясняет поток нескончаемых следствий и дознаний о переходе из православия в раскол, материалы которых в немалом количестве содержатся в российских архивах. И дело здесь не в падении нравов или в чем-то подобном, как обычно считалось, просто каждый беспоповец, формально крещенный в РПЦ, по жизни сторонился церкви, периодически навлекая на себя, при неисправной плате попам, доносы об уклонении в раскол, в котором собственно и находился с самого рождения[20].
На огромное количество беспоповцев, числившихся в синодальном православии, указывают многие источники, имеющиеся в нашем распоряжении. Так, московский купец 2-ой гильдии Н. М. Чукмалдинов, родившийся в крестьянской семье близ Тюмени, вспоминал, что в его родном селе Кулаковке большинство населения принадлежало к федосеевскому и филипповскому согласиям (хотя по церковным записям подавляющее большинство числилось православным). Сам Чукмалдинов обучался грамоте у филипповского наставника, к которому его отвели родители[21]. Церковные обряды (крещение, венчание и т. д.) вся эта якобы синодальная паства исполняла только в тех случаях, когда невозможно было от них уклониться, в повседневной же жизни влияние местного духовенства на жителей оставалось практически незаметным. Для священников РПЦ все старообрядцы, значившиеся православными, представляли статью дохода, время от времени оплачивая номинальные пасторские труды[22].
Писатель Н. П. Белдыцкий в 80-х годах XIX века путешествовал по Чердынскому уезду Пермской губернии. В ходе поездки ему довелось побеседовать с одним из местных сельских священников о. Дмитрием. Тот жаловался на неприязненное отношение со стороны местного населения, в основном состоявшего из приверженцев беспоповского раскола: церковь они посещают неохотно; «стоят без всякого благоговения, а потом смеются»; таинств не признают; к священникам относятся непочтительно, считая их слугами антихриста. На вопрос, что же у них за вера, отвечают: их вера христианская – лучше церковной[23]. Схожая ситуация наблюдалась в Ковровском уезде Владимирской губернии. С середины 1860-х годов там по метрическим книгам значилось лишь 284 старообрядца; этими данными оперировали в своих трудах и современные исследователи[24]. Однако по признаниям епархиальных священников Ковровского уезда, «прихожане вообще тут ревнители мнимой старины и несмотря на пастырские увещевания, они все знаменуют себя двуперстным перстосложением»[25]. Или, например, в отчете Тульской епархии в Синод за 1900 год говорится об уездном городе Одоеве, где в первой половине XIX века было сильно раскольничье влияние. К концу же столетия подавляющее большинство жителей уже числились православными, но, тем не менее, продолжали придерживаться двуперстия. Те же немногие, кто официально числился раскольниками, вели довольно замкнутый образ жизни, старались не попадаться на глаза местным властям и духовенству. Однако по праздникам при хождении со святым крестом по домам православный притч постоянно встречал этих староверов, иногда как гостей, а иногда в качестве представителей отлучившегося хозяина[26].
«Русские ведомости» публиковали интересные наблюдения о раскольниках на Вятке. В одном из приходов Вятской губернии насчитывалось 5617 душ, из них раскольников по метрическим книгам – всего 78 человек. Однако, как выяснилось, настоящими православными являются менее 15 % населения, да и те, по признаниям местного духовенства, «очень ненадежны»[27]. Основная же масса принадлежит к различным беспоповским толкам («даниловцам», «федосеевцам», «игнатьевцам»). Причем их старообрядческие воззрения самым оригинальным образом перемешаны с элементами суеверия. Объединяющим началом для всех выступает неприятие священства господствующей церкви; богослужебные обряды у них заменены простыми молитвами и чтением книг, причем соответствующие разъяснения по ходу чтения должны делать наставники[28]. Кстати, наставником может быть всякий, обладающий знаниями; его избирает общее собрание. Расколоучителя в повседневной жизни занимают место приходского попа: проводят свои крестины младенцев, хоронят умерших, совершают браки; они пользуются большим уважением, потому что легко находят общий язык с крестьянами. Раскольники высоко чтут государя, но к ближайшему начальству относятся в высшей степени скептически, даже враждебно, величают власти «кровопийцами», «живодерами», «антихристовым семенем» и т. д.[29]
Подчеркнем, что по официальным документам конфессиональную принадлежность населения определить крайне сложно – о ней просто не упоминается. И прояснить, что же оно представляло собой в религиозном отношении, в отдельных случаях позволяет привлечение дополнительных сведений. Например, в волостях Орловского уезда Вятской губернии летом 1880 года произошли крупные беспорядки, связанные с работой землемеров, проводивших межевание угодий. Необходимость направить туда войска и продолжавшееся неповиновение крестьян привлекли внимание правительства. На архивном хранении находится целый том переписки различных должностных лиц относительно данного случая[30]. К счастью, этот эпизод получил освещение в петербургском издании «Голос», чей сотрудник вместе с чиновниками из столицы побывал в мятежном вятском уголке. Он рассказал обо всех перипетиях, не пренебрегая мелкими и ценными деталями. Их суть такова: крестьяне настроены против местного и столичного чиновничества, постоянно ожидают какого-то подвоха с их стороны. В то же время они убеждены в существовании указа царя «старину не ломать, рук не давать» (т. е. не подписывать никаких документов), а кто поступит иначе, тот отойдет к чиновникам, министрам или будет записан под Синод! Среди населения циркулируют слухи, что всех хотят подписать под антихриста, и их не в состоянии опровергнуть никакая сила: всякого, кто попытается разубедить в этом людей, сочтут за подосланного[31]. Этот материал позволяет говорить о том, что определяющим мотивом такого поведения вятских крестьян, помимо забитости и безграмотности, являются староверческо-религиозные воззрения.
Приведенные свидетельства весьма важны, так как определенно указывают на наличие мощного религиозного направления, связанного с внецерковным православием русского народа. Пока для исследователей это движение выглядит как «Terra incognito». Тем не менее, оценивая изложенный материал, можно со всей определенностью говорить о специфике российской конфессиональной обстановки, сложившейся после раскола в течение XVIII–XIX веков. Ее суть в том, что в рамках одной страны стали существовать как церковная (официальная), так и внецерковная (неофициальная) православные традиции. Они переплетались территориально, но также характеризовались и определенным региональным размежеванием. Так, позиции РПЦ были сильны на Украине, Белоруссии, южных и черноземных губерниях страны; здесь церковь традиционно имела поддержку населения. А вот внецерковное православие проявляло себя в промышленном Центре, Поволжье, Урале и северных губерниях. Но до революции власти и наука не могли в полной мере оценить этого своеобразия, поскольку неизменно рассматривали российское общество в качестве конфессионально однородного, т. е. церковного. Поэтому выявление масштабов внецерковного православия должно наконец-то стать актуальной задачей современной исторической науки. С прояснением этой непростой проблемы связано понимание многих ключевых перипетий отечественной истории.
Не менее судьбоносные для России последствия раскола произошли в экономической сфере, а именно в промышленном строительстве, потребности в коем с начала XVIII столетия заметно актуализировались. Как известно, Петр I, давший импульс фабрично-заводскому развитию, столкнулся с явным нежеланием дворянства погружаться в производственные хлопоты. Правящий класс и в дальнейшем не проявлял должного интереса к этим делам, считая их второсортными, недостойными звания дворянина, устремления которого концентрировались главным образом вокруг сельского хозяйства. Эта ситуация обусловила привлечение к торговомануфактурной деятельности старообрядцев, отстраненных от административной вертикали и от собственности, т. е. земельного фонда. Начавшееся промышленное развитие давало им реальную возможность для выживания и сохранения своей веры в дискриминационных условиях. Поэтому староверческая мысль обосновала и санкционировала позитивное отношение к торговле и производству, уравняв его с благим трудом земледельца[32]. Иными словами, раскол постепенно превращался в хозяйственный механизм для обретения своей конфессиональной устойчивости. Об участии староверов в подъеме российской промышленности написано уже достаточно много. Исследователи, в том числе и зарубежные авторитеты, даже находили немало общего в отношении к промышленному созиданию у русских староверов и западных протестантских течений. Давно стали расхожими высказывания на сей счет знаменитого социолога М. Вебера[33]. Известный американский ученый Дж. Биллингтон также проводил параллели между кальвинистами и староверами. По его мнению,
«оба движения были пуританскими и заменяли обрядовую церковь на новый аскетизм здешнего мира, а власть церковной иерархии – на местное общинное правление. Оба движения стимулировали новую экономическую предприимчивость суровым требованием усердного труда, как единственного средства доказать, что ты принадлежишь к избранникам гневного Бога»[34].
Сразу бросается в глаза то, что анализ русского старообрядчества находится здесь во власти признанных и абсолютно справедливых оценок западного протестантизма. Действительно, их внешняя схожесть очевидна, но при этом сравнении из виду упускается «маленькая» деталь, учет которой кардинально меняет предполагаемый смысл. Не нужно забывать, что западные протестанты с середины XVII века, т. е. после окончания европейских религиозных войн, находились в принципиально иной обстановке, чем русские староверы. Протестанты проживали в своих государствах, в которых их вера обрела государственный статус. Они являлись полноправными хозяевами своей страны, ни о какой дискриминации говорить здесь не приходится. Эта однородная конфессиональная среда с присущей ей протестантской этикой могла рождать и рождала классический капитализм. Собственно М. Вебер наглядно продемонстрировал, как в исторической ретроспективе протестантская психология формировала новые экономические реалии. Совсем другое дело русские старообрядцы. Они оставались в государстве, где власть принадлежала их идейно-религиозным противникам, ставшими победителями. Условия, в которых они существовали, характеризуются откровенно дискриминационным характером. В этом принципиальное отличие от западного варианта. В староверах, по аналогии с протестантами, усматривали таких же носителей здорового капиталистического духа. Однако староверческие реалии оказались ориентированы совсем на другое, имевшее не много общего с приоритетом буржуазных ценностей. Находясь под государственно-церковным прессом, староверы вынужденно нацеливались не на частное предпринимательство с получением прибыли в пользу конкретных людей или семей, а на обеспечение жизнедеятельности своих единоверцев. Только такие общественно-коллективистские механизмы представлялись оптимальными в том положении, в котором жило русское старообрядчество. А потому его религиозная идеология освящала экономику, предназначенную не для конкуренции хозяйств и обоснования отдельной избранности, как у протестантов, а для утверждения солидарных начал, обеспечивающих существование во враждебных условиях. Поэтому подводить под один знаменатель западный протестантизм и русское староверие в экономическом плане не совсем правильно: это лишь затушевывает суть дела и отдаляет от понимания того, какие процессы протекали в рамках раскольничьей общности.
Духовные и организационные правила, по которым развивались староверческие хозяйства, формулировались в знаменитой Выговской поморской общине. Их краеугольным камнем явились отношения равенства всех членов общины, как в хозяйственном, так и в духовном смысле. Род занятий, положение в общине зависели от способностей каждого и от признания их со стороны единоверцев: простой крестьянин мог стать наставником или настоятелем. Это обеспечивала практика внутренней открытости и гласности, когда ни одно важное дело не рассматривалось тайно. Любой имел право заявить свои требования, и они выслушивались и поддерживались в случае, если другие считали их сообразными с общей пользой. В такой атмосфере решались также и ключевые хозяйственно-экономические вопросы. Содействие внутриобщинных сил, братское доверие позволили Выговскому общежительству скопить громадные капиталы – своего рода общую кассу для различных коммерческих инициатив[35]. В результате Выговское староверческое общежитие трансформировалось в самодостаточную, независимую от властей структуру, развивающуюся по своей внутренней логике. Известный писатель М. М. Пришвин – выходец из старообрядческой среды, воспевал край Выга, где его предки «боролись с царем Петром и в государстве его великом создавали свое государство», не совсем ему дружественное[36].
Устройство Выговской общины дает представление о хозяйственной и управленческой организации старообрядцев, действовавшей в России. Со второй половины XVIII века в рамках такой модели раскол превращается в прогрессирующую экономическую корпорацию в купеческо-крестьянском облике. Уже в 1770-х годах, в правление Екатерины II, происходит легализация староверия посредством оформления его новых крупных центров в Москве и Поволжье. Выйдя из-за границы, из лесов и подполья, старая вера начала заполнять российские просторы, преобразуя их своей хозяйственной инициативой. Специфика старообрядческой экономики не осталась незамеченной для наблюдателей той эпохи. Еще в 1780-х годах князь М. М. Щербатов, говоря о староверах, подчеркивал, что все они «упражняются в торговле и ремеслах», демонстрируя большую взаимопомощь и «обещая всякую ссуду и вспомоществование от их братьев раскольников; и через сие великое число к себе привлекают»[37]. В первой половине XIX столетия эти черты вызывают уже серьезные опасения. Как например, у московского митрополита Филарета, прямо объяснявшего распространение раскола существованием в нем общественной собственности, которая, будучи его твердою опорой, «скрывается под видом частной»[38]. К тому же раскольничьи наставники, проживающие не где-нибудь, а в столице на Охте (имелся в виду П. Онуфриев – Любопытный), в своих сочинениях открыто «проповедуют демократию и республику»[39]. По убеждению знаменитого архиерея господствовавшей церкви, это доказывает, что раскол стал особой сферой, «в которой над иерархическим господствует демократическое начало. Обыкновенно несколько самовольно выбранных или самозваных попечителей или старшин, управляют священниками, доходами и делами раскольничьего общества…Сообразно ли с политикою монархической усиливать сие демократическое направление?» – вопрошал митрополит Филарет[40].
С ним нельзя не согласиться, очевидно, что собственность, принадлежащая не конкретным людям, а общине через механизм выборов наставников и попечителей, не могла быть частной. Хотя для внешнего мира и государственной власти она именно такой и представлялась. Внутри же староверческой общности действовало правило: твоя собственность есть собственность твоей веры. Как отмечал один из полицейских чиновников, изучавших раскол:
«Закон этот глубокая тайна только агитаторов (т. е. наставников – авт.) но она проявляется в завещаниях богачей, отказывающих миллионы агитаторам на милостыни, и в готовности всех секторов разделить друг с другом все, если у них одна вера».[41]
Принцип «твоя собственность есть собственность твоей веры» прослеживается и в хозяйственном укладе Преображенского кладбища в Москве. В распоряжении исследователей находятся донесения полицейских агентов, расследовавших деятельность московских старообрядцев во второй половине сороковых годов XIX века[42]. Для внешнего мира это было место, где располагались погосты с богадельнями, приютами и больницей. На самом же деле «кладбище» служило финансовой артерией беспоповцев федосеевского согласия. По наблюдениям МВД, касса «кладбища» помещалась в тайниках под комнатами федосеевского наставника С. Козьмина[43]. В них хранились общинные капиталы, направляемые по решению наставников и попечителей на открытие или расширение различных коммерческих дел. Единоверцам предоставлялось право пользоваться ссудами из общинной кассы, причем кредит предусматривался беспроцентный, допускались и безвозвратные займы. Именно с этой помощью образовалось огромное количество торгов и производств[44]. Однако возвратить взятое из кладбищенской казны и стать полноправным хозяином своего дела, т. е. попросту откупиться, не представлялось возможным. Можно было лишь отдать предприятие, запущенное на общинные деньги. Как известно, многие беспоповцы-федосеевецы не признавали брака, а значит, наследственное право не играло здесь роли, что усиливало общинное начало хозяйств. Воспитанниками Преображенского приюта были незаконнорожденные дети богатых купцов из разных регионов страны. Капиталами их отцов в конечном счете распоряжались выборные наставники и попечители Преображенского кладбища[45].
Любопытно и наблюдение полиции за торговыми оборотами купцов Первопрестольной: оно показало, что перед Пасхой, когда фабриканты распускали рабочих по домам, то почти все владельцы православного исповедания постоянно прибегали к займам для проведения необходимых расчетов. Однако купечество из кладбищенских прихожан никогда не нуждалось в деньгах: в их распоряжении была общинная касса[46]. Все попытки выяснить хотя бы приблизительные объемы средств, которые циркулировали на Преображенском кладбище, ни к чему не приводили. Как утверждала полиция, немногие, кроме наставников и попечителей, осведомлены о реальном обороте общественных капиталов этого богадельного дома, а исчисление его доходов «едва ли может быть когда сделано при всех стараниях лиц, правительством назначаемых наблюдать за кладбищем»[47]. Исследователи, изучавшие раскол, отмечали, что практически до середины XIX века Преображенская федосеевская община «была настолько многочисленнее, богаче и влиятельнее Рогожской, что развитие московского старообрядчества происходит под значительно большим влиянием федосеевцев или поморцев, а само Преображенское кладбище, как обычно эту общину называли, совсем затмевало своей славой Рогожское»[48].
Характеризуя староверческие якобы капиталистические хозяйства, следует обратить внимание на отношения, существовавшие внутри них. Восприятие их как общинной, а не частной, конкретно чей-то, собственности прослеживается не только у тех, кому было поручено управлять ею, но и у рядовых единоверцев, работавших на производствах. Своеобразные отношения между рабочими и хозяевами фиксировали внимательные наблюдатели. Православный священник И. Беллюстин, публиковавший заметки о старообрядчестве, описывал посещение сапожного производства в большом (в несколько тысяч человек) раскольничьем селении Кимры Тверской губернии. Староверы образовывали здесь артели по 30–60 работников, которые не только обладали правом голоса по самым разным вопросам, но и могли подчинить своему мнению «хозяина» производства. И. Беллюстин оказался, например, свидетелем горячих споров в артели о вере:
«…Тут нет ничего похожего на обыкновенные отношения между хозяином и его работником; речью заправляют, ничем и никем не стесняясь, наиболее начитанные, будь это хоть последние бедняки из целой артели; они же вершат и иные поднятые вопросы».[49]
Хозяин в спорных случаях оказывался перед серьезным выбором: или подчиниться артели, а между артелями в селении существовала подлинная солидарность, или встать в разлад с нею, т. е. с целым обществом. Неудивительно, что, как правило, хозяин предпочитал первое, поскольку каждый, независимо от рода занятий и своей роли, был крепко вплетен в этот социальный организм.
Подобные отношения между работниками и хозяевами существовали и на появляющихся крупных мануфактурах. Например, в староверческом анклаве Иваново в 1830-1840-х годах уже насчитывалось около 180 фабрик. Имена их владельцев – Гарелины, Кобылины, Удины, Ямановские и другие – были широко известны в центральной России. Заметим, что возглавляемые ими предприятия состояли из артелей, являвшихся основной производственной единицей. Артель непосредственно вела дела, «рядилась с хозяином», получала заработанное, т. е. оказывала ключевое влияние на весь ход фабричной жизни[50]. В таких условиях сформировался особый тип «фабричного», «мастерового», психологически весьма далекий от обычного работника по найму в классическом капиталистическом смысле этого слова. Серьезно изучавшие дореформенную мануфактурную Россию, замечали: если высший класс с завистью, но без уважения относится к этим капиталистам из крестьян, то «чернь… богатство их считает своим достоянием, выманивая его по частям посредством ловкости и хитрости»[51]. Это порождало разговоры о том, что фабрика портит народ, что под ее влиянием простолюдин утрачивает чистоту нравов. Официальные власти усматривали здесь криминализацию взаимоотношений, недоумевая, как могут простые фабричные работники держаться с хозяевами с наглой самоуверенностью и ставить себя с ними на равных? Эту черту фабричной жизни дореформенной России подметили и советские историки. Правда, их вывод был своеобразным: якобы «фабричная жизнь начинала вырабатывать людей, не безропотно переносящих произвол и эксплуатацию»[52].
Нужно сказать, что у правительства подобная направленность старообрядческой экономики вызывала нарастающую тревогу. Все это противоречило рыночным началам экономики, зримо напоминая коммунистические идеалы общественной собственности и управления. Напомним, что в 40-х годах XIX века такое социальное устройство активно популяризировали некоторые европейские мыслители. Разумеется, это обусловило пристальное внимание российских властей к подобным явлениям на местной почве. В результате была инициирована масштабная атака на староверческое купечество, которое рассматривали как силу, поддерживающую раскольничьи порядки. По указанию администраций, «не принадлежавшим к святой церкви», то есть раскольникам независимо от согласий давалось право пребывать в купеческих гильдиях лишь временно, сроком на один год. Желающие же находиться в гильдиях на постоянной основе обязывались представить документы о принадлежности к господствующей церкви. Запрещалось также утверждать староверов в должностях по общественным выборам, удостаивать их наградами и отличиями. Данные меры означали коллапс всей староверческой экономики и привели к ее переформатированию уже в рамках официального законодательства империи. Раньше, как мы видели, главенствующую управленческую роль играли наставники, советы, попечители, а частно-семейное владение выступало своего рода адаптером по отношению к властям и официальному миру. Теперь же, в условиях жесткого государственного контроля, акценты смещались в сторону тех, кто управлял торгово-промышленным делом, и их наследников. После этих потрясений «лицо» русского староверия сильно изменилось[53].
Однако, бурные события, происходившие в расколе, не остались незамеченными российской интеллигенцией, прежде всего, настроенной негативно по отношению к самодержавию. Благодаря охранительным заботам верхов, раскол приобретает в России широкое общественное звучание. Можно сказать, что для части отечественной элиты он становится своего рода модой. Староверческий мир начинают активно изучать, и это открывает новые возможности для национального самосознания, для осмысления собственной истории и культуры. Кроме того, на раскол перестали смотреть как на чисто религиозное явление; в нем увидели черты, имеющие гражданское значение, что обогатило всю общественную жизнь. В этом новом взгляде особый акцент был сделан на политическую составляющую раскола. С точки зрения групп, жаждущих политических перемен, старообрядчество выглядело весьма привлекательно, поскольку издавна противостояло самодержавию и государственности синодального православия. Раскол казался силой, которая наконец-то трансформирует революционные порывы лучшей части интеллигенции в реальную практику.
Практическая реализация этой идеи связана с интереснейшей эпохой отечественной истории, прошедшей под знаком народничества (1860 – 1870-е годы). Специфика этого движения состояла в том, что оно выстраивалось не вокруг какого– либо класса, а вокруг старообрядчества, как религиозной общности. Конфессиональный подход к борьбе сформулировали знаменитые революционеры А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Лидеры русской эмиграции первыми взялись объяснить староверию его историческую миссию, наладив интенсивные контакты с его представителями. Правда, обращает на себя внимание тот факт, что у них прослеживался акцент на налаживание отношений с поповцами. Так, Герцен предложил учредить в Лондоне старообрядческую церковную иерархию. Обсуждался выбор кандидата на новую епископскую кафедру; ему предлагалось дать имя Сильвестр, а по кафедре именовать его епископом Новгородским, в честь вольного Великого Новгорода. Идею собирались с помпой осуществить во время лондонской Всемирной выставки[54]. Герцен и Огарев тесно контактировали с московским купцом Н. П. Шибаевым от рогожских старообрядцев. Ему адресовались письма с просьбами делать все возможное для сбора ополчения, состоящего из раскольников «как главных распорядителей всего ожидаемого движения»[55]. Однако быстро выяснилось, что купцы-староверы оказались совсем не тем элементом, на который можно было рассчитывать. Вместо собирания народного ополчения они с начала 1860-х годов принялись направлять властям верноподданнические адреса, где презентовали себя в качестве надежных слуг государства. Разочарование революционеров не знало границ.
Ситуацию вызвался выправить известный М. А. Бакунин, прибывший в Лондон после побега с сибирской каторги. Он скептически относился к связям его соратников по эмиграции со старообрядческими белокриницкими иерархами и купцами-староверами, считая это пустой тратой времени. Он был уверен, что раскол, воплощенный в народе и в попах – это две разные, и зачастую враждебные, друг другу силы, которые нельзя смешивать[56]. Вожди движения, осознав имеющиеся проблемы, внесли серьезные коррективы в свои действия. Постулат о роли раскола, как основной силы противостояния, под сомнение не ставился. Однако теперь акценты переместились непосредственно в гущу народа, в низы. Нечего ждать ни от купечества – более гнилого, чем дворянство, ни от старообрядческих иерархов. Верить можно только в спящую силу народа, который пребывает в расколе, и в среднее сословие – разночинное, официально непризнанное, которое способно разбудить народ для великих дел. Именно отсюда и родился знаменитый бакунинский клич – в народ! Теперь все взоры народников были обращены на беспоповские массы. Вне этой многомиллионной силы не существует ни дела, ни жизни, ни будущего. Народ должен увидеть рядом с собой тех, кто готов разделить с ним его страдания и протест. Пропаганда непосредственно в народных массах становится основным делом столпов русской эмиграции.
Конфессиональный подход в организации борьбы стал своего рода фирменным знаком народничества. Для этого движения в принципе не существовало деления народа на крестьян и рабочих[57], зато в нем четко прослеживались религиозные предпочтения. Так, выезжая в российские губернии, молодые люди получали предварительную подготовку, чтобы им легче было погрузиться в народную среду. Адаптация проходила в рамках семинаров, численностью по 30 – 40 человек, действовавших в Петербурге и Москве. О них упоминается в мемуарах Д. Н. Овсянико-Куликовского, известного впоследствии ученого-лингвиста и психолога. Вспоминая свои студенческие годы, он писал о том, с каким жадным любопытством принялся изучать прошлое и настоящее старообрядчества. В результате он собрал обширный материал, прочел книги и статьи А. П. Щапова, П. И. Мельникова, И. А. Никольского, Г. Е. Есипова и др. Приобретенные знания позволили молодому человеку заниматься со студентами, отбывающими на российские просторы. И прежде всего им требовались сведения о тех социальных слоях, в которых они намеривались вести пропаганду. Кружок, где Овсянико-Куликовский проводил занятия, пользовался известностью, но прекратил свое существование, когда будущего ученого задержала полиция[58].
Территориально народники действовали в основном в российских губерниях, расположенных вдоль Волги. Считалось, что в этих преимущественно старообрядческих регионах еще силен бунтарский разинско-пугачевский дух. Волга рассматривалась в качестве естественной оси, по обе стороны которой будут распространяться агитационные импульсы. Наиболее мощный народнический центр сложился в Саратове; кстати, к лету 1874 года там ожидали приезда самого М. А. Бакунина, который лично должен был возглавить пробуждение России[59]. Агитаторы придерживались стандартной схемы: организовывали артели, школы, медицинские пункты и т. п., где велась разъяснительная работа, и откуда распространялась нелегальная литература. Необходимо подчеркнуть, что содержание распространявшихся листовок было рассчитано в первую очередь на раскольников. Скажем, широко известная листовка «О правде и кривде» содержала рассказ о неправедном насаждении на Руси греческой церкви, от которой все зло. Два столетия тому назад народ восстал против попов, насаждающих иноземщину, и начал по своему разумению толковать Писание, отверг власть помещиков и церкви, весь царский порядок и решил вернуться к старым обычаям:
«Вот за что поднимались наши раскольники: старые книги и двуперстное сложение и восьмиконечный крест – это было для них то же, что знамя для солдат. Не за него бьются солдаты: знамя поднимается, чтобы собрать всех вокруг него»[60].
Другая популярная листовка – «Хитрая механика» объясняла необходимость борьбы против правящих никониан с экономической точки зрения; в ней был обстоятельно расписан механизм обирания народа: откуда и куда идут деньги[61].
То, что народники действовали именно в старообрядческих районах, подтверждают данные об арестах активистов. Как следует из полицейских справок, летом 1874 года в 28 губерниях страны за распространение запрещенной литературы и агитационную деятельность было арестовано 298 человек, причем из них 200 лишь в 9 губерниях (Московской, Саратовской, Самарской, Казанской, Ярославской, Владимирской, Пензенской, Вятской). Остальные же 100 человек задержаны в различных регионах юга России и Украины[62], то есть там, где, образно говоря, ощущался дефицит староверческого духа, и активность народнических организаций была незначительной.
В задачи настоящей работы не входит анализ народнического движения и его староверческой направленности. Здесь же мы делаем акцент на том, что конфессиональный разлом России был осознан в сугубо старообрядческой проблематике. Какие-либо иные, в первую очередь сектантские, факторы в 60 – 70-х годах XIX века не играли значительной роли на российских просторах; различные не православные секты воспринимались как некое экзотическое явление. И в качестве подлинно народной религии, присущей русскому духу, революционно настроенная интеллигенция рассматривала тогда именно староверие в его внецерковной традиции.
Тем не менее, как известно, взаимодействия между ними не сложилось. Участники народнического движения все более убеждались, что от религиозных верований, традиций и быта их отделяет пропасть. Подвижничество же интеллигентов в крестьянской среде воспринималось как господские забавы. Например, один из лидеров народнического движения А. Д. Михайлов неутомимо демонстрировал, как надо налаживать отношения с раскольниками на Волге. Он очень гордился своими успехами, серьезно полагая, будто завоевал их признание и обладает прочными связями в этих кругах[63]. Но по воспоминаниям другого участника «хождения в народ». Н. И. Сергеева (из беспоповской семьи), настойчивые попытки Михайлова стать своим среди раскольников не вызывали у них ничего, кроме иронии и скепсиса[64]. Справедлива запоздалая мысль видного теоретика народничества И. И. Каблица:
«Интеллигенция находилась издавна у нас в самой тесной связи с бюрократией и владельцами крепостных душ.
Из их рядов наполнялась она и им, в свою очередь, служила; неудивительно, что народ привык их вполне смешивать. Для него студент – барский сынок и ничего больше».[65]
В статье «Политические воззрения староверия» Каблиц анализировал крушение надежд интеллигенции на революционный потенциал раскола. Призывая к более трезвому и критическому взгляду, он делает главный вывод: массы староверов не настроены на борьбу с властями; они ограничиваются просьбами о свободе своего вероисповедания и не намереваются «творить брань с антихристом»[66]. Более категорична другая известная участница «хождения в народ» В. Н. Фигнер:
«Для нас, материалистов и атеистов, мир раскольников закрыт, а в смысле протестующей силы безнадежен»[67].
В итоге это привело к переориентации прогрессивной интеллигенции конца XIX века: российское общество обретало нового кумира – религиозные, не православные секты, пестрившие на отечественном ландшафте. Интерес к ним, после разочарований в старообрядчестве, рос как на дрожжах. По итогам Всероссийской переписи населения 1897 года, вновь определившей количество староверов и сектантов в пределах тех же 2 %, в обществе развернулась дискуссия вокруг этих официальных данных, признанных не имеющими ничего общего с действительностью. Как писал известный ученый того времени А. С. Пругавин, перепись, вместо того чтобы прояснить конфессиональную картину, до крайности ее запутала[68]. Российская общественность обнародовала свои цифры, которыми и оперировала в дальнейшем: по этим данным, в стране насчитывалось как минимум 20 млн. староверов всех согласий и 6 млн. сектантов;[69] особо подчеркивался рост именно сектантства, неуклонно набиравшего силу. Заметим, в 60 – 70-х годах XIX века старообрядцы уверенно исчислялись миллионами, а счет различных сектантов шел лишь на десятки тысяч;[70] теперь же все изменилось и вопрос о том, за кем будущее, не вызывал сомнений. Прогрессивная интеллигенция уверенно фиксировала конфессиональную траекторию: с конца XVII века массы уходили в раскол, а позднее, на рубеже XIX – XX столетий – в сектантство.[71]
Петербургское религиозно-философское общество, Русское географическое общество инициировали обширные программы по исследованию нового фаворита. Причем предполагалось, что сами сектанты будут присылать различные материалы о жизни общин, а также по возможности записывать все, что происходило в общинах на их памяти или перешло к ним по преданиям. Особенное внимание исследователи просили уделять принятым понятиям о вере, фактам притеснений за приверженность религиозным убеждениям, отношению к воинской повинности, каким-либо политическим симпатиям и т. д.[72] В интеллигентских кругах активно обсуждались баптисты, евангелисты, адвентисты, духоборы, толстовцы, молокане, скопцы и проч. Их классифицировали как секты западного и восточного происхождения, рационалистические и мистические; о появлении тех или иных сект на российской земле шли бурные дискуссии. Большую известность получил спор Д. В. Философова и В. Д. Бонч-Бруевича о сектантах, который сопровождался взаимными упреками в научной некомпетентности и предвзятости[73]. Трудности возникали и при определении границ между собственно сектантами и теми, которые позиционировали себя в качестве православных. Например, сами хлыстовские объединения относили себя к православным, ссылаясь на то, что их учение никогда не было осуждено[74].
Вообще хлысты пользовались наибольшей симпатией российской интеллигенции, которая уверенно считала их третьим по численности религиозным сообществом в России после господствующего церковного православия и старообрядчества. Хлыстовство квалифицировали «наиболее сильной, пламенной и организованной сектой», со свойственной ей легкостью духовного общения[75]; считалось, здесь постоянно появляются новые пророки, увлекающие за собой множество страждущих людей.
В 1910-х годах за хлыстовством закрепилось более привлекательное название – Новый Израиль, которое подчеркивало его судьбоносное предназначение. Некоторые особо впечатлительные головы утверждали, что «в настоящее время хлыстовство охватило всю русскую землю»[76]. Отмечалось организационное построение хлыстовской среды, прошедшей путь от небольших разрозненных ячеек до цельного организма с налаженным управлением, заимствованным из апостольских времен и адаптированным к новым условиям[77]. В этом усматривали прообраз будущей жизни, функционирующей не в соответствии с административными регламентами, а на прочных духовных основах.
Такая направленность мысли соответствовала культурным устремлениям Серебряного века. Вот как это выразил А. Блок: «стихийные люди, – писал он, – пока пребывают во сне, но их сон не похож на наши сны, так же, как поля России, не похожи на блистательную суету Невского проспекта»[78]. На наших глазах происходит пробуждение великана, и этот великан, представляющий собой грозное и огромное явление, растущий не только с имперского периода, а с веков гораздо более ранних – это и есть сектантство[79]. На заседании Петербургского религиозно-философского общества с хлыстами общался один из его ведущих деятелей Д. С. Мережковский[80], жаждавший, по меткому замечанию Н. А. Бердяева, стать новым Чернышевским, только в религиозном ключе[81]. К мистической жизни русского народа с его страстным ожиданием пришествия Святого духа обратился А. Белый. В его знаменитом романе «Серебряный голубь» (1909), посвященном интеллигенции, которая ищет пути к народу, подробно описаны радения в хлыстовском духе[82]. А. Блок, А. Ремизов, М. Пришвин, Ф. Сологуб, посещавшие общину чемреков, где хлысты рассказывали о своих радениях, полагали, что задача православной церкви и хлыстовских общин одна – пересоздание человека, но у хлыстов духовных возможностей для этого несоизмеримо больше[83]. Тесный контакт установился у сектантов с Блоком и петербургским религиозным философом А. Мейером, которых те считали наделенными сильным «пророческим» даром[84]. А один из руководителей Нового Израиля П. М. Легкобытов призывал утонченных поэтов и прозаиков: «Бросьтесь в чан, и мы воскресим вас!»[85] И призыв этот падал на благодатную почву. Дошло даже до того, что один из представителей религиозно-философского движения поэт А. Добролюбов в прямом смысле осуществил мечту своих единомышленников, подавшись в сектанты, в народ; его уход как бы символизировал прорыв культуры в народную жизнь[86]. Этот шаг религиозного синтеза крайне взволновал интеллигентские круги. Мережковский описывал поступок Добролюбова в терминах преображения, сравнивая его с самим Франциском Ассизским[87]. Хотя никто из деятелей первого ряда не последовал этому смелому примеру, символистски настроенная интеллигенция с готовностью имитировала хлыстовские радения, выражающие, по ее глубокому убеждению, народный дух. В этом смысле точно подмечено, что сами интеллигенты-символисты выглядели как своего рода «секта служителей красоты»[88]. Однако, подобная восторженность интеллигенции, ее стремление духовного сближения с мужицкой Россией, по меткому замечанию М. М. Пришвина, больше напоминало взятие религии напрокат у народа[89].
Знакомясь с культурой Серебряного века, обращаешь внимание на то, как старательно маститые интеллектуалы, поглощенные сектантской тематикой, развивали представления о внецерковной традиции, присущей, по их глубокому убеждению, русскому народу. И поэтому к началу XX века само понятие сектантство приобрело по сравнению с I860 – 1870-ми годами более широкое толкование. Старообрядчество, как не оправдавшее надежд российской образованной публики, переместилось на периферию ее интересов, и религиозный разлом, о коем неустанно говорили, наполнился новым сектантским содержанием. В результате под сектантством стали подразумевать все религиозные общности (независимо от того православные они или нет), не имеющие священства, иерархии и полноты таинств. Под этот знаменатель традиционно попадали протестантские течения западного происхождения (баптисты, адвентисты, евангелисты и проч.), укрепившиеся местные секты подобной направленности (хлысты, духоборы, скопцы, толстовцы), но в тоже время – беспоповские согласия и толки. То есть принципиальное новшество заключалось в том, что традиционные староверческие течения – федосеевцы, поморцы, филипповцы, спасовцы, бегуны-странники и т. д. были классифицированы как сектантские.
Этот подход обусловил новый ракурс проблемы так называемого народного православия, отличного от синодального официоза. Ранее внецерковные элементы религиозного мировоззрения простых людей связывались, прежде всего, с беспоповским староверием, соприкасавшимся с языческими суевериями. Еще писатель М. Е. Салтыков-Щедрин замечал, что русский народ «верует в три вещи: в свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство. Это и есть вера и в то же время дело, т. е. дело в форме, доступной народу. Если жизнь испытывает его, он «прибегает», просит заступничества и делает это в той форме, какая перешла к нему от предков»[90]. Суть народных верований известный русский литератор олицетворял с внецерковным православием: «надо взять в руки посох, перепоясать чресла и, подобно раскольникам-бегунам, идти вперед, вышнего града взыскуя»[91]. В своих размышлениях Ф. М. Достоевский постоянно оперировал понятием православие народа, которым необходимо просветиться образованным сословиям: только путем такого духовного слияния разрешится противоречие между ними и русским народом[92]. Это создаст общее дело, которое «страшно поможет всему, все переродит вновь, новую идею даст»[93]. Причем, Достоевский подразумевал явно не сектантство, чьи мотивы в его творчестве практически не слышны, а старообрядчество, фигурировавшее во многих его крупных произведениях[94]. С конца же XIX – начала XX столетия статус народной религии, как было показано выше, прочно закрепляется за сектантством. В результате, на российском конфессиональном ландшафте старообрядчество, как самостоятельное религиозное течение, окончательно растворялось в сектантстве. Вот к таким неожиданным итогам подводила религиозно-философская мысль той эпохи.
Собственно к старообрядцам продолжали твердо относить лишь поповщину, претендовавшую на полноценную церковную инфраструктуру. Кстати, именно ее укрепление вызывало большую тревогу властей, считавших, что расцвет раскольничьей иерархии рано или поздно приведет к учреждению на Рогожском кладбище своего патриарха, что чревато невиданными раздорами с трудно прогнозируемыми последствиями[95]. После декларации о свободе вероисповедания (апрель 1905 года) поповцы заметно активизировались. Рогожская иерархия, опиравшаяся на экономический потенциал купеческой элиты, набрала силу во многих регионах. Поповцы подчеркивали древние традиции своего благочестия, устраивали торжественные пения и крестные ходы со старинными иконами, чем привлекали множество людей. Публичность их богослужебной практики сильно раздражала господствующую церковь. Например, в 1911 году в Саратове планировалось проведение чествований старообрядческого епископа Мелентия по случаю 25-летия его служения. На эти торжества собирался целый съезд поповцев с участием Московского архиепископа Иоанна Картушина, а также многих известных в согласии лиц. Лишь с большим трудом удалось не допустить этого масштабного мероприятия, которое привлекло массу местного населения[96]. Как тогда считали многие, образование второй церкви, староверческой поповской, но не синодальной, оставалось лишь делом времени[97].
Однако, становление еще одной крепкой церковной организации абсолютно не вдохновляло религиозно-философские круги, не склонные связывать какие-либо перспективы с церковной традицией, как таковой. Поповское течение, по социальному составу представлявшее верхи старообрядчества, рассматривали как заведомо консервативное и ни искомого религиозного преображения, ни даже какого-либо духовного развития от него не ожидали. Иллюстрацией подобных настроений может послужить случай с епископом Михаилом, архимандритом синодальной церкви и активным участником религиозно-философских обществ. Он перешел в старообрядчество, дабы там обрести духовное обновление, но сподвижники мятежного архиерея из рядов символистски настроенной интеллигенции не разделяли его ожиданий[98]. Д. В. Философов так объяснял тщетность подобного шага:
«отличительная черта восточного православия состоит в полной догматической завершенности, а значит, подлинное религиозное чувство может проявиться только вне церкви, и судьба любого человека, вставшего на путь духовных исканий – становиться сектантом. Старообрядчество – наиболее православная ветвь – может что-то улучшить внутри себя, например, поднять уровень образования, но двигаться вперед, обновляться оно не в состоянии. Пока раскол был гоним государством, его консерватизм объяснялся понятным чувством самосохранения; но указ 1905 года о веротерпимости показал, что поповское староверие, в сущности, столь же неподвижно (или мертво), как и господствующая церковь»[99].
Данную точку зрения разделяли тогда многие. Ученый В. Андерсон говорил о старообрядческом оцепенении, когда все силы направлены на поддержание старого здания и на вдыхание его тлетворного запаха. После двух столетий топтания на месте староверие оказалось позади рвущегося вперед человека, с каждым шагом от него удаляющегося[100].
Приверженцев древнего благочестия иронически сравнивали с ихтиозаврами и плезиозаврами, жившими в доисторические времена[101]. Популярный литератор М. Горький в автобиографической повести «В людях» дал старообрядчеству уничижительные характеристики. Вот лишь один отрывок:
«Вера, за которую они с удовольствием и с великим самолюбованием готовы пострадать – это, бесспорно, крепкая вера, но напоминает она заношенную одежду, промасленную всякой грязью…Эта вера по привычке… в этой темной вере слишком мало лучей любви, слишком много обиды, озлобления, зависти… огонь этой веры – фосфорический блеск гниения»[102].
Приведенные выше оценки позволят еще раз уточнить, в чем же состояла новизна восприятия раскола на рубеже XIX-XX веков. Культура Серебряного века, поглощенная разработкой вне церковности русского народа, решительно вычленяла из староверческой общности различные беспоповские согласия. К этому располагало также их устойчиво негативное отношение к староверческой поповской церкви: можно сказать, что беспоповцы рассматривали ее как разновидность никонианства. Конечно, такое религиозное позиционирование, вкупе с традиционной неприязнью беспоповцев к синодалам, не могло не импонировать интеллигентским кругам. Заметим, принципиальное разведение поповцев и беспоповцев несло большой позитивный смысл. Эти две ветви староверия уже долгое время были настолько далеки друг от друга, насколько в принципе несовместимы церковная и внецерковная традиции. Фиксация этого является очевидной заслугой религиозно-философской мысли того периода. Хотя сегодня на данное обстоятельство почему-то не обращают должного внимания. Даже современные научные круги, как правило, предпочитают рассуждать о старообрядчестве, имея в виду поповцев.
Конечно, в отличие от поповской церкви, знания о беспоповских течениях оставались скудны, а их присутствие в публичной сфере после 1905 года оставалось незначительным. Так, из 49 всероссийских и региональных съездов, проведенных староверами до Первой мировой войны (т.е. до июля 1914 года), беспоповскими были только 8, остальные же составляли белокринцкие (39) и беглопоповские (2)[103]. Хотя, по оценкам современников той поры, именно беспоповщина являлась самым многочисленным направлением старообрядчества, ее представители не афишировали себя и избегали контактов с властями, чем и объясняется такое незначительное количество съездов, проведенных их толками в 1905–1914 годах. Например, верхи федосеевцев в лице совета Преображенского богадельного дома хотели в официальном порядке, т. е. с разрешения МВД, созвать в Москве Всероссийский съезд своего согласия для обсуждения старообрядческого законодательства. Но от этой затеи им пришлось отказаться, поскольку рядовые единоверцы, настроенные резко против регистрации общин и ведения метрических книг, грозили «проклясть устроителей съезда». Вместо него состоялось лишь совещание ряда наставников, которые отказались поддержать правительственный законопроект о старообрядческих общинах, расценив его как «попытку сломать веру»[104]. Интересно, что многие федосеевские начетчики в своем руководительстве согласием постоянно выступали против отступлений от веры, которые возникали в жизни Преображенского кладбища, как то «отдают деньги в казенный дом и проценты берут», взимают плату за молитвы и т. д. В этом винили попечителей и требовали наказывать епитимьями, отлучением, дабы «ко очищению Святой обители» пресечь «процентную добычу»[105]. Как считают специалисты, серьезно занимающиеся старообрядчеством, идеалом для федосеевцев по-прежнему оставалась система беспроцентных и даже безвозвратных кредитов (для мелкого бизнеса – авт.), что и пытались утверждать в своих поучениях авторитетные наставники согласия. Между тем, Рогожская община поповцев к подобной практике относилась куда более лояльней[106]. Это объясняется тем, что к Белокриницкой церкви принадлежало немало представителей купеческой элиты, уже прочно встроенной в рыночные реалии; им подобные нравоучения были, разумеется, совсем ни к чему.
Сведения о старообрядчестве последних десятилетий царской России показывают: если в видимой части староверческого айсберга наблюдалась безусловная гегемония богатых горожан, то в невидимой заметно нарастала активность радикальных согласий. Прежде всего, речь идет о бегунах-странниках, численность которых с развитием железнодорожной сети заметно возросла. Несмотря на название секты, ее приверженцы вели далеко не бродяжнический образ жизни[107]. Основная их масса трудилась на фабриках и заводах, куда их, отличавшихся неприхотливостью в жизни и быту, охотно нанимали администрации[108]. Отчеты различных епархий, поступавшие в департамент духовных дел МВД и Синод, неизменно содержат сведения о серьезном присутствии в промышленных губерниях последователей этого течения. Так, Екатеринбургские духовные власти с тревогой сообщали, что странники плотно обосновались на уральских горных предприятиях[109]. Владимирский архиепископ информировал о «зараженности» ими многих уездов и города Иваново-Вознесенска (в одном только Шуйском уезде было выявлено около 600 бегунов)[110]. Бегунские наставники ежемесячно посещали Казань для ведения пропаганды, причем их приезды и беседы «обставлялись большим секретом». В мае 1913 года здесь в течение недели даже проходил собор с участием шестидесяти старцев из разных регионов России. Материалы Казанской епархии свидетельствуют об успехах секты в деле совращения, как православных, так и староверов других согласий[111]. В то же время не может не вызывать удивления, что при такой бурной религиозной жизни официально в губернии в начале 1910-х годов насчитывалось всего 116 бегунов[112]. Конечно это связано с тем, что в обычной жизни выявить их было затруднительно: они легко крестились, могли заявиться прямо в храм и «вообще притворно выдавали себя за православных»[113]. После 1905 года бегуны, как и ранее, отказывались регистрировать общины, вести метрические книги и, тем более, утверждать у властей своих наставников[114]. Любопытные сведения о секте содержатся в отчете чиновника МВД, который в сентябре 1911 года присутствовал на региональном съезде беспоповцев другого, часовенного, согласия в Екатеринбурге. Из донесения следовало, что широкое распространение бегунов оказывает заметное влияние на часовенное согласие. Их радикальные призывы, в отличие от пропаганды почтенных поповцев, находят здесь большой отклик. Неудивительно, что часовенные признали поповскую «австрийскую белокриницкую иерархию» незаконной и самозваной[115].
Как удалось выяснить, странническое согласие представляло собой разветвленную сеть, раскинутую по всей России и разделенную на так называемые переделы. Во главе каждого из них стояла тройка наставников, именовавшихся преимущими: первый являлся духовным главой передела, второй присматривал за ним и доносил собору о его проступках, третий выполнял при них функции секретаря. Они вершили в согласии свой собственный суд. Бегуны располагали денежными средствами: когда кого-то задерживала полиция, они открыто заявляли, что могут внести определенные суммы на выкуп единоверца[116]. Суть бегунских представлений о российской действительности выражали наставники, продолжавшие развивать учение о воплощении антихриста и заявлявшие, что «в жизни два пути к спасению – борьба и бегство». В основе взглядов странничества лежали неприятие частной собственности и обязанность каждого трудиться во благо общины. Наставники вели особые завещательные книги, куда записывалось, какие вещи принадлежат тому или иному единоверцу[117]. Старые и тяжелобольные у бегунов, как правило, умирали вдали от посторонних, исключительно среди единоверцев: последние минуты не должно омрачать присутствие никониан[118].
Подобная внецерковная практика заметно воодушевляла творческую интеллигенцию. Там полагали, что бегунская общность ближе всего к сектантству и в будущем вольется в его ряды: другие беспоповские согласия, так или иначе тоже пойдут по этому пути. Следовательно, удел беспоповщины – следовать за хлыстами, духоборами, молоканами и проч., т. е. за теми, кто создает грядущую жизнь, за теми, кто являет подлинные духовные веяния для русского народа, чья душа постоянно порождает сектантский, неправославный дух. А вот сами староверы-беспоповцы, как бы второсортная религиозная сила, самостоятельно породить ничего уже не могут (видимо, идейно стары для этого), но, в отличие от поповской церкви, располагают потенциалом для восприятия новых духовных ориентиров. На наш взгляд этот стереотип, выработанный религиозно-философской мыслью Серебряного века, нуждается в прояснении. Отнесение беспоповцев к сектантам, основанное, как было сказано выше, на внешних признаках, выглядит довольно опрометчивым. Между двумя этими течениями имелись непреодолимые расхождения, исходя из которых, они совершенно по-разному представляли строительство своей жизни. Что главное для сектанта любого течения? Идентификация себя и своих единоверцев в четко выверенном пространстве Библии, совместный мистический поиск; только в этом случае, по их искреннему убеждению, возможно действие Святого Духа. Все остальное – лишь производное от этой базовой установки. Возьмите баптиста, толстовца, молоканина, духобора – все они, так или иначе, отталкиваются от примата Священного Писания или, точнее, его конкретного понимания. Как утверждал Бонч-Бруевич, для сектантских общин именно эти религиозно-мистические интерпретации «являются своим собственным отечеством», в лоне которого должна протекать жизнь членов общины[119].
Староверам же свойственна совершенно иная религиозная психология (вот на это Бонч-Бруевич уже не обращает внимания). Разные толки последователей древнего благочестия имели иное объединительное начало, связанное с осознанием себя в первую очередь как представителя определенной земли, определенного народа, определенной веры. Даже православие господствующей церкви старообрядцы считали испорченным католицизмом и протестантизмом, не отвечающим этим высоким стандартам; они неизменно повторяли, что синодальное православие подброшено с падшего Запада, дабы унизить (опоганить) святую Русь[120]. Естественно, столь жесткий религиозный формат не оставлял места для духовных веяний, опиравшихся на другие смыслы. В глазах истинного старовера сектантские «сборища» выглядели чем-то вроде мусора, занесенного на родные просторы. Если же почитателями какой-либо секты оказывались этнические русские, то они, как правило, зачислялись в ранг «предателей» своей земли и выросшего из нее народа. Тем не менее, «религиозные технологи Серебряного века» упорно игнорировали это принципиальное обстоятельство. Максимально расширяя рамки внецерковного направления, они с легкостью отрывали русскую беспоповщину от православных корней, вписывая ее в свои построения. Растворение внецерковного православия в сектантском ландшафте настолько укоренилось в общественном сознании, что вскоре в беспоповцах и адептах неправославных сект вообще перестали видеть разницу. К примеру, у А. Белого в «Серебряном голубе» хлысты осеняют себя двуперстым знамением[121]. М. Горький непринужденно мог отнести бегуна-странника к проповедникам скопчества; исследователи его творчества были вынуждены выходить из положения, утверждая, что очевидная путаница допущена сознательно для каких-то замыслов[122]. Известный писатель А. Платонов в рассказе «Иван Жох» о раскольниках-беспоповцах вдруг называет последних скопцами; по сюжету, получается, скопцы крестятся двуперстием и почитают восьмиконечный крест[123].
Стирание граней между беспоповцами и сектантами не позволило акцентировать внимание на еще одном важном вопросе – их различном отношении к интеллигенции. Как видно из источников периода Серебряного века, сектантские круги весьма охотно шли на контакты с образованной публикой. На заседаниях того же Петербургского религиозно-философского общества они – частые и желанные гости. И это совсем неудивительно, поскольку в их среде было немало представителей интеллигенции. Не будет преувеличением сказать, что именно они определяли идейно-религиозное лицо сектантства. Так, относительно хлыстов замечено, что на их «кораблях» и радениях издавна заправляли не «мужики», а наставники из привилегированных, образованных слоев[124]. К примеру, у того же М. Горького в грандиозной эпопее «Жизнь Клима Самгина» о предреволюционных годах одна из ключевых сюжетных линий – это взаимоотношения метущегося интеллигента Клима Самгина и хлыстовки Марины Зотовой из его же социального круга; их образы несут большую смысловую нагрузку[125]. Возьмем духоборческих лидеров: И. М. Трегубов происходил из потомственной священнической семьи Полтавской губернии, был уполномоченным духоборов Кавказа и Украины; П. М. Бирюков родился в дворянской семье, окончил Пажеский корпус, получил образование в Швейцарии; один из наиболее видных российских баптистов И. С. Проханов – сын ученого-ботаника, выпускник Петербургского технологического института.
А вот со староверами – совсем другая ситуация. С поповцами всегда поддерживались более или менее тесные контакты, поскольку они имели просвещенную прослойку, расположенную к общению. О епископе Михаиле мы уже упоминали; это был плодовитый публицист и проповедник. Представители Рогожского кладбища Ф. Мельников, Д. Варакин, Н. Зенин были хорошо известны в интеллигентских кругах. С 1911 года у рогожан даже действовал свой институт, который возглавлял А. Рыбаков (отец известного советского историка академика Б. Рыбакова). Однако, среди гораздо более многочисленной беспоповщины мы ничего подобного не встретим. У них практически отсутствовала собственная интеллигенция, не издавалось сколько-нибудь заметной периодики[126]. Вспомним съезд старообрядцев часовенного согласия в Екатеринбурге, о котором упоминалось только что. Характеризуя съехавшихся на него староверов из разных регионов страны (около 250 человек), чиновник МВД отмечал:
«Невольно обращало на себя внимание полное отсутствие в составе съезда лиц более или менее интеллигентных: съехались начетчики, ремесленники, крестьяне (рабочие), мелкие торговцы»[127].
Что уж говорить в этом отношении, например, о бегунах– странниках…
Со своей стороны многочисленные беспоповские массы не стремились к общению с образованным российским обществом. Так, когда М. М. Пришвин, изучавший старообрядчество, выступал с итоговой лекцией в Русском географическом обществе, в зале не присутствовало ни одного старовера. Никто из них не проявил интереса к докладу «О невидимом граде», то есть, по сути, к разговору об их собственной вере. Зато сектантов среди собравшейся публики оказалось немало. Именно тогда состоялось знакомство Бонч-Бруевича с известным хлыстом П. М. Легкобытовым, продолжавшееся долгие годы[128]. Бонч-Бруевич свидетельствовал о тесной дружбе с самыми различными сектантами, в том числе и выше названными. По его убеждению – это действительно прекрасные, добросовестные люди[129]. А вот отношениями со старообрядцами, несмотря на свою настойчивость, он похвастаться не мог. Контакты с рабочими-староверами разных заводов показали, что они обладают завидным упорством в своих жизненных установках, но весьма недружелюбны; дух тайны и конспирации веял над ними. Диагноз Бонч-Бруевича:
«Эта среда – крайне замкнутая, тяжелая, своеобразная, чуждая и даже нередко враждебная всей новой «психологии»… и смотрящая на интеллигенцию крайне подозрительно»[130].
Развивая эти наблюдения, можно определенно уточнить: старообрядчество – это типично черносотенная среда, абсолютно невосприимчивая к религиозно-сектантским новациям. И если невозможно представить духоборов, хлыстов, молокан, евангелистов, выдвигающими постулат – «русское превыше всего», то для староверческих кругов эта идея как раз и является питательной почвой, вне которой они просто не могут существовать. Подчеркнем, что Серебряный век оставался неизменно чужд черносотенному менталитету. Совсем неслучайны приведенные выше критические оценки древнего благочестия, исходившие от религиоведов и литераторов той поры. Правда, это их отношение к староверию не распространялось на беспоповцев, хотя они как раз в первую очередь не принимали интеллигенцию и превозносили все доморощенное. По нашему убеждению, это связано с тем, что черносотенство привычно соотносилось, прежде всего, с церковной иерархией, причем как господствующей православной церкви, так и староверческой поповской. Говоря иначе, именно наличие иерархии выступало главным опознавательным признаком черносотенства. В то же время отсутствие священников и архиереев религиозно-философское движение расценивало в качестве обязательной страховки от духовного регресса.
Однако, отсутствие священства и минимизация обрядов не могло служить «противоядием» от черносотенства. Доказательством данного утверждения является тот факт, что вместо сектантского староверческие массы подпадали под совсем иное влияние. Активное присутствие старообрядцев из низов наблюдалось, прежде всего, в правых организациях откровенно черносотенного толка, где они стали неотъемлемой частью антуража. Их идеи оказались созвучны менталитету староверческой среды: православие провозглашалось господствующей верой Российской империи, «в Православии [не делалось] никакого различия между представителями старого и нового обряда»[131]. Либеральные же российские партии, напротив, в своих программах делали акцент на безусловной свободе вероисповедания, что крайне раздражало приверженцев древнего благочестия. Последние позиционировали себя в качестве защитников истинно русских традиций и ценностей от либерально-конституционных веяний, о чем свидетельствуют их многочисленные обращения и выступления. Возьмем типичный пример: адрес к верховной власти от двух тысяч староверов Ковенской губернии, где они клеймили либеральную смуту «как злую болезнь, вкравшуюся в наше русское Государство, которая на святой Руси мешает ведению правильной жизни». Выражая готовность к борьбе с внутренними и внешними врагами, наследники Сусанина, как они сами себя называли, напоминали, что «Минин и Пожарский ни университетов, ни гимназий не знали, а за святую Русь крепко держались»[132]. На собраниях старообрядцев особо подчеркивалась господствующая роль русского народа в государственной жизни, раздавались требования объявить евреев иностранными подданными и лишить их права участия в Государственном совете и Государственной думе, в городских и земских учреждениях. Сама же Дума рассматривалась в качестве совещательного органа при монархе[133]. Как отмечал Д. С. Мамин-Сибиряк, старообрядцы заявляли, что они далеки «от всех этих бунтов», где «ваши православные смутьянят»[134]. Такую же позицию занимали старообрядцы и на форумах правых сил. К примеру, с трибуны III Всероссийского съезда русской земли они с гордостью говорили о том, что никто в их рядах не позволил себе крамольных идей или выпадов против Отечества (за исключением одного негодяя – убийцы Плеве Сазонова, который проклят истинно русскими людьми)[135].
Как известно, главной целью правого движения являлась поддержка монархии, и патриотически настроенные старообрядцы шли здесь в первых рядах. Так, лидер Союза русского народа А. И. Дубровин говорил о доставке и вооружении 20 тыс. старообрядцев, готовых навести порядок в Петербурге, очистив город от революционных элементов[136]. Такие порывы староверческого простонародья имели вполне понятную мотивацию. Эти черносотенные слои воспринимали императора как отца-батюшку, единственного заступника, способного, в отличие от продажных и алчных помещиков и фабрикантов, решить их материальные нужды. Кроме того, староверы надеялись и на удовлетворение со стороны государства своих духовных потребностей в смысле укрепления престижа древнего благочестия. В свою очередь, лидеры правого движения из аристократов и богатых землевладельцев рассчитывали, что монарх не позволит покуситься на их собственность. А служители РПЦ уповали на укрепление и защиту позиций господствующей церкви, провозглашая Николая II «Первым миссионером Православной веры и церкви»[137]. Таким образом, в российском монархическом лагере складывалась парадоксальная ситуация, проявившаяся уже в октябре 1906 года, на Третьем форуме правых, во время которого несколько существующих структур должны были слиться в одну крупную организацию. При этом все понимали, что объединиться на основе программы, подготовленной видными деятелями правых, невозможно[138]. Рядовые участники заявляли, что программа предназначена не для приват-доцентов, а для русского народа, «который ни малейшего понятия не имеет, что такое платформа, помимо разве той платформы, что возят жиды мебель на дачи»[139]. Они предлагали свои варианты, игнорируя упреки в некомпетентности, и возмущались адресованными им поучениями[140]. Все это вынудило одного из лидеров монархического движения В. М. Пуришкевича выступить за сохранение статус-кво:
«Силы ума пусть централизуются вокруг Русского собрания (элитная организация монархического дворянства – авт.) Темные же народные силы группируются вокруг Союза Русского народа. Для русского дела признаем, что соль ума в Русском собрании, а силы народные – в Союзе Русского народа и Всенародном русском съезде»[141].
Позиционирование старообрядческих масс в правомонархическом движении – это яркое свидетельство того, что их поведенческая модель реализовывалась вопреки прогнозам интеллигенции. А также наглядное подтверждение того, что плотное взаимодействие староверов с черносотенными организациями исключало присутствие среди них различных сектантов. Последние в принципе не могли участвовать в мероприятиях православной направленности, их там просто не потерпели бы.
Глава 2. Конфессиональное «лицо» дореволюционного пролетариата
Одним из достижений Серебряного века стало признание того, что в России существуют две религиозные традиции: церковная и внецерковная. В официальной интерпретации внецерковная традиция всегда считалась уделом мелких групп, противопоставлявших себя господствующей Русской православной церкви. Религиозно-философские круги, напротив, в начале XX века увязали проблематику духовного развития страны с сугубо внецерковным опытом, наиболее полно как им представлялось, выражавшим чаяния народа. Напомним, культура Серебряного века сводила внецерковную традицию к сектантскому движению: оно рассматривалось в качестве магистрального пути в новую преображенную Россию. В этой связи большой исследовательский интерес представляет выяснение того, чему интеллектуалы той поры не уделяли сколько-нибудь серьезного внимания, а именно: какие же социальные слои выступали носителями внецерковной традиции? Выяснено, что различными сектантскими течениями «заправляла» интеллигенция, тогда как основной массовкой традиционно считалось крестьянство. А вот в беспоповских согласиях, относимых к сектам, ситуация была другой: здесь практически не ощущалось влияния образованной публики. В социальном же плане это направление вне церковности имело иные опоры. В данной главе мы попытаемся показать проявление внецерковной традиции, воспетой литературно-философской элитой Серебряного века, в российском пролетариате.
Очевидно, что разработку этой проблемы трудно переоценить, учитывая громадную роль, выпавшую на долю рабочего класса в прошлом столетии. Кем был в дореволюционную пору «могильщик буржуазии» с религиозной точки зрения? Заметим, что на этот вопрос до настоящего времени по существу никто не ответил. Интеллигенция Серебряного века, не вникая в социальные оттенки, оперировала понятием народ и концентрировалась на его духовных исканиях в сектантских тонах. С наступлением новой эпохи экономические и социальные параметры рабочего класса, естественно, переместились в центр научных изысканий, руководствовавшихся исключительно марксистской классикой. Что представлял собой российский пролетариат, какими путями шло его классовое оформление и политическое созревание – эти темы постоянно занимали советскую науку[142]. Но конфессиональный аспект в огромном массиве научной литературы, созданной за десятилетия, по понятным причинам практически не затрагивался[143].
Да и сегодня, в постсоветской России, интерес к этой стороне исследований в кругах специалистов не привлекает внимания. Вместо этого большой популярностью на протяжении последних двух десятилетий стали пользоваться работы по выяснению этно-конфессионального состава отечественной буржуазии. Благодаря усилиям современных ученых уже достаточно полно освещены процесс ее становления, ее многонациональный состав, переплетение традиции западноевропейского капитализма и протестантской этики со старообрядческим, еврейским и мусульманским предпринимательством[144]. Следует подчеркнуть, что советскую историографию гораздо больше интересовало участие иностранного капитала в экономической жизни России, чем старообрядческого со всей его спецификой[145]. Разработка этой проблемы как раз и явилась значимым достижением исторической науки постсоветского периода[146]. По некоторым оценкам, на протяжении XIX столетия купцам-староверам принадлежало от 30 % до 60 % капиталов царской России, хотя другие считают это явным преувеличением. Тем не менее, фамилии Морозовых, Рябушинских, Гучковых, Солдатенковых, Коноваловых, Бахрушиных, Кузнецовых и многих других, вышедших из староверия или по-прежнему принадлежавших к этой общности, после долгого периода забвения заняли прочное место в истории отечественного бизнеса.
В этом смысле российскому пролетариату повезло гораздо меньше. О том, кто именно, с национальной и конфессиональной точек зрения, трудился на предприятиях, принадлежащих казне, иностранному капиталу или разрекламированным капитанам купеческого бизнеса, упоминается как бы вскользь. Одна из основных причин, тормозящих эти исследования – это отсутствие необходимой источниковой базы, а точнее трудности в ее выявлении[147]. К тому же конфессиональная окраска пролетариата традиционно с советских времен прочно увязана с теорией многонациональности рабочего класса, не имеющего своего отечества. Напомним, еще Ленин был убежден, что российскому пролетариату присуща яркая интернациональная психология[148]. И советские историки настойчиво проводили такую мысль: насколько пролетариат по своему существу интернационален, настолько же крестьянство, с которым пролетариат должен произвести смычку, «национально», т. е. с точки зрения марксистско-ленинских канонов находится на более низкой стадии развития[149]. Марксистская догма гласила, что революция произойдет лишь тогда, когда в социальной структуре общества пролетариат будет преобладать. Разумеется, дореволюционная Россия никак не вписывалась в эти идеологические параметры, и потому расширение пролетарских рядов производили всеми возможными способами, включая в них и обезземеленных батраков национальных окраин. Так что, пытаясь прояснить национально-конфессиональные корни российского рабочего класса, следует в первую очередь различать действительно крупную промышленность (фабрики и заводы машиностроительной, горной, металлургической, текстильной отраслей) от мелких и средних не индустриальных производств (пищевых, лесообрабатывающих, сахарных, местных и др.). Причем, в первую очередь требуется ответить на вопрос: какие национальности, проживавшие в Российской империи, и каким образом участвовали в формировании фабрично-заводского пролетариата?
Рассмотрим с этой позиции крупнейшие индустриальные анклавы: Центрально-промышленный район, Петербург, Донецкий бассейн и др. С промышленным центром, группирующимся вокруг Москвы, ситуация понятная. Так, в Нижегородской губернии главным поставщиком рабочих рук на крупные предприятия являлись коренные, исконно русские представители крестьянского сословия. В номерных книгах Сормовских заводов за 1904–1905 годы учтено свыше 10 тыс. человек, из которых почти половина родом из близлежащих уездов, а другая половина распределялась между Владимирской, Костромской, Симбирской губерниями. Весьма интересен такой факт: среди этих учтенных рабочих практически не представлены земледельческие районы страны: из Тамбовской губернии насчитывалось только 99 работников, Новгородской – 85, Смоленской – 26[150]. На Сормовских заводах числилось более 1000 выходцев из мещан, которые также в подавляющем большинстве были из Нижнего Новгорода или соседних промышленных губерний[151]. Другие сословия давали всего лишь 280 работников (дети военных, мелких чиновников, священнослужителей низшего ранга). С увеличением к 1909 году общей численности рабочих до 29 тыс. человек региональные источники рабочей силы остались практически те же[152]. Появление на заводах представителей нерусских национальностей в ту пору воспринималось как исключение, и трудились они, как правило, на вспомогательных работах. В 1900 году около 200 татар из Казанской губернии поступили на предприятие, но спустя несколько недель бросили работу, сославшись на тяжелые условия[153]. Русское население традиционно лучше адаптировалось к производственным тяготам. Напомним, что и бурлаками, обслуживавшими речной трафик на Волге, были также приволжские русские крестьяне, тогда как татары, чуваши, мордва и др. нанимались на эту тяжелейшую работу лишь изредка[154].
Обратимся к другим индустриальным губерниям центра – Владимирской, Костромской и Ярославской. Население городов и рабочих поселков этой обширной территории формировалось исключительно из коренных русских жителей. Так, Иваново-Вознесенск и Шуйский уезд росли за счет притока на фабрики людей из названных губерний (большинство было из Костромского края); их уроженцы составляли около трети населения этого промышленного города[155]. Аналогичное территориальное распределение рабочего класса наблюдалось и в Ярославле: город пополнялся также из Костромской, Вологодской и Московской губерний[156], причем доля выходцев из этих мест неуклонно повышалась. К примеру, на Ярославской большой мануфактуре к началу XX века количество пришлых превысило половину всех занятых на производстве[157]. Такая же ситуация сложилась и на крупных фабриках Московской губернии. На Богородско-Глуховской мануфактуре в 1869 году трудились рабочие, в основном приписанные к Богородскому и Московскому уездам (54 % и 70 % соответственно), а к 1913 году эти показатели значительно сократились (до 24 % и 33 %)[158]. На Раменской фабрике Малютина в Бронницком уезде 75 % текстильщиков в начале 1880-х годов были из близлежащих селений, затем их доля опустилась ниже половины[159].
Эти факты позволяют заключить, что крупная фабричнозаводская индустрия не только стягивала население в города, но и перебрасывала трудовые ресурсы из одной промышленной губернии в другую. Эти перекрещивающиеся потоки образовали целую сеть, выходящую за пределы промышленных губерний центра России. Приток же населения из сельскохозяйственной черноземной зоны, степной полосы, Белоруссии в крупную индустрию региона был совершенно ничтожным (1–2% от общей массы)[160]. То, каким образом население земледельческих районов приобщалось к промышленному труду, можно проиллюстрировать на примере Ярцевской мануфактуры, расположенной в сельском Смоленском крае. Бумагопрядильную фабрику здесь основал в 1872 году московский купец А. И. Хлудов, закупивший 500 английских станков и пригласивший английский административно-технический персонал. Однако местное крестьянство оказалось совершенно не приспособлено к производству, и Хлудов нанял около 800 рабочих из Московской, Рязанской и Тульской губерний. На начальном этапе эти квалифицированные кадры составляли подавляющее большинство ярцевских текстильщиков, и они же обучали местных крестьян, прививая им необходимые трудовые навыки[161]. Причем дело не ограничивалось передачей производственного опыта: прибывшие рабочие умело разжигали среди смоленских крестьян протестные настроения. В 1880 году на фабрике начались беспорядки, прозвучали угрозы расправиться с администрацией. В результате были вызваны войска, и полиция выслала зачинщиков стачки – в основном москвичей, рязанцев и туляков. Постепенно, лишь к середине 1890-х годов численность пролетариев из этих регионов снизилась до 20 %[162].
Вообще, растущее фабричное население Центрально-промышленного района начинает все больше беспокоить правительство. Причем, как следует из документов, власти, в отличие от советских историографов, понимали, что источник брожения находится внутри рабочей среды, а не где-либо еще. Так, доклад прокурорского чиновника о событиях на бумагопрядильной мануфактуре И. В. Залогина около г. Твери свидетельствовал, что забастовка, хотя и была результатом недовольства массы, «организована и руководилась опытной рукой, создавшей план и энергично приведшей его в исполнение». Вместе с тем (и это особенно важно):
«Лиц, организовавших забастовку и подстрекавших к ней рабочих, ни дознанием, ни следствием не обнаружено, причем в местном жандармском управлении не имеется никаких указаний на то, чтобы в среде рабочих были лица, имеющие связь с преступными политическими сообществами».[163]
И подобные выводы постоянно встречаются в материалах полиции на протяжении целого ряда лет. Например, в 1878 году во время беспорядков на бумагопрядильной фабрике Третьяковых было разгромлено здание администрации. Следствие установило организованный характер стачки, однако не усмотрело какого-либо стороннего подстрекательства[164]. Заметим, что и непосредственные участники революционного движения в своих мемуарах, выходивших уже в советские годы, делают иногда интересные признания. Ветеран революционного движения М. Лядов так вспоминал о забастовках на фабриках Егорьевска (ныне Московская область) и о своей роли в их организации:
«Мы поздно узнали об этом бунте, и проявить свое руководство не могли. Но решили широко осветить эту забастовку в листовках, а главное – указать и объяснить, как следует бороться».
Рассказывает Лядов также и о посещениях фабрик братьев Лыжиных и Гучковых, о своих знакомствах и разговорах со староверами, под влиянием которых он начал изучать историю раскола[165].
Перейдем к крупнейшему индустриальному центру России – Петербургу, где были сконцентрированы предприятия, принадлежавшие, главным образом, казне, представителям аристократии и иностранному капиталу. Но становление промышленного Петербурга снизу происходило преимущественно силами русского трудового люда. Первыми работниками Адмиралтейства стали мастеровые с Олонецкой верфи, переведенные сюда по указу Петра I. Затем проводились наборы людей из Вологды, Шуи, Ростова Великого и др[166]. Из них складывались кадры потомственных рабочих, которые обеспечивали производственные потребности петербургских заводов. Квалифицированную рабочую силу поставляла и Москва: по правительственным распоряжениям в столицу с Литейного двора была отправлена треть мастеровых и подмастерьев, затем число завербованных дошло до половины[167]. Такие наборы в дальнейшем проводились регулярно. К примеру, для запуска в 1789 году крупного завода для оборонных нужд – известного впоследствии под названием Путиловского – были привлечены русские ремесленники из Петрозаводска, а руководили производством десять английских специалистов[168]. В пореформенный период, характеризовавшийся бурным промышленным ростом, в Петербург хлынули крестьяне, главным образом из губерний со слаборазвитым земледелием. Среди них было много кустарей, обладавших определенной квалификацией для работы на крупных производствах. Уже к 1870 м годам 88 % металлистов и 92 % текстильщиков города составляли выходцы из одиннадцати губерний центра России (Тверской, Ярославской, Новгородской, Костромской и др.). А к началу XX столетия количество пришлых рабочих в бурно растущей петербургской промышленности составило 80,5 %[169]. Параллельно шел активный процесс формирования постоянных, потомственных пролетарских кадров; к 1910 году около 60 % всех городских рабочих или родились в Петербурге, или трудились на его предприятиях свыше десяти лет[170].
В результате на заводах и фабриках складывался довольно устойчивый костяк, состоявший в основном из русских рабочих. Например, на Обуховском заводе образовалась очень крепкая и влиятельная группа так называемых старожилов – искусных пушкарей, сталеваров, станочников и т. д.; здесь они выросли, научились своему делу. Эти рабочие пользовались большим влиянием при наборе новых кадров, устраивая на предприятие своих земляков, родных, знакомых[171]. Администрация старалась не принимать на завод работников без рекомендаций, опасаясь разного рода «случайных» людей, и поэтому охотно прибегала к помощи старожилов[172]. Таких людей именовали еще «заводиловкой», так как при всяческих недоразумениях и столкновениях с начальством «они были впереди и отстаивали права рабочих»[173]. Из различных мемуарных свидетельств следует, что весомая часть всех трудившихся на предприятиях дробилась на землячества[174], которые можно рассматривать в качестве основного канала для пополнения трудовых ресурсов. Как отмечают исследователи, это способствовало укреплению чувства коллективизма – «один за всех и все за одного», особенно в среде пролетарской молодежи[175].
На крупных предприятиях была и еще одна заметная (и весьма интересная) категория рабочих – тех, которые на одном месте долго не задерживались, переходя с завода на завод. Они в значительной мере обеспечивали циркуляцию трудовых потоков, отмеченную еще советскими учеными. По воспоминаниям самих рабочих, в большинстве своем эти люди обладали не только неплохой квалификацией, но и большой силой воли. Над теми, кто считали себя степенными и правильными, они посмеивались, «не любили и называли трусами тех, кто подолгу жил на одном месте, ненавидели и били разных прихвостней и ябедников». С мастерами держали себя непринужденно, всячески демонстрируя, что вовсе не нуждаются в них и могут всегда где угодно найти работу. Если мастер пробовал показать свою власть, «то они попросту колотили его», дождавшись обеда или вечера, бывало выказывали неуважение и самим хозяевам. Известно, например, что рабочие Путиловского завода часто пускали в ход кулаки, которые «гуляли по спинам начальников», отлавливаемых после работы по улицам[176]. Держались такие рабочие всегда вместе и если уходили с завода, то старались устраиваться на одно производство, а при отсутствии вакансий жили за счет тех, кто смог устроиться[177]. Они в значительной мере усиливали протестный дух пролетариата, практикуя расправы и осмеяния мастеров: их вывозили на тачках, имитируя «вывоз мусора» с предприятия. Озлобившим коллектив, накидывали сзади и завязывали в мешок, выдворяя за ворота. После такого публичного унижения многие из административно-технического персонала улучшали отношение к рабочим[178].
Очевидно, что в пролетарской среде Петербурга имелось достаточно «горючего материала» для мощной забастовки, и она действительно вспыхнула в 1896 году. В мае состоялась коронация Николая II, и владельцы столичных предприятий объявили трехдневный выходной, а потом решили эти дни рабочим не оплачивать. В ответ забастовали свыше 30 тыс. человек. Как утверждали очевидцы, стачка явилась полной неожиданностью не только для правительства, полиции, жандармов, но и для «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», не говоря уже о группе «Народная воля»[179]. В ней приняли участие самые забитые рабочие, обычно не откликавшиеся на пропаганду социалистов. Директор-англичанин одной крупной питерской фабрики недоумевал: «Кто вас надоумил устраивать стачки?» Советские историографы с гордостью сообщали, что движение возглавил ленинский «Союз борьбы». Однако сами ткачи и прядильщики уверяли, что у забастовщиков был организован свой подпольный стачечный совет, куда входили представители фабрик и заводов[180]. А руководящая роль «Союза борьбы» выразилась в подготовке воззваний и листовок, в сборе средств на помощь русскому пролетариату в Европе. Причем непосредственные участники тех событий говорили, что члены Союза «были скорее агентами по собиранию сведений о положении дел и по распространению книг и напечатанных уже листовок, чем организаторами и пропагандистами среди массы рабочих»[181]. Кстати, эти листовки были напечатаны с грамматическими ошибками[182]: очевидно, их подготовка никак не могла быть результатом творчества интеллигентных революционеров, чья роль больше походила на вспомогательную, чем на руководящую[183]. Ну и наконец, нужно помнить о главной цели стачки: бастующие хотели заставить хозяев оплатить коронационные дни, и любой другой исход воспринимали как оскорбление, прежде всего – императора. В этом случае руководящая роль «Союза борьбы» выглядит весьма анекдотично: получается, Ленин со своими товарищами возглавили борьбу пролетариата за уважение к царю!
Перейдем к формированию пролетариата на Восточной Украине. В 80 – 90-х годах XIX века здесь возник мощнейший индустриальный центр, благодаря усилиям иностранного капитала, привлекшего значительные инвестиции и современные технологии. Однако, на этих территориях полностью отсутствовали необходимые кадры: коренное украинское население не проявляло интереса к рабочим вакансиям. Предприниматели обратились за помощью к правительству, ходатайствуя о переселении на Юг рабочих из промышленных губерний России и Урала, где имелась необходимая рабочая сила[184]. Так сформировался основной канал пополнения трудовых ресурсов для Донецкого бассейна. Администрации шахт и заводов нередко поручали кому-нибудь из старых пролетариев создавать артели, чтобы вербовать туда своих русских земляков. Заводчики также всячески удерживали на своих угольных копях и металлургических предприятиях необходимый пришлый контингент. Как отмечала специальная комиссия при Съезде горнопромышленников Юга: следует превратить рабочего человека «из кочевого в оседлого», предоставить ему хотя бы небольшой «клочок земли, на котором он смог бы вести собственное хозяйство, держать корову, мелкий домашний скот и птицу»[185]. Эти меры возымели свое действие. Побывавший летом 1890 года на Донбассе В. В. Вересаев застал среди местных шахтеров «уже целое поколение, выросшее на здешних рудниках… эти рабочие и дают тон оседающим здесь пришлым элементам»[186]. Характерны фамилии этих пролетариев, приведенные Вересаевым: Черепанцовы, Кульшины, Дулины, Вобликовы, Ширяевы, Горловы и др.[187], – среди них нет ни одной украинской. Это наглядно свидетельствует, что в дореволюционную пору украинское население не было приспособлено к индустриальному труду.
Точно определить национальный состав промышленного пролетариата Украины, сконцентрированного в восточной ее части, чрезвычайно трудно. Дореволюционная статистика либо вовсе не различала русских и украинцев, либо, в лучшем случае, делила всех рабочих на пришлых и местных, не имея при этом четких критериев[188]. Тем не менее, как дореволюционные, так и советские историки делают схожие выводы. По некоторым оценкам, к середине 1890-х годов лишь 15 % украинцев были задействованы в крупной индустрии[189]; по другим, в железной и каменноугольной промышленности Украины не менее 70 % всех рабочих прибыли из великорусских губерний (в Екатеринославской губернии – почти 83 %)[190]. Такая тенденция сохранялась и в дальнейшем: среди поступивших на украинские заводы и шахты в 1910–1912 годах выходцы из Центральной России составляли около 80 %[191]. Иными словами, промышленный пролетариат на Украине формировался на той же национальной основе – русской. Причем многие рабочие разных предприятий Донецкого бассейна, особенно квалифицированные, были знакомы друг с другом, могли «справить» документы, помочь с устройством на работу[192]. Добавим, что непосредственно украинцы использовались, как правило, не на основном производстве, а занимались извозным промыслом[193]. Иногда на предприятиях появлялись представители других национальностей, например кавказских. Но их выписывали не для производственных целей, а для поддержания порядка. Так было на Брянском заводе, где привезенная группа из черкесов, осетин и лезгин по указке администрации чинила расправу над рабочими за мелкие кражи, проступки и т. д. Лишь после анонимных угроз в адрес управленческого персонала их удалили с предприятия[194].
Итак, создание южно-российского индустриального района стало делом не только иностранного капитала, но и русских рабочих. Один из авторов той поры писал:
«Как и сто лет тому назад, донецкий крестьянин остается до сих пор, как бы на зло окружающим условиям, завзятым земледельцем, хлеборобом до мозга костей, оторвать которого от плуга и бороны в силах только что– либо чрезвычайное. В самые трудные годины своей земледельческой жизни, постигнутый рядом сельскохозяйственных невзгод, донецкий крестьянин, прежде всего, ищет спасения не в посторонних внеземледельческих промыслах, в изобилии окружающих его, а все в том же земледелии, пуская в ход героические усилия ради расширения посевной площади до пределов возможного»[195].
В дореволюционной России широко устоявшимся мнением было то, что хохол «крайне односторонен, исключительно предан земледелию, не знает ни ремесел, ни какого-либо другого мастерства, кроме пахоты»[196]. Напомним, что тезис о не расположенности украинцев к промышленному труду с энтузиазмом развивала национально-украинская историография во главе с М. М. Грушевским. По мнению его исторической школы, местный пролетариат является пришлым, инородным, т. е. русским; он, в отличие от крестьянства, не являлся носителем национальной идеи[197]. Не случайно деятельность национально-культурной организации «Просвита», открывшей отделения и на территории Екатеринославской губернии, ограничивалась преимущественно сельской местностью[198]. Об обособленности пролетариата на украинских просторах свидетельствуют и революционные события. Союз промышленных рабочих и местного крестьянства оказался крайне слабым, взаимоотношения между ними долго не налаживались и в советское время[199]. Данную проблему анализирует и западная историография, отмечая устойчивую невосприимчивость пролетариата, сложившегося в Украине, ко всему украинскому (языку, культуре и т. д.)[200].
Вывод о том, что фабрично-заводской класс в России формировался за счет ресурсов русской нации, требует пояснения. Даже в постсоветский период специалисты, многое сделавшие для изучения данной проблемы, по-прежнему квалифицировали дореволюционный рабочий класс как силу национально неоднородную (за исключением Польши и Финляндии)[201]. Если говорить о пролетариате вообще, это утверждение следует признать справедливым, и тогда разговор о представителях разных национальностей, задействованных в тех или иных производствах, приобретает обязательный характер. Однако нас (в отличие от советской науки), интересует не обобщенный образ рабочего класса, а его дифференциация по уровням производства: крупное индустриальное – и мелкое, среднее, по сути – ремесленное. Только такой подход позволяет увидеть, что крупная отечественная промышленность была «родным домом» именно для русского человека. Присутствие же в промышленной сфере представителей других народностей в дореволюционный период ограничивалось, главным образом, не индустриальными отраслями; собственно, это следует и из работ советских ученых. Например, рабочие-украинцы охотно трудились в сахарной отрасли: на рафинадных заводах уже около 78 % трудящихся составляли коренные местные жители; этот показатель характерен и для второй половины XIX столетия, и для начала XX[202]. Чувашские «пролетарии» с большим трудом втягивались не то что в индустрию, а вообще в какое-либо производство: на крупнейшем предприятии Чувашии, базовых для Казанской железной дороги ремонтных мастерских, преобладали опять-таки русские[203]. В Карелии, на Петрозаводских индустриальных предприятиях численность карелов составляла лишь 5 %, тогда как на лесопилках, в большом количестве разбросанных по краю, их было уже свыше 40–50 %[204]. В Белоруссии до революции за счет коренного населения комплектовались кожевенная, спичечная, пищевая, винокуренная отрасли (около 70 %). Крупной фабрично-заводской промышленности там не было, а расположенная по соседству, в Петербурге и на Украине, индустрия белорусов не привлекала[205]. В Башкирии, напротив, существовала развитая горно-металлургическая промышленность; Златоустовский, Катавский, Юрюзанский заводы имели общероссийское значение. Однако, основные кадры предприятий (до 80 %) составляли русские, башкир же насчитывалось всего около 14 %, татар – 5,5 %, причем трудились они преимущественно на вспомогательных работах, таких как заготовка дров, перевозка грузов и т. д.[206]. На Бакинских нефтяных промыслах к концу XIX – началу XX века национальный состав рабочих был таким: 55 % – русские; 35 % – азербайджанцы; 8,5 % – армяне; 1,5 % – другие. И это при том, что закавказские народности, выросшие в буквальном смысле слова на нефти, имели больше навыков по ее добыче. Да и местные владельцы скважин стремились привлекать рабочих своей национальности. Тем не менее, русские и здесь преобладали, так как, поработав в других индустриальных центрах страны, они обладали более высокой технической квалификацией[207]. Иная ситуация наблюдалась лишь в Риге: местные – латышские – кадры были достаточно адаптированы к производству, и проблем с привлечением трудовых ресурсов в крупную индустрию здесь не возникало. Этот город по общему числу рабочих уступал только Москве и Петербургу; доля русских колебалась от 1/3 на большинстве предприятий до 2/3 на Кренгольмской мануфактуре, принадлежащей видному московскому купечеству[208].
А что можно сказать о конфессиональной принадлежности русских рабочих, ставших основным источником фабрично-заводского пролетариата в России? Разумеется, первым делом разговор должен идти о православии. Знакомство с материалами показывает, что рабочим, занятым в крупной индустрии, была присуща жгучая ненависть ко всему, что связано с официальной церковью. Согласимся, это с трудом вяжется с образом русского человека, глубоко почитающего православие, о чем заявляют представители РПЦ. Распространенность в рабочей среде антицерковных настроений можно оценить по ежегодным отчетам епархиальных епископов в Св. Синод. Прежде всего обратимся к материалам, поступавшим из промышленных губерний Центра. Например, из Костромской епархии сообщали:
«Разврат свил себе прочное гнездо между фабриками, фабричная атмосфера приносит величайшее зло, легкомысленное отношение к церковным установлениям, холодность к церкви, сочувствие к социализму».[209]
Местные благочинные считали, что ретивые агитаторы признают за духовенством немалую силу в ограждении народа от социалистических учений и потому стараются ослабить авторитет церкви. Для этого они заявляют о подчиненности ее государству, инициируют толки о богатстве и корыстолюбии духовенства, о союзе его с людьми знатными и богатыми с целью держать трудовое население в угнетении и нищете[210]. Особенно неблагоприятное отношение к церкви заметно в фабричных районах, население которых демонстрирует непочтительность к духовным особам, держит себя высокомерно, избегает священнического благословения[211].
Из отчетов Нижегородской епархии следовало, что крупные фабрики и заводы оказывают вредное влияние на жителей окрестных сел и деревень, разжигают увлечение социальными вопросами и «стремление разрешать их в духе того общественного порядка, который покоится на отрицании всякой сословности и всяких традиций»[212]. Антирелигиозная пропаганда в губернии:
«свила себе прочное гнездо в фабриках и заводах. Немало здесь уже лиц, которые не только смотрят на религию безразлично, но и распространяют взгляд о желательности упразднения церкви…».[213]
Сами же рабочие считали необходимым добиваться различных прав и преимуществ, пользуясь, в частности, такими мерами, как отказ от уплаты казенных сборов и податей, неподчинение назначенным правительственным чиновникам и т. д.[214] В отчетах из Владимирской епархии говорилось:
«фабрика – это зло, действующее развращающим образом на религиозно-нравственную жизнь православного населения».
А один из благочинных восклицал: «мы счастливы, что у нас нет фабрик, и потому религиозно-нравственное состояние нашей паствы не внушает серьезных опасений»[215]. Духовная администрация Тверской губернии отмечала упадок веры и благочестия у того контингента, который большую часть года проживал в Петербурге, Москве и других городах на отхожих промыслах. Эти рабочие люди, зараженные неверием и безбожием, полностью находятся во власти безнравственности[216]. В Ярославской губернии выражали надежду на то, что всплеск нравственных недугов, наблюдаемых в фабрично-заводских районах, нейтрализуется усилением пастырского рвения со стороны духовенства[217]. В Рязанской епархии фиксировали непочтительность к церкви и духовенству, идущую из фабричных поселков[218]. В отчетах в Синод предлагалось даже выделять священникам для жительства помещения менее подверженные поджогам и разрушениям, потому как уничтожение домов духовенства в прифабричных территориях в виде мщения пастырям за смелое противодействие врагам церкви не редкость[219]. В Калужской епархии прямо указывали: свободомыслие, порочные антицерковные привычки проникают в губернию с южных промышленных заводов, откуда их приносят массы отходников[220].
В других индустриальных регионах России наблюдались те же тенденции. Обстановка, царившая на фабриках и заводах Казанской епархии, характеризовалась как «пагубная и растлевающая»[221]. Особенно ее разлагающее влияние чувствовалось в селах, соприкасающихся с промышленными предприятиями. Упоминались все те же отхожие промыслы, которые накладывали «отпечаток разнузданности с хулиганским пошибом»[222]. Уходившие на заработки крестьяне прерывали связи с приходскими храмами и пропитывались духовной отравой. В промышленной Екатеринбургской епархии священники сообщали о непочтительном отношении к церкви со стороны заводского населения. Здесь не останавливались даже перед грабежами церковного имущества, «оставляя в стороне страх ответственности перед Богом за свои действия», не брезговали и пожертвованиями, дарами от верующих. Столь вопиющие факты красноречиво свидетельствовали об уровне религиозно-нравственного состояния уральского населения[223]. В отчетах из индустриальной Екатеринославской губернии проводилась четкая грань между фабрично-заводским и земледельческим населением. Местные украинские жители активно посещали церковные службы, слушали проповеди, соблюдали обряды. А среди рабочих заводов, шахт и рудников наоборот отмечалось полное безразличие к религии. Духовные власти губернии сообщали:
«С особой скорбью приходится отметить то влияние, которое оказывает пришлый элемент на коренное (т. е. украинское – авт.) население. Этот элемент производит деморализующее влияние на коренных жителей, заражая их и вредным учением, и индифферентизмом к православной церкви»[224].
Нередко на вопрос: «Бываете ли вы в церкви?» приходится слышать стереотипный ответ: «Мы приехали не Богу молиться, а зарабатывать». Над местным духовенством смеются и откровенно издеваются, при встрече демонстративно не желают поклониться и вообще стараются держать себя вызывающе[225]. Рабочие признают права только за собой, считая себя создателями человеческой истории и двигателями культуры. К священникам обращаются в случае крайней необходимости – по условиям гражданской жизни. Причем называют их, в лучшем случае, «товарищ», а нередко и «кровопийца-живодер»[226].
Религиозно-нравственное состояние фабрично-заводского пролетариата обращало на себя все больше внимания. Хотя епархиальное начальство промышленных губерний довольно поздно – лишь с середины 90-х годов XIX столетия, начало серьезно относиться к этой проблеме. Ведь существование пролетариата в России долгое время вообще отрицалось. В документах употребляли слова «крестьянство», «заводское население», «мастеровые». В литературе 1880-1890-х годов рабочий считался крестьянином, который к прокорму с земли прибавляет доход от посторонней работы на фабриках. Труд на предприятиях ставился в один ряд с кустарным промыслом. Такое отношение было вызвано желанием властей избежать обезземеливания, а значит и революционной борьбы, а также стремлением скорректировать вредные последствия капиталистического развития в общественном и нравственном смысле[227]. В качестве противоядия антирелигиозным настроениям пролетариата рассматривалась национально-православная риторика. Подобный опыт гармонизации отношений между трудом и капиталом был наработан в западных странах, ранее столкнувшихся с теми же проблемами. К их решению там активно подключались христианские церкви, пытавшиеся наладить взаимодействие разных экономических слоев на основе религиозных ценностей. В. К. Саблер (обер-прокурор Синода в 1911–1915 годах) собрал об этом обширный материал. Он посетил целый ряд предприятий в разных странах и сумел разглядеть, как два, казалось бы, враждебных фактора – капитал и труд – сливаются в одну творческую силу. Например, на фабрике в г. Реймсе (Франция) хозяин с семьей являли рабочим образец христианской жизни, заботились об условиях их существования, жили с ними общими интересами, все вопросы обсуждали совместно, вместе пели псалмы, штрафы назначали ничтожные, мастерам в обиду не давали и т. д. Благодаря чему сами хозяева тоже были окружены вниманием и заботой: на фабрике не возникало даже намека на конфликты[228]. Таких примеров на страницах книги собрано немало. Их изложение венчает главный вывод автора:
«Только совместная работа в христианском духе есть единственное спасительное средство, упрочивающее нравственное и материальное благополучие»[229].
Однако, для многих в России было очевидно: церковно-православный инструментарий не поможет в решении социальных проблем. Например, в Петербурге для нравственного увещевания заводских рабочих отрядили архимандрита Амвросия. В сопровождении двух монахов он разъезжал по питерским предприятиям с беседами о благе церкви. Однако слушать его собирались в основном только женщины и некоторые рабочие, а вскоре и они стали проявлять недовольство, за что некоторые даже подверглись аресту. В конце концов, на одной из фабрик в архимандрита «полетели рваные галоши и прелый картофель, после чего его поездки по заводам прекратились»[230]. Среди русских рабочих Юзовского завода в Донбасском регионе большой популярностью пользовалась листовка под названием «Поп и черт»[231]. На Сормовских заводах под Нижним Новгородом толпы рабочих через своих выборных требовали отмены установленного администрацией вычета одного процента из заработной платы на постройку и содержание местной церкви[232]. Угрозы всеобщей забастовки в случае сохранения церковных вычетов выдвигались в Сормове постоянно, о чем свидетельствуют воспоминания самих пролетариев[233].
Как констатировал профессор И. Х. Озеров, трудящиеся уходят от религии, поскольку современная церковь представляет собой не что иное, как капиталистическую организацию, «освящавшую неправду, стоящую на стороне капитала и сильных мира сего»[234]. В духовном смысле население оказывалось вне влияния церкви, которая «не умиряла враждующие интересы, не заступалась за притесняемого, слабого, а наоборот», церковное духовенство «присасывалось к более сильному, жило его милостями и щедротами, расточая молитвы за сильного, смотря снисходительно или даже поощряя грубые инстинкты, пороки сильных мира сего»[235].
Озеров считал необходимым наполнить господствующую церковь социальным духом и в качестве примера рекомендовал английский опыт по созданию так называемых церквей труда, где интересам трудящихся отводилось значительное место[236]. Аналогичные мысли высказывал и известный интеллектуал той поры В. Зеньковский: социальное движение в России развивается не только вне зависимости от официального православия, но и в прямой враждебности к нему. И если такое положение дел сохранится, то православие окажется совершенно лишним и русская культура не разовьет его начал[237]. Конечно, такие же оценки предлагала и советская наука, с энтузиазмом развивавшая тезис о падении престижа церкви, который был вызван снижением потребности у трудового народа в религии вообще. И тенденция эта явилась якобы закономерным следствием неутомимой и эффективной деятельности партии большевиков, развеивавшей религиозный дурман. Особенно большой отклик их пропаганда находила у могильщика старого мира – пролетариата, который быстрее других освобождался от оков прошлого…[238]
Если оценивать выводы, как дореволюционных оппонентов господствовавшей РПЦ, так и советских ученых, то нетрудно заметить их атеистическую устремленность. И те и другие, хотя и по разным причинам, уверенно фиксировали распространение атеизма в рабочей среде. Однако, выявленные источники никак не позволяют считать, что дореволюционный русский пролетариат в принципе отвергал религиозную мотивацию. Красноречивый пример – забастовочная волна, охватившая промышленный Центр России в 1897 году. Как следует из документов, ее главной причиной стало сокращение выходных за счет праздничных дней. Владельцы заводов и мануфактур объявили рабочими днями религиозные праздники: Введение во храм Пресвятой Богородицы, Сретение Господне, Воздвижение Креста, Св. Николая Чудотворца и др., что и вызвало бурю негодования[239]. В результате обстановка в Центрально-промышленном регионе, по свидетельству современников, накалилась как никогда[240]. Заметим, если бы рабочие были действительно проникнуты атеистическим духом, то подобная инициатива собственников не привела бы к массовым забастовкам, а тлеющая неприязнь к хозяевам выразилась по-иному.
Воспоминания самих рабочих дореволюционной поры также противоречат утверждениям об устойчивом пролетарском атеизме. Так, старый большевик Федор Самойлов – рабочий, член Государственной думы, писал, что заводские в самом деле крайне редко посещали церковные службы, подавляющее большинство отбывало их как необходимую повинность, однако «все считали себя религиозными»[241]. Один из рабочих Путиловского завода вспоминал, насколько заинтересовано в их среде обсуждались религиозные вопросы. В этих спорах, когда каждый защищал свою позицию, выделялись старообрядцы, доказывавшие, что их вера самая правильная. А неверующих безбожников (т. е. атеистов) на огромном заводе «было совсем немного, и они помалкивали, так как это вызывало стойкое неодобрение»[242]. На крупном московском предприятии Гужона (при советской власти завод «Серп и молот») в каждом цеху находилась большая икона, перед которой горела лампада. Приходя в цех, металлисты сначала крестились на образ и лишь затем приступали к работе[243]. Что касается Москвы в целом, то очень интересны заметки одного большевистского агитатора, проводившего антирелигиозные беседы по городским окраинам в клубах, столовых при фабриках и заводах. Его опыт демонстрировал, что «…попа не уважали ни в какой степени, но Бог стоял в их сознании (рабоче-крестьянской публики – авт.) с монументальной основательностью». Церковь же с готовностью осыпали насмешками[244]. Однако, в центральной части Москвы какая-либо пропаганда была крайне затруднена. Здесь уже собирались активные церковники, которые при любых нелицеприятных словах в адрес РПЦ устраивали истерики[245]. Схожая ситуация наблюдалась и на горных предприятиях, расположенных в Донецком бассейне. Так, в известном советском романе А. Авдеенко «Я люблю» о шахтерской жизни до революции упоминается, что в корпусах, где проживали рабочие, всегда имелись иконы, купленные вскладчину, в то же время, горняки редко наносили визиты в церковь[246]. Интересен один приведенный эпизод из местной жизни: после обвала на шахте, унесшего жизнь многих шахтеров, один из работников направился в церковь, где, не снимая картуза и не крестясь, решил приобрести свечи для поминания погибших товарищей. Когда же выяснилось, что свечей, предназначенных для продажи, недостаточно, то он потребовал снять нужное количество с подсвечников у икон[247]. Очевидно, такое отношение к храму РПЦ можно было ожидать со стороны откровенного безбожника. Но в данном случае речь шла не о проявлении атеизма, а о выражении религиозности явно не связанном с церковью, как таковой.
Подобные свидетельства хорошо состыкуются с приведенными выше оценками епархиального начальства, в которых архиереи РПЦ констатировали большую тревогу относительно религиозно-духовного состояния рабочего класса. Напрашивается вывод: православная идентификация русского пролетария реализовывалась вне господствующей церковной традиции. В этом нет ничего удивительного: антицерковные настроения неизменно присутствовали в русской народной среде со второй половины XVII столетия. Официальные власти старательно обходили эту тему, культивируя образ церковного православия как жизненной основы государства, души народной, присущей всем русским (за малым исключением). При этом игнорировалось, что значительная часть этого русского населения не воспринимает в качестве своей именно господствующую церковь. Публичные свидетельства об антицерковных проявлениях, тлевших в народных низах, резко осуждались духовным официозом. К примеру, даже известный сборник В. И. Даля «Пословицы русского народа» увидел свет после семи лет мытарств, так как синодальных чиновников сильно смущала та сторона крестьянского эпоса многих великорусских регионов, собранного Далем, который демонстрировал неприязненное отношение и насмешки над господствовавшей церковью[248]. «Зачем монахам рай, им и на земле не хуже», «Родись, крестись, женись, умирай – за все попу деньгу подавай», «Клопы – не попы: тело едят, а душе не вредят», «Денежная молитва – что острая бритва, все грехи сбреет» – вот некоторые примеры устного народно-крестьянского творчества[249]. Эти наблюдения подтверждают и воспоминания рабочих, которыми мы располагаем. В подавляющем большинстве случаев они повествуют об антицерковной атмосфере, царившей в крестьянских семьях, где они родились и росли. Так, один работник московской «Трехгорной мануфактуры» говорил, что, следуя примеру отца, за долгие годы посетил церковь всего лишь раз по необходимости – когда скончался его родитель[250]. Другой рабочий этой фабрики вспоминал, что его отец – не будучи атеистом – всегда был резко настроен против начальства и попов (служителей РПЦ он называл «дармоедами»)[251]. Рабочий московского завода Гужона рассказывал, что его родители были набожны, но при этом его мать, встречая на улице попа, считала это дурным предзнаменованием[252]. Иваново-вознесенский пролетарий Н. Махов делился детскими впечатлениями: «родственники старались избегать визитов в церковь, а отец постоянно материл священников и «все время, как я помню отца, говорил: у попа рука дурная»[253].
Более того, иногда у народных мемуаристов проскальзывают детали, указывающие на принадлежность к старообрядчеству. Один рабочий из Бронницкого уезда Московской губернии вспоминал о постоянных посещениях жителей его села некой часовни, где отсутствовал алтарь, никогда не появлялся поп, а службу вел какой-то местный мужик[254]. Совершенно очевидно, перед нами описание типичной беспоповской молельни. Воспоминания работника завода Гужона начинаются с того, что его семья – старообрядческая. Когда в пасхальную седмицу в дом заглядывал поп, отец встречал его такими ругательствами, что «я думал поп взбесится: однако ничего с ним не случилось, очевидно, он привык к мужицким речам и на них не реагировал»[255]. Для нас важна здесь еще одна деталь – религиозность этой семьи, указанной как староверческая, ничем не отличалась от окружающих, то есть речь идет не о единичном случае или исключении из правила, а непосредственно о старообрядческой среде[256].
Повторим: русский пролетариат был носителем той самой внецерковной, в широком смысле, традиции, которую с энтузиазмом воспевала культура Серебряного века. Однако, религиозно-философские интеллектуалы связывали самые радужные свои надежды исключительно с сектантскими течениями. В этой связи закономерен вопрос: «В какой степени русский рабочий класс – носитель внецерковной традиции – находился под влиянием различных сект?» Ответ отчасти был дан в предыдущей главе. Фабрично-заводские рабочие по преимуществу были подвержены черносотенным настроениям. А черносотенство выступало своего рода антиподом сектантства, рекламируемого интеллигенцией Серебряного века. Отрадно, что в постсоветский период черносотенная окраска рабочего класса постепенно начала проясняться[257]. Сошлемся на источники. На Путиловском заводе «черная сотня» была весьма популярна, тогда как счет большевиков-рабочих на предприятии шел на единицы[258]. Черносотенцы частенько спорили с монархистами, однако правые никогда не выдавали администрации своих оппонентов[259]. На уральском Сосьвинском заводе демонстрации черносотенцев и социал-демократов шли одна за другой: «впереди монархисты, а сзади революционеры, каждый пел свое»[260]. На Брянском заводе в Екатеринославской губернии многие работники состояли в Союзе русского народа, их влияние чувствовалось в каждом цехе[261]. Черносотенного пролетария отличало резко негативное восприятие других национальностей. Так, на заводах и рудниках Донецкого бассейна рабочие то и дело пытались учинить насилие над еврейским населением региона[262]. Постоянные стычки происходили там и с бельгийскими рабочими, привезенными в Россию иностранным инженерным персоналом[263]. В Петербурге на промышленных предприятиях трудились финны, эстонцы, латыши: они также становились объектом ненависти русских рабочих, объединявших их под одним названием – «немцы»[264]. Так же относились русские рабочие и к полякам. Словечки «жид», «польская морда», «чухонская обезьяна» в их адрес были обиходными[265]. На уральском Надеждинском горно-металлургическом заводе, куда привлекались китайские рабочие, нередко доходило до вспышек национальной вражды[266].
Центром черносотенцев стала промышленная Москва. Движение получило название «зубатовщина» – по имени начальника Московского охранного отделения С. В. Зубатова. Уже 19 февраля 1902 года, в годовщину освобождения от крепостного права, в городе состоялась грандиозная (сорокатысячная) манифестация рабочих с торжественным возложением венков к памятнику Александру II[267]. Кстати, один из лидеров черносотенного движения, ткач Н. Т. Красивский, пользовался необычайной популярностью в пролетарской среде, поскольку его считали незаконнорожденным сыном императора-освободителя[268]. На многочисленных зубатовских собраниях, проходивших в начале 1900-х годов, присутствовало от ста до тысячи человек, при том, что социал-демократические мероприятия собирали лишь по 10–20 рабочих[269]. Горячие споры «зубатовцев» и революционеров шли в чайных на Рогожских окраинах[270], причем вторые нередко проигрывали. О серьезных проблемах социал-демократического движения в Москве откровенно говорилось на II съезде РСДРП:
«Несомненно, самой главной причиной является зубатовщина. Здесь вполне оправдываются слова «Искры», что полицейский разврат нам страшнее полицейского насилия»[271].
С 1904 года (с отставкой Зубатова) центр черносотенного движения перемещается в Петербург. Здесь появляются рабочие организации, создаваемые священником Гапоном, приобретшим всероссийскую известность после трагических событий 9 января 1905 года.
Очевидно, что в черносотенной атмосфере не то что расцвет, но и вообще какие-либо сектантские искания были невозможны. Внецерковная традиция держалась здесь на другом корне – на старообрядческом беспоповстве. Но приходится констатировать, что значение данного обстоятельства до сих пор не получило должной оценки. По-прежнему мешает официальная статистика, которая на протяжении десятилетий утверждала, что доля староверов в Российской империи не превышала 2 %. Неудивительно, что антицерковность рабочего класса порождала поистине искреннее недоумение, ведь по документам практически весь народ находился в лоне господствующей церкви. Объяснения были разные: падение нравов, слабое пастырское руководительство, тлетворное влияние революционеров и тому подобное. И практически никто не говорил о том, что неприязнь к РПЦ воспитана в той, значительной, части русского народа, которая не приняла и оставалась равнодушной к никоновским новинам.
Эту неприязнь в концентрированном виде и проявила фабрично-заводская реальность. Безусловно, от сектантской эта реальность была далека, особенно если иметь в виду индустриальные центры страны. Сектанты сосредотачивались по преимуществу на земледельческом юге, черноземных регионах России. Например, в Курской губернии угрозу православной церкви местный епископ видел не в расколе, а в разных сектах, заметно усиливающих свое влияние[272]. В еще большей степени это относится к Кавказу, к Украине. Но, чем ближе к центру, северу или востоку, тем больше сектантство уступало старообрядчеству[273]. Например, в Вятской губернии в 1899 году сведений о сектах, за их неимением, не собрали, а к 1906 году отыскали аж 62 адепта обоего пола[274]. Архиереи информировали Синод, что в местах поселений старообрядцев ощущается их негативное влияние на паству господствующей церкви. В Олонецкой епархии последние проявляют откровенную враждебность к священнослужителям, считая РПЦ еретической и «понося ее таинства разными хулами»[275]. В Костромской губернии приходы, частично зараженные расколом, превращаются в рассадник всевозможных пороков. Причем наиболее враждебно настроены именно беспоповцы, особенно упорствующие в своих заблуждениях[276]. Практически во всех Владимирских волостях просматривается влияние старообрядчества, и это сказывается на нравственном состоянии жителей[277]. В Пермской епархии народ сохраняет привычку к домашним молениям «под руководством какого-либо своего грамотея»[278]. И вообще, в Уральском крае мощная староверческая прослойка пользуется в народных низах большим авторитетом[279]. При просмотре отчетов складывается впечатление, что служители церкви видят два независимых друг от друга источника беспокойства: заводы и поселения, где имелись официально зарегистрированные староверы. Например, в отчете Екатеринославской епархии подчеркивалось, что работники заводов и рудников, большая часть которых – пришлые из русских деревень промышленного центра России – крайне далеки от церкви[280]. Однако, связать это обстоятельство с их принадлежностью к старообрядческой общности ни церковным деятелям, ни противникам РПЦ в голову не приходило, поскольку официально они числились обычными православными. А те, в свою очередь, никаких заявлений о своей подлинной религиозной принадлежности не делали, и делать не собирались. Поэтому осмысление данной проблемы и не шло далее стандартных заключений: типа заводы и фабрики разрушают православный быт[281], или крупная промышленность – это «лаборатория, в которой вырабатывается социализм»[282].
Здесь настало время сделать одно разъяснение. Использование термина старообрядчество в контексте нашего исследования не совсем правомерно. Важно уточнить, какое старообрядчество имеется в виду – поповцы или беспоповцы. (В этом различении как раз и состояло одно из достижений Серебряного века). Две эти староверческие ветви, давно оформившиеся в недрах раскола, к концу XIX – началу XX столетия обслуживали (в социальном смысле) совершенно разные идейные направления. Старообрядческая поповская церковь подчеркивала древность своих обрядов, но, по сути, мало отличалась от господствовавшей РПЦ. Напомним, поповское согласие можно характеризовать как своего рода «олихаргическое»: к нему принадлежали, или вышли из него более 90 % купеческих миллионеров и крупных предпринимателей. Такая церковная организация, созданная в середине XIX века и существовавшая на деньги богатых, не могла одобрять ничего, что хоть в какой-то степени угрожало крупной частной собственности, и также как РПЦ провозглашала ее безусловную «святость» и «благость». Хотя в количественном отношении поповцы составляли менее 10 % от всего староверческого мира, они уверенно претендовали на роль главного выразителя чаяний всего староверия. Обладая полноценной инфраструктурой и тягой к публичности, поповская церковь представляла собой видимую вершину огромного староверческого айсберга, остальные 90 % которого составляли различные беспоповцы, в подавляющем большинстве по официальной статистике значившиеся обычными православными. Многочисленные беспоповские толки не испытывали потребности в регистрационных процедурах, публичности культа и поэтому как бы растворялись среди крестьян, рабочих, мелких торговцев, якобы составлявших пусть и невнятную, но синодальную паству. Именно в этой среде «жили» не частнособственнические, а солидарные, коллективистские принципы, которые представлялись беспоповцам оптимальными для противостояния чуждому им никонианскому государству[283]. Согласно этим воззрениям, легитимировать собственность может только труд. И поэтому, в отличие от капиталистически настроенной верхушки поповцев, беспоповцы считали, что заводы и фабрики, создававшиеся руками нескольких поколений их единоверцев, принадлежат им, а никак не владельцам[284]. Разумеется, подобное осознание антисобственнических устремлений русского рабочего, базирующееся на религиозном менталитете, выглядит необычно. В советскую эпоху о специфике промышленного труда рассуждали в традиционном марксистском стиле типа: крестьянин за вычетом податей становился владельцем продуктов труда, а потому понятие собственности являлось для него не пустым звуком, в фабрично-заводском же производстве подобная мотивация отсутствовала. По этой причине народная традиция трудолюбия у пролетариата претерпевала глубокие изменения, очищалась от частнособственнических позывов, ее идейное содержание поднималось на более высокий уровень[285]. О том, что эти антисобственнические представления – продукт определенного религиозного мировоззрения, в советский период, естественно, никогда не рассматривалось всерьез.
Необходимо подчеркнуть и еще одно обстоятельство: когда сегодня говорят об участии староверов в индустриальном строительстве России, то обычно имеют в виду исключительно купечество поповского согласия. А пролетарские низы формировались главным образом из беспоповцев; из них к концу XIX века на 80 % состояли старообрядческие фабрично-заводские кадры, именно они, миллионы простых старообрядцев-беспоповцев, обеспечивали промышленный подъем страны. Трудились они не только на активах, оказавшихся в собственности купеческих «благодетелей», но и на производствах, создаваемых казной или учреждаемых иностранным капиталом. Возникавшие фабрики и заводы вбирали потоки староверов из Центра, с Поволжья и Урала, из северных районов. Каналы согласий (землячества), выступавшие в роли своеобразных «кадровых служб», позволяли староверам свободно ориентироваться в промышленном мире, перемещаясь с предприятия на предприятие.
Можно сказать, что рабочие-староверы не в меньшей степени олицетворяли тот дух протестантской этики, о котором сегодня любят рассуждать, говоря о купцах, вышедших из раскола. Более того, в начале XX века российский рабочий класс, числясь православным, в большей мере, чем купечество, придерживался старообрядческих беспоповских традиций. К этому времени многие купцы, пытаясь встроиться в российские элиты, утрачивали или минимизировали связи с древним благочестием. Для них объединяющим началом выступала экономическая прагматика. Рабочим же такие перемены не требовались: помимо заводов и фабрик, встраиваться им было просто некуда. Сегодня как в западной, так и в отечественной историографии утвердилось мнение, что своего рода протестантский проект, носителем которого являлось купечество, остался в России нереализованным. Староверие не стало светским христианством, как в западных протестантских странах, не трансформировалось в этику и социальную практику[286]. Это справедливо, но только в том случае, если речь идет о купцах-поповцах (любимцах современных историков) и близких к ним предпринимателях; всех их устранила революция. Если же обратить взгляд на огромные беспоповские массы и их генезис в новой исторической реальности, после 1917 года, то идея о судьбе протестантского проекта в России (только не вокруг частной, а вокруг общественной собственности) предельно актуализируется. Иными словами именно беспоповщина, а не купеческие миллионеры, стала «спусковым крючком» внецерковной традиции русского народа. На этом корне, как в экономическом, так и в идеологическом плане, выросло новое государство. Бродившие в низах староверческие представления об устройстве жизни, после свершения революции, вышли на поверхность, обретя статус государственных. О том, как это происходило, и рассказывает данная книга.
Глава 3. Бунт выходцев из староверия в РКП(б) (1920 – 1922 гг.)
Аормирование большевистской партии неизменно привлекает внимание исторической науки. Советскими историками партийное строительство изображалось как победоносное низвержение всех, кто по тем или иным причинам противился ленинским предписаниям. На этой логике построен монументальный «Краткий курс истории ВКП(б)». Рабочее движение с одной стороны, и марксистские кружки, привившие русскому пролетариату правильное социалистическое сознание, с другой. На этих идеологических и социальных опорах креп в дореволюционный период большевизм, бросивший вызов буржуазному миру.
На самом деле процесс создания партии был полон внутренних противоречий и имел не много общего с идиллией «Краткого курса». Расклад сил в то время определяли два центра, сложившиеся к 1905 году – ко времени проведения III съезда РСДРП(б). В первый центр входили представители революционной интеллигенции, литераторы, большую часть времени проводившие в Европе, т. е. в эмиграции. Напомним, именно эта публика преобладала на II съезде, заседавшем в Брюсселе-Лондоне в 1903 году. Подкованная в вопросах теории, с Россией она была связана «весьма слабыми узами»[287]. В то же время в партии все громче заявляли о себе руководители комитетов, нелегально возникавших в различных российских регионах. Их появление на III съезде существенно преобразило внутрипартийный ландшафт. Эти практики в отличие от интеллигентов-эмигрантов непосредственно взаимодействовали с пролетарской средой, и отсюда проистекало сознание их собственной значимости в революционном движении. Как вспоминала Н. К. Крупская:
«комитетчик был обычно человеком довольно самоуверенным… никакого внутрипартийного демократизма не признавал: провалы одни от этого демократизма только получаются, с движением и так мы связаны. Комитетчик всегда внутренне презирал заграницу, которая-де с жиру бесится и склоки устраивает: посадить бы их в русские условия».[288]
Руководители комитетов, страстно желавшие «обуздания» заграницы, заявляли, что «во главе оппозиции при расколах всегда стояли интеллигенты»[289]. Заметим, что наличие в партии двух этих центров стало своего рода отправной точкой для зарубежных историографов. Они подробно прослеживали различия между их представителями: по партстажу, образованию, национальности. В частности, среди группы интеллигентов преобладали лица неславянского происхождения – 70 %, тогда как в составе комитетчиков этот показатель не превышал 45 %, да и образовательный их уровень оказался несравненно ниже[290]. Как считают западные ученые, эти различия обусловили в партии глубокие расхождения, в 1920-х годах переросшие в открытый политический раскол[291].
На III съезде схватка между этими силами развернулась по рабочему вопросу, точнее, по вопросу привлечения рабочих в партийные ряды. Эта проблема была действительно крайне актуальной, поскольку в партии, во всеуслышание объявленной пролетарской, присутствие самих рабочих было редкостью. На съездах, которые проходили в Европе, среди делегатов не бывало ни одного сколько-нибудь заметного пролетария[292]. Такая же ситуация наблюдалась и в местных организациях РСДРП(б). Даже когда в апреле 1905 года арестовали часть активистов петербургского партийного комитета, среди задержанных оказалось 29 студентов (или бывших студентов), восемь мещан, одна дочь священника, одна – действительного статского советника, и только шестеро были из крестьянского сословия, т. е. рабочие[293]. Недостаточную вовлеченность пролетариев на партийную орбиту руководители комитетов объясняли слабой идейной подготовленностью рабочих, что затрудняло их использование в пропагандистской деятельности. Они призывали не переоценивать психологию русского пролетариата, «как будто рабочие сами по себе могут быть сознательными социал-демократами»[294]. В результате, как справедливо заметила Н. К. Крупская, «токи, по которым шла партийная работа, и самодеятельность рабочих, как-то не смыкались»[295]. Такая ситуация вызывала крайнюю обеспокоенность В. И. Ленина, который наотрез отказывался воспринимать жалобы на отсутствие годных пролетариев для работы на местах[296]. На III съезде вождь решительно потребовал наладить взаимодействие с трудовыми массами. Он утверждал: если в комитеты не вводили рабочих, то только по одной причине – «не умели выбрать подходящих людей», а это в первую очередь «есть не только педагогическая, но и политическая задача»[297]. Ленин предложил переорганизовать значительное число местных организаций, пополнив их состав в таком соотношении: на двух интеллигентов восемь рабочих[298]. Чтобы это осуществить, следовало не слишком завышать критерии отбора рабочих представителей. Ведь интеллигенты считались достаточно подготовленными даже после беглого знакомства с «Эрфуртской программой» и прочтения нескольких номеров «Искры»; рабочие же обладают подлинным классовым инстинктом, а потому и при небольших политических навыках «довольно скоро делаются выдержанными социал– демократами»[299].
Дискуссия, имевшая место на III съезде и, в первую очередь, революционное обострение конца 1905 года сделали свое дело: в партийные ряды влились рабочие элементы. В 1907 году на V лондонском съезде (самом крупном за дореволюционный период) уже присутствовал целый ряд революционеров пролетарского происхождения, прибывших из России. Теперь партия в какой-то степени могла оправдать свое название – рабочая. Конечно новоиспеченные большевики не могли претендовать на сколько-нибудь значимые посты в партийных структурах. В силу низкого образовательного уровня они не принимали заметного участия в дебатах о путях развертывания революции, в которые с головой окунались лидеры и их приближенные. На это в ходе съезда указывал меньшевик П. Б. Аксельрод, пропагандировавший проведение рабочего съезда. Принятых в партию пролетариев он называл
«чем-то вроде сословия плебеев, между тем как интеллигенция играет роль аристократии, сословия патрициев, опекающего плебейские низы от всяких тлетворных влияний извне».[300]
Эта оценка представляется вполне справедливой; в дальнейшем пути «большевистской массовки» не часто пересекались с партийным истеблишментом, представители которого подолгу проживали заграницей и вращались в кругах европейских социалистов. Рабочие-партийцы редко покидали пределы России, действуя в составе местных организаций и принимая на себя груз и опасности нелегальной работы. И, разумеется, в конфликте внутри РСДРП между интеллигентами-эмигрантами и руководителями-комитетчиками они оказывались на стороне последних. Да и в целом впечатление от социал-демократических эмигрантских кругов складывалось не самое лучшее. Как метко заметил познакомившийся с ними Гапон, все они напоминают «насвистанных снегирей, обуянных духом гордыни»[301]. Жизненные предпочтения революционеров-интеллигентов, преимущественно неславянского происхождения, слабо соотносились с менталитетом и опытом русских рабочих.
Как следует из предыдущей главы, исследовательская новация данной работы состоит во взгляде на русского рабочего прежде всего как на продукт старообрядческой, преимущественно беспоповской, общности. Согласно этому подходу, большевистская партия, объявившая себя истинным выразителем пролетарских интересов по сути распахивала объятья рабочему не столько в классическом марксистском понимании, сколько сформировавшемуся в конкретной религиозно-мировоззренческой среде. Безусловно, вхождение в социал-демократическое движение не предполагало какой– либо конфессиональной идентификации; более того, обязательными были сугубо атеистические мотивы. Однако также верно и другое: в ту пору атеистами не рождались, а значит, представители народа несли в себе черты тех религиозно-психологических архетипов, которые закладывались на этапе личностного формирования и в дальнейшем определяли специфику отечественного рабочего. Как подметил лидер II Интернационала Карл Каутский, значительной части русского пролетариата свойственна некая особая воодушевленность или, иначе говоря, революционная романтика. Рабочий в России, «с восторгом воспринимавший революционное мышление, ибо оно лишь ярче и отчетливее выражало то, что он сам смутно чувствовал и предугадывал»[302], пребывал в ожидании грядущей справедливой жизни. Это заметно отличало его от американского и вообще западного пролетариата, который руководствовался исключительно прагматикой и духом здравой политики, занимался лишь ближайшим и достижимым, не грезя о светлом будущем[303].
Каутским хорошо схвачена внешняя сторона религиозного архетипа, настроенного на ожидание неминуемого царства справедливости или, иначе, «царства божьего на земле». Эта идея давно бродила среди староверов-беспоповцев, которые не связывали жизненных перспектив с соответствующими буржуазными ценностями. Неудивительно, что кое-кто из них постепенно начал интересоваться взглядами большевиков, ратовавших за решительное разрушение старого мира. Здесь нужно учитывать одно важное обстоятельство: в организационном смысле беспоповские толки представляли собой весьма аморфную среду. При этом отношения между ними на религиозной почве были довольно враждебными, так как каждый считал свое согласие истинным, другие же – неполноценными; общей для всех являлась лишь ненависть к никонианскому государству и господствовавшей церкви. Однако этот пестрый беспоповский ландшафт постепенно обретал идейно-организационную платформу, где стали возможными объединительные тенденции. Такой внешней платформой и выступила большевистская партия.
Вообще в дореволюционные годы в большевистской партии преобладали представители национальных меньшинств, которых свела вместе ненависть к царской России. Об этом свидетельствуют материалы 41–42 томов Энциклопедического словаря Гранат, составленных в 1925–1926 годах. В них содержатся сведения о 245-ти большевистских лидерах и активистах с дореволюционным стажем. Из них более 2/3 относятся к представителям различных национальностей, находившихся ранее под скипетром Российской империи. При этом из числа партийцев русского происхождения (из оставшихся 30 %) лишь половина (15 %) – рабоче-крестьянского происхождения[304]. Иными словами, кадров староверческого происхождения в большевистских рядах той поры насчитывалось совсем немного. Больше они присутствовали в лице так называемых «купчиков» – детей среднего и мелкого, главным образом провинциального, купечества. Ряд отпрысков из этого сословия активно влились в жизнь местных организаций РСДРП.
Например, известный Андрей Бубнов, большевик с 1903 года, ввиду неблагонадежности отчисленный с четвертого курса Московского сельскохозяйственного института (ныне Тимирязевская академия), арестовывался в общей сложности 13 раз[305]. Бубнов происходил из крепкой купеческой семьи: его отец управлял текстильной фабрикой своего дяди в Иваново-Вознесенске, а затем заведовал управой в Городской думе при главе П. Н. Дербеневе, будучи правой рукой этого текстильного магната края[306]. Однако сын не пошел по стопам отца, выбрав карьеру агента ЦК РСДРП по Центральному промышленному району[307].
Купеческий отпрыск Виктор Тихомирнов был активным работником нелегального Казанского комитета. Именно он втянул в партийные ряды сына мелкого купчика из Вятки В. М. Молотова, добравшегося после революции до большевистского Олимпа[308]. Кстати, В. Тихомирнов сыграл большую роль в создании газеты «Правда». В 1911 году, после очередного ареста и двухлетней ссылки, он посетил заграницей Ленина и передал наследство своего отца на издание партийного органа. В редакцию от Тихомирнова вошел его друг Молотов, а со стороны ЦК – И. В. Сталин[309]. Так состоялось их столь много обещавшее знакомство. Сам Тихомирнов после революции стал членом Наркомата внутренних дел, но его карьеру в 1919 году прервала смерть от тифа[310].
Рабочие, как отмечалось выше, начали вступать в партию с 1905 года. Большинство из них были выходцами из староверческой (преимущественно пролетарской) среды – как, например, знаменитый Михаил Калинин, уроженец села Верхняя Троица Тверской губернии (район Кимры – известное старообрядческое место). Из воспоминаний его родной сестры видно, что их семья всегда старалась держаться подальше от господствующей церкви. Местный поп укорял отца будущего «президента» советского государства за то, что тот под разными предлогами годами уклоняется от посещения храма[311]. Сам Калинин, будучи токарем на Путиловском заводе, вместе с другими рабочими отверг предложение администрации вносить один процент заработка на строительство церкви на территории предприятия[312]. После революции, уже находясь на посту председателя ВЦИК, Калинин неизменно демонстрировал расположение к своему прошлому. Так, писателю Ф. Гладкову (тех же конфессиональных корней) он советовал написать книгу о юности, о староверах – «непримиримых бунтарях», которые «упорно боролись с попами и полицией»[313]. Художнику Н. Денисовскому рассказывал, как в молодости подолгу простаивал у картины Сурикова «Боярыня Морозова», «заряжаясь» протестным духом[314]. В ходе поездок на родину Калинин наставлял своих земляков бережно хранить память о Михаиле Тверском, сложившем голову за родную Русь в борьбе против татар; выступал за розыски иконы этого князя предположительно кисти Андрея Рублева[315]. Согласимся: эти сведения диссонируют с интеллигентским интернационализмом ленинской гвардии большевиков.
Вспомним и еще одного слесаря, трудившегося на различных украинских заводах – Климента Ворошилова. Будущий известный деятель партии родился на берегу реки Северный Донец, однако украинцем он не был и таковым себя никогда не считал. Из мемуаров Ворошилова следует, что в эти места еще при Петре I после неудачного бунта против царских властей была отселена часть стрельцов с семьями. А как хорошо известно, именно эти круги придерживались старой веры и неоднократно выступали против никоновских реформ. Ворошилов с восхищением пишет о тех бунтарях, головы которых… «торчали на крепостных стенах в разных местах Москвы»[316]. Их потомки, принадлежность к которым он ясно чувствовал, бережно хранили русскую культуру, уклад жизни и традиции, разговаривали только на родном языке, а «женщины – прямо царевны из русских сказок»[317]. С коренным украинским населением эти выходцы из России так никогда и не смешались. С особой гордостью пишет Ворошилов о восстании Кондратия Булавина:
«Этот народный герой рос и набирался сил и стал ярым защитником бедноты на той же самой земле, где протекало и мое детство».
Рассказывает он и о руководителях восстания, сведения о которых сохранились до наших дней. И действительно, среди перечисленных им фамилий в подавляющем большинстве значатся русские[318]. Русские поселения находились на малопригодном для земледелия участке (потому здесь и не было украинских сел). Прокормить эта почва не могла, и многие жители подавались за заработком на предприятия Донбасского региона. Там и начался революционный путь одного из будущих руководителей большевистской партии.
Известный деятель революционного движения Виктор Ногин также вышел из староверческой общности. Его отец в течение 25 лет проработал на мануфактуре Викулы Морозова; он любил рассказывать об этой купеческой династии, которую, как старовер, неплохо знал. Виктора подростком пристроили красильщиком на текстильную фабрику Арсения Морозова в Богородске, а затем юноша перебрался на такое же предприятие в Петербург. В социал-демократическом движении он начинал агентом «Искры». После революции стал одним из руководителей Высшего совета народного хозяйства, заведовал текстильной отраслью страны, причем принял на работу сына своего бывшего хозяина (Арсения Морозова) Сергея[319].
Еще один представитель староверческой среды – Николай Шверник. На самом деле его фамилия Шверников: у отца обнаружилась путаница в метрических данных, отразившаяся затем и в документах. Подобные недочеты характерны прежде всего для старообрядцев, не желавших своевременно регистрировать метрические записи в гражданской и духовной администрации (с этим мы столкнемся еще не раз). Отец будущего видного большевика работал на питерских фабриках, мать Глафира Шершинина была ткачихой[320]. Сам Николай Шверник с 1902 по 1910 год трудился токарем на петербургском электротехническом заводе Дюфлона. Рабочий контингент этого предприятия состоял из таких же русских, как Шверник, и эстонцев, адаптированных к промышленному производству. Любопытно, что многих русских рабочих звали по кличкам, потому как фамилии их оставались неизвестными. Этих пролетариев уважали, обращались к ним за советом по всяким житейским вопросам. Один из них, Павел Нилович по прозвищу Вычитал (так как выделялся начитанностью), и стал наставником юного Шверника, приобщив его к социал-демократическому движению[321]. После революции Шверник руководил советскими профсоюзами, а после смерти Калинина стал председателем Верховного совета СССР.
М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов, В. П. Ногин, Н. М. Шверник – известные фигуры в большевистских кругах; о других рабочих-партийцах староверческого происхождения мы сегодня знаем немного. Однако известно, что, будучи в рядах социал-демократии, они становились притягательной силой для вновь поступавших на заводы и фабрики. Например, один из будущих руководителей партии Андрей Андреев родился в деревне под Смоленском, не в староверческой среде. Но оказавшись двенадцатилетним подростком в староверческом Рогожско-Симоновском районе Москвы на заводе «Динамо», он сразу попал под влияние рабочих-большевиков с простыми русскими фамилиями: Шеблыгин, Белкин, Стернин и др. В 1914 году благодаря их же связям (они снабдили его адресами) он переехал в Петербург, поступив на Путиловский завод. А. А. Андреев высказывал огромную признательность этим людям, благодаря которым прошел большую жизненную школу и получил необходимую революционную закалку[322]. Как видно, его личностное становление прошло в соответствующем формате, что ярко проявилось уже в советский период.
Все дореволюционные годы эти рабочие кадры оставались на партийной периферии. После победы Октябрьской революции партия, частью пребывавшая в эмиграции, а частью – на полуподпольном положении, превратилась в правящую. Это обстоятельство изменило многое, однако реальный внутрипартийный вес тех, кто ранее составлял рабочую массовку, возрос незначительно. Из рабочих один лишь А. Г. Шляпников в первом большевистском правительстве ненадолго получил пост министра труда, но вскоре его сменил В. В. Шмит (немец по национальности). Все более или менее значимые государственные должности были распределены между интеллигентами и комитетчиками, наиболее приспособленными, как считалось, к руководящей работе. В результате противоречия между ними и пролетарскими элементами, всегда тлевшие в глубине, начали выходить наружу. В новых условиях партийцы дореволюционного рабочего призыва не стали довольствоваться ролью статистов и предъявили претензии на кардинальный пересмотр своих позиций. Правда, в годы Гражданской войны коммунисты-рабочие еще не определяли содержание оппозиционных выпадов против партийно-государственного руководства. Известные в историографии оппозиции (военная 1919 года и демократического централизма 1920-го) вобрали в себя разноликие партийные силы. Самая значительная военная оппозиция была наиболее близка пролетарскому контингенту, на плечи которого легли основные тяготы войны. Она выступала за отстранение от командования Красной армией бывших царских офицеров, чье присутствие исчислялось уже десятками тысяч. По оценкам специалистов, из 200 тыс. царских генералов и офицеров около 30 % вошли в Красную армию[323]. Во многом благодаря их усилиям была проведена реорганизация разрозненных красных отрядов, превратившая полупартизанские соединения в регулярную армию под единым командованием. Это сразу позволило достигнуть заметных успехов и добиться устойчивости фронта, поэтому VIII съезд партии ставил дееспособность армии в прямую зависимость от количества привлеченных военных специалистов. Однако такое строительство вооруженных сил вызывало открытое раздражение в партийных рядах. Утверждалось, что все эти офицеры – те же белогвардейцы, что полным ходом идет восстановление старой армии. Все это было весьма созвучно антиинтеллигентским настроениям русского рабочего, которому бывший царский военспец казался крайне сомнительной фигурой. Правда, схожий настрой проявляли в партии и другие леворадикальные слои, поэтому выделить из этого хора голосов чисто пролетарские довольно трудно.
На политическую авансцену в качестве самостоятельной силы рабочие-коммунисты выходят сразу по завершении Гражданской войны, когда решалось, кто будет определять хозяйственную жизнь страны? Этот известный эпизод 1920–1922 годов связан с возникновением в партии «рабочей оппозиции» и «рабочей группы». Правда, нельзя сказать, что исследователи проявляли большой интерес к этим событиям, буквально потрясшим большевистские круги[324]. Они рассматриваются лишь в качестве очередной из так называемых малых оппозиций, существовавших до оформления в конце 1923 года троцкистского течения. По нашему же мнению, это далеко не проходное явление: ведь бунт в партийных рядах, повлекший за собой кризис верхов, был инициирован не какой-либо интеллигентской группировкой, а как раз теми, кто неизменно провозглашался главной опорой новой власти. Тем более, что «рабочая оппозиция» выросла из профсоюзов – массовой организации, на которую делала ставку немногочисленная партия. Не случайно, к разгону Учредительного собрания 5 января 1918 года приурочили открытие Первого съезда профсоюзов, где присутствовали многие большевистские лидеры. Этот факт должен символизировать, что лучшая часть России представлена именно здесь на съезде, а не на только что разогнанном Учредительном форуме. Центральное место в профсистеме принадлежало двум отраслевым организациям: металлистов и текстильщиков. В годы Гражданской войны в них числилась половина всех зарегистрированных членов движения, а другая была распылена между разрозненными мелкими союзами: пищевики, строители, швейники, печатники, торговые служащие и др[325].
Именно профдвижение, а точнее крупные индустриальные союзы, внесли решающий вклад в победу советской власти. Не будет преувеличением сказать, что победа в Гражданской войне во многом их прямая заслуга. Так, только за 1919 год силами ВЦСПС проведено три мобилизационных кампании: 10 %-ая апрельская, и по декрету в июле. Профсоюзы фактически выполняли функции «военного штаба»[326]. Направляемые ими на фронт рабочие кадры становились стержнем, вокруг которого выстраивались части Красной армии. В тоже время белогвардейские соединения старались не привлекать в свои ряды пролетарский элемент, считавшийся здесь крайне ненадежным[327]. Кроме того, на рабочие профсоюзы в военных условиях лег груз продовольственного снабжения городов и предприятий. Профсоюзы «сколачивали» так называемые продотряды, занимавшиеся, как известно, реквизицией хлеба. Весьма показательна география их формирования, судя по которой подавляющую часть этих подразделений дали промышленные регионы. Так, из действовавших 779 отрядов – 78 состояли из рабочих Москвы, 67 – Петрограда, 94 – из Московской губернии, 80 – из Владимирской, 61 – из Иваново– Вознесенской, 44 – из Пермской,41 – из Тверской, 32 – из Костромской, 32 – из Нижегородской, 25 – из Олонецкой, 22 – из Ярославской, 12 – из Архангельской др. Тогда как на долю Витебской губернии приходилось лишь 5 отрядов, Тамбовской -5, Астраханской – 5, Орловской – 4, Полтавской – 3, Брянской – 3, Гомельской – 1, Курской – 1 и т. д.[328] Если посмотреть на эти данные с конфессиональных позиций, то они зримо отражают противостояние северных (с сильным присутствием староверия) и южных регионов (с преобладанием никониан).
Ленин был весьма точен, когда говорил, «что профессиональные союзы не только ведомства, а источник, из которого берется вся наша власть»[329]. И вот теперь с этим источником возникли серьезные проблемы. Их и выразила «рабочая оппозиция», на которую следует взглянуть с неожиданной для историографии стороны. Выше было сказано о коммунистах– рабочих, как о выходцах преимущественно из старообрядческой среды. Это наблюдение подтверждает и знакомство с лидерами «рабочей оппозиции», начинавшими трудовой путь на российских промышленных предприятиях.
Начнем с упомянутого Александра Шляпникова. Он родился в семье потомственного горнорабочего в г. Муроме Владимирской губернии; его родители принадлежали к поморскому старообрядческому согласию[330]. После революции Шляпников затруднялся называть точную дату своего рождения (принято указывать 1885 год), объясняя это тем, что староверы избегали записывать своих детей в метрические книги. К тому же возраст подростков обычно завышали, чтобы облегчить им трудоустройство на производстве[331]. А. Г. Шляпников стал заметной фигурой в партии, в период Первой мировой войны возглавлял Русское бюро ЦК РСДРП (б), а затем недолгое время был министром труда.
Другим лидером оппозиции стал Сергей Медведев, уроженец Московской губернии, выходец из федосеевского согласия. По связям своих единоверцев в 13-летнем возрасте поступил на Обуховский завод в окрестностях Петербурга, участвовал в знаменитой «обуховской обороне» 1901 года, когда 150–200 федосеевцев в ходе забастовки оказали упорное сопротивление полиции, переросшее в массовые беспорядки. После революции С. П. Медведев входил в руководство ЦК союза металлистов, был делегатом ряда партийных съездов.
Еще одно заметное лицо в «рабочей оппозиции» – Ефим Игнатов из д. Латынино Тарусского уезда Калужской губернии. Эта местность входит в знаменитый куст, плотно заселенный старообрядцами и примыкающий к г. Боровску – месту заточения боярыни Морозовой, культовой фигуры староверия (ныне Тарусский район входит в Тульскую область). Е. Н. Игнатов – член РСДРП(б) с 1912 года, участник партийных съездов – имел большой вес в Московском совете и столичной парторганизации.
Александр Киселев родился в рабочей семье в старообрядческом селе близ г. Иваново-Вознесенка. Накануне завершения учебы Александра в церковно-приходской школе местный священник, оценив способности подростка, предложил направить его в духовную семинарию, однако отец решительно не допустил этого[332]. И с 14 лет Киселев начал трудиться слесарем на Куваевской мануфактуре; в 1914 году вступил в партию, выезжал за границу для встречи с Лениным, побывал в ссылке; после революции избирался главой профсоюза горнорабочих, был членом Президиума ВЦИКа, затем многолетним секретарем этого органа власти. Делегат ряда партийных съездов, начиная с шестого.
Пожалуй, наиболее скандальная фигура в этом ряду – Гаврила Мясников, родившийся в известном староверческом центре г. Чистополе Казанской губернии. В юном возрасте он начал трудиться на Мотовилихинском заводе на Урале, принадлежал к часовенному согласию. Одно время возглавлял Пермский губернский комитет партии, являлся членом ВЦИКа. Интересно, что в воспоминаниях Мясникова о заводских поселках, где протекала его юность, ничего не говорится о церквах, зато упоминается часовня на горе Вышка – как место сбора рабочих по различным поводам[333]. Напомним: Г. И. Мясников вместе с мотовилихинскими рабочими участвовал в расстреле вел. кн. Михаила Александровича – младшего брата Николая II, считая это актом возмездия за годы каторги и ссылок. Причем действовали они исключительно по своей инициативе, вопреки предписанию Ленина и Свердлова снять с царского родственника надзор и не считать его контрреволюционером. Весьма показательна на это реакция Мясникова:
«Ну, допустим, что Ленин может поддаться чуждому влиянию. Допустим, знаю я его мало, но Михалыч (Я. М. Свердлов – авт.)… ввинтить ему чуждые нашему пониманию задач мысли – это очень трудно»[334].
Вот какие люди возглавляли «рабочую оппозицию». Не удалось установить конфессиональное происхождение только одного ее видного представителя – Юрия Лутовинова из Луганска, трудившегося на предприятиях южного индустриального района. У него тоже богатая революционная биография: с арестами, ссылками, каторгой; после революции он входил в президиум ВЦИК и ВЦСПС. В 1924 году Лутовинов покончил жизнь самоубийством – по причине недостаточного революционного напора на остатки старого мира[335].
К лидерам «рабочей оппозиции» примыкала и довольно необычная персона – Александра Коллонтай. Ее привлек туда А. Г. Шляпников, который находился с ней более чем в дружеских отношениях. Прежде всего, именно по этой причине дворянка оказалась в компании коренных пролетариев. Прекрасно образованная, Коллонтай помогала им участвовать в развернувшейся дискуссии, готовила программные тексты.
Староверческие корни объединяют не только лидеров «рабочей оппозиции». Если посмотреть, где она пользовалась наиболее активной поддержкой, то следует назвать все основные индустриальные регионы страны с традиционно обширным присутствием староверов. Естественно, современные историки проходят мимо этого важного обстоятельства: они привычно перечисляют регионы Советской России, где получили распространение взгляды «рабочей оппозиции»[336], не обращая внимания на то, что эти промышленные центры были обильно заполнены русскими староверами. Прежде всего, речь идет о Москве. «Рабочая оппозиция» имела здесь сильное влияние, что в полной мере проявилось в ходе Московской губернской конференции РКП(б) в ноябре 1920 года. Фактически дело дошло до ее срыва: оппозиционно настроенные делегаты устроили отдельное заседание, и присутствующий на конференции В. И. Ленин был вынужден перемещаться из одного зала в другой, пытаясь погасить разгоревшиеся страсти[337]. Камнем преткновения стало нежелание Е. Н. Игнатова и его сторонников включать в список для избрания в МК РКП(б) ряд кандидатур из интеллигентов, так как те «не отвечают духу времени, не отвечают новым веяниям»[338]. (Кстати, автор этих воспоминаний, Т. Ф. Людвинская, с 1911 года находилась в партийной эмиграции и как раз числилась среди тех, отвода которых настойчиво требовали оппозиционеры.) Только благодаря энергичным усилиям Ленина, удалось не допустить полного провала столичной партконференции. Не менее острая ситуация сложилась и в парторганизации Нижнего Новгорода, состоявшей в основном из местных рабочих. Направленный туда Центральным комитетом В. М. Молотов сполна ощутил воинственный настрой нижегородских коммунистов. Их крепко спаянная группировка старалась держать Молотова в изоляции, упорно сопротивляясь всем его действиям. Так, подготовленный им доклад с критикой местного губкома был отвергнут, а выводы были признаны неправильными[339]. Особенно трудно «неспокойному пришельцу», как называли там Молотова, давались контакты с представителями крупных предприятий, таких, например, как Сормовский завод[340]. На Х губернской конференции в июле 1920 года противостояние вылилось в открытый конфликт местных кадров с Молотовым, после чего тот был вынужден покинуть регион, а ему на смену прибыл А. И. Микоян[341].
Крайне тяжелое положение сложилось в 1920 году в Тульской парторганизации. «Рабочая оппозиция», которую возглавил Н. В. Копылов с оружейного завода, сумела получить большинство в составе Тульского губкома. Москва под предлогом направления Копылова на другую работу решила отозвать его в свое распоряжение, что вызвало бурю негодования у местных коммунистов. В ответ председатель губисполкома Н. Н. Осинский при поддержке центра учинил форменную расправу над пролетарскими кадрами, после чего (с мая по ноябрь 1920 года) численность местной организации сократилась в два раза, а во время прокатившейся по заводам волне забастовок аресту подверглись около 3,5 тыс. рабочих[342]. Аналогичная ситуация сложилась и в крупном поволжском регионе – Самарском. Местная губернская партконференция, состоявшаяся в сентябре 1920 года, также избрала губком, в котором большинство оказалось за сторонниками «рабочей оппозиции»[343]. Они начали активное «орабочивание» всех властных структур и подавление «придерживавшихся иного образа мысли», занялись перетасовкой кадров и т. д.[344] Лишь с большим трудом при поддержке центра положение удалось выправить. На Урале Пермский губернский комитет неизменно поддерживал популярного в пролетарской среде Г. И. Мясникова[345].
При перечислении индустриальных регионов страны, ставших оплотами «рабочей оппозиции», бросается в глаза отсутствие в списке восточной Украины, а ведь в Донбассе было сосредоточено значительное количество российского пролетариата. Но в 1920–1921 годах здесь наблюдалась полная разруха. После окончания масштабных военных действий большая часть рабочих этого региона ушла в Россию, а немногие оставшиеся были деморализованы и занимались мелкой спекуляцией. Еще на VIII конференции РКП(б) в декабре 1919 года прозвучало заявление: «В Донецком бассейне пролетариат как класс не существует»[346]. Конечно, распыление пролетариата наблюдалась и в других индустриальных центрах: Гражданская война ни для кого не прошла бесследно. Например, в 1920 году численность металлистов по сравнению с 1913 годом составляла 78,7 %, горняков – 56,5 %, а удельный вес текстильщиков сократился до 27,3 %.[347] В. И. Ленин сетовал на то, что «цвет рабочих ушел на фронт и в деревню»[348]. Соответственно сокращались и производственные профсоюзы, что стало заметно к окончанию войны. И вместе с тем на этом фоне наблюдалось резкое увеличение числа госслужащих: их профсоюз, в первой половине 1918 года насчитывавший всего 50 тыс. человек, к началу 1920-го вырос до 550 тыс., а к июлю 1921-го превысил один миллион, превращаясь в ядро советских профсоюзов[349]. Аналогичные процессы происходили также в самой партии, где неуклонно повышался удельный вес служащих: их приток во многом и обеспечивал общий рост большевистских рядов. Все это и стало объективной причиной для возмущения рабочих-коммунистов, занятых в промышленности.
Недовольство, зародившееся в индустриальных регионах, начало выходить на всероссийский уровень. Впервые достаточно четко оно обозначилось на IX конференции РКП(б) в сентябре 1920 года. С резкими речами выступили С. П. Медведев (от металлистов), И. И. Кутузов (от текстильщиков) и Ю. Х. Лутовинов. Они обрушились на засилье интеллигентов во всех партийных структурах и органах власти. Эта тема получила активное развитие в ходе заседаний[350]. С. П. Медведев прямо требовал гарантий, что половина состава губернских комитетов будет оставлена за рабочими представителями[351]. И. И. Кутузов рассказал делегатам, как трудно стало выступать в пролетарской аудитории, из-за чего многие функционеры всячески избегают приезжать на производство. Критикуя специалистов из интеллигенции, он призвал «держать их в ежовых рукавицах, как они нас держали»[352]. Эта критика не оставила равнодушным председателя ВЦИКа М. И. Калинина. Видный руководитель партии и сам в прошлом рабочий-токарь живо откликнулся на поднятую проблему. В своем выступлении он сравнил старую (подпольную) партию и новую (т. е. нынешнюю), причем сравнение оказалось не в пользу последней. Ранее, подчеркивал Калинин, чувствовался приток пролетарских кадров из крупных индустриальных центров страны, благодаря чему буржуазные интеллигенты самой работой, самой жизнью неумолимо выталкивались из партии[353]. Однако ситуация изменилась, и теперь мелкобуржуазным кадрам, в большом количестве приходящим в партию, уже не приходится менять привычный образ жизни. Мы, заключил Калинин, являемся свидетелями борьбы между ними и пролетарской частью; борьба «за господство, за влияние в партии и происходит на местах. Скрыть, замазать это мы не можем»[354]. Отзвуки этих выступлений спустя полтора месяца проявились в ходе V-ой Всероссийской конференции профсоюзов, прошедшей в ноябре 1920 года. Здесь встал вопрос о скорейшей пролетарской реорганизации Наркомата рабоче-крестьянской инспекции, причем участие старых интеллигентских кадров в деятельности НРКИ должно стать сугубо техническим, вспомогательным. От лица производственных профсоюзов этого потребовал Лутовинов, огласивший специальные тезисы. Как он заключил, овладев в кратчайшие сроки контрольным ведомством «мы сможем… очистить от всякой скверны и все учреждения. И только тогда не на словах, а на деле во главе управления государством станет пролетариат…»[355].
Начавшееся противостояние стало частью широкой дискуссии о профсоюзах и их значении в экономической жизни. Тезисы «О задачах рабочих союзов» были подготовлены А. Г. Шляпниковым в конце 1920 года. В них констатировалось серьезное противоречие между программными декларациями и реальным положением дел. Особенно негативное отношение вызывала мелкая опека в подборе руководящих кадров: приходилось «выбирать тех, кого рекомендовали именем высшего партийного центра», а ведь «исполнение, безусловное подчинение считаются малопригодными к управлению рабочими массами; эти методы не новы, капиталисты всех стран практиковали их задолго до войны, практикуют и теперь»[356]. Критике подвергся орган, созданный для управления промышленностью – Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). По мнению Шляпникова, несмотря на огромные средства, выделенные государством, в этой области мало что сделано. Вместо надлежащего исполнения своих функций ВСНХ стремится подавить производственные профсоюзы, пытаясь превратить их в технический придаток своего аппарата и «отпихнуться от пролетарской инициативы»[357]. Выправить положение можно одним способом: проводить хозяйственную политику через пролетарские организации, поставив производственные союзы во главе промышленных отраслей. Шляпников осознавал, что такое решение вызовет «некоторую революцию» во взаимоотношениях хозяйственных ведомств, «а может быть, потребует изменений нашей Советской конституции»[358]. Но в его глазах преимущества кардинальной перестройки перевешивали организационные хлопоты. Он предлагал начать «крестовый поход» против аппарата государственной власти, склонного «рассматривать себя в качестве пупа земли, вокруг которого вращаются солнце, луна и прочие советские планеты». Тогда как его следует построить по системе рабочих организаций, чтобы в него беспрепятственно проникала пролетарская инициатива[359]. В чем же конкретно будет проявляться эта инициатива? Силами профсоюзов во всероссийском масштабе надо создать специальный аттестационный аппарат, компетентный как в политическом, так и в производственном отношении, и возложить на него задачу подбора и учета всего административно-управленческого персонала. Ни одно назначение и утверждение производственных планов не должно осуществляться без санкции этого аттестационного органа[360]. В конечном итоге будет достигнута главная цель – изживание рабской психологии, которой еще пропитаны люди труда. Необходимо внушить, что именно рабочие не на словах, а на деле являются хозяевами производства. Они должны ощутить, что профсоюзы действительно задают тон на предприятиях, воздействуют на администрацию, руководят экономикой[361].
Инициативы и предложения, выработанные в профсоюзной среде, были оформлены как цельная идеологическая платформа. В начале 1921 года ее опубликовал главный партийный орган – газета «Правда». Под заявлением «рабочей оппозиции» стояли подписи руководителей Всероссийского союза металлистов, Союза горнорабочих, центрального правления артиллерийских заводов. (Примечательно, что среди тридцати шести подписантов значились два украинца, один армянин и один еврей – все остальные фамилии исключительно русские[362].) Помимо вышеизложенных идей они настаивали на созыве съезда производителей. Предлагали привязать к заводам и фабрикам не только школы, больницы и т д., но и торговлю. По их представлениям, следовало приписать к предприятиям магазины, мастерские, общепит с бесплатными обедами и пайками[363].
Лидеры «рабочей оппозиции» в наибольшей степени выражали предпочтения русского пролетариата. Об этом свидетельствуют материалы газеты «Труд», учрежденной ВЦСПС в начале 1921 года и сразу определившей свое предназначение: слиться с рядовыми рабочими, которые должны выступить в роли журналистов «с мозолистой рукой, с корявым почерком»[364]. Редакцию заполонили письма с горькими наблюдениями над беспечной и сытой жизнью спецов и советской буржуазии: «Мы находимся под давлением спецов. Зачем вы даете им такие широкие полномочия? Это неправильно»[365]. Эта тема оказалась злободневной на конференции металлистов Москвы и губернии, собравшей более тысячи делегатов. Здесь раздавались голоса о засилье евреев в главках и комитетах, звучали требования уничтожить привилегии, но, в первую очередь, рабочие выступали за уравнительное распределение пайков. Хотя роль спецов в организации производства не отрицалась, «обволакивание их в золотую вату» казалось неприемлемым[366]. Выступающие говорили об оживлении советов, о насыщении их рабочими от станка и даже о возрождении рабочих советов непосредственно на фабриках и заводах, где руководящую роль должны играть коммунисты, избираемые на производстве[367]. Отдельно обсуждали проблему кандидатского стажа: зачастую рекомендации в партию давались необдуманно, формально, без учета нравственных качеств человека, из-за чего партийные ряды засорялись случайными и даже чуждыми элементами. Интересно, что бороться с этим предлагалось с помощью религиозного института крестных. Как известно, обязанность крестных отцов и матерей – наблюдение за развитием крестника, участие в его воспитании; на них лежит ответственность за поведение новообращенных. Такова же была и задача «коммунистических крестных»: кандидат должен был не только получить от них некую сумму политических знаний, но и всем своим существом воспринять подлинный партийный дух[368].
Бурная профсоюзная активность серьезно взволновала руководство партии. На рубеже 1920–1921 годов на этой проблеме пришлось сконцентрироваться и В. И. Ленину. В набиравшей силу тенденции он ощутил внутреннюю угрозу, нависшую над большевизмом, и прямо констатировал, что опасность раскола с профсоюзным движением есть «наверняка гибель советской власти»[369]. Вождь не скупился на лестные характеристики профсоюзов, правда, перемежевывая реверансы с напоминаниями о неразвитости и недостаточной образованности пролетариата. Если в 1918 году административные потенции трудовых масс не вызывали у Ленина больших сомнений, то теперь он все чаще задавался вопросом: «Разве знает каждый рабочий, как управлять государством?» – и сам же отвечал на него: «Практические люди знают, что это сказки»[370]. Отсюда главная цель профсоюзов – не руководить, а учиться азам управления. Эта учеба, по его наблюдениям, идет медленно, но альтернативы нет: только после длительного пребывания в этой школе можно будет говорить о подготовленности рабочих масс к администрированию[371]. Ленинскую позицию разделяла интеллигентная часть партии. Здесь с беспокойством относились к идее «орабочивания» советского государства и органов партии, расценивая ее как «вредное фантазерство»[372]. Конечно, пролетариат – основа партии, однако делать из него кумира явно не стоит. Идеи «рабочей оппозиции» должны осуществляться постепенно, по мере развития масс. Посадить в губернский комитет вместо пяти хороших коммунистов из интеллигентов пять неподготовленных пролетариев – это не только издевательство над здравым смыслом, но и прямой путь к развалу[373].
Примечательно, что высшие партийные руководители старались не привлекать лишнего внимания к «рабочей оппозиции». Гораздо больше их занимало публичное выяснение отношений с Троцким, который принял активное участие в профсоюзной дискуссии. Он поддерживал лозунг огосударствления профсоюзов, на практике получивший воплощение в профсоюзе транспортников. Например, Л. Б. Каменев писал в «Правде», что в партии существуют только две платформы по профсоюзному вопросу: ленинская и троцкистская, а все остальное – это «внутренние несостоятельные претензии»[374].
Сталин обвинял Троцкого в желании перенести военные методы в руководство хозяйственной жизнью, много рассуждал о вреде такого подхода, но даже не обмолвился о «рабочей оппозиции»[375]. Лишь Г. Е. Зиновьев упомянул о ней, раскритиковав идею созыва съезда производителей. Он разъяснял, что под производителями следует понимать и крестьян, т. е. мелких собственников, а значит, «рабочая оппозиция» засорена мелкобуржуазными взглядами[376]. Желание руководства РКП(б) по возможности избежать неприятной полемики не прошло мимо наблюдателей из российской эмиграции. Меньшевистский «Социалистический вестник», выходивший в Берлине, писал, что «рабочая оппозиция» незаметна на фоне битвы двух «титанов» – Ленина и Троцкого. Но при этом несомненно то, что основная борьба идет не между «троцкистами» и «ленинцами», а между объединенными силами двух этих групп, с одной стороны, и «рабочими оппозиционерами» – с другой[377]. Именно последние выступали опасностью для партии «во сто крат более крупной, чем все ошибки Троцкого вместе взятые»[378].
Публичного столкновения избежать не удалось. Прогноз Калинина от сентября 1920 года о невозможности «скрыть, замазать» эти противоречия полностью оправдался. Х съезд РКП(б), состоявшийся в марте 1921 года, превратился в площадку по выяснению отношений руководства партии и лидеров «рабочей оппозиции». В преддверии этого партийного форума взгляды оппозиционеров в концентрированном виде были изложены в специальной брошюре, подготовленной А. М. Коллонтай. Написанный простым и ясным литературным языком, этот текст выгодно отличался от довольно путаных текстов рабочих представителей. В нем говорилось, что пролетариат Советской республики «все слабее окрашивает мероприятия своего же правительства», а также направление мысли центральных органов власти[379]. В «рабочей оппозиции» отсутствуют крупные фигуры, те, кого принято называть вождями. Как всякое здоровое движение, она вышла из широких трудовых низов, зародившись в российских промышленных регионах и получая оттуда пополнение. Чем выше по советско-партийной лестнице, тем меньше приверженцев оппозиции; чем ближе к массам – тем больше ее одобряют и поддерживают. Коллонтай указывает, что из-за недоверия к пролетарским слоям между руководящими центрами и низами образовалась брешь. Ленин, Троцкий, Зиновьев, Бухарин утверждают, что пока рабочие не получат необходимую управленческую практику, обойтись без назначаемых руководителей невозможно. Опровергая этот довод, Коллонтай прибегает к любопытному сравнению: в XIX веке дворяне-помещики были намного образованнее в области экономики, чем малограмотное купечество, так называемые Тит Титычи. Однако, последние с присущей им классовой сметкой не ставили барина со всем багажом его знаний во главе предприятия, а если и брали его в управители, то держали у себя в подчинении[380]. По убеждению Коллонтай, вместо педагогических наставлений следует чаще вспоминать этот исторический урок[381].
X съезд РКП(б) стал интереснейшей страницей советской истории. На нем произошло открытое столкновение лидеров «рабочей оппозиции» с высшим партийным руководством. Как и положено, форум открылся докладом Ленина. Вождь был довольно сдержан, назвав дискуссию о профсоюзах «совершенно непозволительной роскошью» и даже ошибкой[382]. Но нашел в ней и положительные черты: она в полной мере помогла осознать, что партия стала по-настоящему массовой[383]. Затем он пустился в рассуждения о мелкобуржуазном влиянии, неизбежно сопровождавшем рост партийных рядов. Чувствовалось, что в ленинские планы не входило разжигание эмоций, однако Шляпников бросил вождю серьезный упрек:
«Если вы, Владимир Ильич, будете в вашем анализе смешивать и рабочую оппозицию, и мелкобуржуазную стихию, и все это будете громоздить и связывать с нами, то на этой почве желаемого единства в нашей партии не создадите и вольете очень много горечи в душу тех рабочих, которые здесь имеются налицо, а через них остальным, стоящим за нами на фабриках и заводах»[384].
Шляпников описал растущее недовольство, корни которого уходят не в рабочую оппозицию, а в Кремль. И открыто потребовал «предания кое-кого суду, самому настоящему суду революционного трибунала», посетовав, что эти «кое– кто» пользуются уважением в верхах. Дабы не выглядеть голословным, он указал на сотрудников продовольственного ведомства, назвал наркома продовольствия А. А. Цюрупу, добавив, что «предать его суду было бы поучительно для многих»[385].
Запал Шляпникова подействовал на делегатов, а ленинское стремление сгладить острые углы не прошло незамеченным. Общее внимание привлекло то обстоятельство, что вождь, подробно остановившись на опасности мелкобуржуазной стихии, почти ничего не сказал о проблемах пролетариата, интересы которого представляла партия. Как справедливо заметил один оратор, рабочий класс индустриальных центров являлся главной опорой в Гражданской войне. Теперь же в случае какого-либо военного конфликта рассчитывать на его безоговорочную поддержку советской власти было бы опрометчиво[386]. Такое заявление вызвали бурю негодования у большинства съезда. Осинский назвал рабочую оппозицию «крикливой, цепляющейся за недовольство на заводах»[387]. Д. Б. Рязанов выступил с критическим разбором брошюры А. Коллонтай, иронизируя под смех зала над тем, как она «пошла в народ»[388]. Ему вторил К. Б. Радек, обнаруживший в тексте не глубокие марксистские истины, а лишь потакание беспартийной массе[389]. Е. М. Ярославский вопрошал, кем теперь считать бывшего рабочего, а затем профессионального революционера Ногина[390]. Но, пожалуй, наиболее раздраженным выглядел Ленин. Его до глубины души возмутил призыв Шляпникова судить наркома Цюрупу. В ответ он предложил судить самого Шляпникова и добавил: если речь зайдет о предании суду Цюрупы, то судите тогда весь Центральный комитет[391]. От вождя досталось и Коллонтай: «Кто под видом помощи преподносит вот такие брошюры, того надо разоблачать и отсеивать»[392], – сказал он. На что Коллонтай заметила: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав»[393].
Ленину, выступавшему во второй раз, не удалось подвести черту под развернувшимися дебатами. Эстафету от Шляпникова принял не менее энергичный Е. Н. Игнатов. Он категорически потребовал прекратить доступ в РКП(б) всем выходцам из буржуазных слоев, провести «основательную и точную чистку» ее рядов и одновременно серьезно озаботиться воспитанием коммунистов, чтобы нерабочий элемент, находящийся в партии, не ограничивался теорией, а впитывал пролетарскую психологию. Для этого Игнатов предложил каждого члена партии направлять на некоторое время на фабрику, завод или рудник заниматься физическим трудом[394]. Его поддержал С. П. Медведев, определивший такую трудовую повинность тремя месяцами в году[395]. Кроме этой меры лидеры «рабочей оппозиции» ратовали за отказ от практики назначения на руководящие должности и за введение выборности[396]. Предлагаемые меры вызвали замешательство большинства делегатов. Бухарин недоумевал:
«Получается, что Чичерина (наркома иностранных дел – авт.) надо отправить на завод… где он проведет три месяца у станка… после этого, несомненно, три месяца в санатории, когда же он будет заниматься дипломатической работой?»[397]
А Е..М. Ярославский заключил, что если мы примем предложения «рабочей оппозиции», то надо выкинуть половину нашей партии, и работа в целом ряде областей (Сибири, Якутии и др.) будет просто парализована[398].
Однако, следует подчеркнуть одно обстоятельство: партийное руководство внимательно прислушивалось к критическим оппозиционным выпадам, многое беря на заметку. Это подметил С. П. Медведев: «Наши противники, – сказал он, – взяли все, что у нас было существенного», выдавая это за свое открытие. В частности, тот же Бухарин, не стесняясь, включил в свои тезисы идеи «рабочей оппозиции»[399]. Последней же достались обвинения в «махаевщине». Это забытое ныне движение в рабочей среде опиралось на идеи социал-демократа поляка И. К. Махайского. Находясь в Якутской ссылке, он провозгласил интеллигенцию новым эксплуататорским классом и, соответственно, лютым врагом пролетариата. Интеллигенция, заявлял он, заинтересована в революции лишь как в способе получения большей прибыли, создаваемой трудовыми массами[400].
Завершившийся Х съезд РКП(б) стал первым серьезным внутренним потрясением для партийной элиты. Открытое выступление «рабочей оппозиции» вызвало большой резонанс не только в большевистских кругах, но и среди беспартийных. На прошедшем вскоре IV Всероссийском съезде профессиональных союзов (май 1921 года) отмечалось, что предложения передать регулирование производств и контроль над администрациями рабочим коллективам «на местах встречают определенно сочувственный отклик»[401]. Даже ярые противники Шляпникова и компании признавали бесспорными их связи с некоторыми слоями пролетариата. Так, И. Смилга писал:
«Я встречал немало товарищей рабочих, причислявших себя к «рабочей оппозиции». Много в них путаного, но много и здравого. Они – барометр, с ними необходимо считаться»[402].
Поэтому было решено пока не обострять и без того накаленную внутрипартийную атмосферу. Съезд избрал в состав Центрального комитета, расширенного до двадцати пяти человек, А. Г. Шляпникова и И. И. Кутузова, а кандидатами в члены ЦК – С. П. Медведева и А. С. Киселева (профсоюз горнорабочих). На съезд рабочих-металлистов – цитадель оппозиции, был делегирован один из ее острых критиков Бухарин. Его визит носил явно примиренческий характер: он называл металлистов подлинными носителями социалистической идеи, передовым отрядом российского пролетариата[403]. Добавим, что и к открытию IV Всероссийского съезда профсоюзов специально приурочили проведение съезда советов народного хозяйства (СНХ). Два крупных форума заседали одновременно в одном и том же месте, «дабы общими силами разрешить все основные вопросы нашего хозяйственного строительства»[404]. Такая совместная работа должна была наглядно продемонстрировать, что участие профсоюзов в управлении производством не является формальностью.
Помимо этого Ленин привлекает Шляпникова к активному участию в работе высших партийных органов, часто приглашает его на заседания политбюро, где тот выступал с докладами, вносил предложения по вопросам хозяйственной политики.
Шляпникову также было поручено возглавить комиссию по улучшению быта рабочих. В июле 1921 года политбюро создает «пятерку» по чистке партии, включив в ее состав и Шляпникова[405]. Подобные воспитательные меры Ленин попытался применить и к Г И. Мясникову, отличавшемуся повышенной активностью. В частности, вождь настойчиво разъяснял ему, что невозможно объявить свободу печати, поскольку на практике это выльется в помощь всемирной буржуазии, которая «вдесятеро» сильнее советской республики. Мировая буржуазия не умерла, наставлял Ильич, «она стоит рядом и караулит… уже наняла Милюкова, коему Чернов и Мартов служат верой и правдой»[406]. А потому нельзя хвататься за лекарство, несущее верную смерть – «не от вас, конечно, а от мировой буржуазии». «Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не сделаем», – заключал Ленин[407]. Он по-отечески сетовал, что Мясников дал себя «подавить известному числу печальных и горьких фактов и потерял способность трезво учесть силы»[408], и просил «усилить внимание к агитации Мясникова и два раза в месяц докладывать о нем на политбюро»[409].
Однако, меры по обузданию «рабочей оппозиции» не приносили желаемых результатов, она не собиралась сворачивать своих знамен. Сразу после Х съезда по инициативе ее лидеров была устроена так называемая «неделя профдвижения». Ее девизом стал лозунг: «От станка – в центры управления». Газета «Труд» призывала отнестись к мероприятию не как к празднику, а как к штурму косности и бюрократизма[410]. Одна из передовиц констатировала:
«Мы постоянно жалуемся на недостаток опытных руководителей, администраторов. А между тем они есть, они стоят у станков, творят свою работу по специальности, и большинство из них даже не подозревает, что они могли бы сделать гораздо больше, если бы перешли от станка в центры управления. Профсоюзы помогут отыскать этих затерянных работников»[411].
Председатель ВЦСПС М. И. Томский, занимавший ленинскую сторону в конфликте с «рабочей оппозицией», явно не мог воздействовать на ее лидеров. Шляпников, например, считал, что Томский принадлежит «к числу бесхребетных людей: с ним можно справиться и Троцкому и кому угодно путем телефонных разговоров»[412]. Кстати, чтобы не раздражать рабочих оппозиционеров, решением политбюро ЦК РКП(б) Томского предусмотрительно удалили с IV профсоюзного съезда, «перекинув» на руководящую работу в Туркестан. На пост лидера советских профсоюзов он был возвращен лишь в октябре 1921 года[413].
Введение новой экономической политики вызвало очередную волну недовольства «рабочей оппозиции». Разворот к частному хозяйству и частной торговле, быстрый рост слоя нэпманов стали для нее чем-то вроде красной тряпки для быка. Шляпников и Медведев направили в Политбюро письмо, где изложили свое отношение к решению о сдаче в аренду предприятий. Они возмущались и новым экономическим курсом, поощрявшим частнособственнические вожделения, и ВСНХ, который дал указание всем советским органам поддерживать промысловую кооперацию. По их мнению, такая хозяйственная политика превращает государство в слугу буржуазно-кулацких элементов[414], и, следовательно, ВСНХ в его нынешнем составе «не является проводником пролетарской диктатуры в области хозяйства…он стал рупором интересов, чуждых рабочему классу»[415]. Летом 1921 года профсоюз металлистов выработал также тезисы по организации производства в условиях, когда над диктатурой пролетариата нависла величайшая опасность. Их главная мысль: при новой экономической политике повышается эксплуатация рабочих, а потому задача профсоюзов – всячески ее сдерживать. Металлисты настаивали на управлении предприятиями на основе соглашений между профсоюзами и администрациями, выступали за определение срока сменяемости руководителей, необходимого для выяснения их способностей к хозяйствованию[416]. Все эти предложения получали поддержку на местах, где критический настрой был даже сильнее. Например, на городской конференции рабочих-металлистов г. Казани раздавались требования «поставить на работу шалопаев, гуляющих по улице», поскольку пролетариат несет непосильное бремя, обслуживая нетрудовые элементы[417]. В ходе IV Всероссийского съезда профсоюзов от делегатов с мест даже звучали предложения установить обязательное рабочее время (с 8 часов утра до 4 часов дня), когда никто, кроме детей и нетрудоспособных, не имел права появляться на улицах[418].
Терпение руководства РКП(б) иссякло довольно быстро. Ознакомившись с выступлениями Шляпникова перед коммунистами ряда предприятий Москвы, Ленин потребовал вывести его из состава Центрального комитета и изгнать из партийных рядов. На объединенном пленуме ЦК и ЦКК в августе 1921 года для принятия решения об исключении не хватило лишь одного голоса. Пленум ограничился последним предупреждением Шляпникову прекратить антипартийные действия[419]. Репрессии обрушились и на Г. И. Мясникова, обличительный запал которого перешел все разумные пределы. Он призывал к свержению партийной бюрократии, поработившей пролетариат наподобие буржуазии. Бюрократия из подчиненного при капитализме слоя превратилась теперь в главного распорядителя ресурсов, экономического управителя[420]. Ее постановления святы и неприкосновенны, они неизменно одобряются вселенскими и поместными соборами, именуемыми партийными съездами[421]. Исключение из партии Мясникова прошло благополучно. Кроме его соратников, никто в верхах особого сожаления не выказал. Надо сказать, что к началу 1922 года всю «рабочую оппозицию» основательно прошерстили, и она приняла гораздо более скромный формат «рабочей группы». Входившие в нее коммунисты вместе с А. Коллонтай 26 февраля 1922 года направили в Коминтерн письмо, жалуясь на давление, которое оказывает на них руководство РКП(б). (И снова обращаем внимание на тот факт, что среди 22 подписантов значится лишь одна нерусская фамилия.) Специальная комиссия Коминтерна во главе с К. Цеткин, Кашеном и др. рассмотрела это заявление и пришла к выводу о неправомерности обвинений со стороны группы, пытающейся вести фракционную антипартийную работу[422].
В это же время большевистские верхи пытаются нейтрализовать непокорных оппозиционеров, используя их же идейное оружие. В феврале 1922 года ВЦСПС и ВСНХ обнародовали совместное обращение, где излагались принципы взаимоотношений между профсоюзными и хозяйственными органами. Хотя в нем и подтверждалась вся полнота ответственности администраций по управлению вверенными предприятиями, вместе с тем документ содержал новации в духе требований «рабочей оппозиции». Так, при формировании дирекций, как отдельных предприятий, так и трестов, предлагалось в обязательном порядке запрашивать мнение профсоюзов о том, или ином кандидате, устраивать их тщательное обсуждение. Профсоюзы должны обязательно привлекаться к рассмотрению производственных программ, составлению планов, к участию в деятельности всех комиссий и т. д. В случае же, когда фабзавкомы видят вопиющие непорядки в работе администраций, то, не вмешиваясь непосредственно, они должны информировать высшие хозяйственные и союзные инстанции[423]. Но самое главное: вслед за «рабочей оппозицией» выдвижение работников с низов объявлялось приоритетной задачей. «Обращение» призывало с особым вниманием относиться к тем, кого на руководящие должности рекомендуют непосредственно профсоюзы и помнить, «что у нас чрезвычайно мало директоров предприятий, выдвинутых из рядов пролетарской массы; их надо в десятки раз больше…»[424]. Посредством профсоюзных каналов «будут подготавливаться те администраторы из рабочей среды, которые в пролетарском государстве должны постепенно охватить производство»[425]. Как подчеркивал «Труд», «вся важность этого документа в том, что он впервые дает конкретное, практическое разрешение самым злободневным вопросам нашего профессионально-хозяйственного бытия»[426]. Говоря иначе, идеи провозглашенные «рабочей оппозицией» нашли свое применение в руках иных сил.
«Лебединая песня» лидеров «рабочей группы» прозвучала на XI съезде РКП(б) в апреле 1922 года, где они пытались оправдать свое обращение в Коминтерн[427]. Выступая с трибуны высшего партийного форума, Шляпников предупреждал об опасности поиска другой опоры, кроме пролетариата: других, «лучших» рабочих, чем те, которых они представляют, нет и не будет, и нужно этим удовлетвориться[428]. И. И. Кутузов призывал отдать должное Х съезду, справедливо поднявшему злободневные проблемы партийной жизни[429].
Нужно сказать, что после съезда возникла еще одна группа – «Рабочая правда», распространявшая воззвания. Обычно ее рассматривают в одном ряду с «рабочей оппозицией»[430], однако она имела совсем другой характер и состояла из интеллигентов (преподавателей, студентов) преимущественно нерусских национальностей. К тому же все они в той или иной степени поддерживали НЭП, призывали к более тесным связям со странами передового капитала. С «рабочей оппозицией» ее объединяло только схожесть названия, поэтому мы и не останавливаемся на деятельности этого интеллигентского кружка. Черту под этим оппозиционным направлением подводил Г. Е. Зиновьев. Как он заявил на XII съезде РКП(б):
«Чтобы этот итог был окончательным, следовало бы ликвидировать и само название, по крайне мере, в нашем партийном обиходе. Это не была «рабочая оппозиция». Это, объективно говоря, была антирабочая оппозиция, это была ликвидаторская оппозиция, которая шла в одну дверь, а попала в другую»[431].
Таким образом, в 1920–1922 годах выходцы из русского староверия предприняли первый штурм партийно-государственного Олимпа. Он оказался неудачным, поскольку силы рабочей части РКП (б) были еще явно недостаточны для победы и перелицовки партии на свой лад. Резкая антиинтеллигентская риторика, неприязнь к образованным слоям – вот «визитная карточка рабочей оппозиции», воспринимавшей советскую власть как кучку зарвавшихся интеллигентов. Правда, лидеры оппозиции, сформировавшиеся под воздействием староверческой психологии, утратили некоторые черты, свойственные этому религиозному мировоззрению. В практике «рабочей оппозиции» явственно прослеживается решительный интернационализм и не звучат мотивы на тему «русское превыше всего». Главную причину трудностей русской революции здесь усматривали в задержке мировой революции. Основным пунктом в идеологии «рабочей оппозиции» и «рабочей группы» была активизация революционных процессов в Европе, понимаемая крайне упрощенно, без учета подготовленности зарубежных стран к подобным рывкам. Оппозиционные лидеры безоговорочно признавали авторитет международного Коммунистического интернационала: годы, проведенные в кругах социал-демократии, не прошли для них бесследно. У нового партийного пополнения той же староверческой закваски, но не вкусившего социал-демократических истин, приоритеты будут уже иными.
Рассматривая эту важную страницу истории большевистской партии, следует подчеркнуть, что она остается явно недооцененной. События, связанные с деятельностью «рабочей оппозиции», заслонены таким явлением в партийной жизни, как троцкизм, оформившийся к осени 1923 года. Л. Д. Троцкий, наиболее яркая фигура большевистского Олимпа того периода, любимец современных не только западных, но во многом и российских исследователей. Хотя, по нашему мнению, троцкизм как раз и возник вследствие борьбы пролетарских оппозиционеров. С тех пор «рабочая карта» превращается в главный козырь внутрипартийных игр, которые лидеры РКП(б) вели вокруг ленинского наследства. «Рабочая оппозиция» продемонстрировала, какие преимущества дает имидж главного выразителя пролетарских интересов. О реализации этой политики и пойдет речь дальше.
Глава 4. «Второе завоевание души рабочего класса»
Основу идеологических конструкций любой организации, претендующей на роль политической, определяет то, к кому она апеллирует: к народу, какому-либо конкретному социальному слою и т. д. Большевики не были исключением. Рождение партии сопровождали славословия в адрес человека труда. В соответствии с марксистскими канонами, партия взяла на себя роль выразителя интересов не просто трудящихся, но их самой передовой части – пролетариата, могильщика буржуазии. Положение пролетарского авангарда обязывало: в партию приходилось вовлекать представителей рабочего класса, чем большевики с разной степенью успеха занимались и до революции, и в ходе Гражданской войны.
Возникновение «рабочей оппозиции» стало неприятным сюрпризом для большевистской элиты, ожидающей «неминуемой» мировой революции. Все осознавали, что такое потрясение внутрипартийных основ чревато самыми негативными последствиями. Надежность кадров дореволюционного рабочего призыва была поставлена под сомнение. Поэтому в начале 1920-х годов власти пришлось искать новые опоры. Тем более, что по завершении Гражданской войны перед партией победившего пролетариата в полный рост встали задачи хозяйственного строительства. Восстановление истощенной экономики требовало реального включения широких масс в созидательные процессы. Как отмечал Ленин, невозможно решить эту проблему исключительно руками коммунистов, ведь мы – «это капля в море, капля в народном море»[432]. Отсюда и неподдельный ленинский интерес к этому «народному морю», к его помыслам, чаяниям и т. д.[433]Путеводителем здесь выступил Бонч-Бруевич. Он принадлежал к той традиции, которая связывала будущее России с потенциалом народа – прежде всего сектантской его части, и направлял интересы вождя в этой области.[434] Будучи не только крупным партийным функционером, но и исследователем-религиоведом, Бонч-Бруевич актуализировал убежденность в «коммунистическом» настрое сектантства, его нацеленности на коллективные начала. Он неизменно подчеркивал схожесть жизненной практики разнообразных сект с социально-экономической доктриной большевизма. Напомним, перспективы развития страны, связанные с сектантством, рассматривались еще до революции. Бонч-Бруевич, как видный деятель победившей партии, в отличие от утонченных литераторов и философов Серебряного века, получил возможность воплотить их идеи в жизнь. Для этого надо было лишь высвободить энергию, накопленную в народных глубинах.
Бунт «рабочей оппозиции» произвел на Бонч-Бруевича сильное впечатление, при том, что общий настрой бунтовщиков не был ему близок. Безусловно, традиционная опора на пролетариат в целом не ставилась им под сомнение, но главные его надежды были связаны с другой силой. Суть рассуждений Бонч-Бруевича и его сторонников состояла в следующем. В количественном отношении рабочие никогда не занимали преобладающего положения в российской экономике, большинство населения всегда было занято в сельской сфере. Крестьянство, с точки зрения марксизма, представляет собой инертную массу, не готовую к прогрессу и слабо поддающуюся новшествам. Сектантство же, как наиболее энергичная и сознательная часть народа, способно расшевелить «крестьянское море» перспективами сотрудничества с новой властью.
В первой половине 1920-х годов в аграрной политике советского государства действительно наблюдался явный поворот, соответствующий данному идеологическому подходу. Широкую известность получило обнародованное в октябре 1921 года воззвание Народного комиссариата земледелия к сектантским общинам осваивать брошенные земли[435]. Воззвание преследовало и определенную политическую цель: показать, что советская власть, в отличие от прежних царских правительств, не считает сектантов «негодяями и лентяями»[436]. Наркомзем ожидал, что они с честью выполнят свой долг, продемонстрируют примеры трудолюбия и постановки образцовых хозяйств. При ведомстве учреждалась комиссия по заселению свободных участков и бывших имений, которая заключала договоры с желающими там трудиться. Как декларировало воззвание, «все те, кто боролся со старым миром, кто страдал от его тягот, а сектанты и старообрядцы в их числе, все должны быть участниками в творчестве новых форм жизни»[437]. В ответ ободренные сектантские вожаки увлеченно рисовали горизонты сотрудничества, призывали вытеснять мелкобуржуазную стихию, стремиться к созданию «всеобщей мировой коммуны»[438]. Подобные настроения культивировались и транслировались в верхах непосредственно Бонч-Бруевичем. Он уверял, что численность сектантов и старообрядцев за первые годы советской власти существенно возросла, достигнув 35 млн. человек, а это около трети взрослого населения страны; из них в неправославные секты вовлечено уже свыше 10 млн. человек[439]. Представители самих сектантов шли еще дальше, говоря о 12–13 млн. человек. Эти впечатляющие цифры подкрепляли многообещающие рассуждения о сектантском потенциале[440].
Сектантская тема прозвучала на XIII съезде РКП(б) при обсуждении тезисов «О работе в деревне». Оптимизм Бонч– Бруевича разделяли партийные руководители первого ряда. Так, Г. Е. Зиновьев считал, что в крестьянской стране необходимо проводить гибкую политику, особенно в антирелигиозной области, а как раз здесь в девяносто девяти случаях из ста происходит «грубая мазня». Нужно учитывать менталитет крестьянства, поучал он, а не требовать от них знания трех томов Маркса[441]. Зиновьева поддержал А. В. Луначарский, который видел в России зародыш реформации, разбившейся на различные религиозные оттенки: «многие из них близки нам, их следует вовлекать в нашу работу, а не отталкивать и не устраивать враждебную демонстрацию против сектантства»[442]. Что любопытно, благосклонность к сектам проявлял даже Сталин. В 1924 году будущий вождь «всех времен и народов», принимая делегацию толстовцев-духоборов, делал откровенные реверансы в адрес их честности и трудолюбия[443].
Правда, далеко не все в партийном руководстве разделяли подобные настроения. Речь, прежде всего, о тех, кто по долгу службы занимался идеологической пропагандой. Например, Е. М. Ярославский не верил в тягу сектантов к коммунистическим началам жизни, а также ставил под большое сомнение данные об их численности[444]. И. И. Скворцов-Степанов был уверен в мелкобуржуазной природе сектантства, и потому ответ на вопрос, о смычке пролетариата и деревенской буржуазии с сектантами, не представлялся ему таким же очевидным, как Бонч-Бруевичу[445]. Однако тот продолжал отстаивать свою точку зрения, призывая оппонентов тщательнее изучать народ, которым они управляют, и, наконец, дать себе отчет в том широком народном движении, «которое существует в России более тысячи лет»[446].
Важно напомнить, как в идейных конструкциях Бонч-Бруевича соотносились сектантство и старообрядчество. Он считал, что под воздействием прогрессивного сектантства религиозно-идейная самостоятельность староверия заметно девальвировалась. Старообрядчество, прежде всего «не приемлющее священство», то есть беспоповщина, совершенно оторвалось от старых религиозных (православных) форм и почти слилась с сектантством[447]. Не случайно, упомянутое выше «Воззвание», в первую очередь, подразумевало именно сектантов: из двадцати перечисленных в нем сект только три относятся непосредственно к староверческим согласиям[448]. В этом отношении Бонч-Бруевич наследовал традиции Серебряного века, когда родство сектантства и беспоповщины выводили из отсутствия иерархии и минимизации обрядовой стороны, присущих как одним, так и другим (именно эти обстоятельства стали определяющими). В тоже время, на различия в религиозных архетипах, на которых зиждились сектантство и беспоповское староверие, внимание не заострялось. Между тем, они имели принципиальное значение, гораздо большее, нежели общее неприятие священства и обрядов. Религиозное мировоззрение старовера определялось следующим образом: моя земля – мои предки – моя вера; кто не связан с этим, тот чужой. Отсюда жесткая национальная идентификация; ее приоритет по отношению к другим религиозным элементам очевиден.
В данную конструкцию не вписывалась паства господствующей православной церкви (к ней относилось подавляющее большинство чиновничества и интеллигенции), то есть те, кто для истинных русских староверов пребывал в лоне греко-антиохийской веры с «латинским душком». На наш взгляд, именно здесь кроются истоки отчужденности (граничившей с ненавистью), которую испытывала значительная часть русского простонародья к духовенству и к образованным слоям российского общества.
Сказанное в полной мере относится и к сектантству: религиозные течения, ставившие во главу угла интерпретации Священного Писания и мистический опыт, казались чем-то вроде занесенного с чужбины «мусора». Если говорить о географии сектантства, то оно преобладало в южных регионах России, на Северном Кавказе, на Украине. То есть там, где позиции староверия никогда не были сильны. В социальном смысле сектантское движение позиционировалось как крестьянско-интеллигентское, тогда как староверие служило основным резервом для формирования индустриального пролетариата. Вспомним главных действующих лиц «рабочей оппозиции», о которых шла речь в предыдущей главе. Подавляющее большинство их – выходцы именно из беспоповской среды, с характерной жгучей ненавистью к интеллигенции. Представить, что их предводителями могли быть представители сектантства, нелегко. Некоторые как, например, Смидович, глава комиссии по делам культов при ВЦИКе, чувствовали, что никоим образом нельзя смешивать староверов и сектантов, подводя их под один знаменатель[449]. Однако, Бонч-Бруевич и его сподвижники с завидным упорством пытались выстраивать некий «мост» между правительством и самой большой частью населения – крестьянством. Как считают исследователи, это была продуманная программа действий по сближению власти с сектантскими общинами и одновременно по получению последними частичной автономии[450].
Иными словами, была сделана попытка превратить русское сектантство в самостоятельный фактор политической жизни страны. Староверие же в лице беспоповщины, отодвинутой на задворки сектантства, в этих идеологических построениях не занимало значимого места. Бонч-Бруевич был совершенно прав, когда говорил об оторванности беспоповства от старых религиозных форм как о свершившимся факте. Ошибался он в другом: и после 1917 года здесь никто не собирался ни ориентироваться на сектантство, ни, тем более, к нему пристраиваться. В обширных великорусских территориях (в отличие от вышеперечисленных) сектантство явно не приживалось[451]. Причем в этой конфессиональной среде зримо прослеживалась тенденция: распад старых «доморощенных» сект и заметный рост новых. Под старыми сектами имелись в виду различные старообрядческие согласия и толки, которые по традиции, привитой «Серебряным веком», относили к сектантам. А под новыми – усиливающиеся баптисты, адвентисты, евангелисты, пятидесятники и т. д. Но главное: рост этих молодых сект происходил не столько за счет старых (т. е. старообрядцев), сколько за счет приверженцев православия[452]. Иначе говоря, именно староверы оказывались чужды и не подвержены сектантским влияниям. С другой стороны, размывание вероисповедной практики беспоповщины сводило на нет возможность какого-либо участия этих согласий в религиозных проектах, о чем грезили сектантские лидеры вместе со своим советским покровителем. Вместо развития религиозных практик выходцы из староверия оказались движущей силой другого проекта, ставшего для многих из них заменой религиозному. В отличие от сектантства энергия староверия аккумулировалась уже вне религиозного опыта и внутри победившей власти, тем самым привнося в нее «родимые пятна». Отсюда не случайно меткое наблюдение Б. Рассела: «социальный феномен большевизма следует рассматривать как некую религию, а не просто политическое движение»[453].
Указанные процессы набирали силу вместе с восстановлением пролетарских кадров, начавшимся с середины 1920-х годов. Если перед Мировой войной свыше половины рабочих были потомственными пролетариями[454], то к концу войны их ряды заметно поредели. Поэтому восстановление производства, снизившегося в результате военных потрясений, в первую очередь означало укрепление рабочих рядов. В литературе господствует мнение, что в середине 1920-х годов эта задача решалась исключительно за счет крестьян, приезжавших из деревни. Из-за этого может сложиться впечатление, что предприятия наполнялись случайными людьми с улицы. Однако, здесь кроется большое заблуждение: восстановление рабочих кадров не было спонтанным, оно осуществлялось в рамках примерно той же трудовой парадигмы, что и в дореволюционный период, причем это зафиксировано в советских трудах. Наметившийся экономический подъем способствовал тому, что большое количество рабочих возвратилось на производство, возобновив работу после длительного перерыва. В 1922–1925 годах численность таких кадров в общей массе составила: среди металлистов Питера – 82 %, Москвы и области – 80 %, Украины – 83 %; среди текстильщиков Питера – 83 %, Москвы и области, Иваново-Вознесенского района – около 90 %; среди металлургов Украины – 78 %, Урала – 80 %, шахтеров Донбасса – 70 %, Урала и Сибири -74 %[455].
Также представляют интерес сведения о социальном происхождении тех, кто в описываемый период впервые приступил к работе в промышленности. Оказывается, более половины этого контингента составляли выходцы из среды рабочих, а не деревенские элементы, не имеющие представления о жизни дальше соседних населенных пунктов. К примеру, среди новых металлистов Питера 55 % являлись детьми и родственниками рабочих, 10 % – выходцами из служащих и только 31 % – детьми крестьян; среди новых металлистов Москвы и области дети рабочих составляли 52 %, служащих – 8 % и крестьян – 37 %. Среди текстильщиков нового пополнения также преобладали дети рабочих: в Питере – 65 %, в Москве – 58 %, в Московской области – 64 %, в Ивановском регионе – 61 %[456]. Эти цифры отражают усилия советской власти по наполнению фабрично-заводских коллективов в первую очередь работниками, близкими к пролетарской среде. Как отмечалось на XIV съезде ВКП(б) в 1925 году, кадры для развития промышленности рождаются на рабочих городских окраинах, в рабочих семьях[457]. Данный подход продолжал действовать и в последующие годы[458].
Здесь важно понять, какая сложилась ситуация. Строго в соответствии с канонами марксизма, большевики ставили пролетариат во главу угла строительства новой жизни, создавая, таким образом, опору своей власти. Однако это теоретически обоснованное действие вызвало такие последствия, которых подкованная в марксистском духе интеллигенция не могла предположить: восстановление рабочего класса происходило на базе размытой староверческой общности. Собственно, то же самое наблюдалось в российской промышленности и до революции, когда рабочий класс формировался во многом через доверительные сети староверов. «На удачу» в другие города ездили немногие; своеобразными каналами рабочего комплектования снизу, продолжали выступать землячества, державшиеся на ресурсах тех же староверческих согласий. Теперь, в 1920-х годах, эту функцию начала выполнять – уже сверху – советская власть, не подозревая, что черпает пролетарские кадры из традиционного источника. Паства никонианской церкви, утратившей статус господствующей, представители различных нерусских национальностей, как и прежде, не стремились принимать участие в крупном производстве. Ситуация изменилась лишь в 1930-х годах с началом форсированной индустриализации, когда строящиеся заводы стали поглощать миллионы и миллионы самой разношерстной публики. Это запечатлено, например, в повести Ильи Эренбурга «День второй» – о строительстве Кузнецкого металлургического комбината в Сибири[459]. Хотя на деле все эти разнообразные массы легко «переваривал» устоявшийся пролетарский костяк с определенными жизненными принципами. В результате население страны не только социально «орабочивалось», но и попадало под влияние староверческого менталитета, который господствовал в трудовых коллективах крупных предприятий. Как хорошо замечено, считаясь с революционной логикой, можно было бы сравнить воздвигаемые индустриальные гиганты с монастырями: это одновременно и храмы новой религии и колонии аскетов, совершенно новой породы людей[460].
Вскоре после разгрома «рабочей оппозиции» пролетарский проект был возведен в РКП(б) в ранг ключевого. Однако в 1922 году приток партийцев непосредственно с заводов и фабрик все еще оставался незначительным. Количество вступивших в партию рабочих увеличилось за этот год лишь на 3,2 %, крестьян «от сохи» – на 3,4 %, а вот количество служащих, получивших партбилеты, выросло на 39,4 %, то есть в десять с лишним раз; среди них было немало сотрудников управленческого аппарата царской России, а также бывших членов других партий[461]. В результате более чем из 400 тыс. коммунистов рабочих было 171 тыс., или 44,4 %. Если же учитывать только непосредственно занятых на предприятиях рабочих, картина получится совсем другая. Например, даже в такой крупной организации, как Петроградская, из 17 тыс. членов партии только 12 % трудились на производстве; в Москве из более чем 25 тыс. – 9 %[462]. На это специально указывал Ленин: «наша партия по своему составу недостаточно пролетарская». В нее устремилась самая разная публика, которая «увлечена теперь политическими успехами большевиков»[463]. Вождь предлагал увеличить кандидатский стаж для приема новых членов. Для проработавших на крупных промышленных предприятиях не меньше десяти лет оставить полгода; остальным пролетариям установить стаж полтора года (при этом два года для крестьян и три – для служащих)[464]. Ленин считал, что «партия не может раскрывать широко своих ворот»: она должна вбирать в себя только тех, кого есть «возможность испытать с величайшей осторожностью»[465]. Причем к массовому вливанию в партию рабочих Ленин тоже не был расположен. Невысоко оценивая качество российского послевоенного пролетариата, он постоянно возвращался к теме его засоренности случайными элементами[466]. В унисон вождю – о деклассированности пролетариата, о разрушении пролетарского ядра – высказывался и Зиновьев. По его словам, отрицать эти обстоятельства значило бы «не давать партии возможность разобраться в том, что есть»[467]. Эти высказывания лидеров РКП(б) соответствовали действительности. Как утверждают специалисты-историки, до 1924 года никакой специальной агитации по вступлению в партию среди рабочих не проводилось[468].
Ленин планировал лишь включить несколько десятков настоящих пролетариев в Центральный комитет партии: они лучше, чем кто-либо другой, справятся с проверкой и улучшением работы аппарата. Заметим, речь шла не о тех рабочих, которые уже побывали на партийной или советской службе, а о кадрах непосредственно с заводов и фабрик, с серьезным дореволюционным стажем. По ленинскому замыслу, эти выдвиженцы должны были присутствовать на всех заседаниях ЦК и политбюро, придавая необходимую устойчивость их работе[469]. Однако ленинские идеи очень скоро приобрели статус завещания, поскольку из-за болезни вождь так и не смог восстановить свою трудоспособность. Первым творчески интерпретировать его наследие бросился Л. Д. Троцкий, выступивший с так называемым новым курсом. В письме членам ЦК и ЦКК РКП(б) он подверг жесткой критике партийное руководство за отрыв от рядовых коммунистов; заклеймил практику назначения ответственных работников; констатировал всесилие аппарата, который сводит участие масс в жизни организаций к минимуму. По его словам, за последние годы «сформировалась специфическая секретарская психология»: «она рассеивает и убивает чувство ответственности»[470].
Подчеркнем, что этот критический перечень не был новым словом во внутрипартийной жизни. Ведь не менее острая критика звучала в 1920–1922 годах – со стороны «рабочей оппозиции». Троцкий прекрасно это осознавал, а потому в своем письме не мог не упомянуть дискуссий на Х съезде РКП(б), назвав их «преувеличенными, в значительной мере демагогическими»[471]. Но схожесть обвинений Троцкого образца 1923–1924 годов и «рабочей оппозиции» – 1920–1922 в адрес партийного руководства была столь очевидной, что на это указывали многие[472]. Выразил возмущение и один из лидеров разгромленной оппозиции А. Г. Шляпников. Он заметил, что подобные претензии в адрес Центрального комитета уже выдвигались два года назад, «но ЦК оставался глух к нашим предостережениям»[473]. Причем нынешнюю критику Троцкого и его сторонников (заявление 46-ти) Шляпников расценил как ограниченную. Чтобы улучшить атмосферу в партии, необходимо реорганизовать систему взаимоотношений управляющих и управляемых, а не только требовать замены одних лиц другими. Лишь в этом случае провозглашенный «новый курс» будет эффективным. Не одобрил Шляпников и стремление Троцкого выставить «внутрипартийный спор как тяжбу между молодняком и стариками»: акцент на возрастных расхождениях только отвлекает от сути поднятых проблем[474].
В целом выпад Троцкого, который рассчитывал таким образом привлечь под свои знамена широкий партактив, был воспринят крайне неоднозначно. Хотя непосредственно в самом ЦК РКП(б), как спустя несколько лет вспоминал Сталин, половина его состава шла за Троцким[475]. С другой стороны, довольно быстро выяснилось, что рабочая часть партии оставалась к нему совершенно равнодушной. Троцкистская оппозиция состояла из большевистской, к тому же преимущественно нерусской интеллигенции, лиц пролетарского происхождения в ней было мизерное количество, и оказались они там исключительно в силу личных обстоятельств. Например, бывший самарский рабочий Л. П. Серебряков, будучи членом секретариата ЦК (вместе с Н. Н. Крестинским), попал под влияние незаурядной личности Троцкого и в партийных раскладах ориентировался на него; Сталин даже окрестил его секретарем бюро оппозиции[476]. Зато троцкистские «новации» вызвали энтузиазм среди учащихся, в первую очередь вузов, сосредоточенных в Москве. На тот период из 200 тыс. студентов страны здесь обучалось свыше 70 тыс., и 10 тыс. из них были членами или кандидатами в члены партии; в целом же вузовские комитеты составляли 28,3 % от общего количества коммунистов города. По социальному составу большую часть вузовских большевиков составляли выходцы из служащих[477]. По словам Н. И. Бухарина, эта среда представляла собой благодатную почву, и троцкисты стремились «опереться на неискушенный молодняк»[478]. На XIII конференции РКП(б) в январе 1924 года подчеркивалось, что вузовские партийные ячейки по большей части поддерживают Троцкого, письма его сторонников распространяются там во множестве экземпляров. Один из представителей московской парторганизации иронизировал по этому поводу: у нас «теперь говорят, что ячейки не «бузят», а «вузят»[479]. Сталин возмущался ссылками на Ленина, которыми изобиловали оппозиционные выступления: это не искренность, а стратегическая хитрость – «хотят шумом о гениальности Ленина покрыть свой отход от Ленина»[480]. В результате наблюдалось явное противопоставление учащихся и рабочих[481].
Оппоненты Троцкого по политбюро ЦК решили нейтрализовать его активность испытанным методом – перехватить инициативу. Это было вполне реально, поскольку тот, в отличие от своих противников, не отличался аппаратным упорством. Как справедливо замечено, «его тщеславие даже больше, чем его любовь к власти – это тот сорт тщеславия, которое скорее можно встретить у художника или актера»[482]. Так как Троцкий пользовался явной поддержкой среди интеллигенции и учащейся молодежи, в качестве противовеса решили в срочном порядке реанимировать пролетарскую тему. И все-таки это решение выглядело довольно неожиданным. Ведь тот же Зиновьев постоянно предостерегал от идеализации рабочих, т. к. уровень их подготовки не отвечал высокому званию коммуниста. Еще недавно он требовал добиваться не количества, а качества: пусть на Путиловском заводе останутся только пятьдесят большевиков, но зато они будут ярким примером для беспартийной массы[483]. Теперь же Зиновьев, без участия доживавшего последние дни Ленина, сам дал старт небывалому по масштабам призыву пролетариев в РКП(б). В свойственной ему манере он назвал это «вторым завоеванием души рабочего класса»[484]. Под первым завоеванием имелся в виду период с 1912 по 1917 год, когда партия стала заметно «орабочиваться», на всех парах двигаясь навстречу социалистической революции[485]. Теперь предстояло воспроизвести тот бесценный опыт уже на другом уровне, как и подобает правящей партии. В историю это «второе завоевание» вошло под названием Ленинский призыв.
Надо сказать, что смерть Ленина на многих оказала большое воздействие, и прежде всего на рабочих. Быстро выяснилось, что в пролетарской среде распространен такой взгляд: чтобы смерть вождя не была напрасной, надо продолжить его дело, а значит – усилить партийные ряды. Популярность получила идея «частично заменить собой умершего вождя». Подобные высказывания встречаются как в воспоминаниях, так и в заявлениях о вступлении в партию тех дней[486]. Если учесть, из каких народных слоев вышли русские рабочие, это совсем не кажется удивительным. Трудно сказать, как эти мотивы интерпретировал Зиновьев. Во всяком случае, во всех своих публичных выступлениях он требовал снять любые преграды для вступления рабочих в РКП(б)[487]. План Ленинского призыва предусматривал пополнение партии 100 тысячами пролетариев. За дело взялись с огромным энтузиазмом, и уже в начале апреля 1924 года Молотов рапортовал: намеченная цифра не отражает положение дел, нужно говорить о 200 тыс. рабочих с производства, вливающихся в большевистские ряды[488]. Очевидно, что подобные темпы были возможны лишь за счет значительного снижения требований к кандидатам. Собственно, это и предполагалось постановлением пленума ЦК от 29–31 января 1924 года. Центральный комитет разрешил рассматривать заявления о приеме в партию рабочих по упрощенной процедуре, без соответствующих рекомендаций и прохождения кандидатского стажа. Достаточным признавалось предварительное обсуждение на общем партийном собрании[489]. Такая практика, конечно, не могла не смущать, и Молотов вынужден был специально разъяснять, что принимаются вовсе не случайные люди, а те, кто «был близок партии за последнее время, кто посещал ячейковые партийные собрания, регулярно участвовал в жизни фабрично-заводских организаций…это не пассивный элемент, который знает, за что борется партия»[490]. Наполнение партии рабочими сопровождалось введением ограничений по отношению к непролетарским элементам. На время Ленинского призыва вообще был объявлен мораторий на их вступление[491]. Кроме того, Центральная контрольная комиссия решила внести лепту в оздоровление имеющейся партийной массы: она постановила выявить и исключить 50 тыс. «примазавшихся». Глава ЦКК В. В. Куйбышев комментировал:
«Дорогу в партию пролетариату, и вон из партии тех, кто эту партию загрязнял, затемнял, нарушал ее единство, проникался мелкобуржуазными влияниями».[492]
В результате Ленинского призыва в РКП(б) влилось более 200 тыс. новых членов, и ее состав радикально изменился. На XII съезде об этом сказал Молотов: прежде партия «жила в значительной мере теми силами, которые она получила из пролетариата до революции. Теперь же мы собрали в партийных организациях тысячи и сотни тысяч новых рабочих, прошедших школу гражданской войны и школу почти семилетней пролетарской революции»[493]. За счет поступления новых коммунистов местные парторганизации продемонстрировали серьезный рост. Так, в Иваново-Вознесенской насчитывалось 3000 рабочих, и это число с 1920–1921 годов (т. е. со времени «рабочей оппозиции») оставалось неизменным, теперь же организация увеличилась до 8000[494]. В Туле с начала 1920-х годов количество коммунистов удвоилось[495] и т. д. Заметим, что с этих пор партия уже в реальности, а не в лозунгах (как было раньше) стала пролетарской. Крестьян же в ней было совсем мало: в московской организации их оказалось 0,5 % от всего комсостава, а в Донбасской -1,4 %[496].
Новое пополнение было объединено в огромное количество партийных ячеек. ЦК уделял им повышенное внимание, стараясь координировать их деятельность в русле единой политики. Эти разветвленные низовые структуры мыслились точками партийного влияния на массы, с их помощью вербовались новые кадры[497]. С другой стороны, ячейки стали «кирпичиками» в строящейся системе политического просвещения; собственно, ее становление и происходит в ходе Ленинского призыва. Для этого специально была учреждена комиссия по политическому воспитанию новых членов[498].
За год было охвачено свыше 250 тыс. коммунистов, постигавших политические азы в 8,5 тыс. школ[499]. Лидеры партии, борясь за влияние на новую поросль, выступили с брошюрами, которые активно использовались в системе партпросвещения. Троцкий подготовил труд под названием «Уроки Октября», где рассказывал о своей огромной роли в борьбе большевиков за власть. Не отставал и Зиновьев. Его «История РКП(б)» бесплатно распространялась среди новых партийцев. Сталин презентовал «Основы ленинизма». Эта работа сильно отличалась от работ двух его основных соперников в борьбе за ленинское наследие. Троцкий и Зиновьев на основе конкретной исторической канвы рассказывали о ситуациях и людях, о которых молодые коммунисты имели весьма смутное представление. Сталин же пошел по другому пути: он дал простой набор ленинских цитат, вполне понятных для людей, не отягощенных образованием и интеллектом, и достиг цели: «Основы ленинизма» стали пользоваться большой популярностью[500]. Надо заметить, что сам Сталин скептически относился к подобному творчеству: «книжкой руководителей не создашь; книжка помогает двигаться вперед, но сама руководителя не создает»[501].
Ленинский призыв весны 1924 года получил еще более мощное продолжение. Запевалой опять выступил Зиновьев. Его не устраивало, что рабочие от станка составляют в партии всего около трети. Он провозглашал новую программу– минимум на ближайшие два года: 75 % всех партийцев обязаны составить рабочие, причем не менее половины из них – непосредственно на производстве. А за следующие три-четыре года следовало довести общую численность РКП(б) до миллиона в такой пропорции: 900 тыс. рабочие от станка и 100 тыс. – все остальные[502]. Очевидно, что после кончины Ленина Зиновьев с удовольствием примерял роль нового лидера партии, перехватывая инициативу у Троцкого. Важный пост главы Коммунистического интернационала и имидж предводителя мирового пролетариата как нельзя лучше соответствовали его амбициям. О претензиях на лидерство свидетельствует и начало издания 22 томов зиновьевских сочинений, которое стартовало еще до публикации собрания сочинений Ленина[503]. Но даже на этом фоне «наполеоновские» планы Зиновьева по привлечению пролетариев в партийные ряды поражают. Какие преимущества усматривал он в этом начинании? Молотов вопрошал: «Во имя чего это делается? Не во имя ли лести рабочим – лести, в которой рабочие не нуждались и не нуждаются?»[504]По всей видимости, Зиновьев был искренне убежден в преданности рабочего класса ему лично (знавшие его люди замечали, как жадно он читал публикации, подготовленные, а точнее, сфабрикованные для него подчиненными из «Ленинградской правды»[505]). В зиновьевском активе числилось также усмирение «рабочей оппозиции» в Петрограде – его партийной вотчине. Все это могло дать ему уверенность в том, что он легко займет место главного рабочего вожака на всероссийском уровне.
Кроме того, мы убеждены, что само понимание пролетариата оставалось у Зиновьева сугубо марксистским. Чтобы подтвердить это, вспомним зарисовку дореволюционной поры, оставленную М. М. Пришвиным. В автобиографическом романе «Кощеева цепь» он красочно описал, как германские рабочие, сидя за столами с пивом, слушали респектабельных адвокатов, разъяснявших им, почему устраивать забастовку в данный момент экономически невыгодно. Как заметил пораженный Пришвин, это совсем не напоминало решительный штурм буржуазного мира[506]. А ведь именно такой пролетариат и созерцал Зиновьев, пребывая долгие годы в европейской эмиграции. Однако образ русского рабочего той поры заметно отличался от западноевропейского, и, разумеется, не в сторону большего прагматизма. А Зиновьев, оказавшись на властном олимпе, естественно, опирался на свой жизненный опыт. Правда, после бунта «рабочей оппозиции» в его речах, неизменно посвященных широкому привлечению пролетариата в партию, стали проскальзывать любопытные нотки. Так, на XIII конференции РКП(б) Зиновьев заявил, что такие как он являются истинными партийными староверами[507]. А на судьбоносном для него XIV партсъезде вдруг решил предстать в образе начетчика – знатока ленинских произведений, которые в обилии цитировал, причем именовал себя «рабом божьим Зиновьевым»[508]. Если это были попытки подстроиться под определенную ментальность, то желаемой цели они явно не достигли. В глазах большинства пролетариев интеллигент Зиновьев мало чем отличался от того же Троцкого. Конечно, ветераны социал-демократического движения рассчитывали на свое интеллектуальное превосходство, которое поможет настроить малообразованное пополнение на нужную идейную волну. Это хорошо выразил старый участник движения Д. Б. Рязанов (Гольденбах):
«Мы говорим рабочим, что они становятся членами коммунистической партии только тогда, когда они совлекут с себя – как индусы при входе в священный храм – грязную одежду»[509].
Но события показали, что эти самые рабочие, на которых ставили вожди партии, и прежде всего Зиновьев, совсем не намеревались, вступая в партию, следовать их наставлениям и расставаться со своими жизненными установками. И потому в РКП(б) оказались кадры, не вкусившие социал-демократических истин, насквозь пропитанные неприязнью к интеллигенции, включая партийную, и преисполненные не духом интернациональной солидарности (о котором имели весьма слабое представление), а сознанием национальной исключительности. Н. К. Крупская, соприкоснувшись с представителями нового партийного пополнения, подметила, что те «отождествляют интеллигентов с крупными помещиками и с буржуазией; ненависть к интеллигентам очень сильна, ничего подобного не встретишь за границей», – заключала она[510]. Не заставил себя ждать и всплеск антисемитизма. Бонч-Бруевич недоумевал: почему это происходит при советской власти?! Понятно, что раньше эти настроения сознательно разогревал царизм, дабы одурять простонародье, но теперь, на десятом году революции, мы снова сталкиваемся с нарастающими волнами этого низменного чувства. Причем не только в несознательных, отсталых слоях, но и в недрах партийно-советского аппарата[511]. Более того, антисемитизм становился все более заметным явлением преимущественно в рабочей среде[512]. Многих потрясло известие из небольшого городка Середа недалеко от Иваново-Вознесенка, где на одной фабрике в начале 1927 года над учеником-подростком еврейской национальности была учинена физическая расправа. Причем в избиении принимали участие отнюдь не отсталые беспартийные рабочие, а коммунисты и комсомольцы предприятия. Комсомольский функционер, рассказавший об этом с трибуны V Всесоюзной конференции ВЛКСМ, предостерегал:
«Грозные черносотенные настроения, так свирепо носившееся в Иваново-Вознесенской губернии в дни 1915-1917 годов, взяли свое. Они прорвали плотину пролетарского сознания и вышли наружу»[513].
В 1925 году прошел следующий этап Ленинского призыва, а к десятилетию революции, в 1927-м, состоялся так называемый Октябрьский призыв. За три эти массовые кампании в партию влилось более полумиллиона рабочих, и в результате пролетарское ядро увеличилось более чем в пять раз[514]. Изменения в уставе, принятые XIV съездом ВКП(б), закрепляли послабления для приема промышленных рабочих. Если раньше от них требовалось предоставить три рекомендации с трехгодичным стажем каждая, то отныне – только две с одногодичным пребыванием в партии[515]. Весьма любопытное наблюдение сделал восходящая партийная звезда ГМ. Маленков: среди вступающих в партию пролетариев преобладают рабочие средней квалификации[516]. Они «направляют свою энергию и активность против мещанских интересов и иногда, правда, в редких отдельных случаях, даже скатывающихся к меньшевизму»[517]. В то же время высококвалифицированные индустриальные кадры с длительным трудовым стажем вяло откликаются на призывы связать свое будущее с большевиками. Поэтому прослойка высококвалифицированных рабочих в партии незначительна, однако по своему положению на производстве достаточно влиятельна. Необходимо нейтрализовать ее путем вовлечения в активную общественную деятельность[518].
На наш взгляд, объясняется такое положение вещей просто. Высококвалифицированный пролетарский слой, на глазах которого произошел бунт и разгром «рабочей оппозиции» 1920–1922 годов, в значительной мере разуверился в партии и потому оставался равнодушным к ее инициативам. А пополнение ВКП(б) происходило за счет тех, кто только включался в расширяющееся производство; эти более молодые рабочие были гораздо оптимистичнее настроены по отношению к партии, которую рассматривали в качестве надежного социального лифта. Они не собирались довольствоваться ролью статистов, а стремились приобщиться к властным структурам разного уровня, используя положение правящей партии. Им не могла не импонировать четкая партийная установка: втянуть новых членов РКП(б) в государственную работу. XIII съезд партии требовал незамедлительно связать молодых коммунистов с практической деятельностью в партийных органах, в советах и профсоюзах. Особо подчеркивалось, что этому не должна мешать неподготовленность новых кадров, в частности незнание какого– либо пропагандистского курса[519]. Результат не заставил долго ждать. Если, например, до 1924 года на уровне первичных парторганизаций среди секретарей и членов бюро ячеек преобладали коммунисты со стажем с 1917–1920 года, то затем произошло смещение в сторону более молодых партийцев из Ленинского призыва[520]. Поток рабочих кадров хлынул на ответственную советскую, хозяйственную, кооперативную работу, что стало особенно ощутимо на городском и районном уровне. К примеру, выдвижение рабочих заметно изменило «лицо» местных советов: в 1926 году число пролетариев во многих горсоветах страны увеличилось до 50 %[521]. Причем с 1925 года они действовали по новому «Положению о городских советах», существенно расширившему полномочия по управлению городским хозяйством[522].
Рабочие представители, деловито осваиваясь на районных этажах власти, пытались закрепиться и на губернском уровне. Вместе с тем претендовать на ключевые аппаратные должности они не могли, поскольку здесь все-таки требовался длительный партстаж. Еще XI съезд РКП(б) в 1922 году постановил, что для секретарей губернских комитетов необходим дооктябрьский стаж, а для секретарей уездных организаций – вступление в партию не позднее 1918 года[523]. Подобные ограничения касались также советской и хозяйственной работы. Так что до партийно-государственных верхов было еще очень далеко. Такое положение раздражало новоявленных большевиков; это напоминало им времена «рабочей оппозиции», когда часть дореволюционных партийцев пролетарского происхождения претендовала на руководящие роли. Однако, представители «рабочей оппозиции» составляли явное меньшинство, сейчас же ситуация коренным образом изменилась – пролетарские кадры стали внутрипартийным большинством. Кстати, эти противоречивые тенденции хорошо улавливали эмигрантские наблюдатели. Парижская газета «Возрождение» писала, что в большевистской партии произошел громадный приток новых членов, требующих мест, соответствующих привилегированному званию коммуниста. Причем большую тревогу руководящих верхов вызывают нарастающие обвинения в адрес «еврейского засилья». Эти выпады представителей партийного пополнения нещадно караются, однако они ведут себя вызывающе, проявляя открытую неприязнь к своим «нерусским интеллигентным товарищам»[524].
Механизмом для продвижения по карьерной лестнице стало одно из важнейших подразделений аппарата ЦК ВКП(б) – учетно-распределительный отдел. Еще в начале 1920-х годов это была самая слабая структура партийного аппарата, и работать там никто не хотел[525]. Ситуация изменилась, когда из-за массового пополнения партии встала задача учета кадров и их аппаратного распределения. Уже на XIII съезде РКП(б) в 1924 году об учетно-распределительном отделе отзывались как о наиболее значимом и хорошо отлаженном подразделении аппарата ЦК[526]. Отдел приступил к сбору характеристик и отзывов о кандидатурах, ждущих выдвижения. По ним шли обсуждения, и лишь затем принимались решения[527]. Был разработан «Личный листок по учету кадров» из 27-ми пунктов. Помимо ответов на традиционные вопросы (фамилия, дата рождения, национальность, образование, семейное и социальное положение), требовалось указать: основные занятия до революции, состоял ли в каких-либо партиях, кроме большевистской, подвергался ли репрессиям в царское время, какие местности страны наиболее хорошо знакомы[528]. Кроме того, для большей достоверности практиковались так называемые перекрестные характеристики, когда ответственные сотрудники направляли в Центральный комитет отзывы друг на друга[529]. Таким образом, орграспредотдел аккумулировал банк данных по всем партработникам и их перемещениям, превращаясь в своего рода биржу труда для номенклатуры страны[530].
Следует подчеркнуть, что именно с середины 1920-х годов, когда роль отдела необычайно возросла, в его руководстве появились партийцы староверческого происхождения. Иван Москвин, возглавивший отдел с 1926 года, был родом из Твери, из семьи мелких купчиков, по сведениям краеведов, принадлежавших к поповскому согласию. Окончив тверскую гимназию, он поступил в Петербургский горный институт, но учебу не завершил, оказавшись в 1911 году в большевистской партии. Испытывая неприязнь к Троцкому и Зиновьеву, он активно участвовал в разгроме их сторонников. Кстати, Сталин прилагал немалые усилия, чтобы приблизить Москвина: звал его на охоту, приглашал на свои грузинские застолья, заезжал навестить его во время отдыха на юге и т. д. Но тот вел довольно замкнутый образ жизни, не курил, не употреблял спиртного и довольно вяло реагировал на сталинские знаки внимания[531]. Интересно, что именно Москвин взял своим заместителем небезызвестного Н. И. Ежова, также выходца из староверия, и способствовал его карьерному восхождению[532]. А известил Ежова о назначении еще один заместитель Москвина – бывший орехово-зуевский рабочий, представитель тех же конфессиональных корней, Николай Богомолов. Именно такие партийные функционеры в марте 1927 года продвигали постановление ЦК ВКП(б), настойчиво требуя от местных парторганизаций представить перечень должностей, на которые в первую очередь должны выдвигаться рабочие и крестьяне[533].
Орграспредотдел позволит продвинуться по карьерной лестнице многим кадрам староверческого происхождения, о чем речь впереди. Здесь же обратим внимание на то важное обстоятельство, что Ежов принимал непосредственное участие в составлении кадровой информационной базы, использованной затем в ходе большого террора конца 1937 – 1938 годов. Накопление данных о партийном составе длилось не один и не два года и в значительной мере явилось плодом усилий сотрудников орграспредотдела. Поэтому весьма легкомысленной выглядит версия о том, что сталинский секретарь Товстуха, скончавшийся в 1935 году, в кабинетной тиши составлял списки для будущих расправ, вычисляя недоброжелателей Сталина[534].
Массовое наполнение партии пролетарскими элементами из низов определило исход внутрипартийной баталии с троцкистско-зиновьевской оппозицией. «Второго завоевания души рабочего класса» в ее исполнении не произошло: политические и экономические устремления лидеров оппозиции слабо соотносились со взглядами тех, кого они привлекли для укрепления своих позиций. Этот блок состоял преимущественно из интеллигентов нерусской национальности, искренне заряженных неугасимой мечтой о мировой революции. Безусловно, ими было внесено в русскую революцию немало энергии и страсти, «но с таким же успехом они могли участвовать и в революции испанцев или индусов»[535]. Их восприятие России, недостаточно развитой в капиталистическом отношении, никогда не было, мягко говоря, возвышенным. Эти марксистские деятели ожидали краха буржуазного мира где-либо в Европе, скорее всего в передовой Германии или во Франции с их сильными революционными традициями. Постепенное расставание с этими надеждами заставило их задуматься о восстановлении страны, где они волею судеб оказались у власти. Европейцы по складу мышления, они не мыслили хозяйственного оздоровления вне связей с западной экономикой и мощного участия иностранного капитала. Поэтому завершение Гражданской войны совпало по времени с оформлением партийно-государственного курса на привлечение зарубежных инвестиций в форме концессий. Конечно, все это выглядело довольно странно в условиях победившей социалистической революции, при неустанных и громогласных заверениях о неполноценности и исторической обреченности капиталистического строя. Тем не менее неопределенность путей развития стимулировала контакты со вчерашними противниками, поскольку на созидательный потенциал русского народа никто из лидеров революции всерьез не рассчитывал.
Причем первым, кто публично и в полный голос заговорил о взаимодействии с Западом, стал Ленин: «концессии – это есть договор с буржуазной державой»[536]. Правда, затем при каждом удобном случае он напоминал, что концессии – это «вид борьбы, продолжение классовой борьбы в иной форме, а никоим образом не замена классовой борьбы классовым миром. Способы борьбы покажет практика»[537]. Конечно это разъяснение было нелишним для страны победившего пролетариата, которого не мог не посещать вопрос: зачем с величайшими муками изгоняли капиталистов, если теперь зазывают их обратно? Но здесь важно обратить внимание на одно обстоятельство, нередко упускаемое из виду. Вождь рассчитывал на сотрудничество с иностранным капиталом, с бывшими зарубежными акционерами предприятий, находившихся на территории России. Этим собственникам предполагалось передать на длительный срок ранее принадлежавшие им заводы и фабрики под обязательство запустить производство, привлечь финансирование и новые технологии. Вместе с тем о возможности выдачи концессий на таких условиях бывшим владельцам российских активов речи не велось. Как замечал Л. Д. Каменев, «русские капиталисты сейчас же будут добиваться власти; иностранные капиталисты безопаснее, они будут добиваться только дивидендов»[538]. Именно такой экономической тактики придерживалось советское государство. Это хорошо видно по тем наставлениям, которые давал Ленин своим эмиссарам, посылаемым в Европу прощупать готовность предпринимательских кругов к сотрудничеству. Одним из таких посланцев был известный профессор В. Н. Ипатьев, игравший заметную роль в госструктурах царской России во время Первой мировой войны. Он слыл убежденным сторонником западного капитала в восстановлении экономики, активно использовал термин «реституция»[539]. Ипатьев вспоминал, что Ленин четко ориентировал его на контакты именно с иностранными предпринимателями, которых предлагал заинтересовать прежде всего индустрией Донбасса, ранее находившейся в их руках[540]. Визиты в Лондон, Париж, Брюссель оставили у Ипатьева самые благоприятные впечатления. О русских же капиталистах, оказавшихся в эмиграции, упоминал вскользь: «Они ко мне не идут, а я к ним тоже не пойду!»[541]
Реакция русских промышленников на подобные экономические вылазки была бурно негативной. В этой среде быстро почувствовали, что намечаемые новой властью хозяйственные подвижки абсолютно не рассчитаны на них. Участники созданного недавно в Париже Торгово-промышленного совещания, объединявшего русскую буржуазию, выступили против отдачи России на разграбление иностранцам: им «наша родина нужна только как объект эксплуатации»; нельзя, чтобы чужие люди без нас «заботились» о нашей родине. Они резко осудили заигрывание отдельных лиц с советами[542]. «Захватчики власти в России выносят распятую ими нашу родину на международное торжище. С беспринципным цинизмом продают они чужую им, обескровленную Россию, лишь бы выгадать еще час жизни, еще час власти»[543]. Торгово-промышленное совещание постоянно выступало с резолюциями о недопустимости совместной работы с советской властью, т. к. это приведет лишь к углублению экономического кризиса на Западе и искусственно поддержит диктатуру[544]. Известный П. П. Рябушинский заверял, что иностранцы хотят превратить страну в подобие Ост-Индийской компании. Бывший царский премьер В. Н. Коковцов предрекал: они к нам не прислушаются, зато нас должна услышать Россия[545].
Разумеется, мнение российской эмиграции партийно-советское руководство в расчет не принимало. После отхода Ленина от дел и затем после его смерти соратники вождя по Политбюро ЦК постепенно образовали троцкистско-зиновьевскую оппозицию, проявив себя приверженцами иностранного капитала. Они даже не пожелали делить это поле деятельности с наркомом внешней торговли Л. Б. Красиным, которого как специалиста в данной области высоко ценил Ленин[546]. Любимца вождя умело оттерли на вторые роли: в ходе реорганизации Наркомата внешней торговли и Наркомата внутренней торговли создали единое ведомство во главе с А. А. Цюрупой, а Красина отправили к нему заместителем, определив местом пребывания Лондон[547].
Привлечение западной буржуазии в страну советов страстно пропагандировал Троцкий. Он предлагал и теоретическое обоснование этой идеи. Русский капитализм не развился до того серьезного уровня, как его характеризует передовая индустрия, созданная преимущественно иностранцами, и отсталое полупатриархальное ремесло. Экономическая инфраструктура, доставшаяся в наследство от царизма, актуализирует взаимодействие, прежде всего с иностранными предпринимательскими кругами[548]. А русская буржуазия не в состоянии быть полноценным субъектом модернизации. В концессиях Троцкий видел несомненную экономическую выгоду: «мы слишком молоды для использования наших богатств в государственном масштабе». К тому же они – серьезная гарантия нашей безопасности: «давая концессию на Камчатке американскому капиталу, мы защищаемся от военного вторжения»[549]. В апреле 1924 года выступавший в Бакинском совете Троцкий заявил, что техническо-экономический прыжок невозможно осуществить без помощи иностранного капитала; надо лишь сократить его присутствие по сравнению с довоенным уровнем[550]. Будучи в оппозиции, Троцкий продолжал настаивать на расширении иностранных концессий, даже предлагал допустить для работы в СССР зарубежные банки[551]. Тех же мыслей придерживался и Зиновьев. Вот отрывок из одного его выступления:
«Ошибается трижды тот…, который думает, что мы от серьезных сделок с иностранным капиталом отвернемся только потому, что мы – коммунисты. Мы не отказываемся торговать, давать концессии, мы не отказываемся от известных обязательств. Но мы требуем, чтобы они с нами разговаривали не как с колонией или полуколонией»[552].
На XIII съезде РКП(б) Зиновьев сказал, что концессионные договоры подтягивают работу наших хозяйственных органов. Он призвал лучше работать и привел в пример успешные концессии, выданные зарубежным фирмам.[553] К. Б. Радек тоже излучал энтузиазм по поводу иностранного капитала. Находясь в Берлине, он назвал курс советского руководства логичным продолжением политики царских министров финансов И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте.[554]
В тоже время, русские промышленники также делали попытки принять участие в промышленном восстановлении страны. Например, бывший министр Временного правительства М. И. Терещенко сделал предложение по сахарным заводам, ранее принадлежавшим его семье.[555] Но подобные инициативы неизменно встречали категорический отказ. И тут же раздавались призывы к французским рантье вкладывать в Россию: мол, ее обширные ресурсы послужат гарантией инвестиций. При этом добавлялось, что если бы Колчак или Врангель оказались победителями, то они также были бы вынуждены просить о помощи[556]. Откровенная ставка на западный капитал со стороны членов высшего партийносоветского руководства порождала внутри страны слухи, что большевики собираются превратить нищую Россию в страну с «царящим в ней иностранным капиталом»[557]. Такая политика вызывала недовольство в советском обществе, особенно в низших его слоях. Это проявлялось на различных всероссийских форумах, куда съезжались делегаты с мест. На профсоюзных съездах неизменный интерес вызывала тема концессий. Больше всего записок в президиум поступало именно по этому поводу[558]. Причем общий критический настрой участников не вызывал сомнений: «это постыдная уступка западному капитализму, нашему подлому врагу»[559]. То же самое происходило на сессиях ВЦИКа. К примеру, в октябре 1924 года рабоче-крестьянские представители буквально атаковали наркома иностранных дел Г. В. Чичерина, когда он докладывал о планах получения займов, с погашением которых произошло бы частичное удовлетворение по царским долгам (выплата царских долгов являлась основным требованием западных кредиторов)[560]. Выступавшие ораторы требовали свернуть все приготовления к переговорам: они «знаменуют отступление нашей внешней политики» и должны быть пресечены «твердой пролетарской рукой». Пусть восстановление экономики пойдет медленнее, но зато «мы ничего из дорогих завоеваний Октября не отдадим никому»[561]; «ни английскому, ни каким-либо другим правительствам мы не должны ни гроша, наоборот – предъявим им наш самый суровый счет!»[562] Один уральский рабочий сказал: «Когда рабочие слышат об этих переговорах, то они задаются вопросом: стоит ли вступать в концессию? Не лучше ли восстанавливать своими собственными руками? Что за интерес сдавать такое богатство в концессию, когда мы за эти заводы боролись?»[563] Конечно, подобное восприятие концессионной темы делало невозможной ее реализацию. Разумеется, и авторы данного курса не могли снискать популярность в массах, что сыграло не последнюю роль в политическом поражении троцкистско-зиновьевской оппозиции.
Правда, разгром этой оппозиции был предопределен. До смерти Ленина у Троцкого и Зиновьева имелось немало сторонников в большевистских рядах, они были признанными и популярными лидерами. Однако в результате расширенного приема в РКП(б) их приверженцы растворяются в массе новых партийцев, далеких от почитания этих кумиров. К 1928 году нижний партийный уровень (первичные ячейки) кардинально расширился за счет тех, кто вступил в партию в ходе Ленинского и Октябрьского призывов. Так, члены бюро на промышленных предприятиях больше чем на 2/3 состояли из коммунистов со стажем с 1924 года и позже[564]. Еще не занимая серьезных аппаратных позиций, они начали влиять на формирование общей внутрипартийной атмосферы. Эту тенденцию чутко уловили в верхах: противники троцкистско– зиновьевского блока решили использовать новые веяния в остром фракционном противостоянии. Молотов откровенно говорил, что огромный приток пролетарских кадров стал лучшим ответом на появление оппозиций[565]. Это признание было проиллюстрировано на XIV съезде ВКП(б), когда обструкция Зиновьеву и Каменеву со стороны разномастных партийных функционеров завершилась именно рабочим аккордом. На трибуну высшего партийного форума выходили рядовые коммунисты из Ленинграда – главного оплота оппозиции. Их выступления комментировал М. И. Калинин (в прошлом токарь Путиловского завода): перед съездом выступают не просто рабочие, а представители Выборгского района, что «имеет глубокий политический смысл»[566]. Калинин предложил вспомнить октябрьские дни 1917 года, когда рабочие-выборжцы являлись душой большевистского штаба: их поддержка в острые для партии моменты традиционна. И теперь выборгскому пролетариату не изменило классовое чутье, поэтому мы и видим здесь его представителей[567].
Конечно, подготовленность данного эпизода была очевидна, но важно другое: рядовые пролетарии не без удовольствия заклеймили Зиновьева и его сторонников, подчеркнув, что не имеют с ними ничего общего. На Х партийном съезде, громившем «рабочую оппозицию», привлекать пролетарских трибунов не решились. Тогда вероятные риски подобных инсценировок заметно превышали предполагаемый эффект. Теперь же выступления пролетарских посланцев не выглядели искусственными: они «не переступали через себя», напротив, их ненависть к партийной интеллигенции была органичной. Подыгрывая этим настроениям, Сталин в докладе на XV съезде ВКП(б) заявил, что истинные большевики не желают «иметь в партии дворян»[568]. А Рудзутак уточнил: «никуда не годных, насквозь прогнивших интеллигентов»[569]. Действительно, Троцкому, Зиновьеву, Каменеву и др. в этой меняющейся большевистской партии делать было уже нечего. «Душа» рабочего класса оказалась в руках сталинской группы, сумевшей выразить чаяния русского пролетариата, который стремительно заполнял большевистскую партию. Напомним, многие расценивали тогда эту сталинскую линию как прямое заимствование политических наработок Зиновьева и левой оппозиции. Однако самого Сталина совершенно не смущали подобные разговоры:
«Кто первый сказал «а», кто после вымолвил «б» и пр. Я думаю, этот метод не пригоден для нас, потому что он вносит элемент склоки и взаимных обвинений и ничего путного не дает»[570].
Сталин с успехом продолжил зиновьевский курс на «орабочивание» большевизма. За два с половиной года, между XV и XVI съездами (1928 – середина 1930 года) ряды ВКП(б) пополнили еще свыше 600 тыс. новых членов из пролетарских слоев, причем нередко заявления подавались целыми цехами[571]. Пики вступительной горячки приходились на так называемые «Ленинские дни», т. е. февраль-апрель каждого года, когда прием в партию стабильно находился на уровне показателя первого Ленинского призыва 1924 года[572]. Руководство неизменно расценивало это как неопровержимое доказательство доверия к сталинскому курсу. Хотя партийные ряды по-прежнему пополнялись рабочими в основном средней квалификации. В одной из статей «Правды», где рассматривались количественные и качественные характеристики партийного пополнения, было сказано о вступлении в ВКП(б) и кадров с 25-30-летним производственным стажем. Однако среди самых подробных статистических данных лишь по этой позиции не было приведено никаких конкретных цифр[573]. Наводнившие партию кадры с пролетарской закваской нацеливались на восхождение по партийно-государственной лестнице. Неосвоенного аппаратного пространства для них было более чем достаточно. Например, в 1928 году из 31 тыс. ответственных должностей центрального госаппарата всего 8 % были заняты выходцами из рабочих, остальные же 92 % – служащими, причем лишь четверть этих функционеров состояла в партии[574]. Стремясь к карьерному росту, коммунисты из рабочей среды к концу 20-х заполнили высшие партийно-образовательные учреждения. Так, если в институте красной профессуры в первых приемах (1921–1923) доля рабочих никогда не превышала 10 %, а до выпуска добиралось не более 2 %, то на рубеже 20-30-х годов было принято решение увеличить число слушателей из рабочих до 70–75 %[575]. Официально курс на продвижение партийцев, вышедших из рабочей среды, на руководящие посты разного уровня был провозглашен XVI конференцией ВКП(б), прошедшей в апреле 1929 года[576].
Такое масштабное «орабочивание» ленинской партии обусловило существенные изменения в ее идеологии. Ведь с национальной точки зрения она превращалась в русскую, поскольку пролетариат крупных предприятий формировался главным образом из русских. Пролетарское расширение ВКП(б) и дало старт кардинальному изменению идеологической доктрины, весьма далекой от марксистской классики, о чем и пойдет речь далее.
Глава 5. Идеологическое переформатирование партии (от 20-х к 30-м годам)
Кардинальные изменения, произошедшие в большевистской идеологии за указанный в заголовке период, впоследствии воспринимались неоднозначно. Пропагандистский официоз, начиная с хрущевского правления, старался как можно реже упоминать о фундаментальных новациях, инициированных властью к середине 1930-х годов. Советская наука, со своей стороны, уверяла, что ничего существенного не происходило: просто имели место небольшие отклонения от марксистских канонов, вызванные культом личности Сталина. И, разумеется, преодоление пагубных последствий очистило марксистскую классику от наслоений, мешавших надлежащим образом воспринимать самое передовое учение современности. В течение нескольких десятилетий такими оценками дело фактически и ограничивалось. По большому счету, идеологический разворот тридцатых годов привлек серьезное внимание лишь после крушения СССР. К нему обратился ряд исследователей – главным образом из числа нацеленных на безоговорочную реабилитацию сталинизма. Надо отдать должное, эти исследователи действительно выявили немало интересного материала, позволившего полнее оценить идеологическую трансформацию большевизма. Контекст же нашей работы естественным образом актуализирует обращение к этой, несомненно, важной теме.
Чтобы лучше осознать причины и значение идеологических изменений, о которых пойдет речь ниже, следует напомнить, какие идеологические взгляды господствовали на протяжении 20-х годов. Согласно марксистским канонам, главной целью партии провозглашалась мировая революция: именно на ее приближение (а точнее, разогрев) направлялись силы молодого советского государства. Россия же, как отдельная страна, интересовала большевистскую элиту преимущественно в качестве плацдарма или первой ступени для более масштабных революционных дел. Более того, Россия, где большевики волею судеб оказались у власти, вызывала у партийного истеблишмента той поры стойкое неприятие; прежде всего это касалось ее прошлого, по их убеждению, отсталого и дикого. Иными словами, образ России ассоциировался с самыми негативными варварскими чертами. Но большевистские идеологи шли дальше, ставя под сомнение употребление самого слова «русский». В частности, это не уставал повторять главный партийный историк М. Н. Покровский. Столп марксистской науки предрекал полное забвение терминов «русский» и «великорусский», от которых веяло контрреволюционностью. Вместо этого считалось правильным говорить о проживающих в России различных народах[577]. Эта установка проводилась на всех крупных (не только партийно-советских) мероприятиях того периода. Например, на краеведческом съезде 1927 года приветствовался сбор сведений о культуре и быте различных национальностей страны. И когда один из участников призвал не забывать в этом отношении и о русских, его подвергли форменной обструкции[578].
Теория подкреплялась обильными историческими изысканиями, в которых научно обосновывалась следующая мысль: русское прошлое представляет собой непрерывную череду грабежей и захватов других народностей. Изначальной родиной так называемых великороссов объявлялась небольшая территория между Окой и Верхней Волгой, где ныне расположена Московская промышленная область. Из этого района распространялась экспансия проживавших там воинственных сил. Причем осуществлять завоевательную политику в западном направлении им было затруднительно, поскольку на пути оказывались намного более культурные и развитые литовцы, поляки, немцы, шведы и т. д. Войны с ними не приносили ничего, кроме неудач[579]. А вот на Востоке жили более слабые соседи, поэтому их беспощадное «искоренение» и стало целью московских владык. К концу XVII века удалось подчинить множество земель – русские отряды добрались аж до Тихого океана. В итоге эту огромную территорию и стали называть «Россией», а населявшим ее разнообразным народам было приказано именоваться «русскими», хотя подавляющее большинство не понимало ни одного слова из того языка, на котором говорили в Москве. Отсюда следовал вывод: «русский» означает не национальность, а лишь «подданство» по отношению к русскому царю! Вот, например, все крепостные крестьяне графов Шереметьевых назывались «шереметьевскими», так и все подданные русских царей считались «русскими»[580].
Большевистская пропаганда двадцатых годов с явным удовольствием эксплуатировала образ России, как «тюрьмы народов». Как авторитетно заявлял М. Н. Покровский, «Великороссия построена на костях «инородцев», и едва ли последние много утешены тем, что в жилах великороссов течет 80 % их крови»[581]. Разумеется, порабощенные народные массы всеми способами пытались сбросить гнет царя и помещика. Поэтому русская история, если отрешиться от взглядов придворных историографов, соткана из череды конфликтов и восстаний – до середины XIX века крестьянских, а потом рабочих – с ярко выраженной национальной составляющей[582]. Определение «тюрьма народов» распространялось не только на Российскую империю под скипетром династии Романовых, но и на древнее Московское княжество. Его столица – признанный центр притяжения земель – воспринималась не иначе, как «укрепленной факторией в финской стране», то есть, по сути, типично колонизаторским городом, который возник на землях, густо заселенных еще в доисторические времена.[583] Тоже самое говорили и еще об одном великорусском центре – Нижнем Новгороде, который в начале XVII столетия (в Смутное время) сыграл судьбоносную роль в истории страны. (Само название новой русской пограничной крепости свидетельствует о том, какое значение придавали ей завоеватели[584].) С опорой на новейшие археологические данные утверждалось, что этот город не заложен, как считалось, в 1221 году, а возник на месте существовавшего «инородческого» поселения, разграбленного и разоренного русскими лет за пятьдесят до этого. Причем это было не просто поселение, а столица мордвы – народа, ставшего в ту историческую эпоху основной жертвой русских захватчиков. Так что это ни в коем случае нельзя было считать заселением пустых земель, «где там и сям бродили дикие охотники». Напротив, перед нами «изнасилование и угнетение» довольно густо населенной земледельческой страны, чья материальная культура мало уступала русской культуре. Поселенцы превосходили местное население лишь в военном отношении – лучшем вооружении и боевой организованности[585].
В свете «передовой» большевистской мысли 1920-х годов никогда не были «Русью» и такие центры, как Новгород и Владимир[586]. Да и Московское государство XVI–XVII веков не считалось национальным образованием великороссов. Помимо остатков финских племен, порабощенных ранее, оно вобрало в себя завоеванных татар, башкир, чувашей; тогда же произошло покорение мелких северных народностей, началось присоединение Сибири[587]. В имперский период эта политика проводилась еще настойчивее. При Екатерине II и Александре I была поделена Польша, в состав России вошли Привислинские губернии и Финляндия, было закрепощено Закавказье и т. д. Таким образом, русские всегда прикрывались разговорами о благотворном влиянии на соседние земли, хотя на деле «собирали то, что лежало в чужих карманах»[588]. Как заявил мэтр советской науки Покровский на первой Всесоюзной конференции историков-марксистов: «В прошлом мы, русские… величайшие грабители, каких можно себе представить»[589].
Истинную цель колонизаторов ученые двадцатых годов видели в насильственной русификации ради удовлетворения потребности в рабочей силе, точнее – в рабах[590]. Никакой политической идеи, а исключительно экономическая прагматика. Князья, цари, а затем и императоры помогали русской феодальной знати выжимать соки из покоренных народов. Именно здесь берет начало вынашиваемая в те годы теория торгового капитализма. Ее смысл состоял в нейтрализации дореволюционной историографии, признававшей государство главной организующей силой всех созидательных процессов. Теперь же эта сила, в согласии с классическими марксистскими канонами, усматривалась в сугубо экономической плоскости. Создателем концепта «торговый капитализм» стал все тот же М. Н. Покровский, жаждавший «разоблачать дипломированных лакеев»[591]. По его логике, торговому капиталу необходимо расширение оборотов, а, следовательно, и присоединение новых территорий. Русские помещики повсюду основывали свои поместья – своего рода «фабрики» по производству зерна, и превращались в «агентов торгового капитала». Потребности этих агентов обусловили бурное развитие крепостного права и барщинного хозяйства. Отсюда и гипертрофированное внимание к проблеме хлебных цен – «визитной карточке» торгового капитализма как такового. По Покровскому: для понимания тех или иных событий прошлого необходимо учитывать цены на зерно[592]. Конечно, такие навязчивые научные интерпретации не могли не вызывать недоумения. Как иронизировали поступавшие в Институт красной профессуры (экзамен принимал сам Покровский), стоит на любой заданный вопрос ответить, что «причина в изменении хлебных цен» – и успех гарантирован[593].
Усиленно утверждая свою концепцию, автор явно утрачивал чувство меры. Например, Покровский объявил предводителя знаменитого крестьянского восстания Емельяна Пугачева крупным купцом, торговавшим в Волжском бассейне и имевшим коммерческие интересы даже в восточных странах[594]. Народный вождь предстает в окружении других ему подобных предпринимателей, выдает местному купечеству «охранные грамоты» на ведение торговли. В завершение Покровский делает любопытное обобщение: все тогдашние политические агитаторы тяготели к торговле[595]. И в случае с пугачевщиной мы имеем дело с «настоящей буржуазной революцией эпохи торгового капитала»[596]. Разумеется, Покровский не мог обойти свою излюбленную тему – участие в восстании нерусского населения. По его словам, поволжские народы громили помещичьи усадьбы и церкви, иными словами, все то, что считали «великорусским». При этом никакого преклонения восставших перед Пугачевым, объявившим себя российским императором, Покровский обнаружить не смог. Зато осознал другое: восстание потерпело неудачу потому, что не сразу двинулось на «логово великороссов» – Москву и Петербург[597].
Понятно, что такие взгляды обедняли многообразное отечественное прошлое, но Покровского это не смущало. По его словам, сама «русская история гораздо более монотонна, более однообразна, чем западная»[598]. Тем не менее, ощущая уязвимость собственных научных трактовок, профессор счел не лишним прибегнуть к проверенной защите – ленинскому наследию. На Всесоюзной конференции историков-марксистов он предусмотрительно просил не оказывать ему столь высокую честь и не связывать с его именем теорию «торгового капитализма». Авторство он уступал непосредственно Ленину, ссылаясь на отрывки из его известной работы «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» Будущий вождь мирового пролетариата размышлял в ней о капиталистах-купцах, создающих подлинно национальные связи[599]. Такие цитаты подкрепляли аксиому о торговом капитале, как всесильном дирижере русского исторического процесса, а кроме того, позволяли утверждать, что все давно осознано самим Лениным. «Я оказался Колумбом после открытия Америки, – объяснял предусмотрительный Покровский, – и не подозревая, что берега уже открыты…»[600].
Насаждение большевистского доктринерства неизбежно вело к нагнетанию настоящей истерии вокруг столпов российской исторической науки. Обструкции подверглись труды Н. П. Карамзина, в которых проводилась мысль о спасительности самодержавия для Российского государства[601]. Богатейшее творчество С. М. Соловьева использовалось главным образом для того, чтобы показать, как помещики, купцы, церковь и власть ведут совместную борьбу с революционными устремлениями народных масс, ненавидящих своих угнетателей[602]. Под сомнение ставилась и научная состоятельность В. О. Ключевского: его признавали лишь узким специалистом по истории Московского государства второй половины XVI века[603]. Особенную же неприязнь советских ученых вызывали здравствующие представители русской исторической школы, полагавшие, что одним из факторов возвышения Москвы было именно национальное самосознание. В вину им ставилось чрезмерное увлечение великороссами и пренебрежение к многочисленным малым народностям. Вместо того, чтобы показывать их заслуги перед российской историей, представители старой школы ограничивались констатацией вхождения различных народов и тех или иных территорий в состав России. Одного из видных русских специалистов, С. Ф. Платонова, обвиняли в том, что он оправдывает «разорение и уничтожение» волжских национальностей ради возвышения все того же великорусского народа и выступает в роли неприкрытого апологета великодержавных идей[604]. Вообще, преемственность между трудами царских и некоторых советских историков считалась очевидной. Партийную элиту раздражало то, с каким усердием ученые продолжают описывать «великую и неделимую» Россию, таким образом реанимируя старую политическую программу, выступая от имени все того же класса (т. е. дворянства – авт.). Они не в состоянии примириться с гибелью старого строя и осознать, что подменить историю народов СССР историей Великороссии не удастся, как не удается заменить диктатуру пролетариата господством буржуазии[605].
Большие претензии вызывали труды, в которых Октябрьская революция и Гражданская война косвенно сопоставлялись со Смутным временем. В 1920-х годах С. Ф. Платонов, А. А. Кизивитер и др. писали именно об этом трагическом периоде, характеризуя его как серьезную болезнь, которую пришлось перенести русским людям и государству. В их понимании, смута была обречена на исторически обусловленную гибель, и в этом усматривался намек на неизбежный провал революции. К тому же народные низы эти авторы описывали как обыкновенных разбойников. Борьба обиженных масс с высшими слоями общества быстро выродилась в ничем не прикрытый грабеж[606]. Так что параллели с революционной действительностью XX века напрашивались сами собой. Особенно многозначительно звучал ключевой вывод: преодолеть смуту и разруху удалось лишь с установлением на русском троне новой династии, объединившей страну. Не остались без внимания большевистской науки работы, посвященные развитию торговли и крепостной экономики. Их авторов упрекали в откровенном превозношении буржуазных отношений, образец которых давало русское прошлое. В рамках издательских программ Академии наук в свет выходили исследования торговых связей Москвы в XVII веке, саратовских помещичьих вотчин, хозяйственной колонизации Сибири, в которых бдительные цензоры находили доказательства неотвратимости капиталистического пути. Ученых подозревали в стремлении расчистить дорогу капиталу, подготовить сознание людей к неизбежности его возвращения[607].
Конечно, советская наука не собиралась уступать старому миру. Борьба на идеологическом фронте велась за умы молодого поколения. Об этом прямо указывалось в журнале «Историк-марксист»:
«Грош цена будет всем нашим разговорам о коммунистическом воспитании и строительстве социализма, если мы не сумеем вырвать наших учащихся из национальной ограниченности… и вывести их на дорогу интернациональной работы, интернациональной борьбы.»[608].
Лидер советских ученых Покровский постоянно призывал к воспитанию новой смены и негодовал, что Академия наук продолжает готовить аспирантов по рецептам 1910 года[609]. Дабы переломить ситуацию, Институт истории решили вывести из Академии наук и включить его в состав конкурирующей Коммунистической академии. Пребывание в чисто марксистской атмосфере должно было помочь науке поскорее избавиться от элементов, «абсолютно не подлежавших никакому использованию в советских условиях»[610].
Коммунистическая академия – это детище «ленинской гвардии» и идеологическая цитадель довоенной поры, ныне совершенно забыта. Она была задумана в 1918 году во время работы комиссии по подготовке первой российской конституции. Огромную роль в ее создании (еще под названием Социалистическая академия) сыграли М. А. Рейснер (профессор левых взглядов, возглавлявший политуправление Балтийского флота), Д. Б. Рязанов (ветеран движения, страстный почитатель Маркса) и все тот же М. Н. Покровский. Сначала эта организация задумывалась в качестве учебного заведения. Большевистская интеллигенция собиралась оспорить передовые позиции Московского университета на общественно-гуманитарном поприще[611]. Однако в 1923 году ее переориентируют на сугубо научную работу и именуют уже Коммунистической академией. В ней начинает действовать ряд институтов общественно-гуманитарного профиля: мирового хозяйства и политики, советского права, а также общества историков-марксистов, статистиков, аграрников и т. д.[612] Обновленная Комакадемия входит в клинч уже с Академией наук, основанной в 1725 году Петром Великим. Усилению позиций КА способствовало создание под ее эгидой специального отделения естественных и точных наук с физико-математической, биологической и психоневрологической секцией[613]. Эти структуры должны были «оплодотворить» естественные науки марксистской методологией. Результаты планировалось изложить в новом энциклопедическом словаре, призванном заменить прежние, объявленные безнадежно устаревшими, издания, включая популярный Гранат. Новый словарь (20–25 томов) должен был базироваться строго на материалистическом мировоззрении и предназначался не выпускникам гимназий и студентам, т. е. людям с определенной образовательной подготовкой, а партийно-советским функционерам, имеющим «большой общественный опыт, великолепно разбирающимся в вопросах общественности»[614].
Ответ на вопрос, чем Комакадемия отличается от своей старшей соперницы – Академии наук, был предельно ясен: «тем, чем Советская власть отличается от Америки, Франции и Англии»[615]. Более того, как раз в изживании академизма руководство КА и видело свое преимущество[616]. По убеждению большевистских ученых, подобной научно-организационной конструкции принадлежит будущее, а потому пора перестать рассматривать КА в качестве «второстепенной»[617]. Залог тому – опора на наследие основоположников марксизма, ставшее «визитной карточкой» новой советской науки. Здесь никого не смущал тот факт, что К. Маркс и Ф. Энгельс ни о ком не отзывались с таким презрением, как о русских – «величайших носителях реакции в Европе». В пику России они демонстрировали умиленную любовь к той же Польше, призванную нанести как можно больший ущерб восточному соседу. Особенную ненависть вызывало у них самодержавие, служившее препятствием для революционного развития[618]. Сам Маркс искренне удивлялся своей популярности в России. И его больше занимала не судьба революции в этой стране, а уничтожение российской власти[619].
Такое отношение к России не могло не импонировать большевистским идеологам, собравшимся в Коммунистической академии. И, разумеется, партийно-государственные власти всячески благоволили этому штабу науки. По новому уставу 1926 года Комакадемия получила статус при ЦИК СССР, ее считали высшим всесоюзным ученым учреждением[620]. По поручению правительства здесь проводилась экспертиза важнейших законодательных актов: земельного кодекса, гражданского уложения, налогового законодательства и т. д. Заметим, что помимо этих серьезных дел КА с готовностью откликалась на призывы пролетарских коллективов открывать специальные посты непосредственно на предприятиях, рассматривая это как одну из форм научной работы, позволяющую ликвидировать разрыв между теорией и практикой. Например, металлургический комбинат «Электросталь» обратился к Комакадемии с просьбой прикрепить к предприятию научных работников, обеспечить рабочих квалифицированными консультациями, организовать обсуждение некоторых актуальных вопросов[621]. Видимо, такое взаимодействие позволяло поддерживать уровень проводимых в КА исследований. Да и перспективы противостояния с «большой» Академией наук выглядели более обнадеживающими, поскольку та, судя по всему, не собиралась развивать подобное сотрудничество.
Идеологические установки, образцы которых даны в настоящей главе, предназначались для подготовки борцов за мировую революцию – заветную мечту большевистской элиты, воспитанной на классических марксистских ценностях. Однако с середины двадцатых годов, после масштабных кампаний по привлечению рабочих кадров в партийные ряды, ситуация стала меняться. Постепенно выяснилось, что молодое пролетарское пополнение без энтузиазма воспринимает проповедь о мировой революции и совсем не склонно в массовом порядке жертвовать чем-либо ради светлого завтра в далеких краях. Хорошо замечено, что «основы марксизма, на которых с таким талмудическим начетничеством настаивали пропагандисты, с трудом влезали в голову пролетария»[622]. И ленинская гвардия, неутомимо носившаяся с марксистскими предначертаниями, вызывала у коммунистов из народа неоднозначную реакцию. Вместо малопонятных произведений Маркса и Энгельса, они гораздо больше интересовались своей страной, ее прошлым. Например, музыкальная часть торжественного вечера в честь 35-летия Московской партийной организации началась с исполнения отрывка из «Слова о полку Игореве», что подвергло в шок старых большевиков[623]. Новая формирующаяся в недрах ВКП(б) атмосфера превращалась в действенный инструмент внутрипартийной борьбы и стала важным фактором очищения политбюро от лидеров еврейской национальности (Троцкого, Зиновьева, Каменева), а также их сторонников на различных этажах власти.
Наиболее чутко это уловил и использовал И. В. Сталин: с середины 1920-х годов он уже определенно соотносил свои политические планы с новым партийным трендом. Понимая, что влившемуся пополнению чужды идеологические установки о приоритете мировой революции и о неполноценности русских, с точки зрения марксистских замыслов, Сталин начинает эксплуатировать национальные мотивы. Из типичного русофоба образца XII съезда РКП(б) (тогда, в 1923 году он мало отличался от своих соратников) генеральный секретарь постепенно предстает горячим поклонником всего русского. Правда, даже во второй половине 1920-х годов его русофильство оставалось латентным. Открытый разрыв со старой большевистской элитой, все еще сохранявшей свое значение, тогда явно не входил в его планы. Первые публичные сигналы о своих новых предпочтениях вождь сделал на рубеже десятилетий. Широкий общественный резонанс получил эпизод с поэтом Демьяном Бедным. Этот колоритный персонаж после победы революции усердно упражнялся в дискредитации России и всего, что с ней связано. Очередную порцию насмешек он выдал в стихотворных фельетонах осенью 1930 года: «Слезай с печки», «Перерва», «Без пощады»[624]. Как обычно, их поместил на своих страницах главный пропагандистский рупор – «Правда». Д. Бедный писал о лени – «наследии всей дооктябрьской культуры» и исконной черте россиян, у которых в чести только сладкий храп и «похвальба пустозвонная». Удел России – «тащиться в хвосте у Америк и Европ», и дело социализма будет провалено, если полностью не переделать ее «гнилой, рабской, наследственно-дряблой природы». Особенно зло он высмеивал патриотизм прошлых времен: у Кремля кочевряжится Пожарский, Минин стоит раскорякой; а ведь эти народные герои – банальные взяточники, казнокрады. Поэт рекомендовал обратиться к историку Покровскому, чтобы узнать правду об этих героях, чей памятник следует поскорее убрать.
К удивлению многих, эта публикация вызвала гнев Сталина, что вылилось в специальное постановление ЦК ВКП(б)[625]. О неожиданности такого поворота свидетельствует тот факт, что недоуменный Д. Бедный обратился за разъяснением к самому Сталину. И тот хладнокровно разъяснил ему свою позицию: позорить на весь мир Россию недостойно истинного пролетарского поэта, поскольку это бросает тень на рабочих, которые, совершив Октябрьскую революцию, не перестали быть русскими. Стихи Д. Бедного – «это не большевистская критика, а клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата»[626]. Сталин посоветовал брать пример с Ленина и отказаться от холопского взгляда на национальную гордость великороссов[627]. Этот эпизод потряс большевистскую элиту, не став, при этом, досадным исключением, как того желали бы многие старые партийцы. В следующем году Сталин сделал еще один публичный шаг в новом направлении. Теперь настал черед истории партии. В письме в редакцию журнала «Пролетарская революция» вождь неожиданно провозгласил русских большевиков эталоном коммунистов, т. к. именно они смело выдвигали на первый план коренные вопросы революции и «являлись единственной в мире революционной организацией, которая разгромила до конца оппортунистов и центристов и изгнала их вон из партии»[628]. Таким образом, они продемонстрировали рабочим всех стран образец пролетарского интернационализма. В этом письме явно прослеживался сильный национальный оттенок[629].
Восприятие России, ее прошлого сквозь призму национальных ценностей постепенно, но неуклонно внедряется в идеологическую практику. А для прежних приоритетов, напротив, места остается все меньше и меньше. Уже в 1931 году это хорошо ощутил М. Н. Покровский. Его вынудили внести серьезные коррективы в отстаиваемую им теорию «торгового капитализма», о которой говорилось выше. Ему пришлось признать безграмотность некоторых собственных формулировок и, в частности, согласиться с тем, что торговый капитал не может определять характер политической надстройки: она зависит от производственных отношений, а не от торговли, т. е. обмена. В итоге Покровский был вынужден отказаться от своей излюбленной формулировки «торговый капитал в шапке Мономаха», выражавшей, по его убеждению, суть русского самодержавия[630]. Неприятности преследуют и сподвижника Покровского по идеологическому фронту Д. Б. Рязанова. Его снимают с должности директора Института Маркса и Энгельса, обвинив в том, что он читал и знал буквы марксистского учения, но оказался не в состоянии ощутить его подлинный живой дух. Так Рязанов полностью оправдал свой еще дореволюционный псевдоним «буквоед»[631].
Важно отметить, что масштабному утверждению новых приоритетов предшествовала тотальная зачистка идеологического поля от националистических элементов – своего рода подготовительная работа перед возведением новых политических конструкций. На рубеже 1920-1930-х годов национально настроенные группы, существовавшие в республиках, подверглись демонстративному уничтожению. Показательные процессы широко освещались в прессе. На Украине прогремел процесс по делу «Союза освобождения Украины», проходивший в марте-апреле 1930 года в помещении Харьковского оперного театра. Эта подпольная контрреволюционная организация боролась за независимость Украины. Как сообщали газеты, на деле это означало отрыв республики от советского государства с последующим свержением советского строя при помощи зарубежных стран. Предполагалось возвращение бывшим собственникам земель, отданных совхозам и колхозам, а также возобновление прав собственности на промышленные предприятия[632]. Такая политика вела «к столыпинской ставке на кулака, к отдаче в кулацкую кабалу и к обнищанию огромной массы крестьянства»[633]. Главным объектом ненависти украинских националистов был пролетариат. Большой популярностью у них пользовались взгляды известного историка М. М. Грушевского, противопоставлявшего местное крестьянство – носителей подлинного национального духа – рабочему классу, состоявшему преимущественно из пришлых великороссов[634]. Вообще, национальные идеи в республике вынашивала и поддерживала интеллигенция, особенно историки, которые обосновывали национальное своеобразие Украины и романтизировали ее прошлое. Под этим флагом и вынашивались надежды на будущие политические изменения.
В Белоруссии плацдармом националистических взглядов была объявлена Белорусская академия наук. Там тоже заправляли местные историки: идеализируя прошлое, они ностальгировали о «золотом веке» Белоруссии (XV-XVI столетия), с энтузиазмом рассуждали о культурных корнях. Из академических учреждений изливался поток соответствующей научной литературы[635]. В ней также сознательно выпячивалась самобытность крестьянства по сравнению с рабочими. В словаре, вышедшем под эгидой Академии наук, термин «пролетариат» был заменен словом «убожество», эксплуататорские классы именовались польским словом «взыск», а бедняк – «злыднем» (т. е. просто лодырем). Националистические идеологи видели высший идеал «свободной Белоруссии» в крепком кулацком хозяйстве[636]. Суд над группой Игнатовского-Жилуковича подвел черту под белорусским буржуазным национализмом[637]. По тому же сценарию и с теми же обвинениями была разгромлена группа националистов, включавшая местную интеллигенцию, кулаков и мулл, в Татарской автономной республике[638].
Интересно, что в это же время подобный процесс прошел и в РСФСР. Мы имеем в виду известное «дело историков», когда разгрому подверглась группа русских специалистов во главе с С. Ф. Платоновым, работавшая в системе Академии наук. Им вменялось в вину создание контрреволюционной организации «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России» с целью свержения советской власти и восстановления монархии. Этот процесс достаточно хорошо изучен, его иногда называют «шахтинским делом научной интеллигенции»[639]. Заметим: данные трагические события, как правило, рассматриваются в контексте противостояния Покровского и Платонова; Покровский давно жаждал покончить с представителями русской дореволюционной историографии[640]. И все же, главный советский историк едва ли мог выступать организатором этого громкого процесса, поскольку к 1930-м годам его собственные позиции заметно пошатнулись. Разгром русской исторической школы, вне всякого сомнения, отвечал желаниям Покровского, однако был вписан в единый сценарий по искоренению буржуазно-национальной интеллигенции во всей стране. Не случайно ту часть русской интеллигенции, которая делала ставку на буржуазное перерождение СССР, «Правда» поместила в один ряд с националистически настроенными группами украинской, белорусской, грузинской, армянской интеллигенции[641].
Это направление политики представляло собой важную часть сталинского замысла по общему переформатированию большевистской идеологии. Прежде всего оно означало отказ от классических марксистских рецептов по нивелированию культурных, языковых и бытовых различий. В середине 1930 года на XVI съезде ВКП(б) Сталин однозначно характеризует период строительства социализма временем расцвета национальных культур – социалистических по содержанию и национальных по форме. По его убеждению, именно сейчас этот процесс развернется с новой силой, чему будет способствовать обязательное начальное образование на родном языке[642]. А преодолеть отсталость разных национальностей поможет пролетариат; он гораздо лучше справится с этой задачей, чем буржуазия и интеллигентские группировки, прыскающие ядом национализма для укрепления своего господства[643]. Слияние же в одну социалистическую культуру с одним общим языком Сталин отнес к неопределенному будущему, тем самым исключив этот пункт из приоритетов практической политики.
Устранив главных конкурентов в национальном строительстве, партия с чистого листа приступает к реализации концепции «дружбы народов». Пропагандистская машина набирает обороты: бурно приветствуются национальная экзотика, фольклор. Проходят многочисленные декады народов, входящих в состав СССР. Центральная печать раздает высокие оценки «уникальным своеобразным культурам». У каждого народа обязательно находят собственного великого поэта и начинают активно его популяризировать. На Украине в этой роли выступает Тарас Шевченко. В 1930-х годах по всей стране создается культ этого писателя, издаются книги о его жизненном пути и творчестве. Сооружение памятника Шевченко в Харькове превратилось в целую рекламную кампанию, которой дирижировали центральные СМИ[644]. В Грузии объектом поклонения стал поэт Шота Руставели, тем более, что в 1937 году отмечалось 750-летие его поэмы «Витязь в тигровой шкуре»[645]. В культурной жизни Белоруссии происходили удивительные метаморфозы. В 1930 году на известного республиканского поэта Янку Купалу навесили ярлык ярого апологета национализма, а спустя всего четыре года в срочном порядке реабилитировали и объявили белорусским классиком[646].
Произведения национальных деятелей активно переводились на русский язык. Для этой работы отрядили видных советских литераторов и поэтов: Пастернака, Тихонова, Асеева, Светлова, Прокофьева и др.[647] Благодаря их работе на декаде казахской культуры в Москве, широкая публика впервые познакомилась с целым рядом национальных писателей, а также с народными песнями[648]. Различные национальные делегации (украинская, туркменская, казахская, татарская, якутская, грузинская и др.) периодически посещали Кремль, где их обязательно приветствовали члены Политбюро во главе со Сталиным. Периодика середины тридцатых изобилует отчетами об этих встречах. Причем члены делегаций прибывали в национальных костюмах и произносили речи на родных языках[649]. Вот как комментировала «Правда» очередной туркмено-таджикский визит: «Другим стал народ… распрямилась спина, в зал вошли совершенно новые люди…достоинство и честь сквозили в их чертах»[650]. Разумеется, делегации рассыпались в благодарностях в адрес Сталина, который представлялся им Прометеем, «взявшим с неба огонь и научившим людей им пользоваться»[651].
Вот таким образом преодолевались националистические пороки. Однако стержнем сталинской политики стала не просто пропаганда «дружбы народов», а провозглашение патриотизма краеугольным камнем новой идеологической доктрины. Уже в 1934 году в передовицах «Правды» декларировалось, что для советских людей «нет ничего дороже в жизни, чем своя родная страна, освобожденная от ига помещиков и капиталистов», а наша земля – родная мать, «своими соками вскармливающая прекрасные всходы новой счастливой жизни»[652]. Еще не привыкшая к таким заявлениям эмигрантская пресса испытала шок. Меньшевистский «Социалистический вестник» кричал о полном перерождении большевиков, предавших марксистское учение. Группировавшиеся вокруг издания деятели считали невозможным реабилитацию слова «родина»: они напоминали, что это слово было знаменем белогвардейщины, и предостерегали об опасности окончательной смерти революции[653].
Очень скоро «Правда» превратилась в конвейер по производству патриотических установок: «Любить свою великую, свободную Родину значит знать ее, интересоваться ее прошлым, гордиться ее светлыми, героическими страницами и ненавидеть ее угнетателей, мучителей»[654]. Или: беззаветная сознательная любовь к родине подразумевает, что «надо хорошо знать ее сегодня и вчера, ее замечательную историю»[655]. Подобная риторика настоятельно требовала коренной переоценки отечественного прошлого. Теперь говорить в негативных тонах о русской истории стало небезопасно. Любопытно, что показательную и на сей раз более серьезную порку устроили все тому же Д. Бедному. Пролетарский поэт явно чувствовал себя не в своей тарелке, с трудом привыкая к новой доктрине. Он написал текст к опере Бородина «Богатыри», который был воспринят как пародия на героев народного былинного эпоса. Показывать их пьяницами, кутилами и трусами – значит клеветать на русское прошлое. Тем более, что оперные «разбойники» предстали перед зрителями в некоем романтическом ореоле. Особое возмущение вызвало пошло-издевательское изображение крещения Руси – будто бы «по пьяному делу»[656]. Оперу сняли, подвергнув публичному унижению ее постановщика А. Я. Таирова (руководителя Камерного театра), которого уличили в декадентских настроениях[657].
Но, разумеется, главный удар пришелся на М. Н. Покровского, чья идеологическая школа до недавнего времени правила бал в советской науке. В конце жизни историка одолевали дурные предчувствия; он серьезно заболел и больше года, до самой кончины, оставался прикованным к постели. Покровский умер в апреле 1932 года, не застав полного демонтажа своего фундаментального наследия и переоценки своих научных подходов, которые абсолютно не состыковывались с набиравшим силу патриотическим уклоном сталинской власти. Например, ошибочной признавалась его трактовка Смутного времени. Отмечалось, что он даже избегал термина «смута», принятого в дореволюционной историографии, и заменял его формулировкой «крестьянская война», ориентируясь на произведение Энгельса «Крестьянская война в Германии». События русской истории начала XVII века Покровский рассматривал исключительно в контексте классовой борьбы, забывая при этом о польско-литовско-шведской интервенции. Крестьянское восстание закрыло для него все остальные события, а между тем, иностранная интервенция являлась фактором громадного значения: ведь интервенты, желавшие поработить русский народ, находили поддержку у местных феодальных элементов. Игнорируя эти аспекты, профессор не смог понять освободительных устремлений русского народа[658]. Схожая критика звучала по поводу «вредных» взглядов Покровского на Отечественную войну 1812 года. Как выяснилось, он слишком увлекался французскими источниками, в частности мемуарами французских политиков и генералов. Его ослепили «таланты» Наполеона, и он уже не обращал должного внимания на доблесть и патриотизм русского народа, проявленные в борьбе за освобождение страны от иностранных захватчиков. Принижал он и заслуги наших военачальников, противопоставляя им заслуги наполеоновских маршалов. А успех русской армии относил на счет случайных обстоятельств[659]. Как выразился один из критиков Покровского: «можно только удивляться, как эта антинародная ересь печаталась»[660].
Конечно, немалое внимание уделялось концепции «торгового капитализма» и ее сердцевине – хлебным ценам, из колебания коих Покровский выводил все ключевые события российской истории. Например, рост экспортных зерновых котировок на лондонской бирже (это особенно примечательно – авт.) в первые два десятилетия XIX века обусловил либеральные настроения и движение декабристов. Снижение цен совпало с реакцией Николая I, возобновление их роста привело к либеральным реформам Александра II, а новое падение – к реакции времен Александра III. Теперь этот метод историка назывался «вульгарным экономизмом с помесью социологизма»: он выхолащивал хронологию, лишал исторический процесс своеобразного «аромата»[661]. Научному наследию Покровского в целом было отказано в праве называться подлинно марксистским. Вспомнили, как в первое десятилетие XX столетия он находился под влиянием немарксистских идей. С сожалением констатировалось, что в течение длительного времени Покровский стоял во главе многих научных учреждений и организаций; большинство наших специалистов вышло из его школы, так что вредные последствия этого еще предстоит устранить[662]. Устраняли их в соответствии с духом тех лет: школа Покровского была полностью разгромлена, коллеги из его ближнего круга оказались под сильным давлением, их труды нещадно критиковались. Например, об «Очерках истории СССР. XIX – начало XX века», написанных С. А. Пионтковским, одним из любимых учеников Покровского, было сказано, что подобные труды отбивают интерес и желание заниматься историей; этот исторический брак невозможно исправить или улучшить, лучше его просто выбросить[663]. В результате многие единомышленники Покровского были репрессированы, а некоторые расстреляны (П. О. Горин, Т. М. Дубиня, Г. С. Фридлянд, Н. Н. Ванаг, И. Л. Татаров (Коган), В. З. Зельцер, А. Г. Пригожин)[664]. Кстати, разгром школы Покровского по своей жестокости превзошел гонения на историков, чуть ранее проходивших по делу С. Ф. Платонова. Некоторых из них (Б. Д. Грекова, М. Н. Тихомирова и др.) вернули к научной работе: их взгляды и навыки оказались востребованными в новой обстановке. А труды самого Платонова, скончавшегося в 1933 году в ссылке, к концу тридцатых вновь стали широко публиковать в государственных издательствах.
Новации, основанные на патриотизме, закреплялись в учебниках по истории для вузов и средних школ. Напомним, что после революции история, как дисциплина, входила в курс обществоведения и использовалась лишь для объяснения современных событий. С 1923 года она вообще исчезла из учебных планов. И лишь в 1933 году в Наркомпросе состоялось совещание по вводу учебников; комиссию по их подготовке возглавил заместитель директора Института истории при Коммунистической академии Н. Н. Ванаг. Как он заявил на этом совещании, «нам нужен большевистский Иловайский»[665]. Сталин, Жданов, Киров сформулировали свои пожелания относительно содержания будущих учебников: уход от космополитических подходов и социологических схем, насыщение текстов конкретным материалом для трансляции патриотических идей уже в социалистической упаковке[666]. Партийное руководство с самого начала высказывало недовольство тем, как идет работа. 20 марта 1934 года на заседании политбюро с участием приглашенных ученых Сталин сказал, что первые представленные тексты никуда не годятся. Он был недоволен наследием покойного Покровского, подчеркивал роль русской нации, как в прошлом, так и сегодня собирающей другие народы[667]. Иначе говоря, требовалась реабилитация русского патриотизма, русской истории. Наблюдатели той поры так характеризовали этот процесс: «Один за другим князья, цари, полководцы – строители государства Российского – поднимаются из мусорной кучи, в которую их сбросила революция, возводятся на старый карамзинский пьедестал… Экспансия государства и строительство самодержавия становятся в центр изучения как факты положительные»[668]. Интересен такой факт: после сталинской критики в комиссии вспомнили об учебнике репрессированного С. Ф. Платонова. Ныне в нем обращало на себя внимание исключительное богатство фактуры и ясный, живой язык рассказов о войнах, о государственных учреждениях, об исторических лицах, о политических и культурных движениях. Последовал вывод: сильные стороны работы Платонова должны быть учтены при составлении нового учебника истории[669]. Трудно сказать, прислушался ли коллектив авторов к данной рекомендации, но из его руководителя Н. Н. Ванага советского Иловайского явно не получалось. В январе 1936 года Политбюро раскритиковало проделанную работу: группа «не выполнила задание и даже не поняла самого задания»[670]. Последовавшие в центральной прессе комментарии уточнили суть претензий: учебники продолжали насаждать представления, сформированные в 1920-е годы. Так, при описании Смутного времени наймиты иностранных интервентов Лжедмитрий I и II опять представали вождями крестьянских восстаний. Прогрессивная роль Петра Великого по-прежнему принижалась. Отсутствовала положительная оценка восстания декабристов: они выглядели корыстными эксплуататорами[671]. Затем подготовкой текста занялись уже другие авторы под руководством А. В. Шестакова из Московского государственного педагогического института; учебник будет представлен в 1938 году.
Переход на патриотические рельсы коснулся всей науки в целом. В начале 1936 года была упразднена Коммунистическая академия. Очевидно, что никакой необходимости в такой научной организации (в ней находилась и школа Покровского) уже не было; ее наскоро «влили» в большую Академию наук[672]. В 1936 году прогремела шумная кампания за публикацию исследовательских работ преимущественно в советских научных изданиях. Публикации же в западных журналах власти резко осуждали, как неуважение к своему коллективу и русскому языку. Эту тему активно комментировала «Правда»[673]; на ее страницах приводились примеры из разных научных отраслей. Когда известные ученые отдают свои новые работы в зарубежные издания, достижения их исследовательской мысли не доходят до советской аудитории: десятки тысяч жаждущих знаний людей лишаются возможности приобщиться к новинкам. За этим кроется традиционное раболепие, преклонение перед Западом, отношение к России, как к провинции. Терпеть подобное положение невозможно: «Советский союз – не Мексика, не какой-нибудь Уругвай, а великая социалистическая держава»[674]. В рамках этой кампании было инициировано давление на академика-математика Н. Н. Лузина[675], который «пытался отсидеться от пролетарской революции»[676]. Якобы он и его соратники отдавали в советские журналы статьи сомнительной ценности, а лучшие свои работы старались публиковать за границей. Их деятельность приравняли к вредительству, хотя и ограничились на сей раз строгим предупреждением: большевики умеют распознавать врагов, «в какие бы шкуры они ни рядились»[677]. Советских ученых призывали равняться на лучшие умы отечественной науки: Ломоносова, Лобачевского, Попова, Сеченова, Павлова, Миклухо-Маклая и др. В тоже время, востребованным оказался опыт только что ликвидированной Коммунистической академии, которая открывала свои «посты» на предприятиях для более тесного взаимодействия с рабочим классом. Теперь нечто подобное рекомендовали делать Академии наук: ее институты были обязаны пополнять свои коллективы стахановцами и рационализаторами с производства. Из этих самородков следовало растить будущие исследовательские кадры[678].
Внедрение патриотизма, восхваление российского прошлого вело к логическому завершению новой идеологической архитектуры. Русский народ провозглашался самым передовым. «Правда» неустанно писала о бескорыстной помощи, которую оказывает Россия братским народам страны: «Всей силой своего могущества РСФСР содействует бурному росту других советских республик… все нации, освобожденные от капиталистического рабства, питают чувства глубочайшей любви и крепчайшей дружбы к русским братьям. Русская культура обогащает культуру других народов. Русский язык стал языком революции. На русском языке писал Ленин, на русском языке пишет Сталин. Русская культура стала интернациональной, ибо она самая передовая, самая человечная, самая гуманная»[679]. Иначе говоря, русский народ объявлялся «старшим среди равных»[680], им гордятся, как гордятся своим старшим братом[681]. Именно русские подняли знамя освобождения, совершили Октябрьскую революцию и указали другим народам царской России путь к светлой и радостной жизни[682]. Как в новой доктрине уживались интернационалистические ноты и патриотические мотивы, можно продемонстрировать на примере А. С. Пушкина. В СССР его реабилитация и признание величайшим русским литератором произошла в начале 1930-х; до этого он считался типичной буржуйской обслугой[683]. К 1937 году – к столетию со дня гибели поэта – в стране уже процветал его культ. Теперь его именовали подлинным сыном русской земли, чье творчество связано с ней тысячами неразрывных нитей. Но Пушкин настолько велик, что его произведения близки всем народам, прежде даже не слышавшим его имени. И хотя он принадлежит русской нации, его гений интернационален. Русские всем предоставляют возможность наслаждаться бессмертными пушкинскими творениями[684]. И так же, как с Пушкиным, обстоит дело с русским народом: взойдя на высоты революции, он готов делиться ее плодами со всеми, кто готов к ним приобщиться.
Перед нами совершенно новое издание марксизма, где канон о приоритете мировой революции отодвинут на задний план, уступив место идеологическому концепту «русский народ – старший брат»; именно он прокладывает путь в светлое завтра, а не питает надежду на мировую революцию в более подходящих для этого странах. Ни один народ мира не может встать вровень с великим и передовым русским народом, который обладает к тому же бесценной культурой и героическим прошлым. Согласимся: о возведении подобных патриотических воззрений в ранг государственной политики, в свое время не могли мечтать и такие апологеты патриотизма, как М. Н. Катков и К. П. Победоносцев. При самодержавном строе никто не позволил бы им развернуться во всю патриотическую удаль. А при Сталине, в условиях господства космополитического марксизма, мощно спрессованная патриотическая доктрина обрела явь! Конечно, переход большевизма, по сути, на черносотенные рельсы не может не поражать. Как метко замечено, большевистская партия, фактически, создала «деформированного близнеца» того государства, против которого боролась[685]. Понятно, что ленинская элита не могла существовать в идеологической атмосфере, «когда отрывки из коммунистического манифеста подаются в одной окрошке со славянофильством черносотенной окраски»[686]. Зато новые партийцы, ничем не связанные с интернациональным движением, с готовностью приняли государственную патриотическую доктрину. А ее создатель стал их подлинным кумиром.
Здесь следует остановиться на одном любопытном эпизоде. В то время, когда выстраивался концепт «русский народ как старший брат», Н. И. Бухарин попытался наполнить его иным содержанием. Напомним, до своей опалы в конце 1920-х Бухарин считался главным марксистским теоретиком партии. В феврале 1934 года он был назначен ответственным редактором газеты «Известия»[687], и решил внести лепту в формирование новой идеологии. Однако, идеи Бухарина уже устарели, хотя он всячески пытался соответствовать требованиям времени (даже поучаствовал в развенчании покойного Покровского, будучи в прошлом страстным его почитателем[688]). Бухарин сосредоточился не на национальном факторе, а на советском народе, «консолидированном и по вертикали (классы), и по горизонтали (нации)»[689].
Именно так он представлял СССР, где все будут «объединены в едином организованном обществе коммунизма»[690]. Иными словами, национальные черты здесь не учитывались. То есть русский народ в сталинской интерпретации – путеводитель, первый среди равных, по бухаринской схеме просто растворялся в единой целостной общности. Бывший главный партийный теоретик всегда был склонен к русофобии, что проявилось и теперь. В одной из своих статей в «Известиях» он называет русских «наследниками проклятой обломовщины», «азиатщиной», «рассейской растяпой»[691]. Будет большим благом, если на месте этой малосознательной аморфной массы, вызывающей лишь презрительное недоумение, возникнет новая здоровая общность – единый советский народ. Такая общность, уверял Бухарин, уже вырастает: следовательно, правильно говорить не о каком-то «старшем брате», а о самом передовом и мощном «советском народе». Эти соображения вызвали резкую отповедь Сталина, и очередное бухаринское покаяние («невольно ввел в заблуждение… выражаю глубокое сожаление») на сей раз не спасло[692]. Вскоре «Правда» поместила специальный материал о его «вредной и реакционной болтовне»: «Вряд ли Бухарин сумеет объяснить с точки зрения своей концепции, как это «нация Обломовых» могла исторически развиваться в рамках огромного государства, занявшего 1/6 часть земной суши… и как русский народ создал таких гигантов художественного творчества и научной мысли»[693]. Заканчивалась статья напоминанием о том, с какой любовью говорил о русском народе Ленин; любовь к народу – одна из главных заповедей большевизма, вошедших в жизнь и быт масс[694]. (Забегая вперед, скажем, что идея Бухарина пережила сталинские идеологические новации: в 1970-1980-х годах будет востребовано именно это понятие – «единый советский народ».)
Как же сталинский «патриотизм» уживался с марксизмом, от которого вождь не собирался отказываться? Негативное отношение основоположников ко всему, что связано с Россией, для знающей публики не было секретом. Большевистская элита, преклонявшаяся перед Марксом и Энгельсом, не обращала внимания на их нелицеприятные антирусские выпады: это казалось мелочью на фоне грандиозных планов построения коммунизма. Сталин тоже игнорировал пренебрежительное отношение основателей великого учения к России, но постепенно начал внедрять мысль о том, что они просто не все знали и не все могли учесть. На откровенный разрыв с «самым научным учением в мире» он идти не собирался, чтобы играть роль преемника «великих умов», чьи имена «сплелись в единый венок» с именем Сталина[695]. Пропаганда подчеркивала, насколько серьезно относились Маркс и Энгельс к России. С каким громадным интересом зачитывались они «Словом о полку Игореве»[696]. Как настойчиво изучали русский язык, чтобы в подлиннике ознакомиться с произведениями русской мысли[697]. Перед нами добротный ход: заставить незабвенных классиков работать не только на пропаганду себя, как верного продолжателя их дела, но и на авторитет России, коей они на дух не выносили.
В действительности, Сталина никогда не заботило сбережение идейного наследия марксизма. Известно немало его пренебрежительных слов в адрес Маркса и Энгельса. Так, их учение об отмирании государства, на которое ориентировался и Ленин, Сталин отмел, а возникшие теоретические нестыковки объяснил изменившимися обстоятельствами: взгляды классиков будут применимы, когда социализм победит в большинстве стран и когда появятся необходимые для этого условия. А однажды Сталин вообще заявил, что у основоположников имеются недостатки, вызванные влиянием немецкой философии, в особенности Канта и Гегеля[698]. В 1934 году по его требованию из гранок журнала «Большевик» была снята статья Энгельса «Внешняя политика русского царизма», где внешнеполитические службы страны выставлялись шайкой бесстыдных аферистов, обслуживающих хищнические позывы самодержавия. Как заметил Сталин, тоже самое было характерно и для Европы, причем «в неменьшей, если не в большей степени»[699]. (Статью Энгельса опубликовали весной 1941 года в том же «Большевике».) Разумеется, Сталин давал жизнь тем или иным формулировкам, руководствуясь исключительно прагматическими целями конкретного момента.
Это демонстрирует ход дискуссии об уровне развития российского капитализма в два последние десятилетия царизма. Школа Покровского, заправлявшая в советской науке 1920-х, высказалась однозначно: русский капитализм был не просто отсталым, он был начисто лишен какой-либо национальной окраски. Труды, выходившие под эгидой Коммунистической академии, рисовали картину полной зависимости российских банков и промышленности от западного капитала – здесь особенно преуспели Н. Н. Ванаг и С. Л. Ронин. Ванаг убеждал, что органическое строение капитала в России отражало пережитки средневековья, а потому выводы о его бурном развитии совершенно необоснованны: их могут делать «только дети, не овладевшие всеми четырьмя правилами арифметики»[700]. В свою очередь, Ронин уверенно разделял все российские банки накануне Первой мировой войны на две группы: одни контролировались непосредственно из Парижа, другие – из Берлина. Причем западному капиталу незачем было добиваться формального большинства в управлении: все дела «весьма добросовестно творили «русские люди», допущенные хозяевами к управлению после тщательного отбора»[701].
Однако, у этой группы историков появились оппоненты. И. Ф. Гиндин и Е. Грановский, привлекая новые данные, заговорили о несостоятельности подобных взглядов. В частности, Грановский назвал выводы Ванага «досужим вымыслом человека, брезгающего «узко экономическим анализом» и предпочитающего черпать основания схем в «трансцендентальных» глубинах своего сознания»[702]. По мнению Гиндина, российской особенностью была недостаточная четкость общей картины, поскольку отечественный финансовый капитализм получил полное развитие лишь за несколько лет до 1914 года. В этот период наметилось усиление русских элементов, опиравшихся на рост внутренних накоплений. Продолжение этой тенденции могло бы привести к окончательному закреплению русских финансовых групп[703]. Речь шла о московской буржуазной группе, где позиции иностранного капитала всегда были незначительны. Справедливость этих упреков очевидна: купеческая элита слабо вписывалась в теорию о подчинении иностранному капиталу. Это чувствовал и сам Ванаг, не преминувший сделать оговорки относительно текстильной промышленности – цитадели купечества. Он признал, что в этой хозяйственной отрасли процессы несколько отличались от общего финансово-экономического контекста, но не более того[704]. Очная дискуссия состоялась в ходе первой Всесоюзной конференции историков-марксистов, где обе стороны изложили свои аргументы[705].
Спор разрешился в начале 1930-х годов с появлением идеологических новаций. Разгром троцкистско-зиновьевского блока внес серьезные коррективы в научные трактовки. Напомним: оппозиция постоянно трубила о слабой развитости производительных сил страны и, соответственно, о невозможности у нас социалистического строительства вне развертывания мирового революционного процесса. Корни этой отсталости усматривались в предшествующем царском периоде. Причем эта историческая отсталость возводилась в такую степень, что Россия выглядела одной из колоний мирового капитала. Таким образом, чисто научная дискуссия приобрела политический оттенок. Теория о подчиненном характере русской экономики подкрепляла оппозиционную точку зрения. Научные изыскания Ванага расценивались как оборотная сторона тезиса о невозможности построения социализма в одной стране. В 1932 году он был вынужден признать свои ошибки, направив в редакцию журнала «Историк-марксист» покаянное письмо: «Я дал почву для протаскивания троцкистских идей о полуколониальном характере царской России, об отсталости вообще и примитивности экономического развития страны…»[706]. Но на этом точка поставлена не была. Всего через три года осужденная теория Ванага была востребована на самом высоком уровне. Теперь тезис о неразвитости и подчинении страны мировому капиталу обосновывал величие Октябрьской революции, освободившей полуколониальную Россию от гнета международной буржуазии[707]. Эта установка была включена в святая святых – в «Краткий курс истории ВКП(б)», отредактированный лично Сталиным[708].
Идеологическое переформатирование большевизма, описанное в данной главе – весьма интересная и значимая страница советской истории. Однако, сегодня мы сталкиваемся с откровенным ее игнорированием, что связано не с научными, а, прежде всего, с политическими причинами. Разные круги явно не заинтересованы в подлинном освещении того, каким образом рождалась патриотическая доктрина в СССР. Некоторым группам и отдельным личностям крайне выгодно изображать советскую историю и после середины 30-х годов, как продолжающееся безраздельное господство все тех же инородческих сил, нацеленных на разорение России. Особенно неприемлемым для эксплуатирующих образ истинных патриотов является тот факт, что ярко выраженный патриотический поворот происходил абсолютно вне церкви. Это-то и дает повод современным приверженцам русского патриотизма продолжать рассуждения об антинародной, инородческой сущности большевизма, старательно не замечая, как под прежней вывеской постепенно пестовалась этнически русская партия с соответствующей русской идеологией.
Вдохновителями массового надругательства над церковью они традиционно считают большевистскую верхушку, объявившую, тем самым, войну русскому народу. Однако, просмотр материалов различных крупных форумов той поры выявляет более сложную картину. Обращает внимание, что жесткие антицерковные выпады исходят от рядовых участников съездов, конференций с самыми обычными русскими фамилиями, представлявших великорусские регионы страны. Возьмем XIV Всероссийский съезд советов, состоявшийся в мае 1929 года и обсуждавший религиозные дела. Тексты выступлений передают устойчивое неприятие церкви, которым были проникнуты делегаты. Например, Строкин из Нижегородской губернии требовал «религиозную дурь выжечь каленым железом, чтобы ее действительно не было, так как она сказывается на снижении нужной нам активности масс»[709]. Он настаивал на повышенном налогообложении всех церковных зданий[710]. Другой оратор возмущался неторопливым закрытием церквей, которые следует приспособить для культурных нужд населения. Его возмущение вызвал тот факт, что верующие протоптали дорогу во ВЦИК к М. И. Калинину; они активно пользуются данным путем для подачи соответствующих жалоб. Поэтому нужно сделать так, чтобы все эти граждане забыли туда дорогу, и никакого поощрения им не давать[711]. Еще один делегат Никитин из Владимирской губернии не менее решительно высказался на сей счет, сославшись на опыт своего отца, выгонявшего попов из дома. И теперь для воздействия на них требуется не агитация, а «рабочая пролетарская рука… кое-где нужно ударить покрепче по этому дурману и стегнуть его получше»[712]. Все эти речи вызвали большую обеспокоенность председателя Совнаркома СССР А. И. Рыкова.
Глава правительства попытался разъяснить собравшимся, что идеологическая борьба на таком чувствительном участке, как религия, не должна подменяться палкой. Религию нужно уничтожать в головах с помощью действенных аргументов, а не кулаков[713]. Примечательно, что примиряющее выступление Рыкова прервалось репликой из зала: «массы выносят постановление о закрытии церквей, а вы по шесть месяцев маринуете, не рассматриваете»[714].
Аналогичная ситуация наблюдалась и на Втором съезде безбожников в июне 1929 года. Здесь также лился поток нелицеприятных речей в адрес церкви. Например, Липатов из Нижне-Волжской области расценил надежды на мирное вытеснение попов как типичное проявление «правого уклона». Равнодушное отношение к религиозной борьбе он назвал примиренчеством с идеологическим врагом[715]. Дурасов из Нижнего Новгорода обрушился с критикой на правительственное ведомство «Главнаука», которое под предлогом исторической ценности препятствует закрытию церквей в городе, тем самым мешая пролетариату[716]. Но больше других преуспел молодой посланец комсомола по фамилии Бухарцев. Напомним, что в это время организацию возглавил сталинский выдвиженец А. В. Косарев, сразу взявший жесткую линию по отношению к религии. А потому представитель ЦК ВЛКСМ заявил, что Союз безбожников недооценивает остроту момента, по существу, поет «аллилуя» церкви[717]. Налицо опасность превращения идеологической борьбы просто в культурный фактор, когда господствуют представления о религии, как о некотором бытовом моменте. По мнению посланца молодежи этим успешно занимаются и Н. И. Бухарин, и А. В. Луначарский, и Е. Ярославский. Их выступлениям место не на данном форуме, а на каком-нибудь церковном соборе. Следует немедленно прекратить «атеистическое сюсюканье», отказаться от либеральных методов и взять курс на жесткое противостояние религии[718]. Это резкое выступление вызвало негодование у части делегатов, потребовавших извинений. Однако «Комсомольская правда» поместила передовицу, где полностью солидаризировалась с представителем ЦК ВЛКСМ. В результате разгоревшиеся страсти вынуждены были гасить Луначарский и Ярославский. Нарком просвещения говорил о том, что не следует увлекаться административными актами, прямыми ударами, дабы не оскорблять верующих и не давать козыри в руки наших настоящих врагов. Вместо этого, нужна кропотливая просветительская работа. Только она даст плоды. Если кто-то этого не понимает, то, прежде всего, по недостатку опыта[719]. Ярославский упорно взывал к авторитету В. И. Ленина, рекомендовавшего с величайшей осторожностью подходить к антирелигиозной пропаганде[720].
Стенографические отчеты этих крупных форумов показывают, что руководители партии и правительства не только не стремились разжигать религиозные конфликты, а наоборот, старались удержать напор тех, кто жаждал окончательно и бесповоротно «разобраться» с церковью. Захлестывавшие РПЦ волны определенно шли снизу. И это при том, что новые кадры руководствовались не марксистскими истинами, а национальной идентификацией, выраженной идеологемой: «русское – это лучшее и передовое». Интернационалистические мотивы в их системе ценностей занимали подчиненное место, лишь подкрепляя осознание собственной исключительности. Получается, для этих коренных русских людей из низов национальное возрождение не подразумевало РПЦ! Иногда ловишь себя на мысли, что те, кто устранял инородцев-леваков, как чуждых элементов, примерно так же относился и к церкви. Потому-то провозглашение русского народа самым передовым в мире сопровождалось буквальным сносом РПЦ, превзошедшим гонения периода Гражданской войны. Очевидно, коммунисты из народа считали ее не только не своей (что естественно), но и в принципе, имеющей далекое отношение к подлинному русскому духу. Иначе говоря, мы сталкиваемся с удивительным явлением: русское национальное становление в «большевистских одеждах» выразило внецерковную традицию, подспудно существовавшую в староверческих народных слоях. Подчеркнем, не вообще внецерковную, а именно православную внецерковную. Никакие сектанты, также отвергавшие РПЦ, наверняка не стали бы восторгаться русским народом, как самым лучшим и передовым; это кардинально противоречило их базовым религиозным установкам.
Отсюда следует, что само понятие «русского» имеет более сложную природу, чем это представляется нынешним патриотам, не мыслящим жизни без РПЦ. Выяснение того, в чем же именно выражается русский дух, крайне актуально, поскольку имеет огромную практическую значимость для будущего России.
Глава 6. Новый облик советской литературы
Литература в советскую эпоху всегда рассматривалась действенным инструментом идеологического влияния, с помощью которого закреплялись провозглашенные политические установки. Развертывание в стране культурного строительства и последовавший рост грамотности широких слоев населения серьезно повысили значимость художественного слова. Писательские опусы не просто перемещались в эпицентр общественных интересов, но и оказывались под пристальным вниманием партийно-государственного руководства страны. Разумеется, соперничество различных группировок в верхах на протяжении 20-30-х годов XX века не могло не отразиться и на этой творческой сфере. Знакомство с общеполитическими тенденциями той поры позволяет проследить переход большевизма с интернациональных на патриотические рельсы, а также увидеть многосложность этого процесса. Литературная жизнь той поры являет собой прекрасную иллюстрацию того, как происходило перемещение выходцев из староверия на вершину власти, как преображался советский писательский Олимп. Рассмотренная в данном ключе, эта, казалось бы, хорошо известная сторона отечественной истории предстает в совершенно ином свете.
Октябрьская революция повлекла за собой полное крушение старого мира и его атрибутов. В глазах многих это грандиозное событие знаменовало начало новой эры в жизни не только страны, но и целого мира. Пересмотру подвергся весь интеллектуальный и культурный багаж прошлого: его подлинная значимость отныне стала соотноситься исключительно с революционными потребностями. Эти весьма болезненные явления в полной мере затронули и литературное творчество, находившееся в дооктябрьский период на признанной высоте. Однако, пришедшая к власти большевистская элита отнеслась к этой богатейшей сокровищнице с неподдельным скепсисом, провозглашая примат пролетарской культуры, призванной заменить старое наследие. Наиболее полно это обосновал известный теоретик, старый большевик с самыми разносторонними интересами А. А. Богданов (1873–1928)[721]. Отношение к старой культуре он сравнивал с восприятием чуждой религии, когда ее критически изучают, но вместе с тем вырабатывают собственную точку зрения. Только в этом случае возможно овладеть старой культурой, не подчиняясь ей, превратить ее в средство для строительства новой жизни, в орудие борьбы против того же старого общества[722]. В подтверждение своей мысли Богданов приводит марксистское учение, а его титаническое здание на 9/10 состоит из переработанных буржуазных источников. Маркс и Энгельс установили между ними новые связи, очистили и переплавили их в огне своих гениальных идей и в результате выработали теорию научного социализма[723]. Нечто подобное необходимо проделать и со всей буржуазной культурой. Заметим, что Богданов уже пытался подступиться к этому грандиозному делу, участвуя до революции (совместно с М. Горьким, А. В. Луначарским и др.) в организации рабочих школ на острове Капри и в Болонье (Италия). Теперь же, после Великого Октября, «идея самой пролетарской культуры приобрела характер ультиматизма, поставленного историей нашему рабочего классу»[724]. Разумеется, новая обстановка располагала к более масштабным экспериментам, и уже весной 1918 года в Москве учреждается Пролетарский университет, распахнувший свои двери для рабочих масс. Правда, это начинание окончилось неудачей, поскольку пролетарии не проявили к нему большого интереса. Аудитории заполнялись главным образом интеллигенцией советских учреждений, что сильно угнетало организаторов, так как противоречило самому духу их замысла[725]. В итоге университет прекратил свое существование.
Но большевистский истеблишмент не оставлял забот о пролетарской культуре. Тем более, что завершение Гражданской войны сопровождалось всплеском литературного творчества. Авторы всевозможных оттенков и разного уровня дарования пытались осмыслить произошедший общественно-экономический перелом, отразить вызванные им настроения и чаяния. Из пестрого многообразия течений постепенно выделился круг писателей, которые на протяжении 1920-х годов доминировали в молодой советской литературе. Его ядро составляли Г. Лелевич, И. Вардин, С. Родов, Л. Авербах, А. Безыменский, Ю. Либединский, А. Селивановский, Б. Волин (И. Фрадкин), А. Зонин (Э. Бриль), В. Киршон, Ф. Раскольников и др. Перечисленные деятели действовали согласованно, отслеживая литературные веяния, поддерживали одних писателей и поэтов и в тоже время создавали препоны для других. Творческие пристрастия вставшей у руля советской литературы, группы, состоявшей, как можно заметить, преимущественно из инородцев, отличались откровенно пренебрежительным отношением к русской литературе как таковой. Основываясь на богдановских идеях, они неустанно призывали «не ахать, не восторгаться, не подражать», а изучать доставшееся наследие, чтобы делать все «по своим законам, прямо противоположным старым»[726]. Они пропагандировали принципиальные черты формирующегося пролетарского творчества. В кардинально изменившейся жизни классики уже мало чем могут быть полезны; к тому же они вовсе не были совершенны, им свойственны и ошибки, и противоречия[727]. Фразы Л. Н. Толстого загромождены синтаксически, в них тесно, как в заставленной вещами комнате; «прекрасного стилиста» И. С. Тургенева уже невозможно читать без улыбки; а восхищение А. С. Пушкиным грозит ни много ни мало утратой исторической перспективы![728] На журнальных страницах печатались соответствующие разъяснения: когда мы говорим о классиках, то вспоминаем шесть-семь имен или двадцать-тридцать произведений, к каждому из которых приклеен ярлык «великий». А говорить надо не столько об отдельных писателях, как бы велики они ни были, сколько о господствующем стиле эпохи. И молодежь надо приучать к тому, что литература делается не одиночками, а коллективным трудом поколений[729]. Такие мысли были созвучны настроению большевистских лидеров, и на них с энтузиазмом ориентировались предводители новой литературы. В первую очередь на Н. И. Бухарина, не упускавшего возможности лишний раз заклеймить российское литературное наследие. Так, в своей небольшой по объему статье, украсившей первый номер журнала «Революция и культура», Бухарин «проехался» по Л. Н. Толстому, который гораздо лучше понял бы народ, если бы ему пришлось «работать, чтобы жить, а не для спасения души»; И. С. Тургенева назвал «слащавым либералом», вообще мало смыслящим в жизни[730]. Не забыл он и поэтов: С. А. Есенина, пробравшегося в советский лагерь, дабы «тянуть якобы вольные песни», и В. В. Маяковского, двигающего нас от коммунизма в «анархическое болото»[731]. Неудивительно, что идеолог советской литературы тех лет С. Родов с удовлетворением признал на одном высоком совещании: Бухарин, а также К. Б. Радек принципиально стоят на нашей позиции![732]
Согласно той же принципиальной позиции, произведения нового типа ожидались исключительно от авторов из пролетарской среды, объединенных в литературные ассоциации, через которые массы должны были приобщаться к культурной жизни[733]. К примеру, неподдельный восторг того же Бухарина вызывали творения Ю. Либединского; он оценивал их как своего рода «первую ласточку»[734]. Образцом для литераторов будущего неизменно считался известный поэт Д. Бедный, с завидной регулярностью сочинявший пасквили на мракобесную Русь:
«Спала Россия, деревянная дура, Тысячу лет! Тысячу лет! Старая наша «культура»! Ничего-то в ней ценного нет»[735].А его известные фельетоны образца 1930 года («Слезай с печки», «Перерва», «Без пощады» – о невежестве и ничтожестве России) были объявлены Ю. Либединским не только непревзойденными с художественной точки зрения, но и утверждающими подлинный диалектико-материалистический метод в искусстве[736]. Нельзя не заметить, правда, что упомянутые пролетарские писатели имели далеко не пролетарское происхождение. Однако, это не смущало тех, чье мнение определяло судьбы литературы той поры: заведующих отделом печати ЦК ВКП(б), который во второй половине 1920-х годов поочередно возглавляли И. М. Варейкис и С. И. Гусев (Я. Д. Драбкин).
Данный период оказался очень трудным для всех, кто не пришелся ко двору творческой большевистской элите и ее высокопоставленным покровителям. Так, форменной обструкции подвергся М. М. Пришвин, на которого прочно навесили ярлык реакционера. Его замечательные зарисовки русской природы вызывали неподдельное возмущение. Например, пришвинский рассказ «Медведь», посвященный размышлениям человека об утраченных целостных взаимоотношениях с живой природой, о первобытно-счастливом времени, был раскритикован М. Гельфандом. На дискуссии в Коммунистической академии он назвал рассказ «проклятием в адрес революционной действительности, проклятием, исходящим от тупого, раздраженного филистера, которому «помешали» спокойно и безбедно устроиться на этой планете»[737]. Пришвин приготовился к тому, «что теперь надолго нельзя будет печататься»[738]. Подобные же оценки получал писатель В. Каверин. Очередной его роман «Скандалист, или вечера на Васильевском острове» о питерской научной интеллигенции был назван чуждой и враждебной книгой, мещанским брюзжанием людей, находящихся не в ладу с пролетариатом и крестьянством, игнорирующих классовую борьбу: они, а стало быть, и сам Каверин – охвостье враждебных народу сил[739]. Будущего крупного русского прозаика и мыслителя Л. М. Леонова, чья гениальность уже ощущалась в ту пору, именовали «неким Леоновым», враждебным рабочему классу: ведь он печатался в изданиях, за которыми стоит заграничный капитал[740]. Не избежал критики и Ф. И. Гладков (у него, кстати, в отличие от его оппонентов, было самое, что ни на есть рабоче-крестьянское прошлое). Нарекания вызвал роман «Цемент», чья популярность вызывала недоумение: как могла понравиться такая посредственная вещь?! Конечно, в ней есть все необходимое, но книга получилась несъедобная, поскольку «продукты не сварены и только для вида смяты в один литературный паштет»[741]. Подобные произведения вредны, так как «ничего не синтезируют, а только затемняют основную линию нашего литературного развития»[742]. «Цемент» практически все двадцатые годы оставался вне основного литературного тренда, и это вопреки последовавшим переводам на другие языки[743].
Весьма любопытно, что сложившийся в тот период крепкий антирусский литфронт получил ощутимую пробоину. Причем его идейная монополия была оспорена не кем иным, как самим Л. Д. Троцким. Этот пламенный революционный трибун никогда не проявлял большой любви ко всему, что касалось России, да и в данном случае дело было не в проснувшихся вдруг симпатиях. Просто Троцкий, абсолютно не веривший в какие-либо творческие потенции русского народа, возможность какого-либо их развития считал невероятной. И если Богданову с последователями не терпелось приступить к взращиванию новой пролетарской литературы, то Троцкий считал эту задачу делом далекого будущего:
«Нет, рабочие массы культурно чрезвычайно отсталы; малограмотность и безграмотность большинства рабочих представляет сама по себе величайшее препятствие на этом пути»[744].
Не меньший скепсис вызывал у него и конкретно Д. Бедный: Демьян никакой школы не создал, новых поэтических форм не нашел и использует старые, канонизированные. Он воспитан на том же Крылове, Гоголе и Некрасове и в этом смысле является революционным последышем старой литературы[745]. Новая же литература не появится в ближайшие двадцать-тридцать-пятьдесят лет, а потому говорить о самостоятельной эпохе пролетарской культуры невозможно[746]. Троцкий призывал брать примеры из прошлого:
«Нам нужен, свой «Недоросль», свое «Горе от ума», свой «Ревизор», а значит, пока нужны и те, кто в состоянии изображать нечто подобное»[747].
Чтобы лучше выразить свои мысли, Троцкий использовал применительно к литературе термин «попутчик», возникший на исходе XIX века в хорошо знакомой ему среде немецкой социал-демократии[748]. Однако, этот термин очень скоро стал употребляться в уничижительном смысле: в «попутчики» попали все советские писатели, не вращавшиеся в орбите литературных руководителей 1920-х годов.
Троцкий не только теоретически обосновал необходимость привлечения различных сил к литературному процессу, но и поучаствовал в создании первого литературного журнала страны Советов, вокруг которого группировались многие из тех, кого он назвал «попутчиками». Речь о журнале «Красная новь». К его учреждению в начале 1921 года имел отношение и М. Горький, а первое заседание редакции прошло вообще на квартире В. И. Ленина, проявившего живой интерес к новому изданию[749]. Редактировать журнал стал А. К. Воронский, родившийся в Тамбовской губернии в семье священника и поучившийся в местной духовной семинарии, откуда был изгнан за неблагонадежность. Вступив в 1904 году в партию, Воронский отметился участием в Пражской конференции большевиков 1912 года, а после революции работал в областных газетах Центральной России[750]. Возглавив «Красную новь», он наладил связи со многими известными и начинающими писателями: И. Бабелем, Вс. Ивановым, Л. Леоновым, Л. Сейфулиной, М. Пришвиным, К. Фединым, Е. Замятиным и др. Здесь же предпочитал публиковаться, уехавший в Италию М. Горький. Сам Воронский выступал с критическим статьями, где давал оценки многим писательским опусам, со знанием дела разбирал произведения классиков. Троцкий поддерживал тесные отношения с редактором «Красной нови» и высоко ценил его труды, именуя «лучшим партийным литературным критиком»[751].
Воронский считал величайшей нелепостью попытку «окоммунизировать» советскую литературу в крестьянской стране:
«Мы твердо должны помнить, что огромное количество наших художников – прозаиков и поэтов – неизменно будут привносить в литературу настроения, нам, коммунистам, чуждые, несвойственные. Мы готовы с этим посчитаться, особенно если писатель вознаграждает нас за эти недостатки талантливой и искренней правдой художественного показа. Мы обязаны учесть, что писатель часто бывает политически аморфен, не испытывает особого вкуса к политике, что его не тянет к политической злободневности, что он скроен из иного материала, чем общественник, что, наконец, художественное оформление нашей современности – дело трудное, сопряженное с ошибками, с раздумьями, с сомнениями»[752].
Воронский призывал осознать ценность старой классической литературы, которая в своих лучших образцах звала массового читателя на борьбу с ограниченными собственническими инстинктами, с психологией крепкого хозяина. По его убеждению, от Гоголя до Чехова русское художественное слово служило передовым взглядам своего века[753]. Стоявшая на этой идейной платформе «Красная новь» считала своей главной задачей объединять разных писателей. Недаром за Воронским в середине 1920-х годов закрепилось имя Ивана Калиты, подчеркивавшее его роль в собирании по крупицам советской литературы[754].
Именно вокруг «Красной нови» оформилась группа «Перевал», в которую вошли или с которой сотрудничали многие литераторы того времени. Они стремились поддерживать традиции русского классического наследия, чем сразу вызвали нещадную критику со стороны большевистской элиты. Ее рупор «На литературном посту» не уставал рассуждать о проповедниках несостоятельности пролетариата в культурном строительстве, а именно о Троцком и Воронском, чья практическая линия сведена к выдвижению непролетарских писателей, из-за которых сдаются позиции советской литературы[755]. Как разъяснял Л. Авербах, «корни наших разногласий находятся не только в пределах литературы, но и за ее пределами – в политике»[756]. Связи попутчиков, пригретых «Красной новью», с откровенными буржуазными писателями, с остатками внутренней эмиграции весьма значительны, что не может не тревожить[757]. Далее следовало угрожающее напоминание: «Мы вовсе не поставили в дальний угол столь популярную у наших противников «напостовскую дубину»… она «готова «функционировать», о чем мы и имеем удовольствие довести до сведения…капитулянтов»[758]. И это не были пустые слова. Падение Троцкого повлекло за собой отстранение Воронского от руководства журналом, а затем и его высылку из Москвы в провинциальный Липецк, после чего был учинен полный разгром «Перевала». Участников этого писательского объединения называли мещанскими перерожденцами, которым безразлично марксистское политическое воспитание, а важно «изворотливое, типично мелкобуржуазное по своей трусливости стремление всячески оправдать ошибки, путаницу и колебания тех или иных писателей…»[759]. В силу этого группа «воспринимает революцию именно с ее мучительной стороны, как застывшее противоречие», а «новая полоса больших боев за социализм кажется ей большим кошмаром»[760]. Журнал «На литературном посту» с гневной иронией вопрошал: когда же, собственно, писалась продукция этих творцов в 1928 или 1908 году?[761]Особенно жестким нападкам подверглись идейные лидеры «Перевала» – известные критики А. Лежнев и Д. Горбов. Они разрабатывали схему единой литературы, вход в которую открывается только избранным, при этом отводя себе «роль архангелов, стоящих у ворот рая»[762].
Противостояние Воронского и его последователей, с одной стороны, и группы, делавшей ставку на развитие исключительно пролетарской литературы (РАПП) – с другой, является любимым сюжетом современных исследователей[763]. И этот сюжет затмил некоторые другие тенденции, на самом деле имевшие не меньшее, а точнее, гораздо большее значение для развития советской литературы. С середины 1920-х годов в ней появляется все больше кадров из рабоче-крестьянских низов. Конечно, набирающую силу тенденцию бурно приветствовали руководители литературной отрасли, предвкушающие скорую победу над ненавистными «попутчиками». Они с удовлетворением отмечали снижение удельного веса «попутнической» литературы: она теряла «социальный темп и пульс жизни», и ей на смену приходили произведения новых, уже пролетарских авторов[764]. Вообще говоря, этот процесс был вполне естественным, поскольку его определяло резкое изменение «лица» ВКП(б). Партийцы пролетарского происхождения активно проявляли себя во всех сферах, включая и литературную. Неожиданным стало другое: они не собирались мириться с засильем инородческой публики, оспаривая ее монопольное право определять, кого и что следует считать подлинно революционным. Острый конфликт на этой почве произошел в писательской среде уже в 1925–1926 годах. Особая роль в нем принадлежала Дмитрию Фурманову, бросившему вызов литературным руководителям. К этому времени имя автора «Чапаева» и «Мятежа» было достаточно хорошо известно читателям. Однако, «напостовские» вожаки явно не спешили признавать его писательский талант. Если произведения С. Родова, Г Лелевича, Ю. Либединского, А. Безыменского расхваливались сразу же после публикаций, то «Чапаев» удостоился их внимания лишь через год после выхода в свет; причем роман оскорбительно назван всего лишь материалом «тем поэтам и писателям, которые в основу своего творчества кладут революционный эпос»[765].
И все-таки со временем Фурманов попал в тесный круг предводителей советской литературы, с которыми у него и разгорелся конфликт. Здесь нужно обратить внимание на личность Фурманова, его происхождение и формирование. Будущий советский писатель родился в 1891 году в деревне Середа Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне Ивановская область) в семье с «крепким домостроевским укладом»[766]. Эти места издавна были старообрядческими – типичный староверческий анклав. Окончив начальную школу, Фурманов поступает в реальное училище г. Кинешмы, где живет вместе с рабочими местных фабрик. Как он вспоминал, большое влияние на него оказала рабочая семья Голубевых: они вели долгие беседы о жизни, распевали волжские песни[767]. Фурманова отличало равнодушие к церкви, переросшее в пренебрежение: «Не верю я этому богу, который одним дает все, а других заставляет всю жизнь мучиться»[768].
Революционная деятельность писателя связана с Иваново– Вознесенском, где он работал с М. В. Фрунзе и откуда с отрядом ткачей уходил на Восточный фронт воевать против колчаковцев, что впоследствии и описал в «Чапаеве». Оказавшись после войны в литературной среде, Фурманов, как истинно русский человек, сразу ощутил узость, кастовость «напостовского» круга. К тому же, эти люди не относились к поклонникам задушевных волжских песен. Главным оппонентом писателя стал Семен Абрамович Родов. «Борьба моя против родовщины – смертельна: или он будет отброшен, или я», – так воспринимал Фурманов это противостояние[769]. И выступил за коренное изменение структуры московской организации пролетарских писателей, чтобы выйти из молчаливого подчинения родовцам[770]. «Напостовство» же он оценивал как «вещь в значительной степени дутую и раздутую; идеология тут зачастую подводится для шику, для большего эффекта, чтоб самое дело раздуть куда как крупно, а чтоб 2-3-5-ти его вожакам славиться тем самым чуть ли не на всю вселенную»[771]. Фурманов ратовал за такое руководство, которое «понимают и принимают широкие массы пролетписателей»[772].
В марте 1926 года Фурманов скончался от очередного сердечного приступа, но его борьба не прошла бесследно: конфликт получил большой общественный резонанс. С. Родов, Г. Лелевич, И. Вардин были выведены из всех руководящих органов пролетарских литературных объединений, хотя на политику в целом это повлияло мало. К рулю встал Леопольд Авербах, который ранее поддерживал «родовцев». При его деятельном участии была учреждена Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), которая, по сути, проводила прежний курс: выдвижение авторов из рабоче-крестьянской среды. Авербах, уроженец Нижнего Новгорода, пользовался благосклонностью в верхах, поскольку его родная сестра Ида была замужем за фактическим руководителем ОГПУ Г. Г. Ягодой[773]. Случай с Фурмановым вся авербаховская компания расценила как досадную случайность и пребывала в уверенности, что без труда сможет манипулировать новым литературным пополнением.
Тем временем ряды РАПП непрерывно ширились; к писателям из низов предписывалось относиться бережно, помогая им «заработать себе историческое право на гегемонию»[774]. Как свидетельствуют изученные биографии, многие из них вышли из старообрядчества, что прежде оставалось за рамками внимания историков. Известный писатель Федор Панферов был родом с Поволжья. В своих воспоминаниях он рассказывает о родственниках (бабушке, матери, брате, тетке и т. д.), как о ревностных беспоповцах, хотя по официальным документам все они числились правоверными православными. Молодой Панферов и его родной брат Алексей часто помогали староверам читать псалтыри в молельных[775]. В годы советской власти брат Панферова писал, что их матери – Дарье Носковой – имя дали в честь одной местной женщины: она и под кнутом не выдала единоверцев, которых за неподчинение разыскивала полиция. Эту твердость характера, верность своим убеждениям мать вполне передала своим детям[776]. Федор Гладков, также выходец из беспоповцев, умиленно вспоминает молельню, куда он часто ходил с матерью и бабушкой, здесь к нему пришла любовь к музыкальным переживаниям. Пишет он и о поездках с отцом по Волге, где они встречались с работниками «неизбалованными… росшими в старой вере». Когда его отец нанимался на работу, хозяин удовлетворенно заметил: «Хорошо, что от тебя не ладаном воняет. Такой ты мне и нужен»[777]. В той среде жили по принципу: «у нас своя правда, а у богача да попа своя»[778]. И все эти люди казались Феде Гладкову «необыкновенными, загадочными существами, которые таили в себе страшную силу, неведомую другим людям. Все они были похожи друг на друга… шагали тяжело, лица у них были жесткие, бородатые, глаза твердые и зоркие»[779].
Аналогичное происхождение и у видного организатора советской литературы Владимира Ставского. Настоящая фамилия этого уроженца деревни под Пензой – Кирпичников; он начинал трудиться кузнецом на Пензенском оборонном заводе. Ставским же стал после штурма Тифлиса в 1921 году: тогда погиб его товарищ, и будущий писатель взял его фамилию в знак памяти[780]. О Ставском всегда говорили как о человеке «крутом, слишком прямолинейного склада» (и это скоро почувствовали многие в литературном мире[781]). Упомянем и петербургского рабочего Сергея Семенова (1893–1942); он также вышел из староверческой среды и стал писателем. Его происхождение, включая место рождения, неизвестно, что типично прежде всего для согласия бегунов-странников дореволюционной поры. Семенов погиб на фронте в Великую Отечественную войну, и сегодня его помнят лишь немногие специалисты. Необходимо назвать Михаила Чумандрина, Феоктиста Березовского, Николая Кочина, Ивана Макарова и др., к произведениям которых, описывающих генезис староверия после революции, мы еще обратимся.
Поначалу авербаховская компания очень позитивно относилась к их творчеству, осыпая похвалами и благосклонными рецензиями. Чумандрина называли «величайшим художником нашего времени»[782], роман Н. Кочина «Девки» сочли крупной удачей автора[783], роман С. Семенова «Наталья Тарпова» признали блестящим[784], так же как повести В. Ставского[785] и др. Но в центре новой литературы оказался Ф. Панферов, гордившийся тем, что путевку в творческую жизнь ему дал Д. Фурманов[786]. Вокруг романа «Бруски» развернулся невиданный ажиотаж, Панферова именовали «едва ли не самым серьезным писателем эпохи», который сумел показать лицо настоящего, живого, цепкого классового врага в деревне[787]. Рапповские критики уверяли, что эта книга «нащупывает столбовую дорогу пролетарской литературы»[788]. Официальный успех «Брусков» заметили и в эмиграции. Известный критик русского зарубежья Г. Адамович писал, что ни один роман, написанный на русском языке, не имел такого распространения. Тираж книги превысил 600 тысяч экземпляров – рекордная цифра для советской печати[789]. По меткому замечанию критика, «с «Брусками» по существу не спорят: «Брусками» клянутся… цитатами из романа уничтожают противника так же, как ссылками на Ильича»[790].
Литературные предводители, пестовавшие рабоче-крестьянских писателей, были уверены, что это пополнение станет важным подспорьем в их борьбе с «Перевалом» и разношерстными «попутчиками». Поначалу все так и происходило. Новые авторы испытывали неприязнь к «пробуржуазным» литераторам, тем более что лидеры «Перевала» не упускали возможности высмеять художественную несостоятельность писателей из народа. Например, ведущий критик объединения А. Лежнев в пух и прах разнес «Бруски», указав на вопиющие недостатки текста – вязкого и трудного для чтения, изобилующего повторениями одинаковых ситуаций. Каждый раз, когда автору нужно изобразить тяжелый кризис героя, иронизировал Лежнев, на помощь обязательно приходит несчастный случай или избиение. С тем же постоянством повторяются и бытовые сцены. Художественные типы у Панферова не обладают ни глубиной, ни сложностью. Особенно женские персонажи, которые отличаются разве что именами. Развязка автором просто не предусмотрена: роман может быть завершен практически в любом месте. Так что для его финала лучшего всего подходит знак вопроса[791]. Вывод – это никакое не достижение, а сырой ученический роман[792]. Усугубляло ситуацию то, что статья Лежнева была посвящена не только Панферову, но и молодому автору из «Перевала» П. Слетову, причем сравнение, как можно догадаться, делалось не в пользу любимца литературного официоза. В ответ пролетарские писатели требовали разгромить «беспринципный блок» в литературе[793]. И вполне совпадали в этом с Авербахом и компанией.
Но продолжалась эта идиллия недолго – до окончательного разгрома «Перевала» в начале 1931 года. Казалось, победа в многолетней борьбе давала Авербаху и «рапповцам» все основания провозгласить:
«Мы вышли победителями из очень трудных и сложных столкновений, мы стали ведущим отрядом советской литературы, мы превратились в важнейшего проводника литературной политики партии»[794].
Однако, очень быстро выяснилось, что рабоче-крестьянские писатели ведут собственную игру против руководства РАПП – того самого, которое всячески их лелеяло. Оказалось, что устранение «перевальцев» не являлось для литераторов из народа конечной целью: ведущие роли на писательском Олимпе они примеривали на себя. Противостояние группы Панферова и группы Авербаха составило главное содержание интересной, но малоизвестной страницы литературной жизни страны. Для авербаховцев поведение их рабоче-крестьянских коллег явилось неприятной неожиданностью. Например, Авербах был возмущен тем, каким тоном М. Чумандрин атаковал поэта А. Безыменского: мол, тот не имел права писать о пролетариате, пробыв на Путиловском заводе всего шесть дней. «Написав целый том довольно дрянных стишков, он через некоторое время поймет, если захочет, как он мало знает рабочего и как плохо умеет его показывать»[795]. Здесь содержится прямой намек на интеллигентское происхождение Безыменского: в глазах рабочего, приобщившегося к писательству, это было откровенным недостатком.
Панферовская группа подготовила программу для литкружков, в которой вообще не упоминались (а, следовательно, не рекомендовались для чтения) Д. Бедный, А. Фадеев, Ю. Либединский, А. Безыменский, зато всем им – олицетворявшим прошлое литературы – противопоставлялись ставшие знаменитыми «Бруски». В ответ Авербах негодовал: «Это есть не что иное, как попытка канонизировать творческие установки одного писателя в противовес опыту всей пролетарской литературы»[796]. Необходимо нещадно критиковать создавшееся положение, потому что оно «дезориентирует самого Панферова и все пролетарские кадры»[797]. Однако заявившие о себе «кадры» не обращали внимания на эти одергивания и пропагандировали новое понимание советской литературы, недоступное их интеллигентным коллегам по РАПП. Прошло время, когда писательский труд ограничивался стенами кабинета, когда для подготовки романа было достаточно сесть за стол и творить в одиночестве. Ныне ощущается потребность в творческой практике, в коллективной работе, во взаимной проверке. Во главу угла ставится коллективное обсуждение готовящегося произведения, благодаря чему растет ответственность каждого за творчество всей группы и наоборот. Это не только позволяет смотреть «на собственный пуп писателя, как ранее, когда каждый считал себя последним словом пролетарской литературы, но и заставляет объективно смотреть на свои собственные недостатки…»[798]. Высокохудожественной может стать только та работа, которая написана в огне социалистического строительства, в непосредственном стыке с людьми, в процессе глубокого изучения производства и техники. Писатель В. Ильенков, изложивший это литературное кредо, поведал, как они вместе с Панферовым готовили очерк о бетоне: десять дней вникали в процесс бетонирования в одной из бригад, и в итоге перед ними ярко и во всей глубине развернулась жизнь рабочих. Иными словами, самое тесное участие в социалистическом строительстве объявлялось обязательным условием литературного труда[799]. Под этим знаменем панферовская группа требовала перемен, а ее лидер грозил тем, «кто до сих пор не понимает всего значения перестройки РАПП., кто до сих пор еще остался чахленьким индивидуалистом, кто случайно попал в ряды пролетарской литературы, кто способен написать только избитую, никому не нужную резолюцию (прямой намек на Авербаха – авт.) и кто знает, что при перестройке РАПП. он отвалится от организации, как хлам, как клоп»[800]. Дабы не быть голословным, он указал на Либединского – типичного индивидуалиста, неспособного к коллективному творчеству[801]. Панферов настойчиво требовал, чтобы произведение конкретного писателя активно критиковалось еще до выхода в свет. В качестве примера он привел работу своего соратника В. Ильенкова. Его роман «Ведущая ось» в течение года прорабатывался всей группой: каждый делился своими впечатлениями и мыслями, обогащал текст замечаниями. Надо понять, заключил Панферов: «только тот обижается на критику, кто не живет литературой, для кого литература – простая подкормка»[802].
В этом, казалось бы, сугубо профессиональном конфликте у рабоче-крестьянских писателей появился мощный союзник. В поддержку панферовской группы с энтузиазмом выступил советский комсомол. Эта молодежная организация и прежде не оставалась в стороне от литературных баталий. К примеру, она внесла свой вклад в разгром «Перевала», требуя нанести крепкий большевистский удар по мелкобуржуазным перерожденцам[803]. Специалисты считают, что в этой шумной пропагандистской кампании комсомол действовал в унисон с Авербахом и руководством РАПП[804]. Тем более интересна быстрая переориентация ЦК ВЛКСМ на новых союзников. Это крайне значимый момент, если принять во внимание, кто в 1929 году встал у руля ленинского комсомола. Речь идет о сталинских выдвиженцах – А. В. Косареве и его группе. Заметим: это были не просто функционеры пролетарского происхождения, ненавидящие интеллигенцию, а выходцы из староверческой, заводской среды (этому сюжету посвящена отдельная глава настоящей книги). Их ментальность полностью соотносилась с жизненными предпочтениями «панферовцев», имевших, как сказано выше, те же конфессиональные корни. Комсомольское руководство бросилось в атаку на Авербаха и его союзников[805]. Им припомнили превозношение Д. Бедного, который оказался не в чести у новых вожаков ВЛКСМ (что само по себе весьма показательно). «Комсомольская правда» одной из первых выступила против «одемьянивания» литературы, но «Литературная газета» – орган РАПП – критику игнорировала[806]. Там задавались вопросом: почему коллеги так чутко откликаются на события писательской жизни?[807] И издания ЦК ВЛКСМ разъясняли: нельзя думать о советской молодежи как о пассивном потребителе художественных ценностей, создаваемых профессионалами (по принципу «писатель пописывает, а комсомолец почитывает»). Есть тысячи примеров, когда писатели давали искаженные образы, выражали классово чуждые настроения, и непосредственное дело читателей («комсомольских читателей»!) – своевременно указать на это[808]. Указывать они начали очень активно, адресуя все претензии авербаховцам. Например, объектом их критики стал А. А. Фадеев, который до осени 1932 года числился соратником Авербаха. «Комсомольскую правду» категорически не устраивала его тяга «на малиновый настрой «вечных проблем» – это непозволительно для писателя, претендующего на высокое звание пролетарского. Мы вправе требовать, подчеркивало издание, прекратить вкладывать в головы рабочего класса противоречия, свойственные интеллигентскому хлюпику[809]. «На литературном посту» встал на защиту Фадеева: он-де касался этой тематики, дабы показать меняющегося человека с его отношением к религии, с размывающимися старыми понятиями[810].
Попытки Авербаха удержать конфликт в литературной плоскости не достигали цели. Комсомол как раз стремился вывести его в политическую сферу и увязать с классовым подходом. Можно сказать, что руководство РАПП били тем же оружием, которое они часто использовали в борьбе с «попутчиками». В дискуссию вступил и комсомольский лидер А. В. Косарев. Он еще раз пояснил, что оппоненты зря считают лишь себя компетентными в литературе, так как это снижает их восприимчивость к справедливой критике, приводит к искусственным, непринципиальным спорам. Авербах и ему подобные не склонны к самокритике, берегут честь мундира и готовы сокрушить всех, кто нелестно о них отзывается. Поэтому вокруг Панферова и его единомышленников и сложилась такая нездоровая атмосфера. «Но мы не из пугливых», – многозначительно добавил Косарев[811]. Выступая на пленуме украинского комсомола, он сообщил, что в литературном творчестве надо следовать наработкам панферовской группы: только такие картины социалистического строительства и классовой борьбы могут овладеть умами миллионов[812]. «Бруски», уверяла «Комсомольская правда», остаются одним из крупных и лучших произведений советской литературы[813]. Идеи Косарева были благожелательно встречены центральным партийным органом – «Правдой». В газете было также указано на необходимость усилить связи РАПП с комсомолом. Однако некоторые товарищи, как отмечалось в статье, вместо этого ударились в амбиции и полемику, причем в недопустимом тоне[814].
Оправдывая позитивную оценку своих усилий, комсомол проецировал в центр советской литературы фигуру ударника. Незамедлительно был инициирован смотр литераторов, пишущих о молодом поколении. Принципиальным здесь стало то, что смотр не был узкопрофессиональным; он объявлялся делом всех комсомольцев и вообще пролетарской общественности. Его назначение – по-большевистски четко выявить отклонения, ошибки и промахи того или иного писателя. Для этого организовывались специальные собрания и вечера для обсуждения произведений, для создания коллективных отзывов и рецензий. Смотру планировалось подвергнуть максимальное количество пролетарских творцов. «Комсомольская правда» опубликовала список тех, кого хотели бы обсудить трудовые коллективы. Интересно, что из сорока двух известных и начинающих писателей лиц еврейской национальности было всего восемь-девять человек[815]. Это наглядно демонстрирует, что «панферовцы» в литературе и «косаревцы» в комсомоле ориентировались совсем на другие круги.
В литературном конфликте начала 1930-х годов появился еще один весьма заинтересованный участник – М. Горький, возвратившийся в СССР после долгого пребывания в Италии. Его приезд стал действительно крупным событием для советского литературного мира. Горький не прерывал связи с целым рядом советских литераторов и внимательно следил из-за границы за течением творческой жизни на родине. Как говорилось выше, симпатии писателя находились на стороне А. К. Воронского, с которым он состоял в постоянной переписке. Позиция же противников «Красной нови», которую Горький считал откровенно антикультурной, вызывала его неодобрение[816]. Он критиковал РАПП за готовность «проработать» того или иного талантливого автора вопреки заботе о его росте, что в итоге затрудняет формирование товарищеских взаимоотношений. Со своей стороны, предводители советского литфронта «оплачивали той же монетой»: называли именитого писателя «бывшим Главсоколом – ныне Центроужом»[817]; демонстративно холодно встретили его эпопею «Жизнь Клима Самгина» (в одной из рецензий была отмечена «нечеткость постановки основных общественных проблем» в романе, что влечет за собой разнообразные толкования и создает трудности для читательского восприятия[818]).
Первый визит Горького в Москву в мае 1928 года был связан с празднованием его 60-летнего юбилея. А незадолго до этого газета «Известия» опубликовала три статьи, в которых Горький обрушивался на групповщину и мелочные споры в литературе, на низкий уровень издаваемых журналов. Он подчеркивал, что ныне критика в большей степени учит начинающих писателей политграмоте, тогда как должна учить литературной технике. И для этого необходимо «поднять на щит» наследие русской классики, прекратить ее огульное отрицание. Литературному стилю и языку надобно учиться в первую очередь у Толстого, Гоголя, Лескова, Тургенева, также как и у Бунина, Чехова, Пришвина[819]. Горький утверждал, что ему безразлично, как относятся к нему критики: гораздо дороже мнение рабочих, а они «именуют меня «нашим», «товарищем». Пролетариат превратился в хозяина страны, и литература теперь обязана обслуживать интересы трудового народа в целом[820]. Все эти горьковские рассуждения были крайне негативно встречены руководством РАПП; Авербах увидел в них претензию на «учительство и панскую непогрешимость»[821]. Нападки на Горького возобновились и во время его второго, уже более длительного приезда в страну. На сей раз отличились сибирские члены РАПП во главе с неким А. Курсом, давним сторонником Авербаха. Их особенно возмутило то, что Горьким публично защищал Б. Пильняка и Е. Замятина, подвергнутых официальному остракизму. В конфликт пришлось вмешаться Сталину, который настойчиво завлекал в СССР писателя с международной репутацией. В декабре 1929 года ЦК ВКП(б) принял специальное постановление, признав недопустимыми какие-либо выпады против великого литератора современности[822].
Правда, еще до выхода данного постановления рапповское руководство изменило свое отношение к Горькому. Хотя основная заслуга здесь принадлежит далекому от литературы Г. Г. Ягоде. Он информировал своего не в меру ретивого родственника – Авербаха и его компаньонов о серьезности намерений в отношении писателя, а также способствовал его сближению с вождями РАПП.
Завязавшаяся дружба начала приносить плоды. Например, журнал «Молодая гвардия» возмутился чрезмерно обширной программой публикации русских и зарубежных классиков. Предлагалось значительно сократить ее, а оставшиеся произведения обязательно снабдить марксистскими предисловиями и комментариями[823]. Однако, к удивлению многих, «На литературном посту» поддержал приобщение читательских масс к художественному наследию прошлого. Рапповцы заявили, что покушаться на искусство нельзя, так как это свидетельствует о культурной ограниченности, а «нет ничего хуже фарисействующих забот о трезвости «бедных»[824]. Несомненно, такая позиция отвечала горьковским творческим установкам. К тому же в это время стало широко известно, что Сталин ценит русскую классику и с удовольствием читает Пушкина, Чехова, Салтыкова-Щедрина и др.[825]
Теперь сближению Горького и руководителей РАПП ничто не препятствовало. Именно под них Горький инициировал новый громкий проект «История фабрик и заводов», которому придавал большое значение. А у Авербаха, Киршона, Либединского, Фадеева, Селивановского появился сильный союзник, на чью помощь еще годом ранее они не могли рассчитывать. Это оказалось как нельзя более кстати в разгоревшемся конфликте с панферовской группой и поддержавшим ее комсомолом. Авербаховцы доказывали Горькому, что претензии их оппонентов на руководство советской литературой несостоятельны. Как информировал писателя Киршон, борьба с этой безответственной компанией принимает крайне жесткие формы; они ничуть не заботятся о деле и об интересах дела, просто продуманно бьют по нам, – сетовал Киршон. И при этом они не способны самостоятельно повести литературную организацию, а могут лишь участвовать в общей работе[826]. Горький выступил на стороне своих новых любимцев, одновременно демонстрируя неодобрение действиями их противников. Но те оказались на редкость сплоченной силой.
Понимая, что Горький выбрал Авербаха, панферовская группа сделала ставку на своего «духовного» наставника в литературе – писателя с дореволюционным стажем Александра Попова (родом из донских казаков); больше известного под псевдонимом Серафимович. У него сложились такие же тесные отношения с писателями из рабоче-крестьянской среды, как у Горького – с авербаховцами. Судя по материалам тех лет, Серафимовича прочили на роль гуру новой советской литературы. Так, журнал «Октябрь», который с начала 1930-х годов контролировал Панферов, с сожалением отмечал, что творчество такого гиганта до сих пор мало изучено, а ведь его, помимо всего прочего, высоко ценил сам В. И. Ленин: вождь пролетариата письменно выражал ему свою глубокую симпатию[827]. И действительно: Серафимович, будучи студентом Петербургского университета, состоял в дружбе с Александром Ульяновым, казненным за подготовку покушения на Александра III, и тоже проходил по этому делу, был арестован. Между тем трепетное отношение Ленина ко всему, что связано с памятью старшего брата, хорошо известно. К тому же этот эпизод биографии Серафимовича означал, что он стоял у истоков революционного движения в России, а значит, по его произведениям лучше всего изучать историю борьбы. К тому же, его работы просты, реалистичны, незатейливы, но динамичны, обладают особым звучанием. «Железный поток» был назван ведущей вещью советской литературы[828]. Но, несмотря на все свои заслуги, Серафимович не мог обогнать своего старшего коллегу по цеху: Сталин нуждался в международном авторитете Горького, которым Серафимович конечно не обладал.
Таким образом, на литературном ландшафте четко определились два полюса. Первый – группа Авербаха с Горьким в качестве патрона и второй – группа Панферова-Серафимовича, поддержанных лидером комсомола Косаревым. Это противостояние соответствовало общему раскладу сил и проходило не только по линии интеллигенты – выходцы их рабоче-крестьянских низов, но и по принципу конфессиональной принадлежности. В первой группе не было никого со староверческими корнями, зато костяк второй составляли выходцы именно из этих слоев. Присутствовали там, конечно, люди и с другим прошлым: например, В. Ильенков происходил из семьи священника Смоленской губернии, окончил местную духовную семинарию; религиозный генезис того же Серафимовича мы пока не выясняли. Но факт остается фактом: выходцы из староверия определяли сплоченность второй группы. Она-то и послужила опорой при создании Союза писателей СССР, причем Горький оказался из-за этого в сложном положении. Ведь он возвращался в страну под проект единой творческой организации, которую ему предлагалось возглавить; размах почитания его личности на государственном уровне не имел прецедента в истории[829]. При этом реальные возможности по формированию и управлению Союзом писателей были у Горького весьма ограниченны. И это стало для него трагедией, которую он в конце концов не смог пережить.
Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» открывало новую эпоху в советской литературе[830]. В чью пользу были перемены? – двух мнений тут быть не могло. В день опубликования партийного решения «Правда» поместила разгромную статью, посвященную Авербаху и Троцкому, так и не сумевшим понять суть ленинской культурной революции[831]. И все это произошло за два дня до приезда Горького из Италии: его явно хотели поставить перед свершившимся фактом[832]. Он отрицательно отнесся к этому решению Центрального комитета и даже думал выступить с протестом[833]. Ситуация усугублялась еще и тем, что в учрежденном оргкомитете по подготовке Всесоюзного писательского съезда отсутствовали горьковские любимцы, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы включить некоторых из них в этот орган. Правда, это мало что давало: все равно первую скрипку в оргкомитете играла панферовская группа. К тому же она заметно расширилась: реальные рычаги подготовки форума держал И. Гронский, а Горький стал почетным председателем оргкомитета. Фигура Гронского весьма примечательна: на самом деле он – Иван Федулов; родился в селе Любимского уезда Ярославской губернии (на стыке с Костромской и Вологодской губерниями). Его отец, периодически уходивший на заработки в Петербург, ненавидел попов, избегал любых контактов с ними. Самого Гронского (Федулова) за инциденты со священником, описанные им в воспоминаниях, отчислили из церковно-приходской школы[834]. В этом нет ничего удивительного: его родные места издавна находились под старообрядческим влиянием, а позиции РПЦ были сильны там лишь на бумаге.
Еще один функционер, брошенный проводить партийные решения на литературном поприще – П. Ф. Юдин, родился в семье крестьянина-бедняка нижегородского села Апраскино, и его биография весьма схожа с биографиями Гронского, Панферова, Гладкова и др. Эти новые руководители советской литературы сразу начали конфликтовать с Горьким по поводу выдвигаемых им инициатив. К примеру, Горький намеревался вернуть в страну уважаемого русского писателя И. А. Бунина, однако Гронский высказался резко против. Вспыхнувший крайне неприятный спор перерос в откровенную ссору[835].
В то время как победившая сторона заметно усиливалась, авербаховская группа, наоборот, рассыпалась на глазах. Ю. Либединский, А. Фадеев, В. Ермилов признали, что не учли критику, прозвучавшую со страниц «Комсомольской правды»; не смогли в полной мере осознать требования комсомола, связанные с повышением потребностей всего рабочего класса; забыли, что за этим ведущим молодежным органом стоят громадные массы. Особенно сильный эффект произвел переход в противоположный лагерь А. А. Фадеева. Он обосновал свой поступок в «Литературной газете», причем нелицеприятно отозвался о своих бывших соратниках по РАПП, которые «до сих пор не понимают ответственности за ошибки, ибо исходят с точки зрения субъективных намерений, а не объективных политических результатов»[836]. Фадеев обвинил Авербаха в левацких настроениях, искажающих линию партии в литературе и возрождающих своеобразный «пролеткульт» на новом этапе. Именно к этой опасной черте подошло бывшее руководство РАПП: оно абсолютизировало само себя, организационные формы, методы и содержание работы. Поэтому партия была вынуждена провести перестройку всего литературного фронта[837].
Падение Авербаха огорчало не только Горького, но и представителей эмиграции, следящих за культурной жизнью в СССР. Газета «Последние новости» писала:
«Авербах требовал для себя и своих сторонников диктаторской власти над сознанием и совестью литературы – и это, конечно, терпеть было нельзя. Однако рапповцы пользовались своими возможностями разумнее, чем могло показаться: отстаивали в творчестве «живого человека» вместо ходульно-добродетельного коммунистического героя; указывали на важность «психологии», допускали даже обращение к темам любви и смерти. Иными словами, отстаивали литературу, как нечто требующее знаний и мастерства, выступая против тех же комсомольцев, склонных решать творческие вопросы методом «даешь-берешь»[838].
Доминирующее положение заметно разросшейся панферовской группы продемонстрировал первый пленум оргкомитета Союза писателей СССР (конец октября – начало ноября 1932). Выступавшие приветствовали произошедшие перемены, выражали уверенность в достойном будущем советской литературы, как продолжения классического русского наследия. На эту тему высказался М. М. Пришвин:
«Я всегда верил в русскую жизнь, верили в это мои отцы и деды (кстати, у Пришвина староверческое происхождение – авт.)»[839].
Любимец интеллигенции А. Белый с оптимизмом провозгласил, что отныне «литература входит в полосу строительства, подобного строительству Днепростроя»[840]. Поэт С. Клычков (тоже выходец из староверия) говорил о «пулеметном огне» в литературе, под которым он находился долгие годы. (Любопытный эпизод: на его фразу «Слава Богу, всего этого теперь уже нет» последовала реплика из зала: «ЦК надо славу воспевать, а не Богу»[841].) Напряженная атмосфера на пленуме сложилась вокруг Авербаха: многие пытались уколоть его, а между ним и Гронским произошла резкая словесная перепалка[842]. Но самой проигравшей стороной оказался М. Горький, и это осознавали все присутствующие. Как откровенно записал в своем дневнике Пришвин:
«Слава Горького пуста, и только досадно за человека: ведь мог бы человеком быть, а не чучелом»[843].
Стараясь «быть человеком», Горький за день до открытия пленума отбыл в Италию – поправлять пошатнувшееся здоровье.
Весь 1933 год прошел в противоборстве приглашенного на роль главы советской литературы Горького и тех, кто определял реальную политику в оргкомитете; съезд писателей из-за этого постоянно откладывался. Не вызывало сомнений, что Горького с его международным авторитетом просто используют для украшения разнообразных торжественных мероприятий. Например, выступавший на XVII съезде ВКП(б) П. Юдин поставил его в один ряд с Панферовым и Серафимовичем, т. е. с теми, к кому Горький испытывал стойкую антипатию[844]. Пел дифирамбы Горькому и сам Панферов[845], для которого партийный съезд вообще стал подлинным триумфом: каждому делегату, наряду с проектами резолюций и решений, выдавали экземпляр «Брусков»!
Учредительные документы предстоящего съезда писателей готовили и докладывали на политбюро ЦК Юдин и Фадеев[846]. Но Горький не думал сдаваться, найдя оружие, которым надеялся доставить немало неприятностей своим оппонентам. Он инициировал крупную дискуссию о литературном языке. Во время того самого XVII съезда партии Горький сделал жесткий выпад против Панферова: поместил в «Литературной газете» статью, где сказал о его «неблагополучных отношениях с языком». Для Панферова русская литература воспринимается через словарь В. И. Даля, изобилующий простонародными словами и выражениями, а ему следовало бы обратиться к Некрасову, Тургеневу, Лескову, Чехову и др.[847]Задача серьезного литератора – отбирать из богатого языкового материала точные, емкие, звучные слова, а не увлекаться разным хламом. В завершение Горький сделал едкое замечание: можно было бы и не отмечать небрежную технику и ошибки даровитого литератора, но Панферов «выступает в качестве советника и учителя, а учит он производству литературного брака»[848]. На защиту коллеги тут же кинулся А. М. Серафимович: да, у него есть слабые места, но если его править, то он уже не будет Панферовым – «такого его мать с отцом родили, и ничего тут не поделаешь, сидит в нем мужицкая сила, и ее не вырвешь из сознания». По его произведениям учатся сейчас и будут изучать нашу эпоху – заключил Серафимович[849]. Горький ответил, начав так: «Я прочитал вашу статейку», – а затем посоветовал быть осмотрительнее с неуместными утверждениями, что кто-то будет учиться у того, кто плохо знает язык и пишет непродуманно и небрежно. Горький недоумевал: рабочих на производстве за брак порицают, а литераторов – поощряют; к чему же это приведет?![850]
Надо заметить, что огорчать Горького не входило в планы руководства страны; для выступлений ему были предоставлены страницы «Правды». И Горький рассуждал: о свойственной молодым литераторам торопливости на пути к славе, чем объясняется крайняя небрежность их работы; о расхождении между языком и фактическим материалом, между формой и содержанием, между намерением и исполнением.
Расхождение это увеличивается, и тревожно от того, что так тускло звучит язык, так поверхностно, хотя и размашисто изображается наша жизнь[851]. «Правда» подержала позицию Горького специальной редакционной заметкой, в которой говорилось, что нашим писателям, включая Панферова, нужно серьезно и тщательно работать над языком, не спешить с публикацией новых вещей, добиваться по-настоящему высокого уровня. Место писателя в литературе определяется не количеством написанных книг, а их качеством, на что справедливо указал М. Горький[852]. Эта оценка воодушевила писателя, и он выступил с критикой романа В. Ильенкова «Ведущая ось», которым группа во главе с Серафимовичем восторгалась: «Можно опасаться, что эта чрезмерная похвала не принесет пользы автору»[853]. Оживились и горьковские сторонники. В. Киршон писал:
«Тысячу раз прав Алексей Максимович, который ударил по этакой квасной гордости бескультурья. Тысячу раз прав Алексей Максимович, который выступил против этого «гимна коряге» и, сурово критикуя, призвал нас не слушать апологетиков небрежности…».[854]
Досталось и Фадееву; отношения с ним после перехода того в недружественный лагерь Горький сократил до минимума и теперь не упустил случая уколоть. Как констатировал с его подачи близкий к Горькому Д. Мирский, со времен «Разгрома» Фадеев не только не вырос вместе со всей советской литературой, но и не удержался на раз достигнутой высоте. Развиваясь вместе с эпохой, советская литература достигла нынешнего уровня без участия Фадеева.[855]
Апогей борьбы Горького пришелся на август 1934 года, когда наконец состоялся I Съезд Союза писателей. Именно к этому времени относятся два его письма Сталину, с помощью которых он пытался переломить ситуацию в свою пользу. Горький понимал, что по завершении форума будет уже поздно что-либо менять, и, отбросив приличия, охарактеризовал для вождя своих противников. Он сообщил, что идеологическая линия этих людей ему неясна, а практика сводится к организации группы, стремящейся командовать Союзом писателей. Писал об отрицательном отношении к Юдину, который раздражает «мужицкой хитростью, беспринципностью, двоедушием». Панферова назвал «болезненно честолюбивым, малограмотным мужиком», а Серафимовича, Гладкова, Бахметьева – «отработанным паром», интеллектуально дряхлыми[856]. И категорически возражал против их вхождения в состав будущего правления союза.
Из документов понятно, что во время I Съезда советских писателей Горький находился на грани срыва. Под его сильным нажимом Сталин согласился на доклад Н. И. Бухарина о советской поэзии, в остальном же просьбы Горького не возымели действия[857]. Секретарь ЦК А. А. Жданов, присутствовавший на съезде, фактически в порядке информации сообщил будущему председателю Союза писателей о том, кто войдет в правление ССП СССР. (Лишь ненавистного Фадеева не стали включать в руководящий писательский орган, отправив в длительную командировку на Дальний Восток.) Горький решил письменно уведомить Центральный комитет о невозможности работать с этими людьми и просил освободить его от обязанностей председателя[858]. Лишь усилиями вождя удалось утихомирить разгневанного писателя. Правда, на этом его неприятности не закончились. Видимо из-за проявленной Горьким строптивости вскоре в «Правде» было опубликовано «Открытое письмо А. М. Горькому», написанное Панферовым. Он обвинял председателя союза в попытках дезорганизовать деятельность писателей-коммунистов; сетовал на его проработку своего творчества, которая «начинает надоедать», и заступился за Фадеева: ни один честный писатель не позволит выбросить его из советской литературы[859]. Ответ возмущенного Горького на этот выпад так и остался неопубликованным[860], поскольку в нем, очевидно, уже никто не был заинтересован.
Глава 7. Староверческий след большевизма (по довоенным художественным произведениям)
Художественная литература издавалась до войны огромными тиражами и пользовалась популярностью в СССР на протяжении долгих десятилетий. Со временем отношение к этому литературному массиву, конечно, менялось. И в постсоветское время произведения, отражавшие дух той эпохи, перестали пользоваться спросом. Более того, начиная с Перестройки, подчеркнутая лояльность литераторов к большевистской власти и, тем паче, непосредственное пребывание в рядах коммунистической партии стали вызывать негативное к ним отношение. Но для нас их произведения весьма актуальны – главным образом в качестве исторического источника. Профессиональные историки, как известно, не уделяют большого внимания писательским трудам, а между тем именно острый художественный взгляд фиксирует важные детали, не отраженные в документах. Мы решили обратиться к некоторым основательно забытым повестям и романам, чтобы подробнее узнать о реалиях довоенной жизни вообще и, главное, отражены ли в этих художественных произведениях интересующие нас старообрядческие аспекты.
Как известно, за период с 20 по 30-е годы была создана целая галерея ярких литературных персонажей – участников революционных событий, а потому логично начать непосредственно с нее. Скажем сразу, что самых активных деятелей из народа, принявших сторону большевиков, советские авторы часто относили к старообрядцам. Среди героев повести Бориса Пильняка «Голый год» (1920) мы видим Архипа Архипова: он сидит в местном исполкоме и утверждает списки буржуев на расстрел. Этот крестьянин в кожаной куртке и с внешностью Пугачева – не кто иной, как сын известного раскольничьего начетчика; он очень дружен с отцом, советуется с ним, горюет о его смерти[861]. Другой персонаж повести, Семен Зилотов – тоже уважаемый раскольничий начетчик: его непререкаемый авторитет среди бедного населения обеспечил ему путь в Совет, от имени которого он разъезжал для бесед о помещиках, о братстве, о республике[862]. Автор повести показывает: большая часть интеллигенции не приняла Октябрь, зато приняли мужики; при этом вся «история России мужицкой – история сектантства… а оно пошло с раскола»[863]. События знаменитой повести Всеволода Иванова «Бронепоезд 14–69» (1922) происходят на Дальнем Востоке, где красные воюют с белыми. Руководители отряда – начальник штаба Никита Вершинин и казначей Васька Окорок – опять-таки староверы. Командир – выходец из пермских земель, его ближайший помощник и вся его родня – испокон века «раскольной веры»[864].Та же особенность подмечена в грандиозном романе Леонида Леонова «Пирамида». О Тимофее Скуднове, ставшем членом руководства большевистской партии, автор говорит: «тот был русый и огромный детина, чистокровной северной породы»; работал сплавщиком леса, затем в кожаной комиссарской куртке воевал на фронтах Гражданской войны, имел «репутацию всенародного человека». Но, замечает Л. М. Леонов, только одно в его описании часто упускалось из виду – «кондовое староверческое происхождение»[865].
Вспомним и широко известную трилогию А. Н. Толстого «Хождение по мукам». Один из ее главных героев, Иван Телегин, по сюжету оказался на стороне большевиков. Каким же образом он к ним попал? Будучи инженером на Балтийском заводе в Питере, он познакомился с рабочей семьей Рублевых – опять-таки староверов из пермских лесов[866]; Телегина поразил почти условный язык, на котором общались его новые знакомые в рабочей среде, видимо, очень им близкой. Самого Телегина они «прощупывали», словно испытывали – наш или враг. И последующее их сближение произошло не под влиянием политических взглядов, которые у Телегина были «непродуманными и неопределенными», а благодаря возникшему между ними доверию[867]. Когда свершилась Октябрьская революция 1917 года, Телегин пребывал в полной растерянности относительно своего будущего. Он встретил на улице Петрограда Василия Рублева (сына), и тот, ставший у большевиков заметной фигурой, предложил: «Приходи завтра в Смольный, спросишь меня»[868]. Так Телегин и оказался на стороне красных. После этой судьбоносной встречи он признается героине романа Даше: «Я не верю, чтобы эти большевики так вдруг и исчезли. Тут корень в Рублеве… их действительно никто не выбирал, и власть-то их на волоске, но тут весь секрет в качестве власти… эта власть связана кровяной жилой с такими, как Василий Рублев… у них вера (его можно тиграми травить и живым жечь, а он все равно запоет интернационал)».[869]
О кровной связи революционеров со староверием свидетельствует и творчество популярного в 1920-х годах писателя А. Аросева. Главный герой его повести «Минувшие дни» (1924) – молодой рабочий с питерского Обуховского завода Миша Андронников; на почве жгучей ненависти к буржуазному строю он идейно сближается с неким Фадеичем – из радикального согласия бегунов-странников, куда того крестили в Пермском крае. Фадеич – личность сильная – прошел через суды и тюрьмы, а «огонек зрачка его в каменном лице был похож на огонь, зажженный в сухой нагорной пещере»[870]. Автор постоянно подчеркивает общность между ним и молодым рабочим (оба мечтают «забить капиталу в затылок осиновый кол»[871]), но отмечает и различия в способах достижении заветных чаяний. Преимущество Андронникова – в обретении новой идеологии, которая, тем не менее, ассоциируется у него именно с образом Фадеича (заметим, не Маркса!), навсегда запечатлевшимся в памяти[872]. Несомненно, мечта бегуна «вбить капиталу в затылок осиновый кол» обретет с помощью его молодого сподвижника конкретное воплощение, да и для господствующей церкви такая идейная преемственность не сулит ничего хорошего.
Чапаев – герой одноименного романа Д. Фурманова (1923) – представлен автором как продолжатель традиций Степана Разина и Емельяна Пугачева: «те в свое время свои дела делали, а этому другое время дано» («те», напомним, громили дворянство и никонианских священников)[873]. Как и названные исторические персонажи, Чапаев больше народный герой, чем сознательный революционер: «программы коммунистов не знал нисколечко, а в партии числился уже целый год – не читал ее, не учил ее, не разбирался мало– мальски серьезно ни в одном вопросе»[874]. Кроме того, он не верит в международную солидарность, не доверяет начальству и штабам (там окопались враги); ему свойственны полное отторжение интеллигенции и стремление поделить все по справедливости. Конечно, Чапаев ненавидит священников («А то какой же поп, коль обману нет?»), но при этом крестится[875]. Этот нюанс имеет принципиальное значение: прихожанин никонианской церкви, выстроенной на строгом почитании иерархии, так поступать, естественно, не мог бы. И уж, конечно, перед нами не представитель сектантских течений с их нежеланием участвовать в каких-либо боевых действиях.
Очевидно, что Чапаев – продукт совершенно иной религиозно-мировоззренческой среды, которая и становится опорой большевизма. (Кстати, повесть начинается сценой в Иваново-Вознесенске, крупном старообрядческом анклаве, откуда отряд рабочих-ткачей выезжает на подмогу чапаевской дивизии.) Вот из такого-то материала партия в лице комиссара Федора Клычкова (прототипом которого был сам Фурманов) умело и осторожно создает человека для новой жизни.
Староверие, как питательная почва революции, описано в повести Лидии Сейфулиной «Виринея» (1924). Образ России, распространенный в отечественной литературе, здесь воплощает не просто женщина, а женщина-раскольница: «По-кержацки зовут: Виринея. У нас свои святцы»[876]. Жизнь в никонианской семье у нее не ладится; сноха постоянно попрекает: «Кержачка непутевая в дом ни богатства, ни почета не принесла»[877]. К тому же Вириния с мужем не венчаны в церкви, что его родственники считают большим грехом и обидой. Разумеется, совместная жизнь в подобных условиях продолжалась недолго: она расстается с мужем и свекровью: «У вас бог православный, креста моего староверческого не примет»[878]. Жизненный путь Виринеи показателен: сначала она отвергает домогательства земского, потом какого-то инженера и, в конце концов, связывает свою судьбу с большевиком Павлом Сусловым[879]. Тот при ее горячем одобрении сплачивает бедноту (колоритную, надо заметить, публику), жаждущую постоять за правду. К примеру, один из персонажей после февраля 1917 года был выпущен из тюрьмы, в которую он был посажен за богохульный поступок: в церкви он при прихожанах с ругательствами плюнул в алтарь[880]. Заканчивается повесть весьма символично: Виринея погибает при набеге местного кулачья на их с Павлом дом, а в живых остается ее ребенок – «с живым и требовательным плачем»[881].
То есть по мнению автора староверие в лице Виринеи выполнило свою миссию, оно дало жизнь тем, кто обязательно довершит правое дело, стерев с русской земли богатеев и их прислужников.
Вообще, обнаружить, что заметными действующими лицами революции выступают выходцы из русского старообрядчества, нелегко, так как авторы упоминают об этом вскользь, как о само собой разумеющемся. А между тем, вчитываясь в эти тексты внимательно, можно заметить одно принципиальное обстоятельство: большевиков поддерживают не просто староверы, а преимущественно староверы-беспоповцы; представители поповского согласия, основанного на иерархии и полноценных церковных таинствах, среди героев книг встречаются гораздо реже. И это не случайно: поповцы наиболее близкие по форме и по сути к РПЦ. Они крайне негативно воспринимали беспоповщину, которой были близки совсем иные идеи. В подавляющем большинстве поповцы, как и никониане, выступали сторонниками частной собственности. Известные купеческие магнаты России принадлежали именно к поповщине или вышли из нее. И в земледельческой сфере поповское согласие особенно прочно укоренилось там, где общинная экономика всегда была слаба: в южных районах России, на Украине. Это обстоятельство также зафиксировано советской литературой. В эпопее Михаила Шолохова «Тихий Дон» старообрядческое поповское казачество поддерживает не большевиков, а белогвардейцев. Так, сын крупного помещика Листницкого (антипода Григория Мелехова) служит в белом полку, сформированном из православных господствующей церкви, хотя треть принадлежит к казакам-староверам близлежащих станиц[882]. В одном из эпизодов попавшую в плен группу красноармейцев конвоируют бородачи во главе с вахмистром– старообрядцем[883]. В повести М. Шагинян «Перемена» о событиях Гражданской войны на юге России изображен богатый домовладелец-старообрядец из купцов, обосновавшийся в Ростове-на-Дону. Он сетует на тревожные времена («Бескровных революций не бывает, погодите, еще не то увидите»), винит большевистскую пропаганду: если бы не она, то «республиканский строй в России окреп и привился»[884].
Многочисленные согласия и толки беспоповцев были распространены в Нечерноземной зоне Центра, в северных районах страны, в Поволжье, на Урале, то есть там, где жизнь в некомфортных природных условиях требовала больше коллективных усилий. Беспоповство обеспечивало идейное оформление общинных форм хозяйствования, несло идеалы солидарности, выработанные существованием в этих регионах. Такое понимание жизни вполне согласовывалось с основами социалистического учения. Здесь следует упомянуть об одном любопытном, на наш взгляд, созвучии слова «большевик» и народного понятия «большак», принятого именно в общинной среде. Большак – это человек, имеющий неофициальный авторитет; его функция состояла в поддержании хозяйственного порядка и добрых нравов. Большак вел все дела, распоряжался имуществом, заключал соглашения, но при этом владельцем двора не являлся[885]. Более того, он не обязательно был связан кровными узами с членами конкретного хозяйства. Преобладало выборное начало: большаком становился не старший в роде и не старший по возрасту, а более опытный и расторопный. Причем результаты исследований, посвященных экономической стороне дела, вполне соотносятся с религиозным аспектом: староверы часто именовали своих (подчеркнем, выбираемых) наставников – большаками (и речь идет именно о беспоповцах – поповцы ни когда не называли так своих священников)[886]. Созвучие слов большак и большевик полуграмотным массам, в отличие от современного человека, не казалось случайным. Именно здесь корень несуразной на первый взгляд ситуации, когда народ, охотно признавая власть большевиков, отказывал в доверии коммунистам! Этот парадокс подметил, например, Д. Фурманов в «Чапаеве»[887]; в повести М. Шагинян «Перемена» простые люди называют большевиков, противостоящих белым войскам, большаками[888].
Упомянутые выше советские писатели являются представителями интеллигенции, поддержавшей советскую власть. Они изображали народную жизнь, в которой и отразили староверческое присутствие, как бы со стороны. Однако не меньший интерес вызывает творчество авторов, вышедших из рабоче-крестьянских низов и влившихся в литературу с конца двадцатых годов. Многие из них принадлежали непосредственно к старообрядческой среде, а потому описанные ими реалии и события представляют собой взгляд на повседневность, наполненную, в том числе, и старообрядчеством уже изнутри. Знакомство с их творчеством позволяет лучше осознать, насколько было укоренено последнее в жизни русского простонародья. Федор Гладков, Сергей Семенов, Александр Перегудов, Афанасий Копылов, Иван Макаров, Федор Панферов, Николай Кожин и др. считаются сегодня второсортными писателями. Однако в данной работе нас интересуют не литературные достоинства произведений, а их староверческие истоки.
Роман Федора Панферова «Бруски» был необычайно популярен в довоенный период, хотя его много критиковали. Язык романа переполнен просторечными оборотами и выражениями, что вызвало резкое неприятие М. Горького. Как известно, Панферов много работал над текстом, стараясь сделать его «удобоваримым», и все же в художественном смысле «Бруски» – не «Тихий Дон». Перед читателем разворачивается панорама жизни народных низов, к которым принадлежал сам автор. Мечты староверов о справедливости и взаимопомощи, их критичное отношение к богатству, их вера в новую жизнь – все это воплощено в образе главного героя, красноармейца Кирилла Ждаркина. Вернувшись после войны в родные места, он оказывается во власти хозяйства; страстно пытается разбогатеть, буквально вгрызаясь в землю. Кроме того, он женится на дочери местного богатея Плакущева, и новая родня всячески разогревает его частнособственнические инстинкты. А затем приходит отрезвление: некая вдова просит у Ждаркина картошки в долг, и он отдает ей десятка два полугнилых, ни для чего негодных картофелин. Вдова швыряет ему их обратно. Усовестившись, Кирилл отвозит ей целую телегу овощей, несмотря на протесты жены и тестя[889]. Этот случай кардинальным образом меняет его жизнь: он разводится, порывает с родственниками и уходит в город на завод, а через некоторое время уже коммунистом возвращается обратно, где его избирают председателем сельсовета.
Начинается новый путь Ждаркина. Вместе с товарищами, как и он безразличными к материальному благосостоянию, он пытается объединить сельчан в коммуну. Примечательно, что Панферов описывает их работу в религиозных тонах. Один из сподвижников Ждаркина так комментирует большевистские будни:
«А нам человека надо знать – бородавку срезать и то больно, а мы ноне море проходим. Один ученый доказал: Моисей знал, когда море расходится, и провел свой народ по сухому дну… и то ропот был. Вот и нонче море расходится: большевики зовут по сухому дну пройти, а мы пятимся».[890]
У Ждаркина состоялся ключевой, на наш взгляд, разговор с женой его наставника Сивашева – рабочего, ставшего по сюжету секретарем обкома, а затем и ЦК ВКП(б). Кирилл жалуется на трудности, на непонимание людей, и Мария Сивашева объясняет:
«Люди еще старые, препаршивые. Но от этого не следует падать духом. Надо полюбить их – забитых, паршивых, дрянных…иначе не перестроишь их. А ты сорвался. Ты обозлился. Против кого? Если бы все они были настоящие коммунисты, то здесь делать нечего было бы: они и без тебя бы обошлись».[891]
Читателя подводят к мысли, что в формирующейся жизни любовь к людям (таким, какие они есть) как раз и означает веру. Дед Кирилла всю жизнь верил, что есть на земле место, где «счастье народное закопано», и призывал прорваться «к рекам медовым, берегам кисельным и вообще»[892]. И внук его смог прорваться; осознав свои ошибки и заблуждения, он понял, что счастье заключается в отношении к людям, которые тебя окружают, в служении им.
Многие штрихи, которые Панферов специально не подчеркивает, указывают на то, что действие романа происходит в народной среде, густо пропитанной староверием. Например, некоторые персонажи то и дело произносят «Исусе Христе»[893], а «Интернационал» в исполнении коммунаров звучит как псалом (Панферов, в юности немало времени провел в молельнях и хорошо это знал и чувствовал)[894]. У одного из героев романа Якова Чухляева мать – староверка, «попа в дом не принимает»[895]. Это создает проблемы для его женитьбы, поскольку невеста из православной среды и ее родственники настаивают на венчании церкви. Хотя Яшку Чухляева избирают председателем сельсовета – и это, естественно, почетно, но женитьба на православной явно не идет ему на пользу. По ходу романа он сильно меняется, в нем начинают проявляться дурные качества, и он порывает с прежним кругом. Другие отрицательные персонажи относятся к староверам-поповцам. Кулак Плакущев – бывший тесть Ждаркина – ранее частенько посещал монастыри на Иргизе (известный центр поповского согласия на Волге) для «отдыха души»[896]. Маркел Быков, по сюжету, происходил из семьи потомственных староверов, бежавших в эти края с Верхней Волги. Его предки напутствовали: «Волю не терять и по Писанию жить». Но Маркел ослушался и отошел от веры, «с православием сторговался», «старостой церковным заделался»[897]. А в конце концов он довел до самоубийства родную тетку! Заболев, она продала все свое имущество, вырученные средства передала Маркелу и перед иконой взяла с него слово, что он до гробовой доски будет кормить ее и ухаживать за ней. Тот сдержал данное Богу слово: кормил тетку до гробовой доски, только вот конец ее ускорил[898]. На изображение других служителей РПЦ Панферов тоже не жалел темных красок. Так, священник местной церкви отец Харлампий, прибывши на службу в нетрезвом состоянии, ошарашил прихожан вопросом: «Вы почему тут у меня немытыми в церковь заявились?» В ответ было справедливо замечено: «Его что ль церковь…»[899] Иными словами любое касательство к церковному православию по Панферову так или иначе не приводит ни к чему хорошему.
Нижегородского писателя Николая Кочина, также выросшего из староверия, волновали разрушение традиционной крестьянской среды и сопровождающая его социально-психологическая ломка. В его популярном романе «Девки» (1927) много упоминаний староверческих деревень, разнообразных толков (например, скрынников), мало о чем говорящих современному читателю[900]. Художественная манера Кочина напоминает творчество его земляка П. И. Мельникова-Печерского, который в своих романах «В лесах» и «На горах» описал волжское староверие 60-х годов XIX века. И оба они нечасто изображают паству никонианской церкви (складывается впечатление, что на самом деле в нижегородских краях таковой почти не водилось). Однако обстоятельства, в которых существовало староверие Мельникова-Печерского, заметно отличаются от обстоятельств кочинского времени. Если раньше раскольники старались лишний раз не привлекать к себе внимания, то в советское время они определяют вектор общественной жизни. В центре романа «Девки» две конфликтующие группы. Первую возглавляет Егор Канашев; он грезит примерить славу знаменитого Николая Бугрова – дореволюционного купеческого магната-старовера, бывшего «отца» Нижнего Новгорода. Канашеву всюду мерещатся вывески «Лесопильный завод, Канашев и сын», «Мукомольный завод, Канашев и сын» и т. д.[901] – ради этого он и живет на божьем свете. Ему противостоит некий Яков Анныч, с лицом, «схожим с апостолом раскольничьего иконописанья»; ранее он заправлял в комитете бедноты, и звали его «комиссаром»[902]. Люди, группирующиеся вокруг него, создают артель и встают на пути канашевских частнособственнических грез – и чем дальше, тем больше. Между ними идет скрытая, но оттого не менее напряженная борьба. О кульминации романа надо сказать особо. Канашев, измученный натиском артельщиков, решает убить Анныча. Дело было зимой, и на Канашева, поджидавшего свою жертву в лесу, напала стая волков. Он был вынужден спасаться на дереве, где просидел так долго, что стал замерзать. Канашев из последних сил взывал о помощи, и она явилась: потенциальная жертва, то есть Анныч, выстрелами отогнал волков и спас Канашева. Спасенный со слезами раскаялся: жизнь ему даровал тот, кого он собирался жизни лишить! Он вспомнил Иова многострадального, шептал обрывки молитв, и «вражда стала казаться неверным делом перед лицом смерти». Правда и добро сильнее золота, – подытожил Канашев[903]. Но незаметно к нему подкралась мысль: а может быть, Анныч и не стал бы волков отгонять, если бы знал, что это его враг в опасности? Значит, никакой это не благородный поступок, и умиляться здесь нечему. Так думал Канашев, подъезжая к покосам, которые у него в этом году отобрала артель, и в нем стала просыпаться ненависть. Он страстно заговорил: если одеть нагих, обуть босых, накормить страждущих, то они, насытившись и вырядившись, разве поумнеют и дальновидней станут?! Всех к своей вере пригнать задумали? Да вы людям мешаете, жизнь им коверкаете. Тогда выходит, кто вы? Ответа от Анныча он дожидаться не стал и всадил в него нож[904]. Согласимся, весьма поучительная сцена для реалий современной свободной России.
Столь же идейно насыщен роман забытого советского писателя Ивана Макарова «Стальные ребра» (1931). Макаров, вышедший из крестьянской среды Рязанской губернии (старообрядческой ее части, примыкающей к Московской губернии), также обращается к трансформации российской деревни, причем его привлекали не столько экономические, сколько духовные аспекты этого процесса, непривычного для обывательского восприятия. Сюжетная линия строится на противостоянии двух главных героев: хозяина мельницы Андрона Каблева и коммуниста Филиппа Гуртова. Оба они родом из одного села Анютина, но первый – из зажиточной его части, а второй – из бедной, где жили некоренные крестьяне, когда-то переселенные сюда в наказание за бунт и убийство помещика. Разумеется, им отвели худшие места, «где тоска да лягушки»[905], – прокормиться им было невозможно. Поэтому подавляющее большинство переселенцев в дореволюционную пору подалось на заводы и фабрики. Именно такие кадры служили опорой новой власти в уезде, пополняли партийные ряды: Гуртов с любовью называл отходников «наша рабочая фракция»[906].
Однако Макаров показывает не только социально-исторические различия между двумя частями села, но и их религиозную разобщенность. На богатой половине жили, как пишет автор, «поповские мужики», то есть последователи церковной традиции[907]. Гуртова же и его сподвижников Макаров с этой точки зрения никак не описывает: по официальной статистике они значились обычными православными. Такой на первый взгляд незначительный штрих имеет крайне важный смысл и встречается в творчестве дореволюционных писателей, не понаслышке знакомых с великороссийской крестьянской действительностью.
К примеру, Глеб Успенский делал акцент на наличии двух религиозных традиций, присущих, по его убеждению, русскому народу, и на отсутствии духовных связей между ними; в его произведениях это были церковные люди (никониане) и христиане (кержаки). Успенский писал: раскольник «сердито смотрит на церковного, а церковник не любит и не понимает…» раскольника[908], потому что «человеку, в котором… личная жизнь не главное дело… не на чем сойтись с человеком, для которого главное заключается в личной жизни»[909]. Герои романа Макарова олицетворяют именно эти два подхода. Кулак Каблев получил предсмертное наставление от отца: «К мельнице все старания приложи…в ней тебе – родительское благословение»[910], – и неуклонно ему следует; люди для него значат немного. Причем таких в деревне большинство: кроме личного благополучия, их мало что заботит. А вот Гуртов демонстрирует образец совсем иной жизни. Будучи руководителем местного сельсовета, он аккумулирует средства и пускает их не на личные нужды, а на строительство другой мельницы, и затем передает ее бесплатно в собственность сельскому обществу. Этот поступок вызывает смятение, все пытаются усмотреть в нем какой-то подвох. Один из крестьян заявляет Гуртову: «В вас отличка ото всех есть, в мужиках вы мало состояли…на стороне все больше (т. е. среди рабочих – авт.)»[911] А Каблев предвидит большие проблемы от вторжения в привычный уклад новой, чуждой психологии: «Вы поперек дороги со своей плотиной встали – ни дохнуть, ни охнуть»[912].
Люди не могут понять мотивации Гуртова, им недоступно, «какое наслаждение чувствовать себя чистым в помыслах»[913]. По этой причине Гуртов отвергает предложение кулака-мельника вместе «держать народ в узде» и дает ему шанс применить свои профессиональные навыки на общественной мельнице. Но тот наотрез отказывается: «Отец в гробу перевернется». (Кстати, приобретение мельницы отцом было связано с типично криминальной историей; сам Андрон признается, что она «на крови стоит, страх ночью берет»[914].) Инициатива Гуртова вызывает неприятие и в его собственной семье. «Кобыле под хвост ихний социализм», – говорит жена Филиппа и укоряет за его «глупость», тогда как «люди что ни на есть, все в дом волокут»[915]. Брат, настраиваемый Каблевым, требует раздела имущества, то есть мельницы, но получает отпор от соратников Гуртова: «От Филиппа государству польза… а от тебя что? Ты же хлыщ в селе…вы короста вроде как на мужиках»[916].
На этом напряженном фоне происходит внутренняя борьба главного героя романа. Изменяя жизнь вокруг, он меняется сам. Макаров не выдает готовых рецептов по поводу того, как совладать с человеческой натурой, как справиться с гордыней даже при благих намерениях. Филипп, изживший страсть к обогащению, одержим стремлением быть первым в новых делах, преодолеть равнодушие земляков. Однако, как только они проявляют активность, увлекаются предложенными перспективами, начинает тосковать: «Я вам, чертям, все свое отдал, мог бы жить припеваючи, а не сделал так… вот уеду от вас, куда глаза глядят и все у вас лопнет без меня»[917]. С психологической точки зрения страницы, посвященные метаниям Гуртова, наиболее сильные в романе. Герой сам оценивает их следующим образом: «В душе происходит такое мордобитие, что перекопскому бою не уступит»[918].
Еще один забытый писатель той поры – Александр Перегудов, уроженец старообрядческого Подмосковья. В его повести «Фарфоровый город» нарисована панорама жизни в рабочих поселках староверов-поповцев. Прототипами для автора послужили члены семьи С. М. Кузнецова – «фарфорового короля» России (в повести – Карпухин). Перегудов со знанием дела описывает порядки в этой отрасли, не пренебрегая бытовой стороной. Его наблюдения особенно ценны, поскольку поповское согласие, замкнутое в рамках преимущественно однородной религиозной среды, медленнее, чем радикальные беспоповские течения, проникалось революционными настроениями[919] и составляло малую часть староверия в целом (менее 10 %). Однако, иерархия поповцев, поддерживаемая фабрикантами-миллионерами, всегда была наиболее активной и заметной и претендовала на роль выразителя интересов всего староверческого мира. С начала XX века проводились так называемые всероссийские старообрядческие съезды, на самом деле представлявшие собой мероприятия исключительно поповцев (герой «Фарфорового города» С. М. Кузнецов был их участником и спонсором).
Книга Перегудова посвящена тому периоду, когда общность поповцев, долгие годы скреплявшая работу фабрик, стала стремительно распадаться. Административная верхушка во главе с хозяином с безразличием относилась к просьбам и жалобам тысяч своих единоверцев, их воспринимали как «неотъемлемые, живые части мастерских – производящие товар»[920]. Но 1917 год многое изменил, у рабочего люда проснулось чувство хозяина – того самого, чьи деды и отцы поднимали фарфоровое производство. По сюжету владелец фабрики убеждает своего помощника подорвать один из цехов, чтобы предприятие остановилось и «обнаглевшие» рабочие обратились к нему за помощью. Но те самостоятельно начали восстанавливать поврежденное оборудование, не желая слышать о бывшем «благодетеле». Одно из наиболее сильных мест романа – сцена на кладбище, превышающем по площади сам поселок. Старый работник Терентий Силин показывает могилы точильщиков, которые умерли в возрасте до 35 лет от фарфоровой пыли, разъедавшей легкие. Вообще, завод стоит на костях рабочих, однако хозяин отказывается тратить средства на необходимую вентиляцию и, в тоже время, ежегодно достраивает и расширяет корпуса[921]. На предприятии разгорается конфликт между рабочими и инженерами; все их отношения напряжены, проникнуты недоверием и подозрительностью.
Писатель Феоктист Березовский вышел из низов и был популярен в довоенный период. Он – уроженец Сибири, и потому его зарисовки представляют для нас интерес. В романе «Бабьи тропы» (1927) мы сразу сталкиваемся с критическим отношением к РПЦ. Главные герои произведения – Степан и Настасья Ширяевы – посещают сибирские монастыри, стремясь найти душевное успокоение, однако монастырские реалии разрушают их богомольный настрой. В святых обителях все проникнуто духом прагматизма и материального расчета. Даже к мощам угодника подпускают лишь тех, кто предварительно внес подаяние в специальный кошель, других же выпроваживают как недостойных лицезреть священные останки[922]. А в праздничный день богомольцев тщательно сортировали монахи: принаряженную публику – офицеров, чиновников, купцов – пропускали, а крестьян и ремесленников оттесняли при помощи городовых. Этот неприглядный эпизод стал переломным для Настасьи Ширяевой: «Ведь я тоже православная. Что по одежке пропускают к Богу-то»[923].
Крайне интересны зарисовки конкретной сибирской деревни: это родные, хорошо знакомые автору места. Деревня разделялась на две почти равные части: на кержаков и мирских. Издавна они жили довольно дружно, только из одной посуды не пили и не ели (правда, этот обычай не все староверы строго соблюдали). При этом все население деревни молилось двумя перстами, и в услугах попов никто особенно не нуждался; лишь некоторые из мирских изредка ездили в церковь – по крайней необходимости. Один раз в год, после спада весенних вод приезжал приходской священник; он сразу по всем умершим за это время служил панихиду и «ругу со всей деревни собирал – зерном, яйцами, а то и пушниной»[924]. В обычное же время в роли попа выступал местный мельник Авдей Козулин, выполнявший все уставы. Он пользовался большим уважением: за тридцать лет ни разу не взял за помол лишнего. Потому и не разбогател, да и мельница у него была убогая – вот– вот развалится[925]. В избу Козулина по праздникам, а иногда и просто по вечерам набивались как кержаки, так и мирские: «слушали чтение священных книг в черных кожаных переплетах, от руки писанных»[926]. Мельник-начетчик упорно толковал землякам о сроках пришествия на землю антихриста, о наступлении Страшного суда Господня и об утверждении тысячелетнего пресветлого царства. Многие, особенно молодежь, допытывались у Авдея Козулина: правда ли, что царь и есть антихрист? Звучал закономерный ответ: «Хуже… не нами он поставлен, а господами – вот они его и держат»[927]. Весть о свержении царя в наступившем 1917 году сильно взволновала деревню, и сельчане по традиции кинулись к мельнику. Тот обильно цитировал Откровение Иоанна Богослова и разъяснял: «Не сам ангел господний, сошедший с небес, заключил в бездну царя-антихриста. Он лишь вложил меч в руку народа. А народ по повелению Господа Бога, данному через ангела, низверг с престола царя-антихриста и заключил его в темницу»[928]. Затем староверческий начетчик созвал единоверцев на сельский сход во дворе дома старосты. После недолгого обсуждения вынесли решение: «Мы, крестьяне деревни Белокудрино, собрались сего дня числом 70 домохозяев… и, прослышав от верных людей о падении царя в городе, а также от Священного Писания, в котором сказано: пришел конец власти царя-антихриста… постановили всем миром… отменить царя-антихриста и всех слуг ево отныне и довеку»[929]. Но и действия Временного правительства пришлись не по душе русским староверам: «Царя убрали, а господ вместо него поставили… ловко придумали»[930]. И уж настоящую бурю негодования вызвало появление Колчака: это же «передача нас иноземным державам», говорили крестьяне[931]. Постепенно большая их часть, в основном беднота, стала склоняться к поддержке большевиков. «По деревне новый слух прошел, будто рабочий Капустин все три дня проповедь вычитывал и к большевистской вере всех приглашал»[932] – подобным образом эти люди (в силу их специфического менталитета) воспринимали происходящие события. Отрицательное отношение автора и героев романа к официальной церкви проявляет Гражданская война. Последние белые офицеры отсиживаются именно в церкви, откуда их выбивает отряд, которым командует большевик Капустин (из города) и внук главного героя книги Степана Ширяева Павел[933]. Символическое завершение романа ознаменовано победой сил, вырвавшихся из народных глубин.
Прочтение приведенных выше книг наталкивает на мысль, что их авторы считали послереволюционные перемены неким внутренним делом широкой народной староверческой общности. Они отразили, как ее стремительное размывание приводило к выделению активной прослойки, ставшей опорой политического курса, который вошел в историю как сталинский. Нельзя не заметить, что в просмотренных текстах практически нет присутствия сектантов. В этом их разительное отличие от произведений интеллигенции Серебряного века, которая неустанно пропагандировала сектантские перспективы. У писателей из народа (уроженцев великорусских регионов) совсем иная «оптика», рассматривавшая старообрядческую ментальность населения естественной, само собой разумеющейся. В их представлении борьба за строительство новой жизни имела выраженный религиозный характер. В этом они схожи с интеллигентскими ожиданиями: однако, их личный опыт свидетельствовал, что духовная мотивация простых людей реализовывалась в ином русле, чем предполагала просвещенная публика.
Поэтому перед нами не сектантские мечтания, а описание жизни – производственной, социальной, бытовой – с осмыслением ее истоков, берущих начало в духовном мире героев. Жизни, регулируемой внутренней верой, а не «набившей оскомину» прагматикой. Такова, к примеру, знаменитая повесть Ф. И. Гладкова «Цемент» (1924). Почему– то ценность этого произведения зачастую видят исключительно в протесте против формирования административной системы хозяйствования. Однако сам автор (устами героя книги Глеба Чумалова) объясняет, почему он написал эту повесть: «Должны мы наконец произвести революцию в себе»[934], а это возможно только через покаяние. Отдельными штрихами (ничего не говорящими современному читателю) Ф. Гладков показывает, что действие романа происходит в старообрядческой среде[935], преобладавшей на крупных предприятиях дореволюционной России.
По сюжету рабочий Новороссийского цементного завода Чумалов участвует в революционных боях в городе. Вместе с тремя товарищами он схвачен офицерами, которые спрашивают главного инженера завода Германа Клейста об их причастности к бунту. Тот опознает задержанных, обрекая их тем самым на растерзание; чудом выживает лишь Чумалов. Через четыре года, уже после Гражданской войны он возвращается на предприятие, ранее принадлежавшее французам, а ныне лежащее в руинах. И узнает, что Клейст не эмигрировал, а по-прежнему живет при заводоуправлении. Чумалов приходит к нему – но не ради мести, а с предложением вместе заняться восстановлением завода! Лишь долгое время спустя Клейст решается поверить, что его не собираются убивать. Кроме того, он видит: люди вокруг Чумалова по-настоящему захвачены идеей восстановления завода. И старый инженер мучается вопросом: «Культуру какого мира несет с собой рабочий Чумалов? Воскресший из крови, он неотразим и бесстрашен, и в глазах его беспощадная сила»[936]. «Цемент» – это также рассказ о покаянии – покаянии Клейста, пораженного тем, что бывший рабочий нашел в себе силы простить его за свою собственную смерть!
Простить во имя того будущего, которое должно связать их обоих и в котором эксплуатация человека человеком будет считаться сродни людоедству[937]. Такой духовный настрой в самом деле способен преобразить человека. Можно сказать, что внутренняя заряженность Чумалова – это своего рода «протестантизм наизнанку», в корне отличный от западных религиозных практик. Не случайно иностранцы были искренне уверены, что советские люди, возводящие индустриальные гиганты, находятся под властью какого-то мистицизма, недоступного европейскому сознанию[938]. Недоступного потому, что их труд был освящен верой не в личное обогащение, а в общее благо. Проект, скрепленный не материальным интересом, а верой – явление в человеческой истории нечастое. Именно такое – солидарное, неконкурентное мировосприятие было выработано староверием под двухсотлетним государственно-административным давлением. И это ответ на вопрос о том, «культуру какого мира» несет рабочий Глеб Чумалов, а в его лице – и русский народ.
Петербургского рабочего Сергея Семенова (1893–1942) – коллегу и сподвижника А. А. Фадеева по Союзу советских писателей, погибшего в Великую Отечественную войну, сегодня помнят лишь немногие специалисты. Нам же интересно то, как он воспринимал революцию – в сугубо религиозном ключе. В одном из своих ранних рассказов 1922 года, Семенов проводит такое сравнение: «Старый человек умирает, и с ним умирает грустная мудрость Экклезиаста – ты проспал, древний бог. Над землей прошли великие времена, и огромные вещи свершились на земле. И мы верим, что свершились для того, чтобы любовь– скорбь просияла в любовь-радость. Для этого мы разрушили старый мир и создали новый… Я – новый человек, непохожий на свои предшествующие поколения. На моих плечах кожаная куртка, и вместо сердца у меня пятиугольная звезда»[939].
Самое значительное произведение С. Семенова – роман «Наталья Тарпова», над которым он работал в конце 1920-х годов. Здесь наиболее полно освещена идеология не просто большевизма, а русского народного большевизма, густо замешенного на староверческом менталитете и не имеющего ничего общего с европейским марксизмом. Главное действующее лицо романа – потомственный рабочий Владимир Рябьев, «замечательный» организатор, которого, безусловно, ждет большая партийная карьера. Ему автор доверяет самое сокровенное – сформулировать, на каких основах должно строиться советское будущее. «Я сам думал, что крепче связывает изнутри партию: цемент одинаковой идеологии или цемент одинаковой классовой психологии партийных масс? По-моему, так психология важнее политграмоты. Политграмота дело наживное»[940]. (Очевидно, что «ленинская гвардия» дооктябрьской поры никак не могла согласиться с такой оценкой господствующей идеологии.) Неподдельное возмущение Рябьева вызывает отчуждение между рядовыми партийцами и интеллигентской частью партии; в то же время «окультуривание» большевизма в условиях переходного периода он считает «штукой опасной и невозможной». Главным оппонентом Рябьева, направленного на завод наводить порядок и поднимать производство, выступает главный инженер Габрух. Его отец до революции был преуспевающим адвокатом, даже избирался в Государственную думу, а после революции решил покинуть Россию[941]. Габрух скептически относится к созидательным планам партии; по его убеждению, массы способны только разрушать, а уж никак не создавать: «Массы – это шеренги в здании, еще не образующие самого здания»[942]; для строительства прежде всего необходимы технологические знания. В ответ на эти рассуждения инженера Рябьев заявляет: «Прежде чем заставить миллионы возлюбить свое будущее, мы научим их возненавидеть вас. Ненавидящие миллионы! О, это будет новая ненависть… это будет ненависть зверя, но ей мы придадим разум и осветим ее любовью к будущему. И ваши войны покажутся забавой рядом с тем, что ожидает вас, когда мы дадим свой последний и решительный бой. Не железо и сталь, а зубы и когти, ведомые разумом и любовью, вопьются в ваши глотки»[943]. После прочтения подобных текстов причины трагедии, постигшей русскую интеллигенцию, становятся гораздо понятнее.
Еще один персонаж романа – рабочий-ветеран Шипиусов; Семенов пишет о нем с нескрываемой теплотой. Этот полуанархист и бунтарь пользуется авторитетом среди рабочих, симпатизирует революции, считает ее близким и нужным делом, агитирует за новую власть, зазывает людей на демонстрации. Но жизнь он провел в скитаниях, работал на разных заводах страны, в том числе на уральских; женат никогда не был, зато имеет детей в тех местах, где трудился[944]. Для элементарного уюта ему достаточно какой-нибудь «бабы», с которой он готов в любую минуту расстаться. Все эти черты, как известно, до революции были свойственны раскольникам из многочисленного бегунского согласия. Теперь же в советской действительности Семенов считает их неприемлемыми. Поэтому семейное устроение для того же Рябьева имеет уже явно непроходное значение. Другая колоритная фигура в романе – директор завода Алексей Иванович. Сын крупного мануфактуриста, он вступил в партию еще в 1912 году, однако Семенов этому, по сути, старому большевику не очень симпатизирует. С большевизмом Алексей Иванович знаком главным образом теоретически; он подыгрывает рабочим, подделывается под их язык, но остается чужим и в психологическом, и в бытовом плане. С Рябьевым у него, как и с Шипиусовым, мало общего. Две эти дополнительные фигуры введены в роман для того, чтобы раскрыть суть конфликта между интеллигенцией, а также рабочей частью большевистской партии на рубеже 1920-1930-х годов. Вообще, Сергей Семенов, кровно связанный с изображаемой им рабочей средой и имеющий богатый личный опыт, не избегает описания теневых сторон жизни, противоречий и бытовых неурядиц. Но все это освещено у него ясным пониманием неизбежного, органического родства пролетарской массы с советской властью.
Знакомство с произведениями советских писателей позволяет выявить важную деталь. Широкая вовлеченность староверческих персонажей в большевистскую партию имело серьезные последствия для нее самой. Вспомним: А. Н. Толстой в «Хождениях по мукам» (часть 2 «1918 год») говорит, что таких важных для большевиков фигур, как Василий Рублев, среди них немного[945]. Это справедливо для 1918 года, когда партия состояла в основном из представителей национальных меньшинств. Но с середины 1920-х годов в нее хлынул поток таких Рублевых. Эти полуграмотные люди принесли собственное понимание справедливости – навеянное уж конечно не Марксом и не Энгельсом, с трудами которых они при всем желании ознакомиться просто не могли. Выходцы из народно-старообрядческих глубин жаждали осуществить мечту своих предков о «царстве Божьем на земле» (разумеется, далекую от мечты никонианской). А пристанищем для них стала партия, которую, правда, никто из староверческих неофитов-большевиков в тот период в качестве партии – в классическом смысле этого слова – не воспринимал.
Невиданные гонения на священнослужителей РПЦ, а затем и на их паству – это своего рода российский вариант религиозной реформации, когда в роли униженных и побежденных оказались никониане. Тем не менее, такая развязка российской истории многим была не понятна. Как Россию могла постигнуть ужасная участь? – этот вопрос не имел сколько-нибудь ясного ответа. Современников той поры еще больше поражало безразличие по отношению к церкви. Получалось, что русский народ не встал на защиту своей духовности, предпочтя православным святыням увлечение какими-то чуждыми ценностями. Как тонко подметил Л. М. Леонов, «что с ватиканским орешком, случись там подобная заварушка, уж не так-то легко справились бы большевики»[946]. Очевидно, было бы верхом наивности считать произошедшее случайным «вывихом» истории или чьим-то злым умыслом. Такие объяснения отражали лишь обывательские представления, не обремененные интеллектом. Об опасности упрощенных трактовок предупреждал С. Франк, указывавший на легковесность мнений о причинах русской трагедии, сводящих их к идеям, «импортированным интеллигенцией из Западной Европы и распространенным ею среди народных масс». Как замечал знаменитый философ:
«…осознать, почему «народ-богоносец» вместо своих национальных святителей оказался во власти большевиков, невозможно лишь активностью и изощренностью агитаторов, «соблазнивших» его[947]. Напротив, социалистические идеи нашли отклик, поскольку массы в учении о классовой борьбе почуяли нечто родное, очень знакомое, соответствующее их собственному «психологически-бытовому идеалу самочинности и самостоятельности»[948].
Об этом же говорил и Н. А. Бердяев. В послереволюционный период известный мыслитель открыто призывал переоценить старую истину об исключительной религиозности русского народа, с энтузиазмом воспетой и славянофилами, и самыми крупными русскими писателями. Повторять подобное, подчеркивал Бердяев, было бы страшной фальсификацией и заблуждением. Народ, в котором действительно сильна религиозная верность, никогда бы не довел свою церковь до столь плачевного состояния[949].
Конечно, главными гонителями никонианской церкви были большевики, то есть, если исходить из традиционных представлений, инородцы (евреи, поляки, латыши и проч.), осевшие в партии. В этой связи любопытно взглянуть, как же описаны религиозно-разгромные процессы в советской литературе? Возьмем роман П. И. Замойского «Лапти» (19291930), где есть яркая сцена снятия колоколов с одного из сельских храмов в Пензенской области. Церковный погром производит группа коммунистов во главе с неким Скребневым, который, как указано в тексте, происходит из староверов. После принятия решения о разгроме церкви он удовлетворенно заявляет: «Не в первый раз… технику снятия колоколов хорошо знаю»[950]. Или роман И. Эренбурга «День второй» (1932), где бывший красный партизан с простой русской фамилией Самушкин не без гордости сообщает: «Трудно сосчитать, сколько церквей мы спалили. Попов, разумеется, на дерево…».[951] (Работать Самушкину доверили с комсомольцами.)
Известный роман А. А. Фадеева «Разгром» посвящен боевым будням партизанского отряда. У партизан, костяк которых составляют шахтеры, редкая «скверная побасенка» обходилась без попа и попадьи. Попавшему в отряд новичку они предлагают продемонстрировать умение стрелять, пальнув в никонианскую церквушку[952]. Возглавляет всю эту публику Осип Левинсон. Естественно, он также не относится к почитателям церкви, но по тексту хорошо читается, что религиозное пренебрежение его подчиненных – не его заслуга. Да и вообще, для костяка отряда Левинсон не является большим авторитетом. Например, когда он пытается заставить бывшего шахтера по кличке Морозко сдать оружие, тот просто игнорирует его приказ. А свое неподчинение объясняет весьма симптоматично: мол, не для того мы все это затевали, чтобы ты у меня оружие назад требовал[953]. Фадеев дает понять: подобных людей вообще сложно заставить делать то, что им не по душе. Тем более, добавим мы, навязать ненависть к церкви, которую народ считает родной. В России это стало возможным только потому, что значительная часть коренного населения не приняла никонианство. Но официальная статистика этого никогда не касалась, а потому причины тотального разгрома РПЦ объясняют как угодно (тем же нашествием инородцев, надругавшихся над Россией), только не реальным положением дел.
По произведениям многих советских авторов можно судить об исторической миссии русского староверия. Она состоит не в консервации старой доброй патриархальности, а в преобразовательном действии, очищенном от обрядов, пения псалмов и суеверий. Энергия старообрядцев имела, по сути, жесткий протестантский характер, но нацелена была не на личное обогащение, а на всеобщее (как ранее – на общинное) благо. Народно-религиозная практика трансформировалась в практику социальную, отвечавшую староверческому менталитету, но выраженную иначе. В развернутом виде эта мысль представлена в романе Леонида Леонова «Соть» (1928). Роман считается производственным, так как он посвящен крупному индустриальному строительству. На самом деле автора интересует послереволюционное преображение староверия, которое олицетворяет главный герой – большевик Иван Увадьев. Одна из сюжетных линий книги связана с отношениями между Иваном и его матерью. На первый взгляд это обычный конфликт поколений, однако, он имеет религиозную подоплеку. Из виду обычно упускается, что мать Увадьева – староверка; она не расстается с иконой, сносившейся от частого и неистового употребления[954]. Приехав к сыну, возглавляющему крупное строительство на реке Соть, она отказывается попробовать крабов, которыми тот пытается ее угостить; Иван на это не без иронии замечает: «Все запоганиться боишься»[955]. Мать Увадьева активная натура, и символично, что он в ее напористости «узнавал самого себя». Но если она томится по небесам, то он нацелен на созидание земного будущего, которое будет принадлежать его стране, людям. Мать не в состоянии понять этого; в отчаянии она даже требует от сына денег, что были потрачены на его детство, на его воспитание[956]. В конце концов, она уезжает со словами: «Дурные вести получишь – не приезжай, не люблю»[957]. Фигура Увадьева, навсегда расставшегося с матерью, символизирует для Леонова преображение русского староверия. Кстати, эту сюжетную линию подкрепляют эпизоды со скитом в лесу, который по плану строительных работ должен быть уничтожен. Скит у Леонова не совсем православное заведение: главная реликвия в нем – книга «Жития и страдания старцев соловецких», особо почитаемая староверами[958]. И эта деталь тоже символизирует наполнение энергией вышедшей из староверия, новых «мехов».
Вот к таким интересным наблюдениям приводит чтение забытых советских произведений. Более тщательное прикосновение к этому художественному наследию позволяет нащупать новый, неожиданный ракурс отечественного прошлого.
Глава 8. Несостоявшаяся смена старой гвардии
В ходе подготовки книги внимание автора привлекла комсомольская тема – второстепенный, казалось бы, в данном случае сюжет. Да и вообще, исследовате ли нечасто обращались к этой массовой молодежной организации, находившейся, по их мнению, на периферии политической жизни СССР. Комсомол с самого начала задумывался как помощник партии, поэтому протекавшие в нем процессы определялись раскладами в партийно-советских верхах и самостоятельного значения не имели. Круг советских ученых, занимавшихся этой проблематикой, всегда был узким, а после крушения СССР интерес к ней практически угас. Те работы о комсомоле, с которыми удалось познакомиться, как правило, касались борьбы против различных оппозиций генеральной линии и вклада молодого поколения в обновление всех сфер жизни. Тем не менее, обращение к этим источникам представляется весьма перспективным и дает возможность еще раз проверить идеи данной книги на более широком материале.
Как известно, I съезд Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) прошел с 29 октября по 4 ноября 1918 года. Это было сравнительно немногочисленное мероприятие – около 200 делегатов, большинство из которых были из Москвы, Петрограда и Центрально-промышленного района, причем почти 80 % присутствующих составляли рабочие и крестьяне[959]. Однако тон задавали конечно не они, а группа инородческой молодежи преимущественно еврейской национальности. Эти молодые люди, блиставшие образованностью на фоне рабоче-крестьянских комсомольцев, определяли ход дискуссий, готовили съездовскую документацию, вносили итоговые резолюции и т. д. Они информировали своих непросвещенных коллег о колыбели европейского юношеского движения – Бельгии, о том, как движение развивалось и каких успехов достигло в Германии[960]. Тех, в свою очередь, волновало безразличие взрослых товарищей в губерниях к возникающим комсомольским организациям; воронежский делегат даже сетовал на недоброжелательность властей[961]. Вологодский представитель сказал, что Совдеп часто тормозит дело: «Дали вам свободу, так и сидите, пока вас не вытащили к свету»[962]. Кстати, ЦК партии, несмотря на неоднократные просьбы, никакого участия в созыве первого комсомольского съезда не принял, и партийные бонзы в его работе не участвовали. С докладом о текущем моменте выступил лишь большевистский функционер второго ряда Е. М. Ярославский; он заверил участников, что очень скоро они соберутся уже не на всероссийский, а на мировой съезд коммунистической молодежи[963].
Все же избранные лидеры созданного российского комсомола заручились поддержкой Н. К. Крупской и добились встречи с В. И. Лениным, намереваясь проинформировать его об итогах прошедшего форума. Однако много обещавшая аудиенция продлилась всего пятнадцать минут (причем после двухчасовой задержки), по истечении которых возникла ситуация, когда «уже не о чем было рассказывать»[964]. Очевидно, военное время требовало концентрации усилий на других направлениях. Кроме того, большевистская элита в ту пору увлеклась экспериментами с профсоюзами: их съезды по составу участников во многом напоминали партийные. Комсомол же не мог похвастаться подобным отношением. И на II съезде РКСМ в мае 1919 года опять не было ни одного партийного лидера; появились лишь Н. К. Крупская, А. М. Коллонтай и В. И. Невский. Настойчивые обращения делегатов к Ленину с просьбой приехать остались без ответа[965].
Ситуация коренным образом изменилась с наступлением мира, когда советское государство отстояло свое существование и на повестку дня выдвинулись вопросы хозяйственного строительства. Этот этап ознаменовался мощным внутренним потрясением всего большевистского организма. «Рабочая оппозиция», выражавшая интересы пролетарских кадров партии, предъявила претензии на руководство экономикой наравне с интеллигенцией (этот кризис подробно рассмотрен нами в третьей главе). На практике это выразилось в попытке руководства ВКП(б) сформировать новую «массовку» – более покладистую, чем строптивые пролетарские кадры дореволюционного призыва. Внутрипартийные события 1920-1922-х годов показали, что на них нельзя положиться, и взоры вождей естественным образом обратились к молодому поколению. Комсомол оказался на пересечении интересов различных группировок в большевистских верхах. Поэтому III съезд РКСМ (октябрь 1920) лидеры партии почтили своим присутствием. А на открытии с программной речью выступил сам Ленин. Сформулированный им лозунг «учиться, учиться и учиться» на десятилетия стал хрестоматийным в советской стране. Сделав множество реверансов в адрес молодого поколения, вождь сказал:
«Первая половина работы во многих отношениях сделана. Старое разрушено, как его и следовало разрушить… расчищена почва, и на этой почве новое поколение должно строить коммунистическое общество»[966].
А для этого надо вооружаться знаниями, выработанными человечеством.
Однако, быстро выяснилось, что значительная часть делегатов не желает идти в «светлое будущее» рядом с комсомольцами из интеллигенции. Съезд буквально захлестнула мощная антиинтеллигентская волна. Во многом это стало реакцией на вступление в организацию большого количества служащих и учащихся (уже на II съезде представители этих категорий молодежи составляли половину всех участников). Рабочие делегаты понимали, что им недостает образования; как сказал один из выступавших: «…если выступит Шацкин, то мне стыдно говорить и позориться»[967]. Однако это не главное:
«Мы видели на Украине, когда большая часть студенчества и гимназистов при приходе Деникина устремлялась массами в ряды его армии. С другой стороны, когда победа на нашей стороне, то эти элементы переходят к нам»[968].
И вот над Союзом нависла угроза захвата подобной публикой всех руководящих органов. Поэтому перед комсомолом следует поставить конкретную задачу: изгнать из его рядов интеллигентов, а разнообразную интеллигентскую молодежь принимать в исключительных случаях. В качестве первого боевого удара было предложено провести всероссийскую перерегистрацию членов организации с обязательной фиксацией нормы рабочих во всех руководящих органах сверху донизу[969]. Эти порывы, вызвавшие горячий отклик аудитории, пытался остудить все тот же Шацкин. Действительно, согласился он, наполнение комитетов учащимися и служащими в последнее время особенно заметно; надо проводить заседания в фабрично-заводских ячейках, вводить в обкомы и в ЦК РКСМ тружеников непосредственно с производства[970]. Но при этом категорически отверг попытки переименовать комсомол в союз рабочей молодежи, а для интеллигентской молодежи создать отдельные секции или вообще какую-то другую организацию[971]. Сподвижник Щацкина В. Дунаевский, также слывший теоретиком молодежного движения, назвал позицию рядовых делегатов неконструктивной:
«Дальше мордобойского настроения против интеллигенции они не идут. Мы давно отказались от разжигания страстей…мы привлекаем рабочих в наш союз не крикливой формой, а глубокой методической организацией нашей работы»[972].
Было очевидно, что комсомольцы воспроизводят конфликт, в то же самое время инициированный «рабочей оппозицией» в РКП(б). Прибывший на молодежный форум Н. И. Бухарин – один из главных критиков оппозиции, немедленно ринулся в бой. Неприятие интеллигенции он назвал «неправильной формулой» для комсомола, а ссылки на аналогичные настроения в партии счел неуместными. Интеллигентскую молодежь, сказал он, надо принимать; более того, при ее вступлении «в союз необходимо быть мягче, чем это бывает в партии», так как у РКСМ есть гарантия от заражения мелкобуржуазным мещанством: «Вы над собой уже имеете партию, которая держит вожжи всего движения»[973]. По поводу борьбы с бюрократизмом, рассадником которого выставлялась интеллигенция, Бухарин призвал не упрощать ситуацию. Эти недуги вызваны не столько социальными изъянами, сколько отсталостью широких масс[974]. «И вообще пора перестать сваливать все беды исключительно «на интеллигенцию», – заключил он. Тот, кто это делает, ошибочно считает себя подлинным революционером. В свое время К. Маркс признавал главной чертой революционности умение видеть корень вещей, для чего необходимо проводить над собой упорную культурно-воспитательную работу[975].
Однако, отеческие наставления Бухарина остались практически без последствий, что и продемонстрировал следующий, IV съезд РКСМ. Заметим, что он проходил в сентябре 1921-го, через полгода после Х съезда РКП(б), где лидеры «рабочей оппозиции» и большевистское руководство публично выясняли отношения. Там не без труда удалось нейтрализовать пролетарских смутьянов, приступив к целенаправленному рассеиванию их рядов. Казалось бы, и в среде комсомольских функционеров антиинтеллигентская фронда должна пойти на убыль. Однако сентябрьский съезд РКСМ показал завидную живучесть идей «рабочей оппозиции». Особые нарекания рабоче-крестьянских комсомольцев вызвали итоги перерегистрации союза, проведенной по требованию предыдущего съезда. Суть претензий: ЦК превратил перерегистрацию в простой учет членов, т. е. в чисто статистическое мероприятие, выхолостив его политическое значение; более того, рабочую молодежь посмели «поставить на одну доску с мещанской молодежью и интеллигенцией!»[976]Сменявшие друг друга делегаты требовали прекратить бесконечные заклинания об укреплении союза и заняться, наконец, делом: «Мы должны сказать прямо в глаза, что союз гниет, это видно уже по самому съезду, что большинство здесь присутствующих… механически пережевывает тезисы, выдуманные отдельными товарищами»[977]. В этой ситуации нужна масштабная чистка: только это поможет комсомолу избавиться «от лишнего балласта»[978].
На этот раз антиинтеллигентский настрой взялся развеять видный деятель партии Е. А. Преображенский. Он осудил стремление части делегатов оградить союз от учащейся молодежи и служащих: «сделать их более слабыми, а себя более сильными, нельзя»[979]. Выкинуть те 75 %, которые считаются нерабочими элементами, несложно; тогда мы останемся только с 25 % и будем перевоспитывать друг друга, так как подкрепления из близлежащих к пролетариату слоев мы не получим. Преображенский настаивал на разном отношении к мелкобуржуазным элементам со стороны партии и комсомола. РКП(б) имеет дело со сложившимися людьми, и если принимается решение об их исключении, это означает, что перевоспитать их невозможно; комсомол же работает с еще не определившейся молодежью. Нельзя, например, «отбраковывать» пятнадцати, семнадцатилетнего юношу на том основании, что его отец – советский служащий. «Ваш союз представляет собой первое сито для РКП(б), а потому вы должны как можно больше отобрать элементов для просеивания»[980]. Ненавистникам образованной публики Преображенский посоветовал почаще вспоминать революции XVIII–XIX веков, продемонстрировавших важную роль интеллигенции. Приобретение революционного опыта невозможно без знаний, без изучения соответствующей литературы. Большевистская гвардия много занималась этим в тюрьмах, «и если бы мы не читали, мы не могли бы ориентироваться в этой сложной обстановке, в которую мы попали, оказавшись руководителями пролетарского класса…»[981].
Но и этот видный партийный теоретик не смог переломить настроение на съезде. Наоборот, по окончании его выступления последовали нападки на самого Преображенского: говорили, что он «перегнул палку»[982], что от его слов веет мелкобуржуазностью[983]. Как заявил один из выступавших, нужно спасать союз, а для этого требуются крайние хирургические меры – методы чистки. Преображенский же понятия не имеет, с чем обращается к аудитории:
«Наш союз является не воспитательным учреждением для мелкобуржуазной молодежи и для сынков советских служащих, ничего общего не имеющих с производством, а является боевой организацией рабочей молодежи»[984].
Критиковали на съезде не только Преображенского, но и других большевистских тяжеловесов. Например, А. В. Луначарский призвал воспитывать «аристократию духа». Его одернули: нужно не создавать аристократию в молодежной среде, а подготавливать людей, кровно связанных с рабочей молодежью[985]. С Н. К. Крупской, сообщившей о перспективах среднего образования, участники съезда тоже не согласились: «Никаких причин поступать в среднюю школу у молодых пролетариев нет, – заявляли они, – поскольку она не дает реальной пользы и годится только для хилых интеллигентов». Нужна школа – социальная ячейка будущего, где людей будут готовить для восстановления народного хозяйства, для индустрии. Наркомпрос должен перестроить свою работу, направив основные усилия на повсеместное распространение фабрично-заводских училищ[986]. А «Крупская как будто не живет на нашей грешной планете», – сделали вывод делегаты[987].
Неудивительно, что провозглашенный поворот к новой экономической политике (НЭП) не встретил понимания у комсомольцев такого рода. Как в мае 1922 года признавался секретарь ЦК РКСМ Петр Смородин, непонимание задач НЭПа, неготовность к их решению наблюдалась не только в среде молодежи, но и среди руководящих работников, что накладывало негативный отпечаток на всю деятельность союза. Например, актив Тульской организации реагировал так: «Ну что же, к осени мы «новую экономическую» побоку, спецов за горло и коленом, и начнется вторая, третья, четвертая революция»[988]. С мест постоянно жаловались, что раньше мелкобуржуазная психология имела немного возможностей проявиться, а с введением НЭПа «процветает рынок, который является как бы пейзажем среди пустыни». Многих он манит, идейно неустойчивая молодежь смотрит на него с надеждой и вожделением. Начинает воскресать мелкая буржуазия, причем не только экономически, но и идеологически[989]. В результате в комсомоле укореняются аполитичные настроения, падает интерес к общественной жизни[990].
Материалы комсомольских съездов и конференций начала двадцатых годов вполне характеризуют обстановку, которая сложилась в верхах союза. Там повторялось практически все, что происходило в РКП(б), иногда даже в более острой форме, как, например, бунт против интеллигентского засилья. Враждебные выпады комсомольцев затронули и представителей ленинской гвардии, к которой, как выяснилось, многие из них относились без должного пиетета. Сама атмосфера молодежных форумов той поры являла собой довольно забавное зрелище. Молодая советская элита была в прямом смысле слова окутана дымом: во время пленарных заседаний большинство участников вели себя, мягко говоря, вольготно и не стеснялись беспрерывно курить[991]. Заметим, на съездах и конференциях РКП(б) ничего подобного не наблюдалось. Очевидно, в составе комсомольских функционеров процент выходцев из народных низов был значительно выше, чем в верхах партии, где преобладали интеллигенты. Как показано в специальной главе, в конфессиональном отношении внутрипартийная «рабочая оппозиция» имела староверческие корни. Старообрядческо-психологический архетип определял ментальность ее актива, и в этом смысле выявление выходцев данной конфессиональной общности в комсомольских кругах также представляется весьма перспективным.
Правда, при знакомстве с комсомольскими вожаками первого десятилетия существования организации (1918–1928) обнаружилось, что среди них подобных персонажей было немного. Коммунистическим союзом в первой половине 1920-х годов заправляли выходцы из интеллигенции с заметным инородческим оттенком, и президиумы крупных комсомольских мероприятий состояли преимущественно из их представителей. Например, на II Всероссийской конференции трое членов президиума из пяти были евреями[992]. Пост руководителя РКСМ, сменяя друг друга, занимали Ефим Цейтлин, Оскар Рывкин, Лазарь Шацкин. Первые двое родились в Петербурге в интеллигентных семьях; они немало потрудились над приближением мировой революции. Цейтлина за активную пропаганду даже арестовывали и высылали из Германии, позднее он стал главой секретариата Бухарина. Яркой личностью был сын богатого торговца из Царства Польского Шацкин; он получил известность как главный теоретик юношеского движения, основатель Коммунистического интернационала молодежи, штаб-квартира которого разместилась в Берлине. Первым секретарем РКСМ в 1922–1924 годах побывал Петр Смородин – сын крестьянина из-под Липецка. Он оказался в поле зрения Г. Е. Зиновьева, продвинувшего его сначала в лидеры Петроградского, а затем и Всероссийского комсомола. Но этот молодой функционер не проявил должной хватки и соответствующих способностей и довольно быстро выпал из комсомольской обоймы. Его сменил Николай Чаплин (1924–1928), родившийся в семье священника и учительницы в Смоленской губернии. Очевидно, что все перечисленные деятели были весьма далеки от староверческой общности и являлись типичными выходцами из инородческой среды или из регионов Российской империи с подавляющим преобладанием никониан. То же самое можно сказать и об их ближайшем окружении. Иными словами, в этот период выходцы из староверия находились на второстепенных должностях и не играли серьезных ролей в центральных органах союза. Совсем иная картина наблюдалась в областных комитетах индустриальных районов страны. Многие комсомольские функционеры регионального уровня имели староверческие корни; регулярно появляясь на всероссийских съездах и конференциях, они привносили сильный антиинтеллигентский запал. Но в целом этот комсомольский слой, поднятый революцией на разные этажи власти, еще только проходил стадию внутренней структуризации и обретения собственных лидеров.
Общеполитический расклад той поры определялся противостоянием группировок, возглавляемых Троцким, Зиновьевым и Бухариным. Большевистские лидеры были озабочены расширением аппаратной базы для ведения борьбы и, в том числе, рассчитывали заручиться поддержкой комсомола. Троцкий первым обратился к молодому поколению, пытаясь противопоставить его старой гвардии, отставшей от жизни и погрязшей в бюрократизме:
«Ныне руководящее в партии поколение воплощает в себе опыт истекшего 25-летия, а наша революционная молодежь есть вулканический продукт октябрьского извержения».[993]
Эта риторика находила отклик главным образом у учащейся молодежи. Оппоненты Троцкого по политбюро ЦК РКП(б) даже считали, что у того «был план создания новой, враждебной историческому большевизму партии, с опорой… в первую очередь на студенчество»[994]. Как известно, претензии страстного трибуна на лидерство удалось купировать. Его ставка на молодежь была бита более подготовленным в аппаратном смысле Зиновьевым. В противовес троцкистам он попытался опереться на «организованную рабочую молодежь, комсомол»[995]. Кстати, именно Зиновьев раньше других поднял вопрос о Коммунистическом союзе молодежи. В повестке XI съезды РКП(б) весной 1922 года значился доклад ближайшего зиновьевского сподвижника Г. Сафарова, призвавшего делегатов относиться к РКСМ как к подготовительной школе для пополнения партийных рядов[996]. Выступая в прениях, комсомольский лидер Л. Шацкин поддержал основную мысль докладчика. Он сетовал, что партия посылает свои большевистские кадры куда угодно – в профсоюзы, в советы, а о комсомоле забывает[997].
Рвение Зиновьева по повышению аппаратного веса РКСМ в общей системе власти завоевало ему симпатии комсомольских верхов. До 1926 года его влияние на союз значительно превосходило троцкистское, бухаринское или чье-либо еще, о чем свидетельствуют стенограммы съездов и конференций. Выступления Зиновьева содержали минимум нравоучений и при этом рисовали привлекательные перспективы для карьерного продвижения. В союз должна войти вся рабочая молодежь, в отличие от деревенской:
«Это понятно, в рабочей молодежи никаких прослоек не может быть. Конечно, разница между металлистом и текстильщиком есть, но эта разница не решающая, а второстепенная, между тем как разница между середняком и бедняком, и середняком и кулаком носит уже классовый характер»[998].
В качестве основной базы для укрепления комсомола Зиновьев рассматривал около полутора миллионов пятнадцати, семнадцатилетних подростков, проживавших в тот период в городах: все они «должны быть у нас». В этом ему виделось торжество подлинной большевистской традиции, поскольку наша партия – «партия городская, родилась в рабочих предместьях», а деревню нам «еще только предстоит завоевать»[999]. Зиновьев постоянно рассуждал о необходимости обновления руководящего состава РКП(б), что было весьма приятно комсомольским функционерам. Именно в их интересах он выдвигал лозунг омоложения партии не вообще, а за счет «хорошо работающей организации, которая называется Коммунистическим союзом молодежи»[1000]. Этот реверанс трансформировался в конкретное предложение: поставить на следующем съезде вопрос об участии комсомола в работе по улучшению государственного аппарата, что позволит массово выдвинуть новых людей, прошедших комсомольскую школу[1001]. Эти размышления навеивали воспоминания о недавно ушедшем Ленине. Оказывается, будучи уже серьезно больным, он – разумеется, вместе с Зиновьевым – серьезно обдумывал назначение на пост заместителя председателя Совнаркома кандидатуру из молодых работников: «Я – 50-летний, все ребята 40-летние, надо одного заместителем иметь 30-летнего, который бы представлял молодое поколение»[1002]. Этот эпизод незамедлительно получил статус ленинского завещания: «Тогда не удалось выполнить, но тут намек на всю организацию, на схему не только строительства партии, но и всего строительства коммунизма»[1003]. Кроме этого, Зиновьев призвал объявить войну нэпмановской поросли, которая может трансформироваться в «молодую гвардию буржуазии». Нас больше, мы – реальная сила, однако в области культуры нам предстоит еще выдержать экзамен на зрелость. Надо победить противника не только количеством, организованностью, но прежде всего качеством[1004].
От перспективы, намеченной Зиновьевым, у молодой аудитории «захватывало дух». Было решено не дожидаться следующего съезда, а приступить к обсуждению этой темы немедленно[1005]: комсомол уже располагает необходимым кадровым потенциалом. Молодой зиновьевский соратник О. Тарханов уверял:
«Мы говорим партии: берите это рабочее юношество, это те, которых вы ищете…уже получившие первоначальную коммунистическую обработку. Из этого рабочего юношества вырастет много и много лучших и полезнейших работников нашей партии»[1006].
Новое ядро революционной молодежи готово к самодеятельности, обладает крепкой внутренней спайкой, выдвиженцам по плечу масштабные дела. Правда, признавалось, что оно недостаточно владеет политическими приемами[1007].
Бухарин, с легкой ленинской руки именовавшийся «любимцем партии», конкуренцию за влияние на комсомол Зиновьеву явно проигрывал. Он не пропускал ни одного значимого комсомольского мероприятия, позиционируя себя в качестве знатока молодежной среды; с легкостью классифицировал молодое поколение по тем или иным признакам; рассказывал о годах, проведенных в гимназии; рассуждал о заповедях для комсомольцев и т. д.[1008] Такая манера диссонировала со стилем Зиновьева, не стеснявшегося признаваться в недостаточном знании комсомольской среды[1009]. И по стенограммам видно, с каким трудом переваривали бухаринские назидания собравшиеся. Например:
«Бухарин насчет теории большой мастер. Теоретические его основы критиковать не стоит, потому что я мало в них пониманию… Опыта работы, которую проделал комсомол, Бухарин не видел, не учел и не читал, а для того, чтобы делать доклад, нужно было посмотреть, что из теории, которую он преподносит комсомольцам, осуществлено на Украине, в Питере, в Москве»[1010].
А вот другой пример:
«Он [Бухарин] потерял минут двадцать пять или сорок для того, чтобы доказать, что правила жизни нужно зафиксировать, но правил жизни он не дал. Типов рабочей молодежи Бухарин не знает, а если знает, то не сказал»[1011].
Вместо рассуждений о культурном воспитании выдвигалась все та же «любимая идея»: разогнать все средние общеобразовательные учебные заведения и создать новые, подготавливающие «разумных и толковых рабочих, а не славных и милых ребятишек, которые поют «мама дорогая»»[1012]. Бухарин же настаивал:
«Я уверен (я извиняюсь за то, что это откровенно говорю), но я уверен, что, вероятно, только одна пятидесятая часть нашего съезда читала соответствующие работы Ленина – не больше, а может быть, и меньше»[1013].
Конечно, подобные заявления никак не способствовали взаимопониманию с участниками молодежных форумов.
Между тем зиновьевское влияние на комсомол конвертировалось в конкретные аппаратные успехи. Так, бюро ЦК РЛКСМ вопреки решению большевистского политбюро не исключать Троцкого из своего состава выступило за его изгнание, приняв сторону Зиновьева. Девять (против пяти) членов бюро ленинградской парторганизации поддержали своего руководителя, жаждавшего устранения конкурента с властного олимпа. Это проявление самостоятельности произвело эффект разорвавшей бомбы[1014]: стало очевидно, что молодежная организация постепенно превращается в вотчину одного лица. Да и вообще, в комсомольских делах тон все больше задавали ленинградцы. Например, они не стеснялись созывать конференции всероссийского значения, сообразуясь с собственными интересами и не спрашивая на то разрешения центральных органов. На одну такую конференцию были приглашены представители семнадцати организаций страны: из крупнейших промышленных губерний Центрального района (Иваново-Вознесенка, Тулы, Твери, Нижнего Новгорода и т. д., за исключением Москвы), из Донбасса, из нескольких крестьянских губерний; были представлены две крупнейшие национальные организации – Узбекистана и Казахстана[1015].
В идейном плане ленинградские комсомольцы, конечно, следовали политике Зиновьева с опорой на рабочий класс. Их настораживал бурный рост молодежного союза, численность которого в 1924 году ежедневно увеличивалась на полторы тысячи человек[1016]. Они считали, что это происходит за счет крестьянской массы, а в результате размывается пролетарское ядро организации. В партии подобные тенденции успешно нейтрализуются с помощью сильного актива, значительного опыта, славных исторических традиций. В комсомоле же с этим хуже, а потому и опасностей больше[1017]. Правда, в Ленинграде эти опасности весьма успешно преодолевались: из более чем 40 тысяч комсомольцев крестьян насчитывалось только 5 тысяч, т. е. около 13 %, тогда как в целом по союзу – 37,6 %.[1018] И поэтому всему РЛКСМ предлагалось «в практической работе подтянуться по ленинградской организации, подтянуться во всех отраслях работы»[1019]. Весьма интересно, что усиление пролетарской составляющей в союзе ленинградцы рассматривали в определенном контексте. Они предостерегали от узко-националистических рамок решения этой задачи: необходимо соотносить перспективы социалистического строительства в нашей стране с геополитическими задачами, чтобы молодежь работала на «приближение к торжеству мировой революции»[1020].
Это крайне важный момент, во многом объясняющий поражение зиновьевской группы во внутрипартийной борьбе. Напомним: подчеркнуто пролетарская риторика адресовалась комсомольской региональной публике, не вкусившей плодов дореволюционной социал-демократии и вообще мало с ней знакомой. Так что увлечь еще недавних молодых пролетариев столь отвлеченными идеями было нелегко. К тому же транслировались они главным образом комсомольскими функционерами-интеллигентами, против которых у пролетарских элементов существовало стойкое предубеждение. Но ведь именно такой актив группировался вокруг Зиновьева как лидера, что и обусловило его падение (о чем немало написано). Эта же история повторилась в комсомоле. На XIV съезде ВКП(б) осуждению подверглась атака оппозиции по молодежной линии с целью противопоставить ленинградский губкомсомол – ЦК РЛКСМ. В этой атаке усмотрели не только узко комсомольский, но и общепартийный смысл: оппозиция вела борьбу против ЦК партии, используя комсомол как свое орудие[1021]. Это хорошо выразил Бухарин:
«Наступил момент, когда партия обязана сказать вашему союзу, его ЦК: ты кое-что позабыл, позволь тебя погладить против шерсти, иначе ты себя погубишь и нас будешь тянуть к гибели»[1022].
Зиновьевскую группу, как известно, критиковали за недооценку крестьянина-середняка, за непонимание задач смычки крестьянства и рабочего класса. Оппозиция вела к ослаблению их союза, к противопоставлению внутри комсомола рабочей и крестьянской частей[1023].
Поражение Зиновьева открывало дорогу новой политике по отношению к крестьянству – «врастанию кулака в социализм». Настал «звездный час» Бухарина: он с огромной энергией убеждал молодежную элиту страны в преимуществах НЭПа, рассуждал о хозяйственной свободе деревни, о пользе зажиточности и т. д. Его отеческий наказ комсомолу: «Потрудитесь не командовать, а убеждать. Потрудитесь не брать на цугундер мужика, а легким способом воздействовать на него. Потрудитесь спрятать свой наган и действовать более мягкими способами»[1024]. Первый секретарь ВЛКСМ Чаплин популяризовал образ комсомольца-домохозяина, развивающего собственное хозяйство и содействующего кооперированию крестьянства. Именно здесь соединяются личные и общественные интересы, и это составляет сердцевину бухаринской политики в деревне[1025].
Трудно сказать, насколько эффективно подобные призывы настраивали пролетарский контингент на сотрудничество. Зато с уверенностью можно утверждать: большинство комсомольских функционеров негативно относились к другой излюбленной теме Бухарина – осуждению всего, что связано с понятием «русский». Заметим, здесь он полностью смыкался со своими оппонентами Зиновьевым, Каменевым, Радеком и др. Лозунги типа «Встань, Русь идет» вызывали у Бухарина крайнее раздражение. Как он поучал, патриотические чувства приведут к потере влияния в массах, столкнут на великодержавный путь, подорвут дело революционного братства[1026]. На VIII съезде ВЛКСМ (май 1928) Бухарин специально остановился на росте проявлений «великорусского шовинизма» и потребовал оберегать большевистскую национальную политику, как один из устоев пролетарской диктатуры в стране, как одно из самых ярких завоеваний интернационализма. «Старая великодержавная спесь, третирование всякой другой национальности, как нации второго порядка, как «инородцев» – эта надутая, чванливая идеология российского помещика и либерального барина… начинает вновь пошевеливаться»[1027]. Подобные настроения пытаются использовать чуждые нам социальные группы, чтобы вести борьбу против советской власти. Бухарин призвал воспитывать дух презрения к антисемитизму, проводить разъяснительную работу, преодолевать культурную отсталость людей, ведь «таких дураков у нас, кстати сказать, еще много»[1028]. И в этом Бухарин был недалек от истины: в ряды комсомола вливалось множество носителей той великорусской идеологии, с которой он призывал бороться. И от этого позиции «любимца партии» в комсомоле не становились более прочными. Хотя руководство ВЛКСМ в лице группы Чаплина-Мильчакова ориентировалось на него.
Не стоит забывать, что большую роль в разгроме зиновьевцев сыграли не только сторонники Бухарина, но и другие силы – вышедшие из рабочей среды и не видевшие в нем кумира. Противостояние с оппозицией положило начало сближению этих комсомольских функционеров с другой крупной фигурой большевистского ареопага – Сталиным. До конца 1920-х годов он не был вовлечен во внутрикомсомольские расклады и больше присматривался к различным группам влияния и их вожакам. Правда, его вклад в разгром троцкистско-зиновьевской оппозиции хорошо осознавали и здесь. Например, представитель мятежной ленинградской организации, выступая с трибуны VII съезда ВЛКСМ, так описал царящую в организации атмосферу: «Ты за кого? Сталинец или не сталинец? Если не сталинец – жми, дави, загоняй подальше, даже так, чтобы не пикнуть. – это в нашем союзе ничего общего с ленинским воспитанием не имеет, и нужно разъяснить, что союз не сталинский, а Ленинский»[1029]. Интересно, что хотя на разных съездах и конференциях комсомола перебывали практически все большевистские руководители, Сталин на них не присутствовал. Его имя впервые было упомянуто на том же VII съезде, когда будущий комсомольский лидер А. Косарев предложил направить генсеку приветственную телеграмму[1030]. А сам он впервые появился перед комсомольской аудиторией только на V конференции ВЛКСМ – 29 марта 1927 года[1031], по приглашению ряда делегатов. Правда, речь вождя была довольно краткой: он коснулся внешней политики (китайские дела) и внутренней (снижение себестоимости продукции)[1032].
Сталин присматривался к бухаринской группе в комсомоле. В преддверии XIV партийного съезда он приглашал Чаплина и Мильчакова к себе на квартиру в Кремле, чтобы удостовериться в их позиции накануне решающей схватки с оппозицией; после разговора стороны остались недовольны друг другом[1033]. Позже, на одном из заседаний оргбюро ЦК ВКП(б) Сталин (через Молотова) просил Чаплина и Мильчакова изменить название подготовленной к массовому изданию книги «Заветы Ленина молодежи» на другое, но те категорически отказались[1034]. Летом 1928 года у генсека партии произошел конфликт с руководством комсомола. Сталин поместил в «Правде» статью, где обосновывал возрастание роли самокритики вследствие обострения классовой борьбы как внутри страны, так и на международной арене. Только с помощью развертывания самокритики можно повысить культуру рабочего класса, умножить его силы. Но некоторые органы печати иногда сбиваются на критику ради критики, превращая этот важный инструмент в «спорт», бьющий на сенсацию. В пример генсек привел «Комсомольскую правду». По его мнению, газета, освещая важные темы, допустила публикацию целого ряда компрометирующих карикатур. Он поставил под сомнение возникшее в комсомоле движение «легкая кавалерия», чьей главной целью декларировалось искоренение бюрократизма; Сталин назвал его «легкомысленной кавалерией»[1035]. Однако дело приобрело неожиданный оборот: бюро ЦК ВЛКСМ поддержало редакцию «Комсомольской правды». Сталину было направлено письмо (оно начиналось с сухого и лаконичного обращения – «т. Сталин»), авторы которого отрицали обвинение генсека, будто молодежная газета гонится за сенсациями, а также выражали тревогу за судьбу движения «легкой кавалерии», прекрасно себя зарекомендовавшего[1036]. Ведь теперь, после сталинской оценки, эту форму работы начнут высмеивать бюрократы и их подголоски. Любую критику они смогут назвать «легкомыслием», что заметно затруднит участие комсомола в борьбе с бюрократическим разложением. Заканчивалось письмо так: «Мы желали бы, чтобы Вы поделились с нами своими соображениями на этот счет, если возможно, то и через печать»[1037]. Сталин лично никак не отреагировал на это послание, но ЦК партии осудило «Комсомольскую правду» за примиренчество. На бюро ЦК ВЛКСМ вновь возникли дискуссии: соглашаться или не соглашаться с такой оценкой. В результате А. Мильчаков, недавно сменивший на посту первого секретаря ВЛКСМ Чаплина, был отправлен в отставку.
К этому времени предпочтения Сталина во внутрикомсомольских раскладах уже были определены. Он сделал ставку на функционеров, вышедших из рабочей среды и критично настроенных к интеллигентским соратникам по союзу; в подавляющем большинстве это были представители русской молодежи. Генсек решил помочь им взять бразды правления комсомолом в свои руки. Именно эту аудиторию чуть ранее пытался приручить Зиновьев, так и не сумевший со своей проповедью мировой революции стать для нее своим. Знакомство с конкретными выдвиженцами позволило установить, что, как правило, мы имеем дело с выходцами из старообрядческой общности, завязанной на индустриальные центры страны. К концу 1920-х годов они (разумеется, не без помощи генсека) обрели своего яркого лидера – Александра Косарева. Он родился и жил на северо-восточной рабочей окраине Москвы, в районе рек Яуза и Хапиловка, примыкавшем к знаменитому Преображенскому кладбищу – крупнейшему беспоповскому центру России. Его родители работали на трикотажной фабрике, на заводе «Рихард-Симон» (после революции «Красная заря»). На том же заводе в качестве слесаря начал трудовой путь и Косарев, иронично называвший его «семейным» предприятием, поскольку там трудилось не одно поколение Косаревых[1038]. После революции вступил в комсомол, вскоре став первым секретарем Бауманского РК РКСМ. Для борьбы с оппозицией его направляли на работу в ленинградскую организацию, затем вернули в родную московскую. В марте 1929 года Косарев был избран генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ. Его появление на этом посту дало старт обновлению всей комсомольской верхушки.
Ключевые должности теперь занимают люди со схожими биографиями.
Правая рука Косарева – выходец из Сормовских и Выксунских заводов Сергей Салтанов, с 1927 года глава нижегородского комсомола[1039]. Секретарь исполкома Коммунистического интернационала – соратник Косарева еще по Бауманскому РК Москвы – Василий Чемоданов, бывший рабочий радиотелеграфного завода, секретарь комитета комсомола Ликинской мануфактуры, первый секретарь Орехово-Зуевской уездной организации Московской области (известной старообрядческой местности)[1040]. Заведующим военным отделом ЦК ВЛКСМ, а затем и секретарем ЦК, назначен Павел Горшенин, родившийся в поселке Нязепетровского завода на Урале; он начинал токарем Ревдинского завода и осуществлял в комсомоле взаимодействие с вооруженными силами[1041]. Заведующим орготделом, секретарем ЦК по внутрисоюзной жизни стал Петр Вершков, слесарь из Саратовской губернии, в 1926–1929 годах руководивший саратовским комсомолом[1042].
Одним из авторитетных членов бюро ЦК был Сергей Андреев. Он родился в рабочей семье в Сестрорецке Петербургской губернии; трудился в начале на Сестрорецком, а затем на Ковровском инструментальных заводах. В комсомоле был первым секретарем Северокавказского крайкома, затем комсомола Украины. На руководящие должности при Косареве попадали и другие выходцы из пролетарских семей: Дмитрий Лукьянов – токарь одного из предприятий Москвы, Валентина Пикина с питерского комбината «Севкабель», Серафим Богачев с Коломенского машиностроительного завода и др.[1043] В состав бюро ЦК ВЛКСМ при Косареве входил 21 человек, причем 18 – с простыми русскими фамилиями (Шаровьев, Иванов, Васильев, Железов, Скотников, Корсунов и др.)[1044] В 1930-х годах персонажи типа Е. Файнберга (секретаря ЦК по печати) в руководстве ВЛКСМ стали редким исключением.
Такое переформатирование верхушки комсомола не может не удивлять, поскольку лицо партийной элиты по-прежнему определяли инородцы. До 1937 года высшие посты в партии и государстве занимали представители старой ленинской гвардии, где велика была роль интеллигенции, во многом инородческой. Чтобы объяснить перемены в комсомоле конца двадцатых – начала тридцатых, надо еще раз вспомнить события в РКП(б) 1920–1922 годов. Можно сказать, неосуществленные мечты «рабочей оппозиции», также имевшей индустриально-староверческие корни, реализовались в молодежном формате. А расчистил дорогу во власть этим кадрам сам Сталин. Замыслы генсека, как нам представляется, проясняет его выступление в последний день VIII комсомольского съезда в мае 1928 года (за десять месяцев до назначения Косарева). Оно явно перекликается с речью Ленина на III Съезде комсомола в 1920 году. Сталин не только воспроизвел ленинскую установку о необходимости учиться, но и поставил задачу создать собственную интеллигенцию пролетарского происхождения. «Учиться у всех, – взывал он, – и у врагов, и у друзей… Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враг будет смеяться над нами, над нашим невежеством, над нашей отсталостью»[1045]. И во что бы то ни стало взять крепость, называемую наукой, причем сделать это должна молодежь, «если она хочет быть строителем новой жизни, если она хочет стать действительно сменой старой гвардии»[1046].
Эти призывы как нельзя лучше отражали настроения пролетарской молодежи, взошедшей пока на комсомольский Олимп. На пленуме ЦК ВЛКСМ, избравшем Косарева на пост лидера, снова встал вопрос о чистке в комсомоле. Как мы помним, сторонники Бухарина в союзе без энтузиазма относились к подобным начинаниям, теперь же ситуация изменилась коренным образом. Косарев заявил о потоке обращений снизу, отражающих беспокойство по поводу перекосов в социальном составе организации. На практике многие комсомольцы сталкиваются с проповедью примиренчества в отношении к классовым врагам. «Мировоззрение «живи сам и давай жить другим, – констатировал новый лидер, – ни в коей степени не может соответствовать линии нашей партии и задачам ленинского комсомола»[1047]. Он выдвинул задачу: «Классово оформить все звенья нашего союза, насытить их классовой непримиримостью ко всему, что чуждо пролетарскому влиянию»[1048]и пояснил: «Где бы рабочий парень ни находился, он не чистится, а проверяется. Где бы непролетарский элемент ни находился, он проходит чистку, а не проверку»[1049], потому что «уклоны от партийной линии всегда будут находить себе сторонников именно не в пролетарских слоях партии и комсомола»[1050]. Здесь усматривались и корни «правого уклона», делавшего ставку на укрепление зажиточного крестьянства. Возвысившись на противостоянии этому идейному течению внутри большевизма, новый руководящий призыв провозгласил борьбу с ним главной обязанностью комсомола. Ведь речь идет о противоборстве классов, «на знаменах которых написано, что их существование взаимно исключает друг друга»[1051].
Такая бескомпромиссность мотивировалась деморализующим влиянием «кулацкой идеологии» на молодежь по аналогии с введением НЭПа в начале 1920-х годов. Применительно к нынешнему этапу даже заговорили о «втором кризисе комсомола»[1052]. Но косаревская группа призвала не впадать в панику, а хладнокровно вскрывать нарывы, преодолевая классовые извращения. Залог успеха хорошо известен – укрепление пролетарского ядра организации. В последнее время на производстве оказалось немало молодых людей, пришедших за стажем для поступления в вуз, за характеристикой: таких нужно попросту «вышибать из предприятий»[1053]. Предлагалось изменить и правила приема в комсомол. Лозунг «100 % рабочей молодежи в ВЛКСМ» подразумевает именно пролетарскую молодежь, считать же таковой следует детей рабочих, детей крестьян бедняков, а середняков или детей служащих – в том случае, если они трудились на производстве не менее трех последних лет[1054]. Намечалось также оздоровление союзного актива. Ранее ставка делалась преимущественно на сотрудников аппарата, теперь же надо считать активистом всякого комсомольца, ведущего хотя бы небольшую общественную работу[1055]. Энергичная программа по развитию ВЛКСМ, инициированная новым руководством союза, впечатлила многих. Секретарь ЦК ВКП(б) Рудзутак, посетив VI комсомольскую конференцию, заявил, что здесь присутствует «действительно пролетарская смена старого поколения»[1056]. А ближайший сталинский помощник Каганович в начале 1931 года адресовал IX Съезду ВЛКСМ пророчество: «Вы будете хозяевами всего мира!»[1057]
И действительно, в сталинских планах роль косаревского руководящего призыва выглядела весьма весомой. Это подтверждает триумфальная речь Косарева на XVII партийном съезде 1934 года, в которой он провозгласил «сделать ленинский комсомол школой разносторонней государственной деятельности»[1058]. Речь шла не просто о помощи старшим товарищам в деле социалистического строительства, а о готовности вскоре встать им на смену. Ведь молодежь более энергична, более восприимчива ко всему новому. В основных отраслях промышленности новые кадры составляют уже от 35 % до 40 % всех кадров: именно от их труда зависит выполнение обширных планов реконструкции экономики. С трибуны съезда Косарев сформулировал задачу: «овладеть образцовой культурой производства, догнать и перегнать капиталистические страны в области использования техники»[1059]. С этой целью комсомол инициировал специальный общественно-технический экзамен; планировалась инвентаризация рабочих мест на каждом индустриальном предприятии, чтобы выявить резервы эффективности. Лидер ВЛКСМ сказал, что это мероприятие – не кабинетная выдумка, а политический экзамен для каждого пролетария независимо от возраста. И обрушился на руководство профсоюзов, остававшихся в стороне от этого важного дела. Его резкая критика неоднократно прерывалась одобрительными возгласами:
«Верно, правильно»[1060]. В результате выступавший позже председатель ВЦСПС Н. М. Шверник публично признал, что общественно-технический экзамен перерос комсомольские рамки, превратившись в общее рабочее дело[1061]. Кстати, речь Косарева завершилась под «бурные, продолжительные аплодисменты», чего удостаивался далеко не каждый оратор. Все это свидетельствовало об обретении комсомолом серьезного политического веса в партийно-государственной системе. Хотя всего три с половиной года назад – на XVI съезде ВКП(б) – отношение к Косареву было не более чем снисходительным[1062].
Заигрывание сталинского клана с комсомолом, превращавшегося в большую силу, не осталось без внимания в русской эмиграции. Возросшее влияние ВЛКСМ по сравнению с героической эпохой Гражданской войны бросалось в глаза многим[1063]. В стране к началу 1930-х годов насчитывалось свыше трех миллионов комсомольцев, причем половина из них вступила в организацию лишь в последние несколько лет. Как отмечала эмигрантская пресса, комсомольцы заметно усиливают радикализм сталинских реформ и в деревне, и в городе; именно «они в известной степени предопределяют нынешнюю воинственность большевизма»[1064]. Особенно это распространено среди командного состава Красной армии и флота, тесно связанного с комсомолом: к концу 1920-х годов практически весь флот СССР комплектовался комсомольской молодежью, а военные школы и академии принимали для обучения только комсомольцев. ВЛКСМ состоит шефом Красного флота и военно-воздушных сил. Любопытна такая мысль: «Известная часть левизны и беспардонности сталинского курса объясняется тем, что уже теперь приходится ему опереться на новую силу комсомола»[1065].
Тексты выступлений главных комсомольцев позволяют говорить не только о «левизне и беспардонности», но и об определенном менталитете. Партия и комсомол не воспринимались молодежью в качестве политических организаций в классическом смысле; мы сталкиваемся здесь с отношением к ВКП(б) и ВЛКСМ, во многом воспроизводящем религиозный архетип. Конечно, речь идет не о проявлениях традиционного религиозного мировоззрения, а о трансформации духовно-нравственной составляющей в четко фиксированные этические и социальные практики. Комсомольцы осознавали себя в качестве носителей поведенческой модели, выраженной не через индивидуальный, а коллективный опыт. Кстати, именно это обстоятельство стало камнем преткновения для «пролетариев» и их более образованных коллег. Разумеется, выходцы из интеллигентской среды также ратовали за коллективистскую идеологию, пропагандировали ее с высоких трибун, но в интеллигентском ее понимании. Коллективизм же представителей пролетарских слоев вытекал не из знания Маркса и Энгельса, а из солидарного опыта, который в дореволюционный период аккумулировался именно староверческой общностью, издавна находившейся под административно-церковным давлением. В новых условиях этот опыт поднимался на новый уровень, становясь несущей конструкцией уже государственной идеологии. И еще этот опыт говорил, что интеллигенция не может стать устроителем жизни, основанной на коллективистских началах. Поэтому важную задачу по созданию нового справедливого мира нужно выполнять без нее.
Комсомольские источники убеждают, что мы имеем дело со своеобразной этикой, только выраженной не религиозно, а социально. Например, Косарев на одном из пленумов рекомендовал не бить себя в грудь кулаком, по поводу и без повода восхваляя партию. Нужно оценивать практику (т. е. поведенческую модель) коммуниста и комсомольца: насколько она соответствует критериям, выдвигаемым партией. Есть руководящий центр, у него есть генеральная линия – вот это, а не мнение какого-то отдельного руководителя, и является главным мерилом[1066]. Иначе говоря, перед нами все тот же принцип: «верующий может ошибаться, но церковь – никогда», только в сугубо светском контексте. В этом свете становится понятно, почему почетному комсомольцу Лазарю Шацкину устроили обструкцию, когда он призвал не допускать противопоставления коллективного опыта партии отдельному мнению. Видный теоретик комсомола 1920-х годов назвал отрицание самостоятельного мнения признаком «поглупения». Но ему было указано, что расхождение с генеральной линией равнозначно проповеди терпимости к различным уклонам, а это уже очень серьезно[1067]. Интеллигент Шацкин считал партию прежде всего политической организацией в европейском понимании и явно не был готов воспринимать ее в сакральном смысле, где несогласие с руководящим органом (как с церковным собором) приравнивалось к ереси.
Из староверческой психологии вырастала и установка на солидарное устройство экономики. Это значит, что не признается существование как богатых, так и бедных; и никто не должен ломать голову над тем, как он доживет до конца месяца, и чем будет кормить свою семью. Православная церковная традиция не занималась подобными проблемами, освящая религиозно-обрядовыми практиками совсем иное понимание жизни – жизни, по сути, основанной на принципе: либо ты грабишь другого, либо он грабит тебя. И чем больше ты грабишь, тем более почетное место занимаешь в обществе. Такое социально-экономическое устройство Косарев назвал «капиталистической честностью, это было нравственно»[1068]; такую мораль необходимо добивать, объявив ее вне закона, а «тех, кто пытается жить за счет труда другого, в лучшем случае раскулачивать или посылать в колонии»[1069]. Он напоминал о так называемых успешных людях, каждый из которых без угрызений совести готов «пустить большинство крестьян по миру, а самому вскарабкаться мужику на спину»[1070]. Но недопустима зажиточность как результат обирания ближних; наоборот, нужно добиваться, чтобы ни один честно работающий человек не жил в бедности[1071]. Понять эту логику сегодня нелегко: ее истоки лежат в области не прагматики, а веры, когда человек не считает возможным кичиться или удовлетворяться своим благополучием, видя бедственное положение других. Эта подлинная (социальная) вера выступала явным конкурентом традиционных религиозных взглядов, в конечном счете, оправдывавших индивидуальный успех. Именно отсюда берут истоки ненависть к разнообразным оттенкам религиозности и стремление к их тотальному искоренению. Кстати, в масштабной антирелигиозной кампании прослеживается один малозаметный аспект – забвение беспоповцев. Так, А. В. Косарев в обличительных речах перечислял тех, с кем следует бороться. Помимо последователей РПЦ, он называл еще семь сект (баптистов, толстовцев, адвентистов, трясунов, скопцов, хлыстов, духоборов), но не упоминал ни одного из беспоповских староверческих согласий[1072].
Важно также отметить, что «социальная вера» не подразумевала обслуживание мировой революции, а предназначалась для сугубо внутреннего употребления (как у предков). Международные аспекты деятельности комсомола, так занимавшие комсомольскую элиту первой половины 1920-х годов, их пролетарских коллег интересовали гораздо меньше. К примеру, с трибуны V съезда РКСМ (октябрь 1922) один из делегатов открыто возмущался докладами Коммунистического интернационала молодежи: мы три года слушаем одни и те же длинные и скучные выступления Шацкина; «все то, о чем в них сказано, для нашего союза – китайская грамота»[1073]. (Не случайно, доклады КИМа заставляли слушать при закрытых дверях, дабы комсомольские функционеры не разбежались[1074].) Шацкин попытался оправдаться: когда Зиновьев на съездах партии делает сообщение о работе Коминтерна, то по его завершении практически не бывает записок, так как многие наши старшие товарищи также мало интересуются положением на Западе…[1075] Нежелание заниматься международными проблемами всегда составляло характерную черту комсомольских вожаков из пролетарской среды. «Неужели надо брать на себя функции мирового штаба международной революции», – восклицал Косарев, в тоже время отгораживаясь от повседневных проблем обыденной жизни?![1076] «Мировые вопросы в два счета решали, – негодовал он, – а вот поставить будку для минеральных вод на Сталинском тракторном заводе оказалось труднее, чем решить вопрос о перспективах развития германского комсомола; или наладить чистоту в бараках Магнитогорска… оказалось для уральцев гораздо труднее… чем руководство французским комсомолом, над которым они шефствуют»[1077].
Из года в год давление на интеллигентские слои со стороны руководства ВЛКСМ продолжало нарастать. В начале 1931 года на IX съезде публично были осуждены некоторые деятели партии и комсомола. Бухарин, солировавший перед комсомольскими функционерами, был заклеймен еще несколько лет назад, теперь же оказалось, что «Ленин… как будто предвидел, что в лице Бухарина, Рыкова и других правых сложится оппортунистическая группа»[1078]. Досталось и бывшим лидерам союза Шацкину и Чаплину, стремившимся «не разжигать классовой борьбы в среде молодежи, не культивировать злобы против классового врага, а смягчать эту борьбу и культивировать желание жить со всеми в мире»[1079]. Таким не место в нашей организации, заключил Косарев и призвал тех, кто еще поддерживает с ними отношения, их разорвать[1080]. Весьма нелицеприятную оценку отечественная интеллигенция получила на VII конференции ВЛКСМ (июль 1932). Само слово «интеллигент» было признанно нарицательным; до революции к представителям этого слоя, за редким исключением, рабочий класс относился враждебно, ибо видел в нем своего рода касту, близкую к правящим капиталистическим классам. Косарев вспоминал свою рабочую юность на московском заводе, когда «высшим позором для рабочей девушки считалось прогуливаться с интеллигентом, а напакостить гимназисту и даже побить его нередко считалось высшим почетом, геройским поступком»[1081]. И в «модные» у молодежи военно-воздушные силы следует направлять только выходцев из рабочих, поскольку лишь они беззаветно преданы партии и советской власти[1082]. Комсомольские руководители решили также ужесточить в уставе требования к служащим, установив для них длительный кандидатский стаж. Порыв лидеров ВЛКСМ смог охладить только Сталин: не стоит так пренебрежительно относиться к служащим и препятствовать их вступлению в ряды комсомола; за этим кроется непонимание того, как изменилась окружающая обстановка и сама служащая молодежь[1083]. Вождь предложил переработать проект устава и перестроить всю деятельность аппарата ЦК.[1084] Ради этого на полгода отложили очередной, Х, комсомольский съезд, ставший для косаревской группы последним.
Судьба этого состава ЦК оказалась трагичной. Косарева и его соратников обвинили в потворстве «врагам народа». Дело в том, что лидер комсомола крайне болезненно реагировал на аресты тех, кого считал «своими». В сентябре 1937 года, вернувшись из Донецка и Харькова, он направил записку Сталину, выступив против навешивания ярлыка «враг народа» без надлежащего разбирательства, лишь на основании слухов[1085]. А в ноябре 1938 года состоялся специальный пленум ЦК комсомола с участием членов политбюро ЦК ВКП(б). На нем было рассмотрено письмо бывшего инструктора ЦК ВЛКСМ О. Мишаковой к Сталину о ненормальностях в организации[1086]. Автор письма сообщала, что была уволена за проявленную настойчивость в разоблачении «врагов народа». Ее претензии были признаны обоснованными, а обращение – героическим поступком. В вину Косареву и его окружению поставили нежелание выявлять чуждых элементов (после всего, сказанного о нем выше, это звучало довольно абсурдно). И в результате было репрессировано около 90 % пленума и 88 % Центральной ревизионной комиссии, что даже превзошло аналогичные потери в составе ЦК ВКП(б).[1087]Новым лидером союза стал ответственный секретарь «Комсомольской правды» Н. Михайлов. Мишакова, уже в качестве секретаря ЦК ВЛКСМ, выступала на XVIII партийном съезде, клеймя «косаревскую банду, окопавшуюся в Центральном комитете комсомола»[1088]. Так закончила свой путь несостоявшаяся смена старой большевистской гвардии. В этом качестве выступили уже другие люди, о которых и пойдет речь далее.
Глава 9. Две проекции русского патриотизма
Настоящая глава – ключевая в нашей книге. Речь в ней пойдет о формировании так называемой русской партии – идейного течения, возникшего в недрах коммунистической элиты. Его приверженцы, в отличие и от большевиков-интернационалистов и от партийцев либерального толка, ратовали за приоритет национальных ценностей в государственной практике. Противостояние двух последних направлений весьма популярно у современных исследователей, поскольку основные политические силы, действующие сегодня в России, берут начало именно в той эпохе. За последние двадцать лет появился целый пласт работ, посвященных этой тематике[1089]. Однако не все они выполнены на должном научном уровне, а некоторые содержат откровенную путаницу. Мы убеждены, что полноценной разработке проблемы препятствует стереотип, согласно которому внутриполитическое развитие СССР определялось противостоянием либералов-западников и русских националистов. На самом же деле это явление гораздо более сложное. По нашему мнению, русская партия сформировалась под воздействием двойственных обстоятельств, и обнаружить это помог исследовательский взгляд на соотношение староверия и никонианства. Благодаря этому взгляду, изученный, казалось бы, вдоль и поперек советский период предстал в весьма неожиданном свете.
Выше уже не раз отмечалось, что ни о каком русском начале в большевистской элите до– и послереволюционной поры говорить не приходится. На партийных съездах, собиравших функционеров разного уровня, первую скрипку играли инородческие кадры, большую долю которых составляли представители еврейской национальности. Если на конец Гражданской войны в рядах РКП(б) в целом состояло только 5,2 % евреев, то среди делегатов XI Съезда партии (1922 год) их насчитывалось уже больше трети, а среди избранных съездом членов Центрального комитета – 26 %[1090]. Весомым было присутствие прибалтийцев, поляков, кавказцев. Значительное нерусское представительство прослеживается и в персональном составе коллегий наркоматов, существовавших в 1919 году. Из 127 человек (наркомы, их заместители, начальники департаментов) русских фамилий только 34 (то есть, чуть более 30 % верхов Совнаркома принадлежало к титульной нации)[1091]. К тому же среди этих русских преобладали представители дворянской и разночинной интеллигенции, отпрыски мелких и средних купцов; выходцев же из рабоче-крестьянских слоев практически не было.
Здесь необходимо снова вспомнить о «рабочей оппозиции» в РКП(б), которая сформировалась в недрах производственных профсоюзов в 1920–1922 годах. Ее лидеры – неизменные участники партийных съездов – претендовали на весомые роли в управлении экономикой. С национальной точки зрения эти выходцы из пролетарской среды в подавляющем большинстве были этническими русскими. «Незначительная, но довольно энергичная»[1092] группа, требовавшая отстранения большевистской интеллигенции и старых специалистов от административных рычагов, находила поддержку в промышленных регионах. И это неудивительно: более внимательное знакомство с биографиями Шляпникова, Медведева, Киселева, Мясникова и др. позволило установить, что они происходят из староверческих центров крупных индустриальных районов России. Правда, в свое время лидеры «рабочей оппозиции» подпали под влияние дореволюционных социал– демократов, растеряв многие ценности, которые были присущи той религиозной общности, откуда они вышли. Шляпников несколько лет провел за границей, впитывая дух революционных приготовлений[1093]; Ю. Х. Лутовинов покончил жизнь самоубийством – из-за недостаточного напора революции; в последний путь его провожали революционеры, включая Троцкого, озабоченные той же проблемой[1094]. Верхи «рабочей оппозиции» ориентировались в первую очередь на постулаты марксистской классики, а не на русское национальное начало, и постулат «русское – превыше всего» у них внятно не звучит. Гораздо больше они переживали о задержке мировой революции, и авторитет Коммунистического Интернационала никогда не ставился ими под сомнение[1095]. На наш взгляд, именно эти обстоятельства и объясняют довольно быстрое поражение «рабочей оппозиции»: апелляции к Коминтерну и сетования на задержку мировой революции рядового русского рабочего всерьез не увлекали. Со своей стороны, и лидеры партии, включая Сталина, отказали в поддержке «рабочей группе». Все понимали: в случае воплощения ее претензий на хозяйственное управление экономику ожидает неминуемый коллапс. Масштабные эксперименты с гипертрофированной ролью профсоюзов, с установлением рабочего контроля периода Гражданской войны – наглядное тому подтверждение[1096].
Реакцией на бунт «рабочей оппозиции» стал отказ от левого радикализма и нормализация жизни в русле новой экономической политики, породившей огромные надежды у разных политических сил. Как известно, сторонников НЭПа в партийно-государственных верхах именовали «правыми»; их ключевые интересы концентрировались на самой крупной экономической сфере страны – аграрной. Возрождение деревни, повышение покупательной способности крестьян, развитие различных форм кооперации – вот те узловые точки, вокруг которых строилась доктрина «правых». Причем она касалась не только бедняков и середняков, но и зажиточной части, откуда неизбежно выделялась новая крестьянская буржуазия. Был взят курс на расширение товарно-денежных отношений, аренду земли, применение наемного труда, то есть в конечном итоге – на создание богатеющей деревни, которая составляет опору для развития индустрии. Одним из фирменных приоритетов стала концепция аграрно-кооперативного социализма. Ее приверженцами были Бухарин и Рыков, а одним из разработчиков – профессор А. В. Чаянов, несмотря на молодость, успевший поработать в четвертом составе Временного правительства. К концу 1920-х годов в различные виды сельскохозяйственной кооперации (потребительские, ссудные, производственные, закупочные и др.) оказалось вовлечено около трети крестьянских хозяйств; они обслуживали многообразные потребности[1097].
Насаждение новой экономической политики стало кровным делом для части большевистского ареопага. Например, Бухарин сделал в этот период немало заявлений в крайне нэпманском духе, от которых правоверных большевиков брала оторопь. Не случайно замечено: «Когда Бухарин говорит от души, беспартийные попутчики справа могут молчать»[1098]. Но «правые» не молчали, неизменно преподнося новую экономическую политику как продолжение революции, которая, «если можно так сказать, росла на черноземе»[1099]. Любопытно, что их влияния не избежал и Сталин. Его публичные выступления той поры проникнуты одобрением НЭПа и всего, что с ним ассоциировалось. Не отставал будущий вождь от других и в ставке на собственника-крестьянина; в 1925 году, принимая делегацию сельских корреспондентов, он сочувственно отозвался об идее восстановления частной собственности на землю в форме «закрепления владения землей на сорок и больше лет»[1100]. Позиция Сталина в ту пору была настолько определенной, что с начала тридцатых годов он, «вероятно, сгорая от стыда», избегал публиковать написанное им в пылу популяризации нэпманских перспектив[1101]. Но в 1925–1927 годах его голос абсолютно созвучен общему хору. Настроение в верхах ВКП(б) располагало даже к требованиям «предоставить крестьянству возможность создать политическую организацию, которая бы отражала интересы крестьянства и защищала бы его нужды»[1102].
Интересно, что тогда в СССР активно эксплуатировался образ редиски в применении к разным категориям советских служащих и к части коммунистов, а зачастую и к партии в целом. Этот образ подразумевал: «извне – красная, внутри – белая; красная кожица, бросающаяся в глаза посторонним взглядам, сердцевина же, сущность – белая и все белеющая по мере роста… белеющая стихийно, органически»[1103].
Это сравнение привел эмигрантский идеолог сближения с Россией Н. В. Устрялов, чье имя звучало в дискуссиях на «нэпманских съездах»: с XI (1922) по XV (1927)[1104]. Устрялов указывал на трансформацию большевизма, считая новую социально-политическую доктрину, густо «окрашенную хозяйственным индивидуализмом», прямо противоположной левореволюционному максимализму[1105]. По его мнению, сопротивление реинкарнации буржуазного духа только усугубит разруху и «неизбежно вызовет серьезный кризис наличной власти»[1106]. (При этом яркую публицистику Устрялова активно использовали противники правых – для доказательства перерождения партии.)
Устрялов не единственный кто с энтузиазмом отнесся к новому курсу. Среди российских эмигрантов царила убежденность, что НЭП открывает путь не просто к возрождению страны, а к возрождению капиталистическому. Деятели эмиграции увлеченно обсуждали роль крестьянства в вызревающих переменах, говорили о его латентной настроенности против ортодоксального большевизма. Отсутствие же у крестьян тяги к какой-либо политической платформе объясняли ожиданием простых и понятных решений, говорили о бережном отношении к их бытовой психологии. Чем меньше будет у власти барских и интеллигентских черт, тем ближе и понятнее она станет народу. Крестьянство – это крепкая ломовая лошадь (и одновременно – кучер); республиканского или демократического наездника она не потерпит. Овладеет ею тот, кто скажет простое русское слово, кто сумеет объединить старые бытовые пристрастия и возросшее в бурях революции крестьянское сознание[1107]. Конечно, в этой роли русская эмиграция видела в первую очередь себя: «там (в России – авт.) очень много ждут именно от эмиграции, в ней и у нее видят силы и возможности»[1108].
Происходившие в стране перемены к середине 1920-х годов вызвали в русском зарубежье необычайное оживление. Российский съезд в Париже (апрель 1926) прошел под знаком единения двух течений, исходящих из одного источника, имя которому Россия: эмиграция позиционировала себя как продолжение внутренней России[1109]. В центре внимания оказалась аграрная тема. Государственная программа, представленная великим князем Николаем Николаевичем, учитывала неудачи белых движений, не желавших считаться с произошедшими изменениями. Взыскивать с крестьян то, что расхищено в начале революции, невозможно, а, следовательно, земля, которой они теперь пользуются, не должна быть у них отобрана[1110]. Такое решение земельного вопроса, несомненно, должно было вызвать позитивный отклик в крестьянской душе и показывало, что будущая власть, о которой много говорили на съезде, видит опору не в старом дворянском слое и не в крупных землевладельцах, а в средних и мелких собственниках. Все это перекликалось с идеями столыпинской реформы, на что указывали тогда многие[1111]. Позиция Николая Николаевича получила поддержку на съезде: члены бывшей царской элиты считали, что с таким знаменем можно смело идти в Россию[1112]. Они также приветствовали курс на развитие товарно-денежных отношений, стимулирующий накопление и раскрепощение капитала, а «тогда исчезнет непримиримое разногласие между нами и ими, и возможность сначала сотрудничества, потом возвращения станет реальностью»[1113].
И действительно, к середине 1920-х годов это сотрудничество было довольно активным. С началом хозяйственного строительства в коммунистическую партию и советский аппарат хлынули остававшиеся в стране чиновники различных уровней. В качестве специалистов они занимали должности, требующие конкретных знаний и опыта в той или иной отрасли экономики и управления. Профсоюз госслужащих, в 1918 году насчитывавший всего 50 тыс. человек, к началу 1920-го разросся до 550 тыс., а к июлю 1921 года превысил один миллион и превратился в ядро советских профсоюзов[1114]. Среди всех этих людей было немало тех, кто до революции служил вместе с нынешними эмигрантами. Их объединяло общее прошлое, на возврат которого, пусть и в иных формах, они не переставали надеяться. Сегодня, например, выяснено: около трети командиров Красной армии составляли бывшие царские генералы и офицеры, внесшие неоценимый вклад в победу советской власти[1115]. К концу Гражданской войны к этой категории относилось свыше 55 % руководящего состава военного наркомата; после войны они заняли различные должности в военных округах и академиях[1116]. Аналогичная ситуация наблюдалась и в гражданской сфере: чиновники из министерств царской России находились на службе в различных советских ведомствах (в Наркомате путей сообщения их насчитывалось 88 %, в Наркомате торговли и промышленности – 56 %, Наркомпроде – 60 %, Наркомате социального обеспечения – около 40 %, Наркомате госконтроля – 80 %)[1117].
Именно с этой средой связано дело, известное как операция «Трест» и не имеющее аналогов в мировой истории спецслужб. Однако, некоторые внимательные исследователи уверены, что объединенная монархическая организация России (МОР) существовала реально, а не была фантомом, созданным ГПУ[1118]. И входили в нее как раз бывшие царские чины, настроенные промонархически: генералы Шапошников, Лебедев, Потапов, Зайончковский (он возглавлял организацию) и др.[1119]. Ими были установлены тесные связи с эмиграцией; сношения с ее представителями велись по правилам дореволюционной бюрократической переписки, близкой как одним, так и другим[1120]. Один из членов МОР, бывший чиновник Министерства путей сообщения А. А. Якушев, даже совершил поездку к великому князю Николаю Николаевичу. Итогом встречи стало слияние, пусть и номинальное, белогвардейского Российского общевоинского союза генерала Кутепова с МОР, действовавшей в СССР[1121]. Кстати, программа МОР состояла в отказе от интервенции и методов террора; акцент делался на проникновение в советский аппарат и концентрацию кадров, способных взять в свои руки управление государством[1122]. И, по-видимому, эта установка реализовывалась весьма активно. Как утверждают специалисты по истории спецслужб, масштаб деятельности организации уже начал мешать некоторым центральным наркоматам, ведущим торговлю и имевшим иные контакты с заграницей. В 1926–1927 годах там были убеждены, что положение в советах изменится в ближайшем будущем, и потому не спешили подписывать контракты с советскими учреждениями[1123]. (Добавим, что в этой теме немало «белых пятен», которые предстоит заполнить будущим историкам.)
Мы упомянули о политике «правых», включая ее оценку в эмигрантской среде, чтобы подчеркнуть одно важное обстоятельство. Все, кто продвигали и приветствовали данный курс, имели в виду главную цель – восстановление великой России. Предстоящее экономическое оздоровление напрямую увязывалось с обретением страны, потерянной в революционных бурях. (Кстати, это вполне созвучно идее построения социализма в одной стране.) Напомним важную деталь: «правый» коммунизм имел преимущественно «русское лицо», что резко отличало его от инородческой оппозиции Троцкого-Зиновьева. Хотя нужно оговориться, что главный идеолог этой политики, Бухарин, представлял собой русофобский тип ничем не уступавший тому же Зиновьеву в ненависти ко всему русскому. Бухаринская приверженность к русскому крестьянину имела не национальный, а сугубо прагматический характер; он говорил, что это составная часть классовой «борьбы за крестьянские души, которая идет сейчас во всей Европе, Америке и во всем мире, эта борьба в своеобразной форме обостряется и у нас…»[1124]. Бухарина явно беспокоило, что ставка на крестьянство делалась и в эмигрантских кругах, начиная с монархистов и заканчивая эсерами[1125]. Не одобрял он также контактов с Русской православной церковью: они наметились в 1924–1927 годах в форме компромисса с частью консервативного духовенства[1126]. Иными словами, Бухарин, как разработчик экономической базы правого курса, не стремился конвертировать русские национальные предпочтения в конкретную политику.
Этим вместо него с успехом занялся Сталин, сумевший придать противостоянию с оппозицией национальный оттенок и усилить тем самым свой политический вес. Коммунистическая система вобрала в себя среди прочих и тех, кто был склонен усматривать в советском строе определенные национальные черты. Именно такие взгляды выражал Сталин, расценивавший это как необходимую национальную легитимацию действующей власти[1127]. Общественным символом этой легитимации в тот период стала пьеса М. А. Булгакова «Дни Турбиных» (по роману «Белая гвардия»), поставленная в 1926 году МХАТом. Ее лейтмотив – смелое по тем временам предсказание грядущего восстановления «Великой России» (оно звучит в споре двух белых офицеров)[1128]. Спектакль имел ошеломляющий успех и помог прославленному МХАТу, восстанавливавшему позиции после войны, обрести своего зрителя. Пьесу смотрели и некоторые лидеры партии, причем Сталин – неоднократно. Такое внимание будущего вождя к национальной риторике дало основание некоторым исследователям считать, что выразителем тайных сталинских мыслей, неким сталинским «духовником» являлся один из эмигрантских идеологов Н. В. Устрялов[1129]. Не беремся судить об этом, но слово «тайный» в данном контексте справедливо: в середине 1920-х обращение к русскому национализму (кроме негативного) не стало еще официальным.
Тем не менее, почва для русского национального движения в большевистском обличье, бесспорно, существовала. Как описать этот поворот, и сегодня вызывающий симпатии? Конечно, он традиционно рассматривается в качестве антипода интернационализму. И его опоры весьма далеки от большевистской классики: богатеющее крестьянство, городская нэпманская буржуазия, национальная идея, компромисс с частью консервативного духовенства. Можно утверждать, что перед нами программа возрождения России, осмысленная в никонианском духе. Освящение института собственности – как богохранимой, всегда было прерогативой церкви; русская земля – это территория, где заправляют крепкие хозяева, исповедующие государственную, то есть никонианскую, а не какую-либо иную религию. Такая идиллическая картина (пусть с неизбежными оговорками) совпадала и с чаяниями эмиграции. Не случайно в «Днях Турбиных» Булгакова о «Великой России» говорит белогвардеец, собирающийся воссоздавать ее вместе с «правильными», национально-ориентированными большевиками. Необходимо отметить и такую особенность: программа возрождения России не имела альтернативы – в том смысле, что другой национальной программы не мыслилось в принципе, а были только злобные антирусские выпады.
Существует точка зрения, что один из таких выпадов инициировал все тот же Сталин, уничтожив НЭП, возобновив массовые гонения на церковь и т. д., то есть предав русское дело. Причем для этого он вооружился троцкистско-зиновьевскими идеями, которые громил несколькими годами ранее. На наш взгляд, эта традиционная для исследовательской литературы схема является крайне упрощенной и нуждается в серьезных коррективах. Прежде всего, она исходит из парадигмы частнособственнической реставрации России с соответствующими социальными и духовными атрибутами; все, что препятствует подобному возрождению или затрудняет его, признается противоречащим подлинному русскому духу. Однако при этом игнорируется тот факт, что в советском обществе – а именно в широкой пролетарской среде – существовали и другие тенденции. Напомним: во второй половине двадцатых годов продолжается мощный приток в ВКП(б) кадров из крупных индустриальных центров. Инспирированный сверху рабочий призыв рассматривается в русле борьбы с троцкистско-зиновьевской оппозицией, как подспорье нарождающемуся русскому национализму. Ведь подавляющее большинство вступавших в партию пролетариев составляли этнические русские, кровно заинтересованные в избавлении от инородческого засилья и в национальном возрождении.
Пролетарская трансформация ВКП(б) повлекла неизбежные последствия. Приведем интересное суждение известного ученого М. Агурского:
«Новая партийная среда на низовом уровне означала то, что партия приобрела крестьянский характер, хотя тип нового члена партии не представлял собой традиционного крестьянина. Новый призыв состоял из людей, оторвавшихся от традиционного уклада жизни, индоктринированных в официальной идеологии, но зато несших в себе бессознательно часть традиционных привычек. Их приход означал также существенное смещение национального вектора. Партия становилась компактно русской, ибо пролетариат у станка главным образом формировался из русских. Если даже Сталин, предпринимая «ленинский призыв», просто рассчитывал на него лишь как на будущую опору личной власти, он вскоре мог убедиться в том, какие далеко идущие социальные последствия это вызовет».[1130]
Ключевых моментов здесь, пожалуй, два. Первый – упоминание о традиционных привычках на бессознательном уровне. Если согласиться с этим, то следует уточнить, что конкретная поведенческая модель определялась в первую очередь религиозным архетипом. Для русского человека базовым был православный, а точнее, никонианский религиозный архетип. Данное обстоятельство, безусловно, принимал во внимание недоучившийся семинарист Сталин; он прекрасно отдавал себе отчет в том, насколько сильно в русском человеке национальное самосознание. Отсюда и бесспорный, казалось бы, вывод: национальное возрождение страны – это воссоздание базовых принципов общественного и духовного устроения, освященных никонианством. Второй ключевой момент – «далеко идущие социальные последствия». Вот их-то не предвидел никто. Как признавался Г. Федотов, его и многих из интеллектуальной среды эти революционные по своему значению последствия застали врасплох. Загнивание партии в эпоху НЭПа для всех казалось окончательным, и споры шли лишь о темпах и «формах перерождения мнимо-социалистической России в Россию крестьянско-буржуазную»[1131]. Эти «последствия» оказались непредсказуемыми даже для самого Сталина. Разыгрывание национальной карты начиналось как поддержка хозяйственной модели «правых». После краха левого радикализма она не только представлялась магистральной, но и соответствовала внутренним потребностям народа, не стремившегося обслуживать мировую революцию.
Однако, реальность оказалась намного сложнее. Партийные неофиты из пролетариев действительно демонстрировали вполне ожидаемую неприязнь к инородческому засилью во властных структурах[1132]. Но со временем в их среде стало нарастать негодование совсем по другой причине: его вызывала та самая национально-ориентированная политика «правых», которую, по замыслу ее творцов, русские пролетарии должны воспринимать как свое кровное дело. Они же, напротив, выступали против реанимации частных собственников, как в городе, так и в деревне. Это было довольно неожиданно, поскольку желание расправиться с почитателями собственности проявляли не заезжие революционеры-инородцы, «не помнящие родства», а самые что ни на есть коренные русские люди. Заметим: историография, в том числе и зарубежная, традиционно отгораживается от этого факта: это– де просто люмпены, увлекшиеся марксизмом, и т. д. Подобные аргументы во многом воспроизводят дореволюционные: тогда антисобственнические инстинкты русского рабочего класса тоже объяснялись влиянием социалистической пропаганды и люмпенизацией. А то, что подобное мировоззрение на самом деле – проявление глубинной национальной идентификации, никому в голову не приходило. Конечно, сегодня разобраться в хитросплетениях нашей истории действительно нелегко. Тем более, что официальные документы, как опубликованные, так и отложившиеся в архивах, ситуацию не проясняют: они содержат лишь фактический материал по динамике пролетаризации ВКП(б).
Ясность возникает с обращением к советской литературе того периода, запечатлевшей тех самых коммунистов из народа, которых фиксировала партийная статистика. Обратимся к популярной тогда книге Михаила Карпова «Пятая любовь», вышедшей в 1927 году и выдержавшей несколько изданий. Не касаясь сюжетных линий, обратим внимание на характеристики рядовых партийцев в условиях расширения НЭПа и на их отношение к политике «правых», породившей, как мы видели, немало патриотических надежд. Новую экономическую политику простые коммунисты воспринимают как «передачу власти белогвардейцам и отступление от диктатуры». Они возмущены, что все с головой «зарываются» в свои хозяйственные проблемы: «только в карманы норовят»[1133]. Ради чего воевали в Гражданскую войну?! «Всю белую сволоту угробили, а теперь не нужны… загребли головешки нашими лапами»[1134]. Негодование столь велико, что даже поступает предложение организовать новую партию, которая будет избавлена от элементов, озабоченных личным обогащением. Однако, в конце концов верх берет другая точка зрения: не создавать еще одну партию, а вычищать свою, куда уже вступили[1135]. Большевики предстают на страницах романа весьма жесткими людьми.
Вот их типичные заявления: «борьба исключает чувство жалости, в борьбе не может быть любви к тому, с кем борешься»; «снисхождение – черта целиком буржуазная, господская»[1136]. Книга изобилует антиинтеллигентскими выпадами. Кроме того (и это весьма примечательно), автор указывает, из какой религиозной среды происходят герои книги. Так, один из коммунистов, выдавая дочь замуж, благословляет молодых иконой с изображением Ленина, чем очень гордится («ведь я – Лениным благословил»). Иногда большевики, упоминая Господа Бога, говорят «Исусе Христе» – по староверческой традиции, очевидно, очень им близкой[1137]. В тексте не найти какого-либо присутствия инородцев; более того, хорошо ощущается бесперспективность их возможного руководительства.
Подобные описания содержатся во многие литературных произведениях того времени. Они помогают уяснить важный момент: у значительной части народа величие родины ассоциировалось с избавлением ее от крепких собственников. Причем выдвигавшие эту идею русские люди действовали не под влиянием марксистской пропаганды, а в согласии с привычными для них принципами беспоповского староверия. Выходцы из этой среды, ставшие большевиками, в значительной степени сохраняли прежнюю ментальность и даже остатки внешней религиозности. С их появлением в правящей партии староверческие представления – хоть и упакованные уже по-новому, становились серьезным фактором государственно-общественной жизни.
Идейно-психологическая (а не религиозная) составляющая староверческой матрицы с середины 1920-х годов становится питательной почвой для партии. Повторим, немногие осознавали, что для этих русских людей возрождение великой России означало утверждение близких им смыслов, а не реанимацию прежних, поколебленных революцией. Справедливости ради нужно отметить, что неоднозначность руководства «правых» отмечали также некоторые внимательные современники. Так, в ходе диспута о сменовеховстве, прошедшего в Петрограде в конце 1921 года, проф. С. А. Андрианов отмечал, что мечта о новом социальном взрыве в условиях НЭПа не снимается с повестки дня. «Пусть теперь сорвалось, сорвется еще раз, но порыв не угаснет»[1138]. Причем подразумевалась не марксистская вера русского народа: «в результате мы получим новую идеологию, быть может, новую религию». Под ее знаменем русский народ пойдет на борьбу и займет свое почетное место[1139]. А известный сторонник сближения с большевизмом И. Лежнев, пропагандируя образ великой России, рассуждал о двух оттенках патриотизма. Иллюстрируя свою мысль, он вспоминал одну московскую демонстрацию 1923 года. Колонны двигались под двумя лозунгами: на транспарантах образованных служащих было написано «России не быть в кабале у Англии», а у пролетариев – «Долой Керзона и всю лордовскую сволочь». По мнению Лежнева, в первом преобладает национальная нота, во втором же – социальная. Разница несомненна, но они взаимно дополняют друг друга; в этом проявляется их неразрывная связь и неповторимое историческое своеобразие нашего времени[1140].
Эти наблюдения отражали интуитивный уровень понимания русского национализма. Сталин же подошел к нему прагматически. В 1928 году он уже прекрасно понимал, как будет развиваться ситуация в ВКП(б) и стране. Изменение внутрипартийной обстановки мешало осуществлению замыслов «правых» относительно буржуазного возрождения России; а новые пролетарские силы, запущенные в партию для подкрепления этого проекта, не скрывали желания примерить на себя роль его могильщика. И Сталин решил встать во главе этих новых сил, убедив своих сторонников в том, что перспектива – здесь, а совсем не в правой политике. Вполне допускаем: прежде Сталин и не подозревал о подобных настроениях в русском народе, поскольку в силу жизненных обстоятельств смотрел на него сквозь призму никонианства. Однако, столкновение с реальностью определило его стратегический выбор: предстать в качестве поборника великой России, свободной от частнокапиталистических прелестей. И с 1928 года Сталин последовательно выступает против инициатив группы Бухарина-Рыкова. Так, он ставит под сомнение курс на частного крестьянского производителя: хотя задействованы 95 % довоенных посевных земель, товарный выход едва превышает половину довоенной нормы[1141]. Следовательно, отсталость обусловлена распыленностью мелких хозяйств, ее преодоление требует крупного сельскохозяйственного производства, организованного на базе коллективной собственности. Сталину вторил М. И. Калинин: «Мы еще не вышли из скорлупы буржуазного общества. Сейчас мы только стремимся из нее выбраться. Мы только делаем первые шаги в этом направлении»[1142].
Столь же резко выступал Сталин и против планов Рыкова привлекать в промышленность иностранный капитал, делая ему значительные уступки[1143]. Любопытный факт: Рыков попытался решить проблему уплаты старых долгов, которые служили основным препятствием для налаживания делового сотрудничества с Западом. И договор, заключенный между американской фирмой «Дженерал электрик» и советским «Амторгом», впервые содержал пункт о выплате компании суммы за конфискованную собственность, принадлежавшую ей до революции[1144]. Фактически стоимость контракта сознательно завышалась, чтобы компенсировать таким образом старые долги. «Правда» торжествовала, заявляя не много немало о прорыве кредитной блокады. Флагман американского бизнеса признал советское правительство, заключив договор о предоставлении кредита «Амторгу» сроком на пять лет в размере 26 млн. долларов (52 млн. рублей). Причем «Дженерал электрик» заверяла, что по исполнении соглашения будет считать аннулированными все претензии относительно своего имущества в дореволюционной России[1145].
В газетах всего мира появились сообщения о желании большевиков урегулировать долговые обязательства[1146]. Однако, ничему из этого не суждено было сбыться. Сталин действует, исходя из аксиомы: реализация любых инициатив «правых» создает условия для восстановления капитализма. Он неустанно рассуждает о корнях капитализма, которые гнездятся и в городе, и в деревне. «Бывает, что срубили дерево, а корней не выкорчевали: не хватило сил»[1147].
Теперь же сил должно было хватить. Сталин демонстрировал всяческое расположение к новым партийцам:
«Мы – партия рабочего класса. Наша партия была партией пролетариата, она партией пролетариата и останется»[1148].
Сталин был так увлечен выдвижением кадров, вышедших из русских рабочих низов, что некоторые оппозиционеры даже прогнозировали появление нового политбюро ЦК, сформированного из рабочих-металлистов в составе Ворошилова, Калинина, Рудзутака, Комарова, Лобова, Постышева, Шверника и т. д.[1149] Для коммунистов подобного происхождения ВКП(б) превращалась в социальный лифт, открывавший большие карьерные горизонты. В свою очередь, эти люди были кровно «заинтересованы в том, чтобы благодетель продолжал быть на вершине»[1150]. Так что коммунистическую партию начала 30-х «по традиции, уже устарелой, продолжают считать еврейской»[1151]. Хотя для нас важно другое: этот давно установленный в литературе факт никак не увязывался с важной для нас конфессиональной стороной, что представляется весьма перспективным. Сподвижник Сталина Павел Постышев (1889–1939) начинал на прядильно-ткацкой фабрике Гарелина в Иваново-Вознесенске, где трудились и его родители-старообрядцы. Постышев, рано сошедшийся с большевиками, успел поучаствовать в знаменитой Иваново– Вознесенской стачке 1905 года и был выслан на поселение в Иркутскую губернию; после 1917 года продолжил революционную деятельность на Дальнем Востоке. Затем его перебрасывают на Украину: с 1923 по 1930 годы он занимает посты заведующего отделом, секретаря Киевского губкома, секретаря республиканского ЦК. С 1925 года он сначала кандидат в ЦК ВКП(б), а с 1928-го – полноправный член Центрального комитета. Постышев активно поддерживает Сталина в борьбе против оппозиций и уклонов, и тот переводит его в Москву секретарем ЦК ВКП(б), затем, в 1933-м, вновь направляет на Украину, но с оставлением в прежней должности, и даже вводит в состав Политбюро. Так Постышев фактически становится главным человеком в этой важнейшей республике. Его биография – образец карьеры провинциального партработника из рабочих, поддержавшего Сталина. Кстати, именно с Постышевым связывают возвращение в советский обиход новогодней елки: он рассматривал это как исконно русскую традицию, символ связи со старинными временами (даже попы использовали елку в интересах своей церкви)[1152].
В 1930-х годах Сталин способствовал также выдвижению двух деятелей, сыгравших зловещую роль в советской истории – Н. Ежова и Е. Евдокимова. Их биографии хорошо известны, но мы в свете нашего исследования попытаемся прочитать их по-новому. Ефим Евдокимов (1891–1940) – уроженец Пермской губернии; отец – сцепщик вагонов на железной дороге, мать – прислуга у купца-старообрядца из города Копал. Евдокимов рано втянулся в революционную деятельность; за сопротивление властям получил 4 года каторги, в связи с несовершеннолетием замененную тюрьмой. Затем был выслан в Камышлов – купеческий городок (торгующий хлебом) с весомым для Урала старообрядческим присутствием. С места ссылки Евдокимов скрылся, связавшись, как считается в литературе, с анархистами. Однако, более правдоподобной выглядит версия о примыкании его к радикальному согласию бегунов– странников, чьи позиции на Урале были традиционно сильны. Этим можно объяснить тот факт, что с 1911 по 1917 год Евдокимов побывал в огромном количестве регионов страны – от Дальнего Востока до Москвы; Февральскую революцию он встретил в Баку. Причем все это время он находился фактически на нелегальном положении, что позволило ему благополучно уклоняться от призыва на воинскую службу. Не в пользу анархизма говорит и то, что это течение аккумулировало принципиальных противников государственной власти, Евдокимов же сразу после революции связывает свою жизнь с большевиками и не жалеет сил для укрепления советского государства. На этом поприще он достигает больших успехов, с усердием «очищая» Крым, Украину, Северный Кавказ от остатков белогвардейщины. С 1923 года Евдокимов – полномочный представитель ОГПУ по Северо-Кавказскому краю, инициатор «Шахтинского дела» (за него он получил четвертый орден Боевого Красного знамени). Постепенно Евдокимов стал опорой Сталина в спецслужбах и был переведен в центральный аппарат ОГПУ, составив там конкуренцию Ягоде[1153]. С 1934 года он становится первым секретарем огромного Северо-Кавказского крайкома партии и членом ЦК ВКП(б). К этому времени складываются его тесные отношения с Ежовым, который возглавил чекистский аппарат вместо Ягоды и часто пользовался кадровыми советами Евдокимова. Закончил Евдокимов свой путь в должности заместителя наркома водного транспорта (наркомом же был назначен – незадолго до своего ареста – Ежов).
О самом Ежове сказано более чем достаточно, хотя ни о его происхождении, ни о его жизни вплоть до Гражданской войны так ничего и неизвестно. Исследователи или прямо указывают, что сведения о семье и ранних годах Ежова отсутствуют[1154], или пытаются сконструировать что-то более-менее приемлемое[1155]. Ежов упоминал о работе на Путиловском заводе, но документальных подтверждений этому не существует. Доподлинно известен другой факт: с сентября 1918 по март 1919 года он находился на стекольном заводе купца Болотина в Вышнем Волочке Тверской губернии, причем большинство рабочих там составляли староверы (и сам Болотин тоже был старовером). Оттуда Ежова – к тому времени уже ставшего коммунистом – призвали в ряды Красной армии. По нашему мнению, о «раннем» Ежове и не могло быть никаких сведений, поскольку он был выходцем из бегунского согласия. Вообще люди «без биографии» не редкость среди большевиков из низов; впечатляет, что этот биографический провал не помешал Ежову успешно продвигаться по карьерной лестнице и уже в конце 1920-х годов благополучно освоиться на общесоюзном уровне. Представить такое в более поздние времена невозможно. В итоге Ежов попал в важнейшую структуру центрального партийного аппарата – Орграспредотдел, ведавший учетом и распределением кадров. Эмигрантский журнал «Социалистический вестник» в 1933 году упомянул его среди сталинских фаворитов, особо отметив его злобное отношение к интеллигенции вообще и партийной в частности[1156]. Через год Ежов станет председателем КПК и членом ЦК ВКП(б), а затем и Политбюро. Его роль в организации «большого террора» хорошо известна.
Появление на вершине власти людей подобных Постышеву, Евдокимову и Ежову стало характерной чертой тридцатых. Они были новичками на большевистском Олимпе, но не в самой партии – их стаж составлял пятнадцать и более лет. Теперь же они стали вровень с такими представителями старой гвардии, как члены ЦК ВКП(б) Р. И. Эйхе, М. М. Хатаевич, ГН. Каминский, С. В. Косиор, Д. А. Конторин, И. М. Варейскис, И. А. Пятницкий, И. Ф. Корецкий и др. По мере усиления в политической практике национальных мотивов перечисленные деятели испытывали определенный дискомфорт. Их начали теснить сталинские выдвиженцы с русской пролетарской закваской, вступившие в партию еще до «Ленинского призыва» середины 1920-х годов. На довоенных партийных форумах (до XVIII съезда), подавляющее большинство делегатов (около 80 %) вступили в партию до 1920 года; фактически это были съезды старой ленинской гвардии[1157]. Однако, состав делегатов внутри этой категории партийцев заметно менялся. Так, на XV съезде (1927) почти половина его участников были избраны на форум впервые[1158]. А на XVI съезде отмечалось, что «обновление состава съезда шло за счет выдвижения старых членов партии, раньше не бывавших на съездах»[1159]. Следовательно, тех, кто поддерживал оппозиции и уклоны, сменяли другие коммунисты, но из той же кадровой прослойки. Добавим: Центральный комитет партии той поры практически полностью комплектовался из коммунистов с партстажем до 1920 года (причем 2/3 с дореволюционным стажем)[1160].
Конечно, в этой ситуации неизбежно возникал вопрос о том, кто в будущем заменит старые кадры. Считалось, что смена растет в комсомоле (этому посвящена глава). С 1922 года, то есть после разгрома «рабочей оппозиции», в партии проявляют повышенное внимание к молодежи, стараясь использовать ее в своих интересах. Комсомольские функционеры образовывали группировки в зависимости от того, под чьим большевистским крылом они оказывались. Во второй половине 1920-х годов в верхах ВЛКСМ ощущалось влияние Бухарина; его падение привело к перегруппировке молодежных сил уже под контролем Сталина, который сделал ставку на А. В. Косарева. Этот выходец из московской беспоповщины полностью соответствовал сталинским устремлениям того периода. Соратники Косарева не многим отличались от него: из индустриальных центров России, рабочих семей, трудиться они начинали на крупных промышленных предприятиях; и все отличались ненавистью к интеллигенции и церкви, нетерпимостью к инакомыслию, равнодушием к проблемам мировой революции. Сталин рассматривал эти молодые кадры в качестве стратегического резерва. Положение Косарева и его окружения в общей номенклатурной системе СССР выглядело весьма перспективно: ближайшие сталинские сподвижники по политбюро ЦК демонстрировали подчеркнутую расположенность к комсомольским вожакам.
Однако, «большой террор» перечеркнул этот сценарий. За 1937–1938 годы практически все члены косаревской группы были репрессированы. Этому эпизоду советской истории обычно не уделяется серьезного внимания, однако он помогает понять, что же произошло с партией и страной в те трагические годы. Почему Сталин пошел на уничтожение тех, кого с начала тридцатых рекомендовал как будущую смену? Традиционна точка зрения, будто Косарев проявил строптивость и выступил против расправы над своими людьми в комсомоле, пытаясь защитить их перед силовыми органами. И действительно, официальное обвинение руководства ЦК ВЛКСМ строилось на укрывательстве «врагов народа». К тому же Сталина беспокоила сплоченность косаревской группы: за годы лидерства в комсомоле тот стал признанным лидером организации, сформировал серьезный костяк преданных ему людей. Перемещение их на большевистский Олимп означало появление там мощного клана с устойчивыми связями и общностью интересов. Это вряд ли могло входить в планы осторожного вождя. Но, на наш взгляд, главная причина кроется в другом: форсированная индустриализация, стартовавшая с 1930-х годов, коренным образом изменила страну. Управление экономикой несоизмеримо усложнялось, руководить разросшимся хозяйством могли лишь люди, обладающие необходимой профессиональной подготовкой и навыками. Старая интеллигенция в расчет не принималась: она, конечно, желала и могла поднимать страну – но лишь в соответствии со своими традиционными представлениями, то есть на основе частной собственности и освящавшей ее духовности. Сталин же ориентировался на тех, кто понимал национальное возрождение как создание «царства справедливости», на людей с иной мотивацией.
К середине 1930-х годов стало очевидно, что старая гвардия при всех своих революционных заслугах не в состоянии справиться с масштабами реконструируемой экономики. Большевистская элита состояла из литераторов и публицистов, способных произносить речи по любому поводу, но не обладавших серьезными профессиональными знаниями; специалисты с конкретным управленческим опытом были в ней редкостью[1161]. После устранения троцкистско-зиновьевского блока и бухаринско-рыковского уклона уровень номенклатурных работников еще более понизился; главным действующим лицом теперь стал малообразованный функционер все с тем же богатым революционным прошлым. Но и вновь выдвигаемые партийцы с пролетарскими корнями – при отсутствии профессиональной компетенции – не могли «оседлать» сложные производственные реалии[1162]. Более того, все сказанное в полной мере относилось и к тем, кто считался сменой старой гвардии. Хотя комсомольские руководители были моложе партийной элиты (большинство «косаревцев» 1902–1908 годов рождения), их образовательный уровень тоже оставлял желать лучшего: несколько классов начальных учебных заведений царской России, а затем работа на комсомольской ниве. Сталин осознал профнепригодность этой «молодежи» для грандиозного хозяйственного строительства: экономике требовались специалисты, а не пропагандисты широкого профиля.
Оборотной стороной политики «большого террора» стало масштабное обновление партийно-государственной элиты СССР, чему посвящено громадное количество литературы, как у нас, так и за рубежом. В историографии устоялось мнение, что это обновление означало устранение старой большевистской гвардии в пользу новых сталинских выдвиженцев. Так, среди участников XVIII съезда партии (1939) делегатов со стажем до 1920 года оказалось всего 20 %. Зато коммунистов Ленинских призывов (1924–1928) – 45,3 %, а вступивших еще позднее – 30,6 %; то есть в общей сложности 76 % партийцев представляли новое поколение[1163]. Особенно поражают изменения в составе Центрального комитета: на XVllI съезде (по сравнению с XVII и при той же примерно общей численности) сменилось не менее 115 из 139 его членов[1164]. Причем эти сдвиги знаменовали кадровую стабилизацию: из нового состава ЦК при жизни Сталина выбыло лишь 11 человек, или 7 %.[1165]
На авансцену вышла совсем другая партия, где первые роли играли 35-летние технократы[1166]. В отчетном докладе ЦК XVIII съезду ВКП(б) Сталин выражал удовлетворение тем, что отныне «молодые кадры составляют громадное большинство», так как они «в избытке обладают чувством нового»[1167]. На них делалась основная ставка в набирающем небывалые темпы хозяйственном строительстве. Это обусловило реорганизацию партийного аппарата, ликвидацию в нем производственно-отраслевых отделов. Как заявил А. А. Жданов, они «не знают, чем им, собственно, надо заниматься, допускают подмену хозорганов, конкурируют с ними, а это порождает обезличку и безответственность в работе»[1168]. Теперь центром управления экономикой становится не партия, а правительство, состоящее из профессиональных управленцев. (Не случайно перед войной пост главы Совнаркома занял сам Сталин.) Если с 1929 и вплоть до 1938 года пленумы ЦК проводились по два-четыре раза в год, то в 1939–1953 годах состоялось только одиннадцать пленумов, а в некоторые годы (1942–1943, 1945, 1948, 1950–1951) их не было вообще[1169].
К концу «большого террора» изменился не просто партийный состав; под вывеской ВКП(б) оказалась партия, которую можно без натяжки назвать подлинно русской. И неудивительно: перемены в ней происходили под аккомпанемент небывалого возвеличивания «русского народа, как старшего брата, как самого передового в мире». В новой партийно-государственной верхушке резко сократилось присутствие инородцев. Например, евреев теперь можно было, что называется, сосчитать по пальцам: Б. Л. Ванников, С. М. Гинзбург, еще, конечно, Л. М. Каганович – член Политбюро, нарком транспорта (хотя, как тогда говорили, «евреи его не любили», то есть не признавали за своего[1170]). Попадались представители армян: тот же А. И. Микоян, известный металлург И. Ф. Тевосян, А. М. Петросьянц – замнаркома тяжелого машиностроения. В сталинской номенклатуре практически отсутствуют этнические украинцы (исключение – нарком судостроительной промышленности И. С. Носенко[1171]).
Сформированные по окончании «большого террора» Центральный комитет и Совнарком сегодня основательно изучены. Но в контексте данной работы мы попытаемся посмотреть на них с конфессиональной стороны, чего ранее никогда не делалось. Тщательное знакомство с биографиями новой номенклатуры позволяет утверждать: большинство сталинских выдвиженцев являлись не просто этническими русскими, а выходцами из старообрядческой среды. Кропотливая работа по выявлению корней новой большевистской элиты еще впереди, пока же мы лишь наметим ее контуры.
Биография Георгия Маленкова, известного советского деятеля, взошедшего на большевистский Олимп на волне репрессий, необычайно интересна. Его предки по отцовской линии приехали в Россию из Македониии, осели в Оренбуржье; за военную службу получили российское дворянство.
Отец Маленкова служил по железнодорожному ведомству[1172]. Казалось бы, ни о каком староверии здесь говорить не приходится, однако судьба делает неожиданный поворот: родитель одного из будущих руководителей партии и государства женится на оренбургской мещанке Анастасии Шемякиной, дочери кузнеца. Родственники жениха выступили против этого брака, и тот порвал с ними всяческие отношения[1173]. Конфликт произошел именно потому, что Шемякины были староверами: «их род уходил корнями в мятежное племя стрельцов, сосланных под Астрахань еще Петром I, а затем и вовсе рассеянных по Оренбуржью Екатериной II после подавления Пугачевского бунта»[1174]. Венчания не было: Шемякина церковь не посещала, хотя и относила себя к верующим и всегда держала дома икону[1175]. Отец Маленкова умер, когда сыну было три года, и его воспитывали Шемякины – мать и дед, оба отличавшиеся властным и стойким характером. Маленков был назван Георгием в честь деда, а его революционные симпатии, проявившиеся довольно рано, объясняли мятежным духом последнего. Тем не менее, дворянство покойного отца помогло Маленкову попасть в гимназию, где он стал одним из лучших учеников. Женитьба на Валерии Голубцовой из семьи с богатыми революционными традициями открыла ему дорогу в партаппарат. Кроме того, он получил образование в Высшем техническом училище им. Баумана. В процессе борьбы со сторонниками Бухарина молодого человека заметил Сталин[1176]. Вознесенный на вершину власти, Маленков с 1939 года становится лидером «староверческой партии» в руководстве страны.
Вождь стремился окружать себя не просто молодыми и образованными, но упорными и энергичными кадрами; такими качествами в силу ментальных особенностей обладали прежде всего выходцы из староверия. Постепенно продвигаясь по службе, они приобретали необходимую компетенцию и реальный управленческий опыт. Типичным представителем этой когорты был нарком финансов СССР Арсений Зверев (1900–1969), уроженец Клинского уезда Московской губернии, откуда черпали рабочую силу многочисленные мануфактуры Центрального региона. Трудовой путь он начал подростком на Высоковской текстильной фабрике; там же работали его родители и почти вся родня. Подавляющее большинство в этом четырехтысячном коллективе составляли приверженцы федосеевского согласия. Зверев вспоминал, что его отец «чуть ли не в глаза смеялся над лицами духовного сословия», которых в этой среде называли не иначе, как «жеребячьей породой»[1177]. До 1918 года Зверев успел поработать и в Москве, на знаменитой Трехгорной мануфактуре, куда устроился через своих земляков-единоверцев. После возвращения с Гражданской войны он занимал различные должности по финансовой части: был заведующим финотделом Клинского уездного совета, финуправлением исполкома совета Смоленской, Брянской областей, ряда райсоветов Москвы; окончил Московский финансово-экономический институт. В результате Зверев стал сначала заместителем наркома финансов, а с января 1938-го возглавил наркомат. В качестве наркома, а затем министра финансов СССР пользовался большим авторитетом в правительстве[1178].
Николай Булганин (1895–1975) был потомственным нижегородским старовером. К старообрядчеству принадлежал его прадед; затем семья в середине XIX века, спасаясь от гонений, перешла в единоверие. Но уже отец Булганина, мещанин города Семенова, относится к беглопоповцам и служит приказчиком у купца Н. А. Бугрова – покровителя этого согласия. Кстати, число, месяц и год рождения Булганина были неясны из-за путаницы в метриках, и только усилиями местных краеведов удалось установить точную дату. Булганин трудился в электротехнической отрасли, где прошел путь от ученика электротехника до директора московского завода «МЭЛЗ». С 1931 по 1937 год он – председатель Моссовета, а затем выдвигается председателем СНК РСФСР. С сентября 1938 – заместитель СНК СССР.
Еще один нижегородец, вошедший в правительство перед войной в качестве наркома тяжелого машиностроения – Николай Казаков (1900–1970); тоже выходец из местного староверия, с той же путаницей в дате рождения. Казаков родился в семье рабочего, трудиться начал на Нижегородском заводе «Красное Сормово». Учился в Ленинградском индустриальном институте; на производстве прошел все ступеньки до поста директора Ижорского завода, после чего был назначен наркомом тяжелого машиностроения СССР.
Схожий путь прошел сталинский нарком Дмитрий Устинов (1908–1984). Его родители жили в селе Мокша Самарской губернии, типичном для тех краев местечке, населенном беспоповцами. И путь отца Устинова был также типичным для той среды – на один из заводов в Самаре. Как вспоминал позже нарком, труд выступал для его родителя мерилом справедливости, чести и благополучия; эти уроки сын усвоил на всю жизнь[1179]. Устинов работал в Иваново-Вознесенске; его женой стала Таисия Брыкалова – потомственная ткачиха с окраины города Шуи (традиционно старообрядческого места)[1180]. Учился он в Ивановском политехническом институте и в Ленинградском военно-механическом. Устинов был назначен директором завода «Большевик» (бывший Обуховский) и затем – в 33-летнем возрасте – наркомом вооружений СССР.
Деятели с подобными биографиями преобладали в сталинском призыве. М. Г. Первухин (1904–1978) из поселка Юрюзанского завода Уфимской губернии родился в единоверческой семье кузнеца. Он стал наркомом электростанций и электропромышленности СССР, заместителем Сталина по СНК СССР. М. З. Сабуров (1900–1977) – из семьи потомственного пролетария Екатеринославской губернии. Пройдя большой производственный путь, перед войной утвержден главой Госплана СССР, заместителем председателя СНК СССР. И. А. Бенедиктов (1902–1983) из старообрядческого фабричного поселка Новая Вичуга Костромской губернии, рабочий Вичугской текстильной фабрики окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, был агрономом, возглавлял совхозы; с 1938 года – нарком земледелия СССР.
Уроженцами Соликамского уезда Пермской губернии были И. Г. Кабанов (1898–1972) и И. И. Малышев (1904–1973). Их родные поселки Усолье и Майкор располагались в центре часовенного старообрядческого согласия на Урале. Оба из рабочих семей, оба прошли хорошую заводскую школу; Кабанов перед войной стал наркомом пищевой промышленности СССР, а Малышев возглавил геологическую отрасль страны. А. П. Завенягин (1901–1956) родился в семье паровозного мастера из Тульской губернии. Семья отличалась патриархальностью; деда Завенягина за благообразный вид и знание Священного писания часто сравнивали с протопопом Аввакумом, что весьма характерно[1181]. По окончании Горной академии Завенягин был директором ряда предприятий, в том числе знаменитой Магнитки и Норильского горно-металлургического комбината. Назначен первым заместителем наркома тяжелой промышленности СССР.
К группе выходцев из староверия, занявших ключевые посты в советской экономике, примыкали и те, кто не был старовером по рождению, но имел схожие жизненные предпочтения. Таков, например, В. А. Малышев (1902–1957) из Усть-Сысольска Вологодской губернии (ныне Сыктывкар). Усть-Сысольск считался центром староверия в этом крае, однако отец Малышева был учителем, а затем библиотекарем в Великих Луках, то есть разночинцем. Он постоянно вступал в споры со священниками, но при этом с огромным уважением относился к родной истории и отличался искренней духовностью. Он передал детям презрение к мещанам и нэпманскому духу[1182]. Малышев работал помощником машиниста на железной дороге, окончил МВТУ им. Баумана; «одевался очень бедно, видимо, лишь изредка вспоминая об этом, как и отец»[1183]. Прошел все управленческие ступеньки до директора Коломенского паровозостроительного завода. С 1940 года – заместитель Сталина по СНК СССР, нарком танковой промышленности, транспортного машиностроения.
Говоря о плеяде советских руководителей, выдвинутых Сталиным, уместно вспомнить «рабочую оппозицию» 1920–1922 годов, стремившуюся взять бразды хозяйственного управления в свои руки. Эти претензии выглядели, мягко говоря, несерьезными: оппозиционеры не обладали ни необходимыми знаниями, ни компетенцией. Сталин понимал, что их порывы не только бесперспективны, но и чреваты негативными последствиями для экономики. Однако, к 1939 году он фактически реализовал то, о чем грезило предыдущее пролетарское поколение. Теперь руководство экономической жизнью переходило в руки тех деятелей, которые, тоже выйдя из недр рабочего класса, получили образование и поднялись по управленческой вертикали. Эти технократы были способны не просто руководить предприятиями, но и преображать их в соответствии с требованиями времени. Важно и еще одно обстоятельство: новые сталинские выдвиженцы были русскими. Об этом в первую очередь свидетельствует их конфессиональное происхождение: к староверческой среде по рождению могли принадлежать только этнические русские.
Но вот что удивительно: сегодня не признается именно «русскость» этих видных организаторов советской индустрии. И дело не в том, что никто и никогда не учитывал их староверческое происхождение. Дело в том, что современная историография настойчиво выставляет их ненавистниками всего русского. Получается, что сталинские выдвиженцы во главе с Маленковым, имеющие староверческие (то есть самые что ни на есть русские) корни, боролись против национального проекта. А этот национальный проект продвигала так называемая «ленинградская группа»[1184]. Чтобы доказать абсурдность данной идеи, проведем небольшую конфессиональную экспертизу.
Этот клан в партийно-советской номенклатуре также начал формироваться сразу по завершении «Большого террора». Его лидером стал Андрей Жданов – также один из новых сталинских фаворитов. Напомним, его отец окончил духовную семинарию, преподавал в Московской духовной академии; мать была дочерью П. И. Горского – ректора этого учебного заведения (то есть А. А. Жданов – внук известного главы МДА). Известно, что этот большевистский деятель любил шутить по поводу своего церковного происхождения: «пол-Синода – Горские»[1185]. И действительно, практически все многочисленные представители этой семьи занимали разные должности в администрации РПЦ. Находясь на высоком посту секретаря ЦК ВКП(б), Жданов проявлял благосклонность к церкви, готовил торжества в честь 500-летия автокефалии РПЦ в 1948 году[1186]. В свете всего сказанного конфессиональное происхождение Жданова не вызывает сомнений. Другие члены «ленинградской группы» в подавляющем большинстве по рождению также являлись никонианами. (Да и никакими ленинградцами они – за редким исключением – не были, так что данное название достаточно условно.)
Ближайший соратник Жданова – Алексей Кузнецов (19021950) был родом из города Боровичи Новгородской губернии. По данным местных краеведов, этот район абсолютно никонианский, присутствия староверов здесь никогда не отмечалось. Кузнецов начинал на небольшой лесопилке, к крупным индустриальным центрам никакого отношения не имел. В аппарате ЦК Жданов пытался «подсаживать» его под Маленкова, соперничество с которым нарастало. А. Н. Косыгин (1909–1980) родился в Ленинграде, от староверия был далек. В годы НЭПа посвятил себя потребкооперации; стал членом правления Ленского союза потребительской кооперации в Иркутской области; увлеченно намывал золото. Однако вовремя сориентировался и, бросив предпринимательскую стезю, поспешил в родной город. Окончил текстильный институт и окунулся в производство, верно угадав будущее. Возглавлял текстильные фабрики Питера, в 1939 году назначен наркомом текстильной промышленности СССР.
Н. А. Вознесенский (1903–1950) из никонианского села Тульской губернии; отец – служащий лесной конторы. Вознесенский начинал отнюдь не на промышленном предприятии, а в тульском комсомоле, потом оказался на руководящей работе в Ленинграде, затем в СНК СССР.
Председатель Ленгорисполкома П. Г. Лазутин (1905–1950) – уроженец Акмолинской губернии (Казахстан). Тоже, миновав индустрию, начинал с комсомола, работал в Казахских наркоматах народного просвещения, труда. В Ленинград переехал в 1937 году. Его заместителем по Ленгорисполкому был А. И. Бурилин (1901–1950) из крестьян Калужской губернии; труженик коммунального хозяйства, карьеру начал в этой отрасли.
П. С. Попоков (1903–1950) родился под Владимиром, но на производство не пошел. Поработав столяром, закончил в Ленинграде институт инженеров коммунального хозяйства, где стал секретарем парткома; первый секретарь обкома и горкома.
К «ленинградской группе» относят также М. И. Родионова (1907–1950) – протеже Жданова из Горьковской области. Он родился в старообрядческом Макарьевском уезде, но, по информации нижегородских архивистов, его родное село Растутино не старообрядческое (даже с учетом того, что староверы числились обычными православными, как во многих других случаях). Родионов дорос до первого секретаря Горьковского обкома, а затем возглавил СНК РСФСР. Его замом по Совнаркому, председателем Госплана РСФСР был М. В. Басов (1902–1950) из крестьян Новгородской губернии; работал секретарем Ленинградского горкома. Среди изученных представителей «ленинградской группы» лишь Я. Ф. Капустин (1904–1950) из села Тверской губернии имеет индустриальную биографию. Достаточно долго трудился слесарем на заводе «Красный путиловец», Кировском заводе. Затем стал секретарем Кировского РК ВКП(б), секретарем, вторым секретарем Ленинградского горкома. Капустин мог иметь староверческие корни, но мы не стали наводить по нему справки, поскольку в этой группе он и без того стоит особняком. В любом случае это нисколько не меняет общую картину.
Таким образом, «ленинградцы» во власти – это группа выходцев из никонианской среды. Знаменательно, что противостояние в большевистских верхах разворачивается между ними и так называемой «староверческой партией», возглавляемой Г. М. Маленковым. После устранения инородческого фактора именно это противостояние определяет политический расклад. Удивительная запрограммированность отечественной истории: соперничество двух ветвей православия воспроизвелось уже вне религиозного контекста, в совершенно другой идеологической проекции! Под этим знаком прошло целое десятилетие, с 1939 по 1949 год. Борьба шла с переменным успехом, поскольку Сталин благоволил то к одним, то к другим.
В 1946 году удача оказалась на стороне «ленинградцев»: они смогли добиться ущемления Маленкова. В мае 1946-го он лишился поста секретаря ЦК и был выведен из состава секретариата Центрального Комитета. На него, как куратора авиационной промышленности, возлагалась ответственность за недоработки в отрасли (выпуск и приемка недоброкачественных самолетов). Жданов становится практически первым заместителем Сталина. Наряду с вождем он подписывает совместные постановления ЦК и Совета министров, возглавляет все мыслимые и немыслимые комиссии и комитеты. Как отмечал позже Молотов, «Сталин Жданова больше всех ценил»[1187]. Масштабным делом «ленинградской группы» явилась подготовка новой программы ВКП(б). Ее отличала социальная ориентированность; среди задач назывались усиление отраслей, производящих предметы народного потребления (особое внимание уделялось массовому производству автомобилей), ликвидация жилищной нужды (каждому трудящемуся – отдельную комнату)[1188]. Развивались идеи перерастания диктатуры пролетариата в общенародное государство. Не был обойден и принцип выборности руководителей, который обсуждался еще в преддверии принятия Конституции 1936 года[1189]. Программу предполагалось принять на XIX съезде, в начале 1948 года. Однако маятник качнулся в другую сторону. С июля 1948 года Маленков после опроса членов ЦК ВКП(б) возвращается в секретариат и вновь избирается секретарем ЦК, а Жданов, напротив, отправляется в вынужденный отпуск сроком на два месяца (из отпуска он уже не возвратился, скончавшись на Валдае). Маленков и его сторонники стремительно восстанавливают свое положение и начинают давление на членов обезглавленной группы. Однако, в начале 1949 года и они были смещены с важных постов и вскоре арестованы. Расправа над ними стала трагической страницей советской послевоенной истории.
Сегодня симпатии исследователей целиком на стороне «ленинградской группы». Считается, что она питалась «соками робко возрождавшегося после войны российского самосознания и, так безжалостно обрубленная с древа национальной государственности, могла бы в перспективе стать для страны весьма плодоносной»[1190]. Перед нами все тот же стереотип: пробивавшим себе дорогу русским силам противостоят некие антирусские силы из окружения вождя. Мол, теперь, после войны они нанесли непоправимый удар по национальным кадрам[1191]. И кто же выиграл от этой развязки? Да те якобы «антирусские» элементы, кто в первую очередь олицетворял индустриальное могущество СССР, кто, не жалея сил, укреплял обороноспособность страны. Укреплял потому, что она всегда оставалась для них и их предков – родиной. Заметим: внимание к староверческим корням важно не только с научной, но и с политической точки зрения: благодаря этому складывается, по сути, новое понимание того, откуда следует вести свою родословную современным патриотам России.
И далеко не случайно в послевоенных условиях, когда СССР приобрел статус «сверхдержавы», Сталин встал на сторону именно «староверческих кадров». Их индустриальнооборонная состоятельность оказалась более востребованной, чем пропаганда с агитацией, подготовка красивых программ, составление правильных планов и т. д. Кроме того, было бы несправедливо изображать лидеров «ленинградцев» невинными жертвами. Хорошо известно, сколько неприятностей доставил Жданов советской творческой интеллигенции, организуя целенаправленную травлю лучших ее представителей. Вознесенский отличался редкостным высокомерием, что отмечал даже Сталин[1192]. К тому же «ленинградцы» погрязли в семейственности: дочь Кузнецова вышла замуж за сына А. И. Микояна; жены Вознесенского и Косыгина состояли в родстве[1193]. Родной брат Вознесенского стал министром просвещения РСФСР. Сам Жданов двигал наверх брата своей жены А. С. Щербакова, ставшего в последствии ни много ни мало первым секретарем Московской парторганизации[1194]. Пристроил своего сына на руководящую должность в Отдел науки ЦК ВКП(б), под крыло Кузнецова[1195]. Выходцы из староверия демонстрировали в этом смысле гораздо большую сдержанность. Максимум, что можно у них выявить – это случаи бытового характера. Например, нарком Д. Ф. Устинов в апреле 1948 года требовал оставить старую квартиру, с которой он съезжал, за тещей, до этого все время проживавшей с ним[1196]. Что-то подсказывает, если деятели «ленинградской группы» вышли победителями и заполучили бы после смерти Сталина бразды правления страной, они развернулись во всю семейно-родственную прыть. Но эта миссия выпала не им, а другим кадрам, о которых и пойдет речь ниже.
Поражение «ленинградской группы» усилило «староверческую партию» во власти. Теперь правой рукой вождя становится Маленков; укрепляются Булганин, Первухин, Сабуров, Малышев и др.; фактически в их руках находится реальное управление всей экономикой страны. Реорганизация верхушки на XIX съезде партии, расширившей состав президиума ЦК, не поколебала их положения. Эти перемены были нацелены на постепенное вытеснение Молотова и Микояна, которых Сталин уже перестал воспринимать как соратников, а также одиозного Берии, в глубине души намеревавшегося «сорвать банк» и предстать в образе сталинского наследника[1197]. Как известно, смерть вождя способствовала восстановлению их положения (правда, Берии хватило ненадолго: через четыре месяца, к общему облегчению коллег по президиуму ЦК, его не стало). А через некоторое время прояснилась и главная интрига изменившейся обстановки в верхах: «староверческой партии» технократов, руководивших правительством СССР (после Сталина Маленков стал председателем Совмина), вызов бросили функционеры Центрального Комитета. Причем у партийного аппарата неожиданно появился свой вожак – Никита Хрущев, которому после дележа сталинского наследства достался пост первого секретаря ЦК КПСС. Тогда эта позиция не являлась ведущей. Партия была, как говорили, «не на хозяйстве»; реальные рычаги управления концентрировались в Совете Министров. Возглавив ЦК, Хрущев начинает активно оспаривать у Совмина право солировать в экономике, апеллируя к ленинским традициям, попранным Сталиным. Он неустанно повторяет: только партия должна быть центром принятия любых хозяйственных решений. Начавшиеся столкновения в верхах происходят именно на этой почве. Кроме того, Хрущеву удалось зафиксировать лидерство в рамках партийного аппарата, и здесь он опирается на одну из сильных парторганизаций – украинскую. В этой крупнейшей после РСФСР республике скопилось немало кадров, жаждущих попасть на вершину власти. Вообще-то, Хрущев не считался среди них признанным вожаком; в качестве руководителя он появился в этих краях только в 1938 году, в разгар борьбы с «врагами народа». В 1949-м его вновь отзывают в Москву, к тому же около четырех лет его украинской эпопеи фактически вычеркнула война. Однако пост первого секретаря ЦК позволял проявить себя, чем Хрущев и воспользовался. 19 февраля 1954 года он делает поистине царский жест: по его настойчивой инициативе в честь 300-летия присоединения Украины к России этой республике передается Крым. Восторг украинской элиты вообразить несложно. В итоге на Хрущева начинают ориентироваться местные кадры.
Подчеркнем, что позиции украинцев в большевистской элите были весьма слабы. Они не находились даже у руля республиканской компартии. ЦК КП(У) в 20-е возглавлял Л. М. Каганович, в 30-е поляк из рабочих С. В. Косиор, а «смотрящим» по республике был сталинский эмиссар из политбюро ЦК ВКП(б) П. П. Постышев – выходец из русской старообрядческой среды промышленного Иваново-Вознесенска. Да и на всесоюзном уровне коренные украинцы не могли похвастаться сколько-нибудь значимым присутствием. Пожалуй, наиболее видным представителем республики можно назвать наркома финансов СССР Гринько, репрессированного в 1937 году (до этого его подпись украшала советские купюры достоинством в 1,3 и 5 рублей), да быстро отставленного Тимошенко, промелькнувшего на посту министра обороны. После Великой Отечественной войны ситуация не многим изменилась. Сталин с известной подозрительностью относился к украинским кадрам. К примеру, его смущала та легкость, с которой немецко-фашистские войска овладели обширным регионом. Все указывало, что большинство местного населения скорее не ввязывалось в борьбу с захватчиками (очагом сопротивления стал все тот же Донбасс). К концу жизни Сталина в правительстве, насчитывающем свыше пятидесяти министров, украинцами являлись лишь шестеро.
Поскольку украинцы не пользовались большим спросом в правительственных структурах, то первый секретарь начинает пропихивать их куда только можно, особенно, разумеется, по партийной линии. Именно Хрущеву обязан карьерой незабвенный землемер Л. И. Брежнев, у которого до московского этапа жизни в паспорте красовалась запись «украинец». Хрущев, еще будучи «на республике», выдвигает этого подающего надежды деятеля первым секретарем Запорожского, а затем Днепропетровского обкомов партии. С 1950 года тот возглавляет Молдавскую парторганизацию и на XIX съезде ВКП(б) включается в расширенный президиум ЦК. Правда, после смерти Сталина Брежнева задвигают, и он даже просится обратно в родные пенаты – на Украину. Но Хрущев перебрасывает своего протеже в Казахстан, а вскоре переводит под свое крыло в Центральный Комитет, где сосредотачиваются преданные ему кадры. Хрущев способствовал также возвышению Н. В. Подгорного, А. И. Кириченко, А. П. Кириленко и др. Если поначалу все они циркулировали внутри украинской номенклатуры, то после 1953 года устремились за пределы республики. Например, Кириленко в 1955–1962 годах поработал на посту первого секретаря Свердловского обкома, привечая все тех же украинцев. Так, первым секретарем Нижнетагильского горкома, вторым секретарем Свердловского обкома при его поддержке становится уроженец Черниговщины В. И. Довгопол, приехавший до войны на Урал для учебы и маявшийся по различным предприятиям региона. А местного комсомольского функционера Ф. Т. Ермаша Кириленко подтягивает сначала в обком партии, а потом берет с собой в ЦК, и в итоге тот оказывается в кресле председателя комитета по кинематографии СССР. Пример с Кириленко довольно типичный: украинцы появляются во главе крупных парторганизаций, не имеющих никакого отношения к республике. Так, А. В. Коваленко из-под Полтавы после мытарств на родине оседает первым секретарем Белгородского, а затем Оренбургского обкома, а уроженец Харьковской губернии В. И. Контоп с 1956 года более чем на четверть века задерживается в руководстве Московской области (с 1963-го – первый секретарь). В Целиноградском обкоме Казахстана долгие годы работает В. П. Демиденко. Украинские кадры заполняют и центральные органы власти, причем с прицелом на дальнейшее повышение. К примеру, крестьянин из-под Киева П. С. Непорожный, в 1959 году перебравшийся в Москву с должности заместителя председателя Совмина Украины, сначала занимает пост первого заместителя союзного Министерства строительства электростанций, а спустя три года становится министром энергетики и электрификации. Взлетает и глава Госплана Украины в 1950–1952 годах В. Ф. Гарбузов; с 1953-го он уже в Москве в качестве первого заместителя министра финансов СССР, а с 1960-го – министр. Позаботился Хрущев и еще об одной «яркой» личности. В делегацию, сопровождавшую его в 1959 году в поездке по США, входил сын харьковского инженера Н. А. Тихонов. Он приглянулся советскому лидеру и в 1961 году был избран кандидатом в члены ЦК КПСС. Вскоре Тихонов становится первым заместителем Госплана СССР; при Брежневе он уже заместитель председателя Совмина, а после смерти Косыгина (1980) занимает его место. Подтягиваются украинские кадры и на самую вершину Министерства обороны. В 1956 году с Дальнего Востока на пост замминистра перемещается Р. Я. Малиновский; после изгнания Г. К. Жукова он становится у руля военного ведомства. Вслед за ним из группировки советских войск в ГДР вызван закадычный брежневский друг А. А. Гречко; с 1957 года он – первый заместитель МО СССР (с 1967 года, после смерти Малиновского, возглавляет министерство).
Как мы сказали, украинское «нашествие» происходило под знаменем тотального усиления партийного аппарата. И все же, главным был, конечно, вопрос о культе личности Сталина. От того, как советское общество приспособится к новому состоянию, зависело дальнейшее развитие страны. Уже в 1953 году, то есть сразу после смерти вождя, «староверческая партия» наметила способ выхода из этой непростой ситуации. Имя и образ Сталина продолжали присутствовать в публичном пространстве 1953–1955 годов. Однако до XX съезда были пересмотрены основные политические дела послевоенного времени, связанные с репрессиями, включая «ленинградское»[1198]. Набирали силу новые процессы во внешнеполитической сфере, в экономике, сельском хозяйстве и т. д. Иными словами, перемены происходили без привлечения внимания к вопросу о культе личности, в условиях которого страна прожила длительное время. Однако этот сценарий не устраивал Хрущева, так как он нуждался в ресурсах для борьбы за первенство. И он пошел на публичное развенчание Сталина; личные выгоды перевесили риски и негативные последствия этого шага. Знаменитый доклад XX съезду партии фактически расколол советское общество, однако Хрущев добился главного: выведя вопрос о культе личности в публичное пространство, он победил «староверческую партию», которая намеревалась решать эту проблему с минимальными издержками для общества. По нашему глубокому убеждению, действия Хрущева не просто неэффективны, они граничат с преступлением. В пользу такого вывода свидетельствует случай Дэн Сяопина, присутствовавшего на XX съезде в качестве члена китайской делегации. Оказавшись через два десятилетия перед подобным выбором, он не пошел по пути Хрущева, не решился раскалывать страну и устраивать политическое шоу по свержению «великого кормчего Мао». Фактически «Великий Дэн» использовал сценарий, который пытались реализовать Маленков, Булганин и др.
Хрущевский поступок во многом предопределил поражение «староверческой партии». Правда, Маленков еще в 1955 году был вынужден уступить должность председателя Совмина СССР, оставшись заместителем близкого ему Булганина. Но разгром «антипартийной группы» в июне 1957-го стал переломным моментом. Полем битвы явился пленум Центрального Комитета КПСС, превратившегося в хрущевскую вотчину, где большинство уже выступало за него. Причем Хрущев искусно привлек на свою сторону и двух видных членов «староверческой партии» – Н. М. Шверника и М. А. Суслова. Оба были сильно обижены на Маленкова за то, что после смерти Сталина он не позаботился о них должным образом. Шверник на посту председателя Верховного Совета СССР (он занимал его с 1946 года, после смерти М. И. Калинина) был заменен Ворошиловым и отправлен снова руководить профсоюзами. Хрущев же предложил ему пост главы Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, на что Шверник сразу согласился. Суслову, уроженцу Хвалынского уезда Саратовской губернии (выходцу из спасова согласия) сам Сталин прочил большую карьеру, но после кончины вождя он оказался не у дел. На помощь опять-таки подоспел Хрущев, возвратив его в Президиум Центрального Комитета. Именно Суслову Хрущев поручил атаковать «антипартийную группу» на июньском пленуме ЦК. Любопытно, что тот не справился с поручением: по стенограмме заметно, с каким трудом он говорит. В результате Хрущев был вынужден перехватить инициативу, фактически прервав невнятное выступление Суслова[1199]. Итоги пленума зафиксировали смещение центра власти в сторону партийного аппарата. Если ранее в Президиуме ЦК из одиннадцати членов семеро были из руководства Совмина, то теперь в Президиуме, состоявшем из пятнадцати человек, десять, включая самого Хрущева, представляли партаппарат; из девяти кандидатов в члены Президиума таковых было семеро.
1957–1960 годы – судьбоносный период советской истории. В это время из руководства была устранена практически вся «староверческая партия». Своих постов лишились Маленков, Булганин, Первухин, Сабуров, Зверев, Казаков, Бенедиктов, Малышев (умер), стареющий Ворошилов, а также Каганович и др. Именно после этой кадровой революции украинские кадры потоком хлынули на вершину власти. В отличие от устраненных руководителей, они строить ничего не жаждали: их привлекало общесоюзное «хозяйство», создаваемое преимущественно трудом русских. В этом нет ничего удивительного: на рубеже 1950-1960-х годов в элитах уже появились признаки разложения, а на некоторых советских окраинах оно шло полным ходом. Выдавливание из центра тех, кто ставил интересы государства превыше всего, не могло пройти бесследно. Например, Среднеазиатские республики целиком погрузились в коррупцию и разворовывание фондов, поступавших из Москвы[1200]. Однако, если партийные тузы Средней Азии или Закавказья расхищали то, что им доставалось, и никоим образом не претендовали на раздел общесоюзного пирога, то с украинскими деятелями дело обстояло сложнее. Правда, до поры до времени и они тоже не мечтали об этом, но Хрущев сделал невозможное возможным, и украинцы устремились к новым горизонтам. Эти люди руководствовались заботой о благополучии – собственном и родной им Украины. (Именно в такой последовательности! К сожалению, данное обстоятельство пока недостаточно осознано.) Да и своего благодетеля они никогда до конца не понимали. Помимо разных наклонностей[1201], Хрущев обладал чертой, которая раздражала его украинских сподвижников: он страстно желал выглядеть архитектором коммунизма, заменив в этом качестве Сталина. Конечно, ничего, кроме недоумения, это не вызывало, поскольку для них стремление к общественному благу имело чисто ритуальный характер, а все, что не укладывалось в мещанскую прагматику, воспринималось как граничащее с идиотизмом. В конце концов, хрущевские выдвиженцы устали от его неугомонности и отправили строителя светлого завтра на отдых.
С приходом Л. И. Брежнева номенклатурные верхи СССР оказались в пучине украинского влияния. Достаточно взглянуть на состав Центрального Комитета, избранного XXV или XXVI съездом партии: секретари обкомов (независимо от географии), министры, высшие чины аппарата Центрального Комитета и Правительства – такого количества украинских кадров в стране не было, наверное, с конца XVII – первой половины XVIII века, когда теми нашпиговывалась романовская элита. Им досталось неплохое наследство. Динамика, которую изгнанная «староверческая партия» придала советской экономике, оказалась весьма устойчивой: шла масштабная индустриализация, появлялись новые отрасли, под них создавались научные школы. Фундамент, заложенный в 1950-х годах, позволил брежневской элите прекрасно себя чувствовать вплоть до конца 1970-х. Да и выросшие цены на нефть значительно поддерживали советскую экономику. Однако к этому времени модернизационная логика потребовала перехода к новому – постиндустриальному циклу развития, что и происходило в западном мире. Но украинизированный советский истеблишмент, живущий «от застолья к застолью», не собирался напрягаться. «Застой», куда погрузилась страна, стал прямым следствием украинского засилья в партийно-государственных верхах. Их потребительское отношение к стране разлагающе подействовало на все советское общество, лишив его внутреннего иммунитета. И если по поводу хрущевской «оттепели» говорили: «о работе стали думать меньше, а о разных жизненных благах больше»[1202], то теперь все чаще начинали размышлять уже не просто о благах, а о том, как бы «расфасовать» великую страну, созданную трудом титульной нации, уже по-крупному.
Произошли и серьезные идеологические подвижки. Прежде всего в забвении оказалась утвердившаяся с середины 1930-х годов концепция «русского народа, как старшего брата, как самого передового». Очевидно, что людей, оккупировавших власть в Москве, подобная идеология очень раздражала. Поэтому были срочно реанимированы наработки Н. И. Бухарина последнего периода его жизни, прошедшего на посту главного редактора «Известий»; причем без упоминания об авторстве. Напомним: в противовес концепции о русском народе он выдвигал идею «единой общности – советского народа», в котором все национальности как бы растворяются. Это действительно была находка, поскольку украинский акцент при этом переставал слышаться; более того, привлекать к нему внимание отныне считалось дурным тоном. С пропагандой советского народа, как единой общности, хорошо знакомы старшие поколения в нашей стране.
Еще одна важная новация по сравнению с хрущевским периодом касалась церкви, той самой, которую именуют Русской православной. Сталин счел выгодным реанимировать этот религиозный институт, рассчитывая на его влияние, в первую очередь, на международной арене. Но то, что происходило в послевоенные годы заставляет задуматься: декларировалось возрождение Русской православной церкви, а по сути получилось – украинской. Данные таковы: на начало 1947 года в РПЦ насчитывалось свыше 13 тыс. приходов: из них почти 9 тыс. располагались на Украине, еще 1100 – в Белоруссии и Молдавии, а на всю огромную территорию России оставалось менее 3 тыс. храмов[1203] (причем около половины их находилось в Южном и Черноземном регионах, с традиционно сильным украинским влиянием и сильными позициями никонианства). Для открывающихся церквей требовались священники, и поставляли их опять-таки духовные заведения Украины. Вполне закономерен вопрос: соответствует ли название Русской православной церкви тому, что она представляла собой в действительности? Нельзя забывать и об одном довольно щекотливом моменте: значительная часть приходов на Украине и в Белоруссии возникли во время оккупации этих территорий гитлеровцами. Немцы открыли около 7,5 тыс. церквей, пытаясь заручиться поддержкой местного населения. (Что, кстати, стало одной из причин поворота Сталина к РПЦ: невнимание к этому обстоятельству он посчитал неким риском). Вождь распорядился сохранить открытые врагами приходы, но не забывал об этом. Когда решался вопрос, где размещаться патриархии, то Сталин, к ужасу предстоятелей РПЦ (они собрались в Новодевичий монастырь), предложил отвести для этих целей особняк в Москве (Чистый переулок, 5), где до войны находилась резиденция немецкого посла Шуленбурга![1204] Правда, этим малоприятным намеком в отношении церкви вождь предпочел ограничиться[1205]. А вот Хрущев инициировал масштабную антирелигиозную кампанию. Судя по всему, это не вызывало энтузиазма у его украинских сподвижников: не случайно после его отстранения ситуация вокруг РПЦ быстро стабилизировалась, и при Брежневе церковь могла себя чувствовать достаточно спокойно. Выпады хрущевской поры уходили в прошлое, сменяясь сочувствием или, точнее, скрытой до поры до времени тягой к церкви.
Здесь мы подходим к важному элементу внутриполитической жизни в СССР. Дело в том, что латентная тоска по русской (т. е. никонианской) церковности была свойственна не только украинской, но и еще одной части советской элиты. По внешним признакам эта группа была этнически русской, и условно ее можно назвать наследницей «ленинградской группы». Если последняя в литературе считается некой русской «протопартией» в КПСС, то ту часть номенклатуры, о которой идет речь, относят к русскому национальному движению более уверенно; ее состав довольно хорошо изучен[1206]. Здесь мы опять сталкиваемся с той же логикой исследователей: мол, в сталинскую эпоху никаких русских позывов быть в принципе не могло (а «ленинградцы» – исключение в том антирусском кошмаре). «Русская партия», начав формироваться при позднем Хрущеве, заявляет о себе при раннем Брежневе. Чтобы продемонстрировать ее потенциал, историки преуменьшают доминирование украинских кадров на партийно-государственном Олимпе и говорят только о «днепропетровском клане», к которому принадлежал сам генсек. Нам это представляется контрпродуктивным: противопоставление «русской партии» исключительно «днепропетровскому клану» затушевывает ее пограничное родство с широким украинским кадровым фронтом. Ведь ближайшие брежневские соратники-украинцы, такие как Н. А. Щелоков, С. Ф. Медунов, К. У. Черненко, В. Ф. Гарбузов, А. А. Гречко, С. К. Цвигун, Н. Н. Тихонов и др. не имели непосредственного отношения к Днепропетровску.
Кто же из функционеров олицетворяет в глазах исследователей русское национальное движение внутри КПСС? А. Н. Шелепин, В.Е Семичастный, Н.Г Егорычев, Ф. Д. Кулаков, Г. И. Воронов, Д. С. Полянский, Н. Р. Миронов, П. Н. Демичев, Л. Н. Толкунов, П. В. Кованов, С. П. Павлов. Однако ни у кого из них в биографии не встречаются одновременно два важных фактора: работа в крупной индустрии и старообрядческие корни. Так, Воронов (из семьи интеллигентов-учителей, дошел до председателя Совмина РСФСР) – единственный, кто непродолжительное время поработал на стекольном и фосфатном заводах. Кованов из города Коврова Владимирской губернии (место, правда, староверческое) – также имеет интеллигентское происхождение, какое-либо производство миновал, учительствовал; затем партийная карьера, главный редактор «Комсомольской правды», гендиректор ТАСС.
Егорычев – из крестьян села Строгино, ныне это западная окраина столицы. Поясним: восточные окрестности Москвы издавна населяли староверы, на западной же стороне, откуда родом Егорычев, их никогда не было. На индустриальных предприятиях он никогда не работал. Шелепин родился в никонианском Воронеже в семье служащих; после учебы начал комсомольскую карьеру. Кулаков родом из крестьян Курской губернии (оттуда были родители Брежнева). Павлов из семьи служащих г. Ржева Тверской области, обучался в институте физкультуры, шел по комсомольской лестнице. Хотя в Ржеве сильное присутствие староверов-поповцев, Павлов к ним никакого отношения не имел. А Семичастный, Миронов, Полянский вообще родом из крестьянских украинских семей. Иными словами, перед нами представители интеллигентско-крестьянских слоев Южных и Черноземных регионов. По происхождению (подчеркиваем: по происхождению) данная группа никакого отношения непосредственно к староверию или к индустрии (как к базе староверия) не имела. С религиозной же точки зрения все они произошли из никонианской среды. Это делает их особенно близкими к украинскому духу. Не случайно «русская партия» брежневского издания сильно разбавлена этническими украинцами (а черноземные области России – территории с сильным украинским влиянием). Так что «ленинградская группа» с точки зрения этнической принадлежности выглядела получше.
И вот эти подлинные патриоты противостояли либералам, которые после хрущевской оттепели хорошо освоились в публичном пространстве. Либеральные настроения находили отклик и у части советской номенклатуры, все больше засматривавшейся на прелести западной цивилизации. (Хрестоматиен пример А. Н. Яковлева, ставшего пугалом для русского национализма.) Но для нас важно, что такая идеологическая проекция (патриоты-либералы) совершенно размыла «староверческую партию», остатки которой существовали и в брежневскую эпоху. Причем ее представителей обычно считают противниками русской идеи. Как было сказано выше, из староверческой русской среды вышли Д. Ф. Устинов и М. А. Суслов. Эти выдвиженцы Сталина пользовались немалым авторитетом в верхах – теперь уже в качестве членов Политбюро ЦК. Их неизменно аскетичное отношение к жизни резко диссонировало с разгулом украинской элиты. В состав Политбюро входил и еще один известный деятель, имевший схожее происхождение – министр иностранных дел А. А. Громыко. Подлинная фамилия его отца и деда самая что ни на есть русская – Бурмаковы; они уроженцы Ветковского района Гомельской области Белоруссии. На протяжении всего XVIII века в этих местах оседали русские староверы, бежавшие от никонианского государства и церкви; практически все деревни этого местечка были заселены русскими. Одна из деревень называлась Большие Громыки, поэтому в официальных документах царской империи под фамилией Громыко значилось большинство проживавших в ней староверов[1207]. В конце жизни А. А. Громыко с большой теплотой писал о старообрядцах, признаваясь в любви к этим мужественным людям «непокорного духа»[1208]. Этот видный государственный руководитель благосклонно относился к иконам и старинным книгам. «Обстановка родного края влияла на меня духовно и в последующем», – говорил он[1209].
Небольшое присутствие «староверческой партии» сохранялось и в хозяйственных ведомствах. Министр внешней торговли СССР Н. С. Патоличев родился в селе на границе Владимирской и Нижегородской губерний; отец погиб в Гражданскую войну, и его воспитывал брат отца. Патоличев писал о своем родном крае, как об исконно русском, где все дышало стариной, где можно почувствовать дух страны[1210]. Люди там по большей части были бедняками с развитым чувством взаимовыручки. Для нас весьма любопытно такое замечание Патоличева: жители этих мест строго придерживались обычаев, часто крестились, но вместе с тем к монастырю во Флорищах (святое место для РПЦ) почтительного отношения не испытывали[1211]. В брежневское правительство входил также Н. Н. Тарасов, чья родная деревня Ионино Орехово-Зуевского района известна местным краеведам как поморская староверческая. Отец Тарасова трудился на знаменитой Никольской мануфактуре, когда-то принадлежавшей семейству Морозовых. Сам Тарасов всю свою жизнь отдал текстильной отрасли; был заместителем Косыгина по текстильному ведомству, а с 1965 по 1985 год – министром легкой промышленности СССР. Ну и наконец, следует сказать о Ю. В. Андропове. Происхождение этого советского деятеля крайне запутанно и противоречиво; выдвигается немало версий относительно того, где он родился и кем были его родители; существует даже экзотическая версия о его еврейских корнях[1212]. Все это вместе взятое дает нам право на собственный взгляд. В Политбюро Андропов не был расположен к украинским кадрам, но в тоже время недолюбливал и «русскую партию» (полуукраинскую); скорее всего, он не делал между ними большой разницы. Разумеется, не привечал он и либерально настроенных коллег – и в этом полностью смыкался с остатками «староверческой партии». Помимо идейной общности, Андропова роднили с ней нацеленность на выполнение служебного долга и равнодушие к материальным благам. Не замечен он также в продвижении на высокие посты своих родственников. В частности, сын Андропова, работая на среднем уровне в МИДе, при жизни отца так и не получил престижную должность посла. После смерти генсека Брежнева именно Андропов инициировал кампанию по выдавливанию наиболее одиозных фигур из брежневской челяди. Но времени у него не оставалось, и замыслы Андропова по выведению страны из кризиса навсегда останутся предметом догадок. К тому же сегодня нам ясно видно, что с конца 1970-х годов силу набрал тренд «государственного разврата». Противостоять ему тогда было уже невозможно. Советской проект, заряженный верой русских людей в лучшую жизнь, был полностью выхолощен и дискредитирован брежневским (украинским) руководством, подготовившим развал великой страны, на разграбление которой уже слетался всевозможный сброд.
Глава 10. «Символ веры» русского проекта
В предыдущей главе мы рассмотрели организационную сторону формирования «староверческой партии», вычленив ее из традиционного ракурса: космополиты-либералы и патриоты. Чтобы убедиться в правомерности такого подхода, необходимо продемонстрировать, в чем состояло идейное различие между выходцами из староверческой общности и членами «русской партии» с никонианскими корнями. Это различие, важность которого трудно переоценить, остается неосознанным даже в исследовательских кругах. Между тем, оно не только имеет научное значение, но и позволяет глубже разобраться в тех сложных внутриполитических процессах, которые привели в конечном итоге к краху СССР. А главное, понять, на каких путях возможен выход из кризиса, охватившего Россию в 1990-х годах.
Идейно-психологические различия староверческого и никонианского менталитета не были секретом для ряда мыслителей и писателей, чья деятельность пришлась на советскую эпоху. Более того, именно их размышления и побудили нас в свое время серьезно обратиться к данной теме. Речь идет прежде всего о маститом советском прозаике Леониде Леонове. Как совсем недавно – и справедливо – было замечено, «он понял больше остальных – и сумел, пусть полунамеками, это высказать; мы к его свидетельству подбираемся только сейчас»[1213]. Многообразное творчество Леонова, по сути, лишь в постсоветский период стало объектом серьезного изучения[1214]. В контексте нашего исследования особое значение приобретает интерес писателя к ключевой проблеме отечественной истории – соотношению русского староверия и никонианского православия. Этой теме посвящена его крупная работа «Русский лес» (1950), о чем сегодня догадываются немногие.
Как известно, главные герои романа Леонова, Александр Грацианский и Иван Вихров – ученые, всю жизнь занимающиеся проблемами лесной промышленности. Однако литературоведы всегда упускали из виду важное обстоятельство: судьбу героев, как и сюжет книги, определяет их различное религиозное происхождение; этот же аспект дает ключ к пониманию идеи романа. С Грацианским в этом смысле все ясно – он сын профессора Санкт-Петербургской духовной академии (фамилия говорит сама за себя)[1215]. О Вихрове поначалу известно лишь, что он с Урала, из простонародья. Однако, внимательный взгляд обнаруживает его раскольничье происхождение. Родом он из уральского староверческого села Шиханов Ям, получившего после революции статус города[1216]. Все предки и родня Вихрова тоже из этих мест. Его старшая сестра (по отцу) Таисия после революции, когда Вихров уже стал профессором, проживала с ним в Москве, помогая по хозяйству; она ходила «в темном, по-раскольничьи распущенном на плечи платке, как еще недавно повязывались все пожилые крестьянки на Енге»[1217]. Символична фигура его отца – Матвея Вихрова: он оказался в центре конфликта местных крестьян с помещиком, который пытался захватить лесные угодья, издавна находившиеся в общем пользовании. Дело усугублялось тем, что здесь располагалась молельня, основанная когда-то беглым раскольником Федосом. Крестьянам (понятно, кем они являлись в конфессиональном отношении) были дороги эти места, и они не желали терять доступ ни в этот лес, ни к молельне. Матвея Вихрова снарядили в Петербург с ходатайством и напутствием, «что-де от Бога всему обществу лес даден и грешно отдавать его в одни руки, которые и топора-то не держали отродясь»[1218]. Матвей около месяца безуспешно пытался вручить прошение какому-то влиятельному чиновнику. В конце концов поймал его на выходе из театра, но тот грубо отказался его выслушать. Возмущенный Вихров недолго думая ударил его, да так, что чиновник скончался на месте. Итогом стала каторга, откуда Матвей через три года сбежал. Его пытались задержать, ранили, от чего он и скончался. Хоронили его всей деревней; впереди нес икону с изображением ветхого старца с двуперстным сложением сын Матвея Иван Вихров[1219].
Революция многое переменила в жизни обоих героев: сына беглого каторжника-раскольника, осужденного за лесное заступничество, и сына почтенного никонианского профессора. Но главное – их отношение к русскому лесу, который они избрали объектом для своих научных изысканий, – мало зависело от социально-экономических перемен, и Леонов особенно это подчеркивает. Грацианский имел «образцовопоказательную внешность стойкого борца за нечто в высшей степени благородное…»[1220]. Он напоминал православного миссионера или даже пророка древности, если бы не беготня зрачков, «мало подходящая для проповедника не только слова божьего, но и менее возвышенных истин»[1221]. Символичен и образ матери этого героя: «черненькое, надменное, на редкость малоразговорчивое существо, перламутровой лорнеткой прикрывавшее чуть приметную косинку»[1222]. Вихров же – полная противоположность Грацианского: неторопливый, лишенный обыденной суетливости. Он привык «проверять свою деятельность, прежде всего приблизительной прикидкой, как его усилия отразятся на благополучии грядущих поколений»[1223]. Любопытная деталь: Ивана с сестрой Таисией связывало не столько родство, сколько внутренняя, духовная созвучность. Сестра «поверила в святость его дела, потому что не гнался, как другие, ни за быстрой славой, ни за личной корыстью»[1224].
Такими разными чертами наделяет Леонов двух представителей России: никонианской и староверческой. И из текста совершенно ясно, что речь идет не столько о действующих лицах романа, сколько о двух ветвях русского православия. Леонов с трудом усматривает возможность взаимодействия между ними (по сюжету – между Грацианским и Вихровым). Их «практическая деятельность протекала в тесном – не то чтобы соревновании, но и в крайне обостренном, временами даже бурном, соприкосновении при полном несовпадении их научных воззрений. В этой знаменитой полемике Вихров занимал пассивную позицию, не имея склонности ввязываться в публичный поединок с сильнейшим противником, но было бы преждевременным считать вихровское поведение признаком слабости…или же добровольным признанием собственных ошибок»[1225].
Страницы романа заполнены спорами двух ученых о будущем лесной отрасли. Но за этим стоит не что иное, как спор о судьбе русского народа. Грацианскому свойственно потребительское отношение к лесу, а значит, и к стране: «А в конце концов черт с ним, с лесом… здоровье дороже полена!.. Лес надо рассматривать как повод, который помог тебе проявить свою личность»[1226]. Несмотря на подобные откровения, сестра Вихрова Таисия смиренно считала, что научный оппонент ее брата любит Россию – «только без радостного озарения, без молчаливой готовности проститься с жизнью ради нее…»[1227]. В советские годы Грацианского раздражает соприкосновение с жизнью людей, вышедших из низов, «потому что рядом с ней резче проступала его социальная и нравственная неполноценность»[1228]. А правду другой жизни олицетворяет Иван Вихров: она у него ассоциируется даже не с классовой борьбой, а с понятием моральной чистоты. По его убеждению, «революция была сражением не только за справедливое распределение благ, а, пожалуй, в первую очередь, за человеческую чистоту. Только при этом условии, полагал он, и мог существовать дальше род человеческий»[1229]. Примечательно и другое: именно Вихров способен общаться с лесным духом «Калиной», с которым познакомился еще в детстве. (Представить Грацианского собеседником «Калины» затруднительно: ему это попросту недоступно.) Этот лесной (народный) дух объясняет, что такое нечистая сила: она, как правило, отличается «чрезмерным благообразием, квартирует в нарядных хоромах», а распознать ее можно «по тягостям, причиняемым простым людям». На вопрос подростка Ивана, «где ее поведать», «Калина» отвечал – налюбуешься еще!»[1230] Под нечистой силой народный дух подразумевал правящие классы и богатых собственников; на страницах романа они показаны в образах барина и купца. Их отношение к русскому лесу выражено предельно красноречиво: «Чего же его жалеть, лес-то, все одно чужой он, – думаете, и без меня не раскрадут ее, Рассею-то?»[1231]
Связку Грацианского и Вихрова сюжетно подкрепляют еще два персонажа, которые пребывали вместе с ними в стенах лесного института. Их присутствие в книге далеко не случайно. Один, некто Чредилов, тянется к Грацианскому, в студенческие годы даже именует его наставником; он, как и его кумир, из духовного сословия. Профессию свою этот сын костромского дьячка, собиравшийся стать врачом, выбрал по нелепой случайности. Выехав на учебу в Петербург, он по дороге сильно напился, и с вокзала его по ошибке доставили в лесной институт; документы молодой человек забирать не стал, усмотрев в случившемся перст провидения[1232]. Однако лес – т. е., по Леонову, народ – Чредилов искренне недолюбливает. Спустя годы он признается Вихрову: «Казни меня, но…пойми, Иван, не лежит у меня сердце к лесу»[1233]. Крайнов, другой сокурсник главных героев, ближе Вихрову. Однако поработать в лесном хозяйстве Крайнову не довелось: он с головой ушел в революционную деятельность, а после революции – в партийную работу, был назначен послом за границей. Тем не менее Вихров всегда ощущал с ним духовную близость, и хотя переписки между ними не было, часто мысленно беседовал со своим другом[1234]. Вот один важный отрывок из такого воображаемого разговора. Крайнов убеждал, что ради будущего нужно четко выбрать путь, нащупать базу, копать до твердого грунта: иначе лес рухнет на тебя же. На это Вихров отвечал: да, так вернее, «но что станет с моим лесом, пока мы все доберемся туда через большую Лену?»[1235] Эти опасения весьма символичны – равно как и окончание «Русского леса», где описано банкротство сына профессора академии РПЦ. Боясь огласки грехов молодости (своей связи с царской охранкой) и более поздних интриг, Грацианский покончил с собой, утопившись в проруби. «Простонародный способ самоубийства не очень вяжется с его балованной натурой», – заметил по этому поводу Вихров, добавив: а может, он завертел интригу уже со своим уходом из жизни[1236].
Нужно сказать, что сюжет «Русского леса» зачастую позволяют рассматривать роман в качестве продолжения линии, которую до войны разрабатывал прозаик и поэт Сергей Клычков. Он тоже обращался к русской самобытности, пропитанной исконными народными суевериями. В романе «Чертухинский балакирь» (1926) автор с теплотой выводит образ «деревенского враля» Петра Пенкина, чье существование неотделимо от природы. Река, лес – для него это прежде всего мифологический мир, наполненный персонажами типа лешего, который учит истинному пониманию жизни[1237]. Общается «балакирь» и с устроителем староверческой молельни Спиридоном Емельянычем: тот, несмотря на новые времена, усердно поддерживает древнее благочестие[1238]. Клычков любуется этой средой, напрямую связывая сохранение ее целостности с будущим России, в чем-то предвосхищая здесь идею «Русского леса» Леонова. Правда, различий между Вихровым и одухотворенным «балакирем» все же намного больше, чем сходства. Пенкин «травит байки», гуляет в лесу, выслушивает назидания лешего; из текста сложно понять, чем он вообще занимается. Его самобытность статична, и Клычков осознает: с учетом произошедшего революционного перелома долго все эти прелести не просуществуют[1239]. Вихров же, хотя и не чужд лесного духа, но он главным образом – человек действия, одержимый ученый, чьи фундаментальные труды продвинули отраслевую науку. Вихров не ограничивается воспеванием крестьянской идиллии, а заботливо и рационально ее преобразовывает. Да и конфессиональный разлом России, занимавший помыслы Леонова, представлен в «Русском лесе» куда более судьбоносным, чем в клычковской довоенной прозе.
Из текста «Русского леса» хорошо видно, на чьей стороне симпатии автора. Подлинное русское начало он связывает со староверием, которое ближе к народу не только в социальном плане, но и психологически. Однако, Леонов не останавливается на констатации этого факта, а пытается продвигаться дальше. После «Русского леса» его все больше занимает проблема российской разобщенности, имеющей глубокие конфессиональные корни. Разумеется, его не интересует внешняя сторона дела: обрядовые нюансы, догматические тонкости и т. д. Он сосредотачивается на ментальных особенностях, пытаясь на этой глубине нащупать способы излечения национального недуга. Поиски Леонова воплотились в написании грандиозного романа «Пирамида». Конечно, это многогранное размышление о путях человеческой цивилизации как таковой, но русскому народу по понятной причине отведено в нем первостепенное место.
Выделим сюжетную линию, связанную с одним из руководителей большевистской партии Тимофеем Скудновым и священником Матвеем Лоскутовым, главным героем романа. Их взаимоотношения также определяются смысловой проекцией: староверие-никонианство. Скуднов «был русый и огромный детина, чистокровной северной породы». Сплавщик леса, он в кожаной комиссарской куртке прошел Гражданскую войну, заработал «репутацию всенародного человека». Но одна черта в его описании, как правило, упускается из виду – «кондовое староверческое происхождение»[1240]. Леонов не скрывает симпатии к Скуднову, обладавшему «общеизвестной радушной простотой»[1241]. Жизнь этого человека, достигшего большевистского Олимпа, как и ранее, отличали бытовая непритязательность и равнодушие к роскоши; он проживал в скромном переулке, в обыкновенном жилом доме, только потолки в квартире были повыше[1242]. А его выступления больше напоминали «исповедание веры и преданности»[1243]. Можно сказать, что именно личность Скуднова олицетворяет дух старообрядческого раскола, который наглядно продемонстрировал «бессилие меча и кнута против избранной правды духовной»[1244]. В общем, проводя староверческую линию (т. е. описывая Скуднова), Леонов остается вполне верен себе.
Однако в том, что касается противоположной стороны – официального православия, то в «Пирамиде» Леонов предлагает серьезные новации. Они связаны с образом священника Матвея Лоскутова. Этот поистине необычный персонаж совсем не напоминает попа или иерарха никонианской церкви – неизменных объектов иронии и сарказма для Леонова. Пожалуй, он впервые благоволит священнической особе – и, как мы увидим, не случайно. Отец Матвей – прямая противоположность семьи Грацианских из «Русского леса». У него подлинно народное происхождение, что называется, из низов, он начинает трудиться уже с двенадцати лет[1245]. Его мужицкий облик, его вятскую речь, сохранившиеся на всю жизнь, дополняли крупные и тяжелые, «в порезах и проколах чернорабочие руки, а пуще всего вопиющая житейская неумелость»[1246]. Вся известная его биография «полностью исключала в качестве движущих побуждений какую-либо корысть, равно как и бытовавшую у иных псевдосвятых тщеславную гордыню – самому просиять в сонме праведников»[1247]. Эти строки невольно заставляют вспомнить Ивана Вихрова из «Русского леса»: его внутреннюю схожесть с отцом Матвеем трудно не заметить.
Итак, в «Пирамиде» отмечено нечто общее, то, что объединяет служителя РПЦ и людей, вышедших из староверия (на что в «Русском лесе» нет и намека). И это обстоятельство не является плодом воображения; чем больше мы узнаем об отце Матвее, тем лучше понимаем леоновский замысел. Принципиальная черта Лоскутова (помимо простого происхождения) – его отроческое увлечение староверческими книжками, начитавшись которых он «возымел жгучее влеченье к странничеству по святым обителям…».[1248] Болезненный склад помешал ему осуществить задуманное, и он оказался в лоне РПЦ в своем родном Вятском крае. Интересно, что после перевода из Вятки в Первопрестольную отец Матвей оказывается не в каком-нибудь из известных приходов, а в древнем храме Старо-Федосеевского кладбища, основанного при Екатерине II.[1249]Это глубоко символично, так как в действительности такого никонианского прихода никогда не существовало. Московское Преображенское кладбище, организованное староверами федосеевского согласия при той же Екатерине, стало центром русской беспоповщины, и там в принципе не могло быть никаких священнических особ. Получается, служение отца Матвея происходит в вымышленном приходе, основанном старообрядцами, причем беспоповцами.
Одна из сюжетных завязок «Пирамиды» – знакомство (при печальных обстоятельствах) Скуднова с отцом Матвеем. На исходе Гражданской войны Скуднов устанавливал новую власть в Вятском крае и прибыл взрывать очередную церковь. Служивший в ней отец Матвей с криком буквально повис на его руке, не давая рвануть заминированный храм (после взрыва стены были сильно повреждены, но выстояли). Скуднов решил выяснить, кто этот странный человек, и посетил отца Матвея дома: «Еще с порога, держась за притолку, посетитель взглянул на хозяина с особой пристальностью; переглядка из глаз в глаза послужила парольным согласием для предстоящего общения»[1250]. Оба, сразу ощутив общее простонародное происхождение, расположились друг к другу; «появилась бутылка первача, без чего не обходились на Руси встречи с рассуждениями о самом главном – о Родине в том числе. На этот раз встреча двух ветвей православия прошла тихо, без криминальных вздохов: разошлись на рассвете без сговора и даже без рукопожатья»[1251]. И хотя многое осталось непроизнесенным, стало ясно, что между ними есть еще одна общая черта – искренняя вера в то, что они делают: «оба они, священник и комиссар, одинаково ощущали роднившую их, саднящую боль, порожденную исторической трещиной на национальном монолите с отменой древнего племенного родства, подобно матрице в избе, крепившего русскую государственность»[1252]. Для Леонова преодоление конфессионального разлома не зависит от благих пожеланий, в коих никогда не ощущалось недостатка; оно возможно, только если главным становится «дело» для народа, а не «дела» – за счет народа. Именно это роднит отца Матвея и с Вихровым и со Скудновым и отдаляет от иерархов РПЦ. В самом деле, что общего у этих леоновских героев с благообразным православным батюшкой, который, обозревая пышную похоронную процессию одного богатея, восхищенно бормотал: «Красота-то какая, Господи, и сколько же денег сюда вложено»[1253].
Леонов размышляет: как залечить «историческую трещину» русской государственности? По его убеждению, сделать это можно, опираясь на религиозное чувство русского человека, основанное на понимании справедливости. А чтобы церковь отвечала своему высокому предназначению, ей необходимо испробовать народного лекарства, приготовленного по староверческому рецепту, и тогда все негодное, испорченное отпрянет от нее: и карьерные архиереи, и православные бизнесмены, которые видят в проходимцах в рясах партнеров по «утряске» со Всевышним некоторых нюансов разграбления русской земли.
Эта проблематика занимала и других писателей послевоенного периода, хорошо известных как «деревенщики». Их творчество часто сопоставляют с тем же «Русским лесом» Леонова, находя сходство в искреннем интересе к судьбам русской земли и народным чаяниям, в общем «экологическом» звучании, интересе к природе и т. д. Однако, это сопоставление нельзя признать правомерным, поскольку взгляд Леонова куда шире взгляда других авторов. Да и сами «деревенщики» по-разному понимают тот самый русский народ, в любви к которому искренне клянутся: Ф. А. Абрамов, с одной стороны, и В. И. Белов или Б. А. Можаев – с другой, описывают как будто совершенно разные народы. Слишком уж различаются их помыслы, жизненные цели и мотивации. Объяснение этому можно найти с помощью все той же религиозной «оптики». Уроженец Архангельского края Абрамов вдохновляется староверческой средой: вся его семья, проживавшая в деревне Верколы, относилась к беспоповцам. Он всегда помнил об этом и с неизменной теплотой отзывался о своих родственниках и односельчанах[1254]. А Можаев вырос в типично никонианской деревне Пителино Рязанской области, никаких староверов там отродясь не бывало. То же самое можно сказать и о Белове: все разговоры его героев о русском духе, о русском народе ведутся вне староверческого контекста, которого для него как бы не существует.
Федор Абрамов в своей тетралогии («Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом») описывает одни и те же архангельские места на протяжении послевоенных десятилетий. Его герои – почти сплошь староверы. Так, в деревенской церкви, оборудованной при советской власти под клуб, проходят общие собрания колхозников. И руководство замечает, что теперь все спокойно сюда приходят, хотя до революции «в этот самый храм Божий на аркане никого не затащишь»[1255]. Одна из женщин прямо характеризуется как «суровая, староверческой выделки»[1256]; другой постоянно снится умерший муж-старовер, который и на том свете живет у реки вместе со своими единоверцами[1257]. Передовица Марфа из староверок всю войну не сходила с районной Доски почета[1258]. Пожилой человек простит похоронить его по старой вере, и партийное начальство дает «добро»: «поздно переучивать человека на смертном одре»[1259]. Среди персонажей Абрамова есть и практикующие староверы. Евсей Мокшин держит молельню, и это ни у кого не вызывает осуждения, разве только начальство просило не выпячивать прилюдно свою религиозность. С Мокшиным связан один весьма примечательный эпизод. По району стали распространяться листовки с молитвой: топчут веру, не соблюдают посты, праздников не чтут, рушат церкви. В районе решили – это дело рук Мокшина, и его арестовали. Но один из коммунистов колхоза решил доказать, что тот невиновен. Эту листовку никак не мог писать старовер, тем более практикующий, а «чтобы понять это, надо самому старовером побывать», – сказал заступник, сам оказавшийся из староверческой семьи. Он пояснил, что никто из староверов никогда не будет сожалеть о церквях, которые разоряет советская власть: нас эти храмы Божьи никогда не интересовали. С его аргументом согласились и хода делу не дали[1260].
Отношение автора к описанной конфессиональной среде выражено предельно ясно: без этих коренных русских людей не выстояли бы в тяжелейшей войне, без них не было бы великой страны. Абрамов скрупулезно исследует их трудовую мотивацию, самоотдачу, противопоставляя им носителей собственнической прагматики. Одному персонажу (Клевакину), равнодушному ко всему, кроме продажи овощей, адресован ключевой вопрос: «Да русский ли ты человек?»[1261]Очевидно, в староверческой среде национальная идентификация осуществляется по другой, нежели у Клевакина, шкале. Зато в полном согласии с ней живет старовер Мокшин. Отработав на стройке за Волгой, он собрался в родную деревню (давно не видел детей). Но приближались зимние холода, и он остался класть печи, чтобы люди не померзли: «Разве я по корысти живу? Людей надо было спасать от холода!»[1262] На наш взгляд, подобные страницы в книгах Абрамова – наиболее сильные, а кроме того, весьма поучительные для сегодняшнего дня.
Другой характерный эпизод. В колхоз присылают специалиста по фамилии Зарудный; этот украинский парень живо берется за дело. Он предлагает начать строить коттеджи, благо регион богат лесом. Люди пришли в смятение, на что Зарудный с усмешкой добавил: «Я могу разъяснить этому православному народу, что такое коттеджи»[1263]. После чего произнес зажигательную речь: мол, пора прекратить надрываться да кивать на последствия войны. «Вы хотите увековечить состояние войны, – взывал он, – а задача стоит как можно скорее вычеркнуть ее из жизни народа…»[1264]. Однако, его предложение вызвало негодование: строить обязательно будем, придет время, а теперь нужно потерпеть немного. Страна кричит, требует леса, люди живут еще в землянках, мерзнут в хибарах, каждой доске рады, а мы им древесину недодадим – себе хоромы настроим?! И опять звучит тот же вопрос: «Да советские ли мы люди после этого? Братья и сестры мы или кто?»[1265](в контексте Абрамова советское и русское – практически синонимы). Как констатирует Абрамов, со временем психология украинца Зарудного сделала свое дело. И вот в деревне уже не просто лелеются, а реализуются совсем иные мечты. Местный инспектор рыбоохраны приступает к закладке домов для каждого из своих семи сыновей, пока еще подростков. Его мечта – выстроить целую семейную улицу Баландиных: «Чтобы на веки вечные, понятно для чего живу?»[1266]
Квинтэссенция размышлений Абрамова о русском народе содержится в романе «Дом» – особенно в трех небольших вставках «Из жития Евдокии-великомученицы». Сам автор очень ценил эти отрывки и сетовал, что критики почти их не замечают[1267]. Там рассказывается о супругах Дунаевых – Калине Ивановиче и Евдокии. В жизни этих «великанов духа» – старого большевика и его жены – «переложилась наша история, история нашего государства со всеми нашими взлетами и порывами, мечтами и трагедиями»[1268]. Калина Иванович всю жизнь посвятил борьбе за утверждение советской власти, а затем – строительству великой державы: «Да я за свой дом не держался. Мне вся страна домом была»[1269]. И на всем его жизненном пути рядом шла Евдокия, деля с ним и радости, и тяготы. Она была увлечена идеалами мужа о братстве и справедливости, об устроении прекрасном жизни на земле. Абрамов считал Калину Ивановича светом, озарявшим жизнь и увлекавшим людей вперед. Евдокия же воплощала многие миллионы людей, которые пошли под его знаменем[1270]. Дунаева не миновали репрессии, но будучи осужденным (на партийном собрании по ошибке поднял руку за представителя «правого уклона»), а потом реабилитированным, он не держал обиды на партию. На его похороны съехалось почти все районное начальство, и вдруг выяснилось, что у него нет ни орденов, ни медалей (в отличие от руководителей, у которых они имелись в достатке): «Вышла заминка, всем как-то стало не по себе»[1271]. Абрамов доводит до читателя свою основную мысль: «Главный-то дом человек в душе у себя строит, и тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Крепче всех кирпичей и алмазов… без этого человек, как скот и даже хуже»[1272]. Весьма символично, что эти слова произносит старовер Евсей Мокшин. «Житие Евдокии-великомученицы» – это подлинный шедевр русского религиозного духа, хотя ни о церкви, ни о священниках там даже не упоминается.
Интерес к русскому староверию не угасал у писателя до последних дней жизни. После выхода в 1978 году романа «Дом» он начал увлеченно готовить «Чистую книгу» – о дореволюционных временах: Абрамов говорил, что это будет лучшая его вещь[1273]. В основу положена живущая в русском народе легенда о книге, написанной самим Аввакумом незадолго до казни. Эта книга «писана им в кромешной тьме, в яме, но она вся так и светится, потому что написана святым человеком. Человек, сподобившийся прочитать эту книгу, прозревает на всю жизнь; из слепого становится зрячим. Он постигает всю правду жизни, и он знает отныне, как жить, что делать»[1274]. Но «Чистая книга» живет в народе, и дорасти до нее можно только на пути личного самосовершенствования. Для Абрамова – это своего рода реперная точка. Из подготовленных писателем набросков видно, кому, по его представлению, доступно аввакумовское творение. Например, оно явно не предназначено для никонианской ветви православия – в том виде, в каком она существовала вчера и, добавим, существует сегодня. Зарисовки из жизни монастыря ничего, кроме грусти и разочарования, не вызывают. Настоятель, испытывающий тягу к роскоши, пребывает в неустанных заботах о благосостоянии святой обители. Монастырь накладывает руку на близлежащие земли, не считаясь с нуждами местного населения, поэтому крестьяне убеждены: там «не Бог главный хозяин, а демон».[1275] Они придерживаются веры, основанной непосредственно на «Чистой книге». Таковы староверы Дурынины. В их семье бытовало предание, что «прощальное письмо» протопопа Аввакума было передано на Пенегу, его долго разыскивали полиция и попы, а оно появлялось то тут, то там. Дурынины очень гордились своим дедом, у которого, как считалось, видели эту книгу[1276]. Искренняя ненависть к барам и церкви питалась памятью о нем. Однако, по сюжету, в семье случается неприятность: один из сыновей становится «овцой паршивой, Иоанном Кронштадтским в стадо запущен». Этот эпизод Абрамов хотел использовать для того, чтобы ввести в текст Иоанна Кронштадтского и провести его через всю книгу. Писателя интересовали обе стороны: Аввакум – против властей, Иоанн – за власть. Кто прав?[1277]
Творчество Федора Абрамова вдохновлялось не просто староверческой, а внецерковной православной традицией, выработанной религиозным опытом русского народа. Поэтому среди персонажей его произведений нет священников, отсутствуют разговоры о церковности. И все-таки перед нами не прожженные атеисты, не «Иваны, не помнящие родства», а верующие люди, чья религиозность выражена иначе, нежели у никониан. Здесь уместно обратиться к их среде, тем более что это любимая тема писателей – «деревенщиков». Возьмем известный роман Б. А. Можаева «Мужики и бабы»: раскулачивание одной рязанской деревни показано здесь сквозь призму русской национальной идеи. А стержень этой идеи – русская православная церковь, неотъемлемый атрибут повседневной жизни. Попы не просто ходят по домам селян, а их активно приглашают; по улицам то и дело шествуют процессии со священниками, дьяконами и певчими во главе[1278]. Местный поп отец Василий Покровский – подлинный народный вожак. Так, когда в церкви открыли пункт сбора экспроприированного зерна, только отец Василий смог утихомирить толпу, призвав «не поднимать руки на притеснителя своего»[1279]. Весьма примечательно, и при этом вполне предсказуемо, кто у Можаева выступает «притеснителем» русского народа. Конечно, это не соотечественники: по убеждению автора, среди русских таких просто не существует (кроме мизерного количества отщепенцев). Разоряют церковь инородцы – Ашихмин и Возвышаев. Первый – сын крещеного татарского купчика средней руки, торговавшего каракулем из Средней Азии; его мать – русская сочинительница пьес, которые никто и никогда не ставил. После революции Ашихмин попадает в рязанский агитпроп окружкома, где утверждается в правоте «общего наступления на кондовую деревенскую Русь»[1280]. Второй – родом из Виленской губернии; его отец держал корчму и лавку, скупая хлам, прессовал его в тюки и сбывал на ткацкую фабрику. Из-за войны перебрались на Рязанщину; купленный дом сгорел, зато у Возвышаева появилась возможность предстать в образе пролетария и вступить в партию[1281].
Вот с этими-то деятелями и вступает в идейную битву главный герой романа Дмитрий Успенский. Нетрудно догадаться, что этот патриот просто обязан иметь отношение к церкви, и действительно, вскоре мы узнаем, что он – сын священника, после революции устроившийся в артель счетоводом[1282]. Спор начинается с того, что Ашихмин называет Орел, Тамбов, Новохоперск, Рязань и другие города старыми помещичьими, мещанскими крепостями: все они должны переродиться в новые города с иной психологией. Ему возражают: это не помещичьи крепости, а русские города, построенные и созданные народом. Разрушать их – значит уничтожать народную культуру. Подключившийся к дебатам сторонник Успенского с характерной фамилией Юхно поясняет: культура бывает не помещичьей, чиновничьей или крестьянской, а только национальной, потому разговоры о ее классовом характере беспредметны. Успенский живо ухватывается за эту мысль: «Уклад жизни, быт и особенно традиции формируют национальный характер, а он есть главная сила или, если хотите, центр тяжести. Без национального характера любая нация потеряет устойчивость и распадется как единое целое»[1283]. Это абсолютно верное утверждение Ашихмин пытается оспорить. Однако Можаев ограничивает его контраргументы интернационалистическими рамками. Конечно, в этом случае идейное превосходство Успенского несомненно. А заявления Ашихмина о примате интернационального общения, о благости объединения языков в единую семью производят жалкое впечатление[1284].
Нельзя не отметить, что в устах такого персонажа, как Ашихмин, любые, даже справедливые доводы звучат неубедительно. Например, мысль о том, что национальная риторика для определенных групп патриотов служит лишь ширмой для обирания народа, не получает у него развития; ее забивают возгласы о надуманности самого понятия «национальный характер». Хотя, если бы не эта интернациональная шелуха, то позиция Успенского не выглядела бы убедительно. Ведь о патриотизме, которым прикрываются все те же хищники, выжимающие соки из простых людей, он ничего вразумительного сказать не сумел. Он лишь заметил: причем тут эксплуатация и национальный характер? Одно с другим не вяжется[1285]. И в очередной раз перевел разговор на значимость православия, противопоставляя русскую душу интернационалистической доктрине. Здесь он явно чувствовал себя «в своей тарелке», и восторг собеседников – лучшее тому подтверждение: «Как это прекрасно, ты попал в самую душу»[1286]. Раздражение Успенского вызвал вопрос о том, на какую взаимную любовь можно надеяться, видя богатство и неуступчивость одних и бедственное положение других. Почитатель национально-православной самобытности в ответ опять лишь покривился: «Это знакомый довод, он мало что объясняет»[1287]. Неубедительны и его рассуждения о национальном духе, суть которого – в служении народу. Зато отвечая на вопрос, как это служение вяжется с тем, что называется «поживиться за счет ближнего своего», Успенский сказал: «Вам лучше знать», – намекая на политику раскулачивания[1288]. Правда, он упустил одну деталь: экспроприированное не лилось потоком в личный карман экспроприаторов, тогда как воспетые им крепкие хозяева обирали других исключительно ради своих закромов. А уж превозношение известного Л. Б. Красина в качестве образца советского руководителя вообще удивляет[1289]. Напомним, этот деятель ярко выраженного капиталистического склада занимал до революции пост директора немецкого концерна «Сименс-Шуккерт» по России, а при большевиках стал наркомом внешней торговли, хотя эти перемены не повлияли на стиль его жизни: Красин воспевал иностранных толстосумов, а вот о русском народе за ненадобностью предпочитал не вспоминать. Судя по всему, Успенского все это не очень-то смущало.
Главный ресурс Можаева – претензия на монополию в изображении национального характера, в обязательном порядке освященного никонианством. Но и другие «деревенщики» примерно так же видели русский патриотизм. Сошлемся на крестьянскую прозу известного писателя В. И. Белова. В романе «Год великого перелома» две основные сюжетные линии: одна связана с украинскими «лишенцами», выселенными на север, другая – со снятием колоколов. С колоколами все вполне ожидаемо. Что же касается украинской темы (превалирующей, заметим, у писателя, считавшего себя истинно русским), то здесь можно говорить о новаторстве.
Поражают настойчивые попытки автора увязать украинцев, т. е. никониан по вере, с самим протопопом Аввакумом, который, как известно, осыпал последних исключительно проклятьями. По Белову, весьма символично, что украинские раскулаченные оказались там, где «развеяло ветром пепел Аввакумовой плоти». Этих православных и святого приверженца старой веры отныне объединяет небо: таким же оно было в пору его казни[1290]. Доводя украинско-русский замысел до логического завершения, Белов ставит в один ряд Аввакума и патриарха Тихона! Хотя мятежный протопоп видел смысл своей жизни и смерти в избавлении родины от подобных пастырей и паствы, черпавших религиозную идентификацию на чуждой стороне.
Но вот для Белова эта паства самая что ни на есть своя: напевная поморская речь переложилась на старинный, похожий на киевскую былину, протяжный речитатив[1291]. И если, например, у Абрамова украинцы (Зарудный, Теборский и др.) неизменно олицетворяют корыстный дух, то у Белова они провозглашаются братьями. Кому же – братьями? Да тем, кто считал личное обогащение и стремление к наживе сутью любого помысла и движения. Абрамовские герои относятся к подобным персонажам с откровенной брезгливостью, задаваясь вопросом: русские ли они? У Белова опять все наоборот: они-то и есть самые настоящие русские, на них держится страна. Беловские переживания об этих «лучших» людях настолько искренни, что зачастую нелегко разглядеть очевидное: для них понятие родины не означает готовность жить ради ее будущего, ради следующих поколений. Для них родина – это место, где можно выстроить хоромы с забитыми доверху подвалами и амбарами и обеспечить тем самым сытое будущее исключительно своему выводку. Одного такого «правильного» русского по фамилии Брусникин мы встречаем в беловском повествовании. В детстве, когда ребята гурьбой ходили по лесам за ягодами, он на обратном пути незаметно пересыпал кучки малины, черники из корзин, собранных другими, в свою[1292]. Примерно тем же самым, но в больших масштабах, он занимался уже взрослым (пока не попал под раскулачивание). Это точно не Анфиса Минина, не Михаил Пряслин, не Евсей Мокшин и не Калина Дунаев. Этим русским людям, считавшим всю Россию своим родным домом, с брусникиными, имевшими явные признаки нравственного вырождения, не столковаться.
Действительно, перед нами, каким бы странным это ни казалось, два русских народа, с разными помыслами и различным пониманием блага для себя и своей страны. Есть ли между ними общее? Белов с легкостью отвечает на этот сложный вопрос: все они были проданы Сталиным. Кому? Разумеется, пленуму ЦК ВКП(б), состоявшему из евреев-инородцев да Калинина «с козлиной бородой, олицетворявшим в партии зачумленный и обманутый народ»[1293]. Сталин, вынужденный считаться с инородческой кликой, просто-напросто купил себе место на троне: «он заплатил за него чистейшей в основном русско-украинской кровью»[1294].Вот только не любят наши патриоты уточнять, что затем произошло с этой всемогущей кликой. Напомним: в 1937–1938 годах ее практически в полном составе отправили к праотцам, и сделал это, как можно догадаться, не святой дух… Но признавать это очень невыгодно, а потому мы который год слушаем и читаем, как Сталин безуспешно пытался освободить Москву от интернациональных сетей[1295].
К очищению России от инородческого засилья, оказавшемуся «неподъемным» делом для Сталина, приступили истинные русские патриоты современности. Национально ориентированные кадры взвалили на себя миссию по освобождению русского человека. Только в свете сказанного выше придется уточнить: какого человека, того, что у Леонова с Абрамовым, или у Можаева с Беловым? Удивительно, но факт: персонажи Можаева и Белова абсолютно далеки от героев Леонова и Абрамова. Отношение к последним, как к «недоделанным» – слегка ироническое (вспомним Зарудного с коттеджами из повести Абрамова «Пути-перепутья»), иногда переходящее в раздражение. Это в том случае, когда «недоделанные» мешают частнособственническим грезам, да еще и нарушают духовную идиллию, проявляя равнодушие к «святая святых» – к выпестованной на Украине РПЦ.
Именно этой позиции уже в постсоветской России противостоял исследователь русской литературы Дмитрий Сергеевич Лихачев. Эта знаковая фигура стоит особняком среди русских патриотов, идентифицирующих себя исключительно сквозь призму никонианства. Не случайно крепкие дружеские отношения связывали известного ученого не с ними, а с тем же Абрамовым. Кстати, Лихачев всегда подчеркивал, что представление об Абрамове как о писателе-деревенщике несправедливо. Его творчество намного шире и концентрируется на этических проблемах, прежде всего, русского народа[1296]. Отсюда и поразительный русский язык его произведений, а если точнее – поразительное чутье русского языка без примеси «протяжного украинского речитатива», вызывавшего восхищение у Белова. Во всем этом нет ничего удивительного, поскольку Д. С. Лихачев – выходец из той же старообрядческой среды. Об этом он подробно рассказывает в воспоминаниях о себе и своей семье. Его родители происходили из купеческого сословия: мать принадлежала к беспоповскому федесеевскому согласию, в Петербурге ее родные издавна имели молельню недалеко от Волкова кладбища. Как вспоминал Лихачев, староверческие традиции были сильны, окружая его в детстве и юности[1297]. Воздействие этой духовной атмосферы он пронес через всю свою жизнь. «Я очень люблю старообрядчество, – признавался он на закате жизни, – не сами идеи старообрядчества, а ту тяжелую, убежденную борьбу, которую вели староверы…»[1298]. Движение Степана Разина, Соловецкое восстание имели подлинно русские корни: перед нами борьба не только религиозная, но и социальная[1299]. Лихачев считал, что переход на троеперстие в угоду политическим замыслам привел к катастрофе русского религиозного сознания, поскольку греческие обряды к этому времени изрядно «испоганились» и пользовались на Руси дурной репутацией. Если Украину желали присоединить, то следовало бы им принимать русские религиозные порядки, а уж никак не наоборот. Поэтому Лихачев высказывал убежденность: «старообрядцы были правы»[1300]. Эта позиция предопределила предмет научных изысканий знаменитого ученого – дониканианская русская литература. Собственно и в повседневной жизни Лихачев проповедовал взгляды, идущие в разрез с официальной церковной доктриной. Например, он всегда отрицательно относился к передаче из музеев в собственность РПЦ древних икон, выдающихся памятников зодчества, шитья, ценнейших предметов прикладного искусства. Ведь все эти уникальные художественные ценности не являлись лишь церковным достоянием[1301]. Сами претензии на собственность, заряженные духом торгашества и выгоды, раздражали Лихачева. По этой причине он покинул «Фонд культуры», где с 90-х годов прошлого столетия прочно освоились никонианские почитатели с коммерческой жилкой[1302].
Учитывая такое отношение к РПЦ, можно подумать, что Д. С. Лихачев представлял собой типичного неверующего человека. Однако это совсем не так. Да, он не соблюдал постов, не причащался и вообще не любил демонстрировать свою религиозность (так принято особенно у старообрядцев)[1303]. Но, вне всякого сомнения, он был истинно верующим, только его вера недоступна тем, кому церковь нужна для «духовной лакировки» разнообразных хищнических вожделений. А вот личность Лихачева несет как раз необходимую нам веру, которая должна стать источником нового бытия. Ее начала коренятся в русском староверии. Нам сегодня требуется своего рода реинкарнация выстраданной нашим народом именно такой веры. И никакой другой. Еще Абрамов в конце 70-х годов XX века пророчески предостерегал «деловой человек, которого все мы так жаждем, не принесет радости, он непременно выродится в дельца»[1304].
Одержимость материального накопления, возведенная в культ, не породит настоящей любви; в лучшем случае это будет рационалистическая любовь собственника[1305]. А ведь именно в такой атмосфере как на дрожжах и «расцвела» РПЦ, которая привлекает тех, для кого смысл пребывания на этом свете выгрызание собственного благополучия за счет унижения других. Озабоченных персональным успехом пугает возвращение в жизнь духовного подданства наших предков. Ведь оно напоминает о смыслах, незамкнутых лишь на себе, предполагает борьбу за иные ценности, образец которой явил наш народ. В этом его весомый вклад в историю человечества, так мало знакомого с бескорыстием, так редко бывающего добрым не для себя.
Заключение
Изучение советского периода – весьма непростая задача, учитывая огромное количество штампов, да и просто откровенной несуразицы о событиях и людях той поры. Осмыслить этот отрезок отечественной истории, занимаясь непосредственно лишь им самим – крайне сложно. А потому особого внимания требует выяснение его подлинных истоков, которые дали жизнь СССР. Но с пониманием того как, а главное почему это произошло, возникают немалые трудности. Советский проект по-прежнему воспринимается в рамках пересадки марксистской (интернациональной по сути) идеологии на российскую почву. Взрыв октября 1917 года вынес на поверхность различные инородческие кадры, которых сбила вместе ненависть к царизму. С этой пестрой публикой традиционно и ассоциируется новая власть.
В тоже время, подобные оценки (абсолютно справедливые для начала революции) относимые к более позднему этапу уже нельзя считать продуктивными. Они только девальвируют интеллектуальные усилия разобраться в перипетиях тех лет. Уточним, носителями идеи мировой революции всегда выступал небольшой круг коммунистов, не связывающих свою идейную идентификацию с национальной принадлежностью; это-то и были классические марксисты. С постепенным вытеснением, а затем и уничтожением, этого тонкого слоя мечта о всемирной республике канула в небытие. Однако, важнейший процесс выдавливания из советской элиты инородцев, финишировавший 1937–1938 годами, остается и сегодня совершенно недооцененным. Старательно не замечается, что дореволюционная (преимущественно инородческая) гвардия была сметена уроженцами мощных регионов Центра, Урала, Поволжья, Севера. Великороссы не просто выходят на лидирующие позиции, но и создают фактически новую партию. С прежней ее объединяет лишь внешнее сходство: название и набор вывесок общего характера. Во внутреннем же содержании восхождению коммунистов из народа на властный Олимп сопутствовал невиданный в нашей истории национальный подъем, обеспечивший победу в кровопролитной войне, создавший мировую «сверхдержаву».
Однако эта страница нашей истории и поныне воспринимается весьма сдержанно, если не сказать более. Некоторым группам и отдельным личностям крайне выгодно изображать советскую историю и после середины 30-х годов как продолжающееся безраздельное господство все тех же инородческих сил, нацеленных на разорение России. Особенно неприемлемым для них является тот факт, что ярко выраженный патриотический поворот происходил абсолютно вне церкви. Это-то и дает повод современным приверженцам русского патриотизма продолжать рассуждать об антинародной сущности большевизма в целом. Между тем, новые партийцы руководствовались уже не марксистскими истинами, а национальной идентификацией, выраженной идеологемой: «русское – это лучшее и передовое». Интернационалистические мотивы в системе их ценностей занимали подчиненное место, лишь подкрепляя осознание собственной исключительности. Для этих коренных русских людей из низов национальное возрождение не подразумевало РПЦ.
Указанное обстоятельство трудно переоценить, поскольку оно выводит на глубинную, корневую проблему нашей истории – религиозную реформацию в России. Сразу скажем, данный вопрос крайне запутан и попытки прояснить его по большому счету дали немного. Бытуют различные мнения, что считать в православии реформацией, или возможна ли она здесь вообще. До революции общепринятым являлось мнение, что РПЦ еще не переживала этого религиозного явления, до основания потрясшего в свое время западный католицизм. События 1917 года инициировали обсуждение этой темы. Катастрофу официального православия того периода расценили как начало давно назревших реформационных процессов. Для подрыва позиций РПЦ большевистский истеблишмент обратился к обновленческому движению, зародившемуся в церковно-интеллигентных кругах начала XX века. Власти содействовали приходу в высшее церковное управление деятелей, нацеленных на кардинальное обновление всей церковной жизни. При поддержке сверху в 1922–1923 годах возник ряд обновленческих групп (живая церковь, союз общин древне-апостольской церкви и др.) Их предводителями выступили лица из либерального крыла церковной иерархии. Как известно, бурно стартовав, обновленческое движение не смогло укорениться, постепенно сойдя на нет. Причем (и это главное) неудачи постигли его в реформаторских порывах, которые так и не затронули догматики православия. Например, обновленцы начали практиковать не только индивидуальную, но и общую исповедь, пытались использовать при богослужении русский, а не церковно-славянский язык, некоторые выносили престол на середину храма, служили обедню не днем как полагается по уставу, а вечером и т. д. Однако все эти начинания, не получив развития угасли, а их инициаторы запутались в противоречиях.
В результате попытки реформировать РПЦ изнутри были признаны несостоятельными в принципе. Большевистская элита пришла к убеждению, что реформироваться православию по существу некуда, и если какие-либо изменения возможны, то они уже будут носить сектантский характер. Такой вывод хорошо соотносился с ростом сектантства в послереволюционный период. Советское руководство сочло это естественным (а не искусственным, как с обновленцами) признаком разложения РПЦ. Втягивание верующих в орбиту различных сектантских объединений уверенно интерпретировалось в качестве той самой русской реформации, которая, наконец-то, стала явью. Партийные специалисты неустанно рассуждали о том, как сектантство «пожирает» православие. К тому же некоторые в большевистской интеллигенции середины 20-х годов усматривали в жизненной практике разнообразных сект сходство с социально-экономическими приоритетами советской власти. Вдохновителем здесь выступал Бонч-Бруевич. Он призывал тщательнее изучать народ, которым коммунисты управляют, и дать себе отчет в широком религиозном движении, идущем снизу. Однако сектантство так и не оправдало возлагаемых надежд. В 30-е годы с ним, как, кстати, и с РПЦ расправились без особых усилий. В итоге поиск и разговоры о русской религиозной реформации надолго утратили какой-либо смысл. По современной научной традиции ее задавили инородческие силы, правившие бал в советской элите и после 1937 года.
Но все же попробуем избежать этого набившего оскомину штампа. Невиданный ранее социально-экономический переворот не мог не иметь глубоких корней в национальной почве. Перемены такого масштаба не могли реализовать инородцы– леваки посредством проповеди о мировой революции, которой крайне тяжело увлечь русского человека. Потому-то эти революционеры и были обречены на гибель. Их смел мощный национальный тренд, идущий из глубин русского народа. Его вызревание и существование до сих пор остается неосознанным историографией, склонной рассматривать советский проект в качестве чего угодно, но только не как результат развития внутренних процессов. Чтобы разобраться в этом, необходима определенная исследовательская «оптика». У Российской империи, выстроенной на западный манер, существовал антипод в лице русского старообрядчества. Если об имперской действительности мы осведомлены весьма полно, то о староверческой России подобного сказать никак нельзя. Староверие – поистине terra incognita нашей истории. Однако, нам не устают повторять о том, что перед нами сугубо маргинальное явление, где кроме этнографических аспектов практически нечего выяснять. Подспорьем тому служит статистика, по которой лишь около 2 % населения империи являлись староверами. Вот именно здесь и кроется узловой нерв русской истории.
Раскольничий мир, за исключением купеческой верхушки староверов-поповцев, обитал в народных низах, стараясь избегать контактов с официальными структурами. Стремление к закрытости объяснялось не только причинами административного давления, но и глубоким осознанием собственной правоты. За непроницаемой для других завесой было удобнее поддерживать свой жизненный уклад, основанный на вере предков, а не на «Табели о рангах». Выпавший из поля зрения властей староверческий мир по-иному обосновывал и выстраивал свою жизнь. На протяжении XVIII столетия противники никоновских новин разработали концепции наступления последних времен, пришествия антихриста, прекращения священства и т. д. Результатом работы старообрядческой мысли стало появление различных беспоповских течений, где наиболее полно выразилось неприятие государства и его церкви, а также радикализм при решении социальных и политических проблем. В народных слоях Нечерноземного центра России, Севера, Поволжья, Урала и Сибири прочно укоренились крупные ветви беспоповщины – поморцы, федосеевцы, спасовцы, филипповцы, бегуны-странники, часовенные и т. д. Отличаясь различными вероисповедными оттенками, эти течения сходились в общем: они категорически не приемлили иерархии, неизбежным следствием чего стала утрата таинств. В тоже время, несмотря на такие кардинальные изменения богослужебной практики, беспоповцы оставались в полной уверенности, что пребывают в истинно русской вере; они использовали книги и иконы дониконовских времен.
Разумеется, господствовавшая церковь крайне негативно относилась к подобным «православным», называя их отщепенцами, утратившими всякую связь с литургией и предавшими религиозные идеалы. Между тем, отрешаясь от оценок синодального официоза, нельзя не признать, что в русском православии происходило формирование устойчивой внецерковной традиции, доселе действительно не типичной для русского народа. Ее представители реализовывали духовные потребности уже исключительно вне церковных форм, утративших в их глазах какую-либо сакральность. Выскажем предположение: перед нами некое подобие реформации, происходившей после раскола в латентном (т. е. скрытом) режиме. Не нужно забывать, что беспоповщина находилась внутри враждебного ей государства, тогда как западные протестанты являлись у себя правящими. Данным обстоятельством объясняется игнорирование нашими беспоповцами регистрационных процедур. Благо отсутствие полноценной церковной инфраструктуры и иерархии не делало это необходимым. Приверженцы беспоповщины не только не утруждали себя регистрацией, но и вообще, как правило, числились обычными синодальными прихожанами. В результате, на российском религиозном ландшафте «силуэт» русского варианта «протестантизма» был едва различим. Внешне он выглядел невнятной синодальной паствой, кстати, всегда вызывавшей тревогу у властей, многочисленные адепты этой ветви православия, по сути, оставались скрытыми завесой официальной статистики. Все определялось юридическим постулатом «Quod non est in actis, non est in mundo» («Чего нет в документах – не существует в мире» – лат.). А по имеющимся документам подавляющее большинство народа всегда находилось в лоне официального православия. Лишь революция со всей определенностью продемонстрировала иллюзорность официоза, вскрыв уже другую реальность.
Тем не менее, эта внецерковная православная реальность не только существовала. В ее народных пластах выработались новые экономические принципы, в чем состояло кардинальное отличие наших староверов от западных. Последние в своих государственных образованиях являлись полноправным хозяевами, составляя однородную конфессиональную среду. Западная протестантская этика порождала классический капитализм, формируя новые экономические реалии. В староверах, по аналогии с протестантами, усматривали таких же носителей здорового капиталистического духа. Однако староверческая жизнь оказалась ориентирована совсем на другое, имевшее не много общего с приоритетом буржуазных ценностей. Находясь под государственно-церковным прессом, староверы вынужденно нацеливались не на частное предпринимательство с получением прибыли в пользу конкретных людей или семей, а на обеспечение жизнедеятельности своих единоверцев. Только такие общественно-коллективистские механизмы представлялись оптимальными в том положении, в котором жило русское старообрядчество. А потому его религиозная идеология освящала экономику, предназначенную не для конкуренции хозяйств и обоснования отдельной избранности, как у протестантов, а для утверждения солидарных начал, обеспечивающих существование во враждебных условиях.
Вот этот мир, пребывавший в скрытом виде внутри Российской империи, и вырвался на поверхность в результате событий 1917 года. Причем февральские и октябрьские дни, при всей своей важности, имели все же верхушечное значение. Впоследствии широко разрекламированные большевиками, эти революции носили характер столичных переворотов. Они еще не затрагивали глубинных народных пластов, лишь послужив катализатором к грядущим событиям. Когда же государственно-общественный коллапс стал для всех явью, все кинулись искать и осмыслять причины случившейся катастрофы. Многие задавались вопросом: как Россию могла постигнуть такая ужасная участь? Почему значительная часть русского народа осталась равнодушной к судьбе своей родины? Удивляла та легкость, с которой произошло расставание с монархией, просуществовавшей триста лет. Еще больше поражало безразличие по отношению к церкви: надругательство над ней не вызвало повсеместно ожидаемой волны негодования. Все эти сюрпризы истории перестают восприниматься таковыми, а приобретают свою железную логику, если рассматривать их в качестве завершающего рывка, выхода русской реформации, подспудно тлевшей в народных староверческих глубинах. Только эта незамеченная реформация в новых условиях проявилась уже не в религиозном, а в социальном ключе. Выстаиваясь не вокруг частной, а вокруг общественной собственности с соответствующей коллективистской психологией. Такое понимание жизни, такие социальные практики не были навеяны марксисткой теорией, а вырастали из широкого религиозного поля, питающегося воззрениями староверия и далекими от буржуазных ценностей. С другой стороны, сотрудничество с инородческой частью партии также не оказалось прочным. Люди из русских низов, наполнившие партию, не собирались обслуживать мировую революцию. Они жаждали построения коммунизма или иначе «царства божьего на земле» не где– то в далеких странах, а здесь в России. Эта реальность, вырвавшаяся из народных глубин, стала теперь не просто хорошо различимой, а определяющей в формировании «лица» советского строя. Она – не плод деятельности кучки инородцев-большевиков, загипнотизировавших русских людей, не твердых в православной вере. Перед нами своего рода квазирелигия, заряженная верой в лучшее, в светлое будущее. Отсюда полная нетерпимость к другим концессиям будь-то официальное православие (неважно, либеральное или консервативное), сектантство и т. д. Всем, кто препятствует достижению справедливости, т. е. наступлению «царства божьего на земле» и, в конечном счете, оправдывает социальное устройство, обслуживающее благополучие отдельных лиц, семей. Устранение этого порядка сопровождалась жестокостью вполне сопоставимой с кровопролитием времен утверждения западной религиозной реформации. И закончился этот советский проект не тогда, когда у СССР закончились деньги, а еще раньше – в середине 70-х годов, когда у основной массы населения закончилась вера в него.
Примечания
1
Русское православие: вехи истории / под ред. А. И. Клибанова. – М., 1989. С. 562–611.
(обратно)2
Глинчикова А. Г. Индивидуализация личности в преддверии современности. – М., 2012. С. 95.
(обратно)3
Там же. С. 96.
(обратно)4
Рансимен С. Великая церковь в пленении: История Греческой церкви от падения Константинополя в 1453 году до 1821 года. – СПб., 2006. С. 233–326.
(обратно)5
Памятники старообрядческой письменности. – СПб., 1998.
(обратно)6
Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. – М., 2000. С. 466.
(обратно)7
Указ «О хождении на исповедь повсягодно, о штрафе за использование сего правила, и о положении на раскольников двойного оклада». 8 февраля 1716 года // Полный Свод Законов № 2991. Т. 5. – СПб., 1830. С. 196 // Указ «О сборе с раскольников двойных податей». 17 октября 1720 года // ПСЗ. № 3662. Т. 6. С. 248–249.
(обратно)8
Выписка из журнала Правительствующего Сената. 29 марта 1753 года // РГАДА. Ф. 342. Оп. 1. Д. 73. Л. 2.
(обратно)9
Указ «О не собирании в казну двойного оклада с городских и сельских жителей». 20 августа 1782 года // ПСЗ. № 15473. Т. 21. С. 634.
(обратно)10
Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. – М., 2006. Т. 2. С. 485.
(обратно)11
Смирнов П. Литература истории и обличения старообрядческого раскола в XIX столетии // Христианское чтение. 1901. № 1. С. 47.
(обратно)12
История Русской церкви. Т. VIII. Ч. 2. – М., 1997. С. 129.
(обратно)13
Там же.
(обратно)14
Мельников П. И. Счисление раскольников // Русский вестник. 1868. № 2. Т. 73. С. 423–426.
(обратно)15
Фукс В. Записка «Раскол в России», подготовленная для великого князя Константина Николаевича // ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 549. Л. 346.
(обратно)16
Аксаков И. С. в его письмах // Собрание писем в 3-томах. Т. 2. – М., 1888-1889. С. 181.
(обратно)17
Там же. С.185.
(обратно)18
«Об открытии в Ярославской губернии новой раскольничьей секты» // РГИА. Ф. 1473. Оп. 1. Д. 31. С. 171–173.
(обратно)19
История Русской православной церкви. Т. VIII. Ч. 2. С. 128–129.
(обратно)20
Фукс В. Записка «Раскол в России», подготовленная для великого князя Константина Николаевича // ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 549. Л. 346.
(обратно)21
Чукмалдинов Н. М. Мои воспоминания. Ч. 1. – СПб., 1899. С. 16.
(обратно)22
Там же.
(обратно)23
Белдыцкий Н. П. В парме // Очерки северной части Чердынского уезда. – Пермь, 1988. С. 363–365, 373.
(обратно)24
Монякова О. А. Ковровские старообрядцы и офени: грани взаимоотношений // Старообрядчество: история, культура, современность. – Великий Новгород, 2010. С. 333.
(обратно)25
Церковно-приходская летопись Ковровского уезда Владимирской губернии. Л. 11–12 // Частное собрание настоятеля единоверческого храма г. Куровское Московской области о. Д. Кузнецова.
(обратно)26
Отчет о состоянии Тульской епархии за 1900 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1871. Л. 142об-14Зоб.
(обратно)27
Добротворский Н. Раскольничья община на Вятке // Русские ведомости.1884. 24 янв.
(обратно)28
Он же. Раскольничья община на Вятке // Русские ведомости. 1884. 26 янв.
(обратно)29
Там же.
(обратно)30
РГИА. Ф. 1291. Оп. 53. Д. 1.
(обратно)31
Размежевание земель: Письмо из Вятки о волнениях в Орловском уезде Вятской губернии // Голос. 1880. 17 нояб.
(обратно)32
Керов В. В. «Се человек и дело его»: Конфессионально-этические факторы старообрядческого предпринимательства. – М., 2004. С. 462–467.
(обратно)33
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.
(обратно)34
Биллингтон Дж. Икона и топор: Опыт истолкования истории русской культуры. – М., 2001. С. 236.
(обратно)35
Аристов Н. Я. Устройство раскольничьих общин. – М., 1863. С. 2, 6, 27.
(обратно)36
Пришвин М. М. Государева дорога // Собр. соч. В 8-ми томах. Т. 6. – М., 19821984. С. 8, 21.
(обратно)37
Щербатов М. М. Статистика в рассуждении России // Собр. соч. В 7-ми томах. Т. 1. – СПб., 1896. С. 550–551.
(обратно)38
Мысли и предположения митрополита Филарета о средствах по уменьшению расколов» // Собрание мнений и отзывов Филарета по учебным и церковно-государственным вопросам. Т. 2. – СПб., 1885. С. 366.
(обратно)39
«Донесение митрополита Филарета Св. Синоду с отзывом о рукописях московского раскольника, мещанина Леонтия Круглоумова 5-10 ноября 1841 года» // Т. Доп. – М., 1887. С. 90.
(обратно)40
Там же. Т. 3. С. 254.
(обратно)41
Синицын И. И. Раскол в Ярославской губернии // Сборник правительственных сведений о раскольниках / сост. В. И. Кельсиев. Вып. № 4. – Лондон, 1862. С. 148.
(обратно)42
Эти материалы из бумаг И. П. Липранди были опубликованы А. А. Титовым в ряде выпусков «Чтений в Обществе истории и древностей российских» под названием «Дневные дозорные записи о московских раскольниках» // Чтения в Обществе истории и древностей российских. – М., 1885. Кн. 3, 4. – М., 1886. Кн. 1. – М., 1892. Кн. 1, 2.
(обратно)43
Записка «О Преображенском кладбище». 06 мая 1847 года // РГИА. Ф. 1473. Оп. 1. Д. 87. Л. 21.
(обратно)44
Васильев В. Организация и самоуправление Федосеевской общины на Преображенском кладбище в Москве // Христианское чтение. 1887. Ч. 2. С. 578–579.
(обратно)45
ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 549. Л. 193.
(обратно)46
Дневные дозорные записи о московских раскольниках за 1846 год // Чтения в обществе истории и древностей российских. – М., 1892. Кн. 2. С. 202.
(обратно)47
Там же. С. 200.
(обратно)48
Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. Т. 2. – М., 2006. С. 431.
(обратно)49
Беллюстин И. Еще о движениях в расколе // Русский вестник. 1865. № 6. Т. 57. С. 762.
(обратно)50
Нефедов Ф.Д. Наши фабрики: Повести и рассказы. Т. 1. – М., 1937. С. 14–15.
(обратно)51
Вавилов И. Беседы русского купца о торговле в 2-х частях. Ч. 1. – СПб., 1846. С. 187.
(обратно)52
Козьмин Б. П. Рабочее движение в России до революции 1905 года. – М., 1925. С. 21–22.
(обратно)53
Подробно об этом: Пыжиков А. В. Грани русского раскола. – М., 2013. С. 184207.
(обратно)54
Субботин Н. Раскол как орудие враждебных России сил. – М., 1867, С. 128.
(обратно)55
Письмо Н. П. Огарева к Н. П. Шибаеву // ГАРФ. Ф. 109. 1 экспедиция. 1862. Д.230. Ч. 74. Л. 65–66.
(обратно)56
Карелин А. Жизнь и деятельность М. А. Бакунина. – М., 1919. С. 14.
(обратно)57
Анзимиров В. А. Крамольники: Хроника из радикальных кружков семидесятых годов. – М., 1907. С. 103.
(обратно)58
Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. – Пг., 1923. С. 28, 107.
(обратно)59
ГАРФ. Ф. 109. 3 экспедиция, 1874. Д. 144. Ч. 87. Л. 7Зоб.
(обратно)60
Агитационная литература русских революционных народников. 1873–1875 гг. – Л., 1970. С. 109–110.
(обратно)61
Там же. С. 156–174.
(обратно)62
Подсчитано по: ГАРФ. Ф. 109. 3 экспедиция, 1874. Д. 144. Ч. 6. Л. 122.
(обратно)63
Михайлов А. Д. Воспоминания. – Женева, 1903. С. 17.
(обратно)64
Сергеев Н. И. Из жизни людей семидесятых годов: Воспоминания // ОР Пушкинского дома. Ф. 266. Оп. 2. Д. 497. С. 72–73.
(обратно)65
Каблиц И. И. Основы народничества. В 2 т. Т. 1. – СПб., 1888. С. 332.
(обратно)66
Каблиц И. И. (Юзов И.) Политические воззрения староверия // Русская мысль. 1882. № 4. С. 183–217.
(обратно)67
Фигнер В. Н. Автобиографические очерки. Т. 5, С. 214. // Фигнер В. Н. Полн. собр. соч. В 7 т. – М., 1932.
(обратно)68
Борецкий А. (Пругавин А. С.). Два миллиона или двадцать миллионов // Санкт-Петербургские ведомости. 1902. 25 янв.
(обратно)69
Бонч-Бруевич В. Д. Раскол и сектантство в России // Бонч-Бруевич В. Д. Избранные произведения: В 3 т. Т. 1. – М., 1959. С. 175.
(обратно)70
Борецкий А. (Пругавин А. С.). Два миллиона или двадцать миллионов // Санкт-Петербургские ведомости. 1902. 25 янв.
(обратно)71
Милюков П. Н. Традиционная религия и свободная мысль // Современные записки. Кн. 37. 1928. С. 396.
(обратно)72
Программа для собирания сведений по исследованию и изучению русского сектантства и раскола. 1908 // ОР РГБ. Ф. 369. К. 35. Ед. хр. 7. С. 2–4.
(обратно)73
Философов Д. В. Изучение русского сектантства // Философов Д. В. Неугасимая лампада: Статьи по церковным и религиозным вопросам. – М., 1912. С. 91–92; Бонч-Бруевич В. Д. Ответ Д. Философову на его статью «Изучение русского сектантства» // ОР РГБ. Ф. 369. К. 46. Ед. хр. 14. Л. 1–9.
(обратно)74
Кравецкий А. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диалогом). – М., 2012. С. 385.
(обратно)75
Бонч-Бруевич В. Д. Среди сектантов // Современный мир. 1910. № 1. С. 62.
(обратно)76
Прот. Буткевич Т. И. Обзор русских сект и толков. – Харьков, 1910. С. 56.
(обратно)77
Там же. С. 69–70.
(обратно)78
Блок А. Стихия и культура // Блок А. Собр. соч. В 8 т. Т. 5. – М., – Л., 1962. С. 35.
(обратно)79
Блок А. Литературные итоги 1907 года // Блок А. Собр. соч. В 8 т. Т. 5. – М., – Л., 1962. С. 215.
(обратно)80
Ермичев А. А. Религиозно-философское общество в Петербурге (1907–1917 годы): Хроника заседаний. – СПб., 2007. С. 45.
(обратно)81
Бердяев Н. А. Новое христианство // Русская мысль. Кн.7. 1916. С. 66.
(обратно)82
Белый А. Серебряный голубь. – М., 1995.
(обратно)83
Блок в дневнике Пришвина и новонайденное письмо Блока Пришвину // Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн.4. – М., 1987. С. 329.
(обратно)84
Там же.
(обратно)85
Пришвин М. М. Дневники. 1914–1917 годы. – СПб., 2007. С. 46. (запись от 10 февраля 1914 года).
(обратно)86
Венгеров А. С., А. Добролюбов // Русская литература XX века. 1890–1910 годы. – М., 1914. С. 265.
(обратно)87
Мережковский Д. С. Революция и религия // Русская мысль. 1907. № 3. С. 26.
(обратно)88
Дворцова Н. Пришвин и Мережковский (диалог о граде Невидимом) // Вопросы литературы. 1993. № 3. С. 143.
(обратно)89
Пришвин М. М. Дневники. 1914–1917 годы. – СПб., 2007. С. 360.
(обратно)90
Письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина – А. М. Скабичевскому. 9 февраля 1885 года // Литературное наследство. Т. 67. – М., 1959. С. 514.
(обратно)91
Салтыков-Щедрин М. Е. Пошехонская старина // Собр. соч. В 10-ти томах. Т. 10. – М., 1988. С. 295–296.
(обратно)92
Достоевский Ф. М. Дневник писателя // Полн. собр. соч. В 30-ти томах. Т. 27. – М., 1984. С. 24.
(обратно)93
Там же.
(обратно)94
Пыжиков А. В. Грани русского раскола. – М., 2013. С. 54–61.
(обратно)95
Журнал Особого совещания под председательством обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева, 03 февраля 1900 года // РГИА. Ф. 1574. Оп. 2. Д. 58. Л. 110.
(обратно)96
Отчет о состоянии Саратовской епархии за 1911 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2480. Л. 14.
(обратно)97
Горький М. Жизнь Клима Самгина // Горький М. Собр. соч. В 18 т. Т. 14. – М., 1960–1963. С.184.
(обратно)98
Философов Д. В. Старообрядчество и православие // Философов Д. В. Неугасимая лампада: Статьи по церковным и религиозным вопросам. С. 24.
(обратно)99
Там же. С. 27.
(обратно)100
Андерсон В. Старообрядчество и сектантство: Исторический очерк русского религиозного разномыслия. – СПб., 1912. С. 239.
(обратно)101
Богомолов Н., Малмстад Дж. У истоков творчества Михаила Кузмина // Вопросы литературы. 1993. № 3. С. 108.
(обратно)102
Горький М. В людях. Т. 9. С. 324–325.
(обратно)103
РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 62. Л. 143-14Зоб.
(обратно)104
Всероссийское совещание беспоповцев // Русское слово. 1911.03 мая.
(обратно)105
Расков Д. Е. «О процентной добыче и лихоимании»: Отношение к проценту в хозяйственной этике староверов // Старообрядчество в России (XVII-XX века). Вып. 4. – М., 2010. С. 663.
(обратно)106
Расков Д. Е. «О процентной добыче и лихоимании»: Отношение к проценту в хозяйственной этике староверов // Старообрядчество в России (XVII-XX века). Вып. 4. – М., 2010. С. 666.
(обратно)107
Ивановский Н. И. Внутреннее устройство секты странников, или бегунов. – СПб., 1901. С. 25.
(обратно)108
Бонч-Бруевич В. Д. Сектантство и старообрядчество в первой половине XIX века. Т. 1. С. 273–274.
(обратно)109
Отчет о состоянии Екатеринбургской епархии за 1909 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2328. Л. 48-48об.
(обратно)110
Отчет Владимирского епархиального архиерея. 13 февраля 1910 года // РГИА. Ф. 821. Оп. 188. Д. 188. Л. 211-211об.
(обратно)111
Отчет о состоянии Казанской епархии за 1913 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2581. Л.69.
(обратно)112
Маторин Н. М. Религия у народов Волжско-Камского края прежде и теперь. – М., 1929. С. 135.
(обратно)113
Справка по странникам к IV миссионерскому съезду // РГИА. Ф. 796. Оп. 189. Д. 8127. 4Зоб.
(обратно)114
Там же. С. 44 об. – 45.
(обратно)115
Донесение чиновника МВД по особым поручениям Г. Тарановского. Октябрь 1911 года // РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 63. Л. 87 – 88об.
(обратно)116
Ивановский Н. И. Внутреннее устройство секты странников или бегунов. С. 30.
(обратно)117
Там же.
(обратно)118
Маклаков В. А. Воспоминания. 1880–1917. – М., 2006. С. 206 – 212.
(обратно)119
Бонч-Бруевич В. Д. О сектантстве // ОР РГБ. Ф. 369. К. 36. Ед. хр. 19. Л. 29.
(обратно)120
Подробно об этом см.: Кутузов Б. П. Церковная «реформа» XVII века. – М., 2003.
(обратно)121
Белый А. Серебряный голубь. – М., 1995. С. 61.
(обратно)122
Десницкий В. Неосуществленный художественный замысел М. Горького – роман о российском Жан Вальжане, добродетельном каторжнике // Горький М. Материалы и исследования. Т. 3. – М., – Л., 1941. С. 365.
(обратно)123
Платонов А. Иван Жох. Т. 1. С. 80 // Платонов А. Собр. соч. В 8-ми томах. – М., 2011.
(обратно)124
Лавров А. С. Колдовство и религия в России. – М., 2000. С. 76–77.
(обратно)125
Горький М. Жизнь Клима Самгина. Т. 14 // Горький М. Собр. соч. В 18 томах. – М., 1960–1963..
(обратно)126
Панкратов А. С. Ищущие Бога. – М., 1911. С. 165, 170.
(обратно)127
Донесение чиновника МВД по особым поручениям Г. Тарановского. Октябрь 1911 года // РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 63. Л. 82об.
(обратно)128
ОР РГБ. Ф. 369. К. 38. Ед. хр. 12. Л. 18–19.
(обратно)129
Бонч-Бруевич В. Д. Организация отделения сектантских рукописей при рукописном отделе Академии наук (по личным воспоминаниям) // Там же. Л. 22–23.
(обратно)130
Бонч-Бруевич В. Д. Мое изучение крестьянского вопроса. Т. 1. С. 320.
(обратно)131
Избирательная программа, принятая I Всероссийским съездом уполномоченных отделов Союза русского народа и обязательная для всех ее отделов. 21 сентября 1906 года // Правые партии. Документы и материалы. Т. 1. – М., 1998. С. 190.
(обратно)132
Адрес от двух тысяч старообрядцев поморского согласия Ковенской губернии. 13 января 1906 года // РГИА. Ф. 1284. Оп. 185. Д. 98. Л. 64-65об.
(обратно)133
Съезд старообрядцев // Новое время. 1906. 21 сент.
(обратно)134
Мамин-Сибиряк Д. С. От Урала до Москвы // Собр. соч. В 8-ми томах. Т. 8. С. 395. – М., 1957.
(обратно)135
Выступление А.Х. Давыдова от имени 46 тысяч старообрядцев: Подробный отчет о Третьем Всероссийском съезде людей земли русской в Киеве. 1 октября 1906 года. – М., 1906. С. 67–68.
(обратно)136
Редигер А. Ф. История моей жизни. Т. 1. – М., 1999. С. 516.
(обратно)137
Свод положений IV миссионерского съезда 1908 года // РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 835. Л. 1Зоб.-14.
(обратно)138
Один из деятелей правых В. А. Балашов говорил: «Я, к сожалению, вижу по настроению собрания, что объединения в одну могучую организацию единого Союза Русского народа, кажется, не осуществится на этом съезде» (Подробный отчет о Третьем Всероссийском съезде людей земли русской в Киеве. С. 57).
(обратно)139
Подробный отчет о Третьем Всероссийском съезде людей земли русской в Киеве. С. 69.
(обратно)140
Речь о Б. В. Никольском, который пытался разъяснять участникам съезда, что и как именно следует делать. Подробный отчет о Третьем Всероссийском съезде людей земли русской в Киеве. С. 68.
(обратно)141
Там же. С. 52–53.
(обратно)142
Панкратова А. М. Проблема изучения истории пролетариата // История пролетариата СССР. № 1. – М., 1930. С. 2–3.
(обратно)143
Обширный список работ содержится в коллективном труде: Рабочий класс России: от зарождения до начала XX века / отв. ред. Кирьянов Ю.И и Волин М. С. – М., 1989. С. 680–721.
(обратно)144
Ананьич Б. В., Дальманн Д., Петров Ю. А. Религиозно-национальный фактор и специфика российского предпринимательства. XIX – начало XX века // Частное предпринимательство в дореволюционной России: этно-конфессиональная структура и региональное развитие. XIX – начало XX века. – М., 2010. С. 3.
(обратно)145
Дружинин В. Значение труда старообрядцев в развитии промыслов // Архив труда в России. Кн. 4. 1922. С. 26.
(обратно)146
Керов В. В. Предпринимательство старообрядцев в России // Частное предпринимательство в дореволюционной России: этно-конфессиональная структура и региональное развитие XIX – начало XX века. С. 31–141.
(обратно)147
Полищук Н. С. Обычаи фабрично-заводских рабочих Европейской России, связанные с производством и производственными отношениями (конец XIX – начало XX века) // Этнографическое обозрение. № 1. 1994. С. 73.
(обратно)148
Ленин В. И. Рабочий класс и национальный вопрос // Полн. собр. соч. Т. 24. С. 128.
(обратно)149
Выступление Н. Редина // Труды Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов. 28 декабря 1928 – 4 января 1929 года. Т. 1. – М., 1930. С. 409.
(обратно)150
Егоров Е. А. Рабочие Нижегородской губернии. 1900 – февраль 1917 года. – Горький, 1980. С. 38–39.
(обратно)151
Егоров Е. А. Рабочие Нижегородской губернии. 1900 – февраль 1917 года. – Горький, 1980. С. 38–39.
(обратно)152
Там же. С. 40–41.
(обратно)153
Там же. С. 74.
(обратно)154
Архангельский С. И. Очерки по истории промышленного пролетариата Нижнего Новгорода и Нижегородской области. XVIII–XIX века. – Горький, 1950. С. 156–157.
(обратно)155
Васильев Б. Н. К характеристике формирования промышленного пролетариата в России (по материалам Владимирской, Костромской и Ярославской губернии) // Ученые записки Шахтинского государственного педагогического института. Вып. 2. Т. 2. – Шахты, 1957. С. 212–213.
(обратно)156
Там же. С. 214–215.
(обратно)157
Мейерович М. Г. Об источниках пополнения фабрично-заводского пролетариата в эпоху империализма (на материалах Ярославской губернии) // История СССР. 1988. № 5. С. 159.
(обратно)158
Водарский Я. Е. Промышленные селения Центральной России в период генезиса и развития капитализма. – М., 1972. С. 54.
(обратно)159
Там же. С. 78.
(обратно)160
Васильев Б. Н. К характеристике формирования промышленного пролетариата в России (по материалам Владимирской, Костромской и Ярославской губернии). С. 216.
(обратно)161
Цветков Г. К., Хлопотухин Ф. П., Андреев П. П. Ярцево. – Смоленск, 1932.С. 11–12.
(обратно)162
Там же. С. 116–117.
(обратно)163
Рабочее движение в России в ХIХ веке. Т. 3. Ч. I. – М., 1957. С. 345.
(обратно)164
ГАРФ. Ф. 109 1878. 3 эксд. Д. 40. Л. 37–38.
(обратно)165
Лядов М. Как зародилась московская рабочая организация. На заре рабочего движения в Москве // Воспоминания участников московского рабочего союза (1893–1895 годы). – М., 1932. С. 75, 52.
(обратно)166
Семенова Л. Н. Рабочие Петербурга в первой половине XVIII века. – Л., 1974. С. 60.
(обратно)167
Семенова Л. Н. Рабочие Петербурга в первой половине XVIII века. – Л., 1974.С. 76.
(обратно)168
Мительман М., Глебов Б., Ульяновский А. История Путиловского завода. 1801–1917 годы. – М., 1961. С. 11–12.
(обратно)169
История рабочих Ленинграда: В 2 томах. Т. 1. – Л., 1972. С. 182–183.
(обратно)170
Крузэ Э. Э. Петербургские рабочие в 1912–1914 годах. – М., – Л., 1961. С.76.
(обратно)171
Розанов М. Обуховцы. – М., 1938. С. 58.
(обратно)172
Воспоминания А. Баранова // ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 4. Д. 162. Л. 9.
(обратно)173
Сулимов Н. Воспоминания обуховца (1900–1903 годы) // Пролетарская революция. 1922. № 12. С. 146.
(обратно)174
Фомин В. В. Воспоминания о подпольной работе революционных кружков на Балтийском заводе и об умственных течениях внутри кружков за период с 1887 по 1893 год // В начале пути. Воспоминания петербургских рабочих. 18721897 годы. – Л., 1975. С. 202.
(обратно)175
Кирьянов Ю. И. Менталитет рабочих России на рубеже ХIХ-XX веков // Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций (1861 – февраль 1917 года). – СПб., 1997. С. 66.
(обратно)176
Воспоминания Е. Власова // ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 4. Д. 67. Л. 7.
(обратно)177
Миронов К. Из воспоминаний рабочих. – М., 1906. С. 4–5.
(обратно)178
Тимофеев П. Чем живет заводской рабочий. – СПб., 1906. С. 98–99.
(обратно)179
Шаповалов А. С. На пути к марксизму // Авангард. Воспоминания и документы петербургских рабочих 1890-х годов. – Л., 1990. С. 259–260.
(обратно)180
Там же. С. 260, 262.
(обратно)181
Тахтарев К. М. Очерк петербургского рабочего движения 90-х годов. По личным воспоминаниям. – СПб., 1906. С. 34–35.
(обратно)182
Там же. С. 38.
(обратно)183
Там же. С. 35.
(обратно)184
История рабочих Донбасса: В 2 томах. Т. 1. – Киев, 1981. С. 36.
(обратно)185
Доклады уполномоченных комиссий // Труды XXIV съезда горнопромышленников Юга России. Ч. 1. – Харьков, 1899. С. 154.
(обратно)186
Вересаев В. В. Подземное царство // Книжки «Недели». 1892. № 7. С. 50.
(обратно)187
Там же. С. 122.
(обратно)188
Поталов С. И. Рабочие Донбасса в XIX веке. – М., – Л., 1963. С. 132.
(обратно)189
Рагозин Е. И. Железо и уголь на Юге России. – СПб., 1895. С. 37.
(обратно)190
Нестеренко А. А. Очерки истории промышленности и положения пролетариата Украины в конце XIX и начале XX века. – М., 1954. С. 157.
(обратно)191
Серый Ю. И. Рабочие Юга России в период империализма (1900–1913 годы). – Ростов, 1971. С. 87.
(обратно)192
Воспоминания Бондаревой // ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 6. Д. 120. Л. Зоб.
(обратно)193
Лось Ф. Е. Формирование рабочего класса на Украине и его революционная борьба в конце XIX – начале XX века. – Киев, 1956. С. 92.
(обратно)194
Петровский Г. И. Воспоминания о работе на Брянском заводе в 90-х годах // Революцией призванные. Воспоминания екатеринославских рабочих. 18921912 годы. – Днепропетровск, 1978. С. 26–28.
(обратно)195
Шрейдер Г. И. Очерки горной промышленности // Русская мысль. 1889. № 10.С. 46.
(обратно)196
Передовая // Санкт-Петербургские ведомости. 1898. 20 сент.
(обратно)197
Панкратова А. М. Проблемы изучения истории пролетариата // История пролетариата СССР. 1930. № 1. С. 12.
(обратно)198
Биржевые ведомости. 1916. 25 февр. (утро).
(обратно)199
Воробей П. И. Рабочий класс и украинское национальное движение. Российский пролетариат: облик, борьба, гегемония. – М., 1970. С. 79.
(обратно)200
См., напр., монографию: Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР. 1923–1939. – М., 2011. С. 108–173.
(обратно)201
Кирьянов Ю. И. Менталитет рабочего России на рубеже ХIХ-XX веков // Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций (1861 – февраль 1917 года). – СПб., 1997. С. 69.
(обратно)202
Прогожин М. В. Формирование и положение рабочих сахарной промышленности Украины во второй половине Х!Х века // Сборник статей по экономическим вопросам. – Киев, 1961. С. 204–205.
(обратно)203
Рожнов В. П. Промышленность и рабочий класс Чувашии в период капитализма (1861–1914 годы). Автореферат на соискание уч. ст. канд. ист. наук. – Л., 1978.С. 14.
(обратно)204
Балагуров Я. А. Фабрично-заводские рабочие дореволюционной Карелии. – Петрозаводск, 1968. С. 96.
(обратно)205
Абезгауз З. Э. Рабочий класс Белоруссии в начале XX века. – М., 1977. С. 59, 66, 86.
(обратно)206
Хакимов С. Х. Численность, состав и положение рабочих Башкирии накануне первой российской революции. Башкирия в революции 1905–1907 годов. – Уфа, 1975. С. 19.
(обратно)207
Стригунов И. В. Из истории формирования бакинского пролетариата (70-90-е годы). – Баку, 1960. С. 146–148.
(обратно)208
История Эстонской ССР: В 3 томах. Т. 2. – Таллин, 1966. С. 142. Вилкс Б. Я. Формирование промышленного пролетариата в Латвии во второй половине XIX века. – Рига, 1968. С. 110.
(обратно)209
Отчет о состоянии Костромской епархии за 1909 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442.Д. 2335. Л. 88об.
(обратно)210
Там же. Л. 90об.-91.
(обратно)211
Отчет о состоянии Костромской епархии за 1911 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442.Д. 2460. Л. 34.
(обратно)212
Отчет о состоянии Нижегородской епархии за 1906 год // РГИА. Ф. 796. Оп.442. Д. 2158. Л. 26 – 2боб.
(обратно)213
Отчет о состоянии Нижегородской епархии за 1907 год // РГИА. Ф. 796. Оп.442. Д. 2222. Л. 24.
(обратно)214
Там же.
(обратно)215
Отчет о состоянии Владимирской епархии за 1911 год // РГИА. Ф. 796. Оп.442. Д. 2442. Л. 4Зоб – 44.
(обратно)216
Отчет о состоянии Тверской епархии за 1909 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442.Д. 2360. Л. 11.
(обратно)217
Отчет о состоянии Ярославской епархии за 1895 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442.Д. 1603. Л. 46.
(обратно)218
Отчет о состоянии Рязанской епархии за 1914 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д.2663. Л. 38.
(обратно)219
Отчет о состоянии Рязанской епархии за 1908 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442.Д.2296. Л. 21об – 22.
(обратно)220
Отчет о состоянии Калужской епархии за 1911 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442.Д. 2457. Л.17об.
(обратно)221
Отчет о состоянии Казанской епархии за 1913 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442.Д. 2581. Л. 48 – 48об.
(обратно)222
Там же. С. 49об.
(обратно)223
Отчет о состоянии Екатеринбургской епархии за 1906 год // РГИА. Ф. 796.Оп. 442. Д. 2143. Л. 27.
(обратно)224
Отчет о состоянии Екатеринославской епархии за 1898 год // РГИА. Ф. 796.Оп. 442. Д. 1719. Л. 4боб – 47.
(обратно)225
Отчет о состоянии Екатеринославской епархии за 1912 год // РГИА. Ф. 796.Оп. 442. Д. 2517. Л. 11 – 11об.
(обратно)226
Отчет о состоянии Екатеринославской епархии за 1907 год // РГИА. Ф. 796.Оп. 442. Д. 2208. Л. 7.
(обратно)227
Погожее А.В. Учет численности и состава рабочих в России. – СПб., 1906.С. 99-100.
(обратно)228
Саблер В. К. О мирной борьбе с социализмом. Т. 1. – СПб., 1906. С. 6–9, 33.
(обратно)229
Там же. Т. 2. С. 97.
(обратно)230
Миронов К. Вспоминания рабочего. – М., 1906. С. 15.
(обратно)231
Кардигов К. Воспоминания о 1900–1906 годах // ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 6. Д. 120. Л. 73.
(обратно)232
Сообщение начальника Нижегородского охранного отделения в Департамент полиции. 2 апреля 1905 года // ГАРФ. Ф. 102. ОО. 195. Д. 1350, Ч. 18. Л. 1.
(обратно)233
Семенов В. Воспоминания о Сормове // ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 8. Д. 160. Л. 72об.
(обратно)234
Озеров И. Х. Религия и общественность. – М., 1907. С. 11.
(обратно)235
Там же.
(обратно)236
Озеров И. Х. Религия и общественность. – М., 1907. С. 14.
(обратно)237
Зеньковский В. Россия и Православие. – Киев, 1916. С. 31.
(обратно)238
Персии, М.М. Атеизм русского рабочего класса (1870–1905 годы). – М., 1965; Кадсон И. В. Отношение рабочих различных районов России к религии и церкви (1907–1916 годы) // Рабочие России в эпоху капитализма: сравнительный порайонный анализ. // Сб. статей. – Ростов-на-Дону, 1972. С. 208–221.
(обратно)239
Письмо министра внутренних дел И. Л. Горемыкина к министру финансов С. Ю. Витте. 15 января 1898 года // ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1898. Д. 4. Ч. 3. Л. 27–28.
(обратно)240
Выписка из полученного агентурным путем письма с подписью «В. Остряк» из Иваново-Вознесенска Владимирской губернии в редакцию «Русского слова». 30 декабря 1897 года // ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1898. Д. 4. Ч. 3. Л. 9.
(обратно)241
Самойлов Ф. По следам минувшего. Воспоминания старого большевика. – М., 1934. С. 12.
(обратно)242
Воспоминания Е. Г. Власова. 1897–1904 годы // ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 4. Д. 67. Л. 6.
(обратно)243
Автобиография Ф. С. Андреева // Русский рабочий в революционном движении. Рабочие завода «Серп и молот» (бывший Гужон). Вып. 2. – М., 1931. С. 61.
(обратно)244
Сарабьянов В. Беглые воспоминания // Антирелигиозник. 1927. № 10. С. 35.
(обратно)245
Там же.
(обратно)246
Авдеенко А. Я люблю. – М., 1968. С. 7.
(обратно)247
Там же. С. 69–70.
(обратно)248
См.: Домановский Л., Новиков Н. Русский антицерковный фольклор // В кн.: Русское народно-поэтическое творчество против религии и церкви. – М., – Л., 1961. С. 6.
(обратно)249
См.: Русское народно-поэтическое творчество. С. 62, 165, 167, 260 и др.
(обратно)250
Автобиография А. П. Дьячкова // Русский рабочий в революционном движении. Рабочие «Трехгорной мануфактуры». Вып.1. – М., 1930.
(обратно)251
Автобиография Г. А. Калеева // Русский рабочий в революционном движении. Рабочие «Трехгорной мануфактуры». Вып.1. – М., 1930. С. 133.
(обратно)252
Автобиография Ф. С. Андреева // Русский рабочий в революционном движении. Рабочие завода «Серп и молот» (бывший Гужон). – М., 1931. С. 56.
(обратно)253
Махов Н. Жизнь минувшая. – Иваново, 1939. С. 33.
(обратно)254
Автобиография И. М. Куклева // Русский рабочий в революционном движении. Рабочие «Трехгорной мануфактуры». Вып.1. С. 49.
(обратно)255
Автобиография П. Д. Пучкова // Русский рабочий в революционном движении. Рабочие завода «Серп и молот» (бывший Гужон). Вып.2. С. 161.
(обратно)256
Там же.
(обратно)257
Степанов С. А. Рабочие и черносотенные организации. 1905–1917 годы // Рабочие и интеллигенция в эпоху реформ и революций. 1861 – февраль 1917 года. – СПб., 1997. С. 358–373.
(обратно)258
Автобиография Маркова (Егорова) // ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 4. Д. 66. Л. 3–4.
(обратно)259
Автобиография Ковалевского // ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 4. Д. 65. Л. 61.
(обратно)260
Автобиография И. М. Балдина // ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 5. Д. 635. Л. 41.
(обратно)261
Амосов И. К. На Брянском заводе в Екатеринославле // Революцией призванные. Воспоминания екатеринославских рабочих 1893–1912 годы. – Днепропетровск, 1978. С. 88.
(обратно)262
Телеграмма начальника Екатеринославского жандармского управления в Департамент полиции. 5 апреля 1901 года // ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1898. Д. 5. Ч. 8. Л. Г. Л. 2.
(обратно)263
Письмо Екатеринославского губернатора в МВД. 5 апреля 1901 года // ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1898. Д. 4. Ч 18. Л. А. Л. 42 – 43.
(обратно)264
Канатчиков С. И. Из истории моего бытия // Авангард. Воспоминания и документы питерских рабочих 1890-х годов. – Л., 1990. С. 124.
(обратно)265
Автобиография Ц. Я. Рабиновича // ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 4. Д. 61. Л. 10.
(обратно)266
Из воспоминаний Г.А. и Г. А. Быковых // ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 5. Д. 636. Л. 73.
(обратно)267
В ходе манифестации рабочие выражали желание, чтобы день 19 февраля как славная дата отечественной истории был объявлен ежегодным праздником // ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1902. Д. 95. Л. 4.
(обратно)268
Зубатов С. В. Из переписки с МВД // Каторга и ссылка. 1925. № 14. С. 116.
(обратно)269
Письмо из Москвы по парижскому адресу. 15 апреля 1902 года // ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1902. Д. 5. Ч. 2. Л. 49.
(обратно)270
Дружинин Н. История Пролетарской (бывшей Рогожско-Симоновской) большевистской организации. 1900–1906 годы. – М., 1931. С. 6.
(обратно)271
II съезд РСДРП. Июль-август 1902 года. Протоколы. – М., 1959. С. 635.
(обратно)272
Отчет о состоянии Курской епархии за 1909 год // Там же, Д. 2336. Л. 22.
(обратно)273
Бонч-Бруевич В. Д. Раскол и сектантство в России. Т. 1. С. 175 // Бонч-Бруевич В. Д. Избр. соч. В 3-х томах – М., 1959.
(обратно)274
Отчет о состоянии Вятской епархии за 1899 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 771. Л. 52об; Отчет о состоянии Вятской епархии за 1906 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2140. Л. 37.
(обратно)275
Отчет о состоянии Олонецкой епархии за 1899 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1791. Л.56-5боб.
(обратно)276
Отчет о состоянии Костромской епархии за 1913 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2585. Л. 2боб.
(обратно)277
Отчет о состоянии Владимирской епархии за 1911 год// РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2442. Л. 46-4боб.
(обратно)278
Отчет о состоянии дел Пермской епархии за 1897 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1684. Л.33.
(обратно)279
Маслова Г. С., Станюкович Т. С. Материальная культура сельского и заводского населения Приуралья (XIX – начало XX века) // Труды института этнографии АН СССР. Т. 57. – М., 1960. С. 142.
(обратно)280
Отчет о состоянии Екатеринославской епархии за 1912 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2517. Л. 11-11об.
(обратно)281
Ельчанинов А. В. История религий. – М., 1909. С. 187.
(обратно)282
Выступление Л. Мартова // Первый Всероссийский съезд профессиональный союзов. 7-14 января 1918 года. – М., 1918. С. 114.
(обратно)283
Подробно об этом см.: Пыжиков А. В. Грани русского раскола. Заметки о нашей истории. – М., 2013. С. 167–182.
(обратно)284
Митинский А. Н. Горнозаводской Урал. – СПб., 1909. С. 61.
(обратно)285
Суханов И. В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. – М., 1976. С. 130.
(обратно)286
Расков Д. Е. Экономические институты старообрядчества. – СПб., 2012. С. 133–134.
(обратно)287
Крупская Н. К. Воспоминания о Ленине. Изд. 3-е, доп. – М., 1989. С. 101–102.
(обратно)288
Крупская Н. К. Воспоминания о Ленине. Изд. 3-е, доп. – М., 1989. С. 102.
(обратно)289
Третий съезд РСДРП. Протоколы. Апрель-май 1905 года. – М., 1937. С. 273.
(обратно)290
Истер Дж. Советское государственное строительство. Система личных связей самоидентификации элиты в Советской России. – М., 2010. С. 51.
(обратно)291
Там же. С. 53.
(обратно)292
Крупская Н. К. Воспоминания о Ленине. С. 102.
(обратно)293
Подсчитано по: Доклад начальника отделения по охране общественной безопасности и порядка в столице начальнику Санкт-Петербургского жандармского управления. 14 апреля 1905 года // ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1905. Д. 5. Ч. 1. Л. А. С. 110–113.
(обратно)294
Третий съезд РСДРП. Протоколы. Апрель-май 1905 года. – М., 1937. С. 277.
(обратно)295
Крупская Н. К. Воспоминания о Ленине. С. 111.
(обратно)296
Ленин В. И. Выступление при обсуждении проектов резолюции об отношении рабочих и интеллигентов в социал-демократических организациях. 22 апреля 1905 года // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 174.
(обратно)297
Третий съезд РСДРП. Протоколы. Апрель-май 1905 года. С. 274.
(обратно)298
Третий съезд РСДРП. Протоколы. Апрель-май 1905 года. С. 274.
(обратно)299
Там же. С. 274–275.
(обратно)300
Выступление Аксельрода П.Б. // V Лондонский съезд РСДРП. Протоколы. Апрель-май 1907 года. – М., 1963. С. 505.
(обратно)301
Проф. Грибовский В. Загадочный герой 9 января 1905 года (Из воспоминаний) // Сегодня. 1921.23 янв. (Рига).
(обратно)302
Каутский К. Американский и русский рабочий. – Киев, 1906. С. 42.
(обратно)303
Там же. С. 41.
(обратно)304
Подсчитано по: Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. – М., 1989.
(обратно)305
Прозоров Г. С. Выдающийся деятель советского просвещения // Советская педагогика. 1963. № 4. С. 92.
(обратно)306
Ершов В. Навсегда без конца. Повесть об Андрее Бубнове. – М., 1996. С. 20–22.
(обратно)307
Биневич А., Серебрянский З. Андрей Бубнов. – М., 1964. С.14.
(обратно)308
Денике Ю. Купеческая семья Тихомирновых // Новый журнал. – Нью-Йорк, 1963. № 68. С. 281.
(обратно)309
Там же. С. 282.
(обратно)310
Тихомирнов В. А. // В кн.: Борцы за счастье народное. – Казань, 1967. С. 434–439.
(обратно)311
Калинина П. И. Путь в революцию (из воспоминаний сестры М. И. Калинина) // Калинин М. И. Избранные речи и статьи. Воспоминания. – Калининград, 1970. С. 248–249.
(обратно)312
Вахмистров А. В. О революционной деятельности М. И. Калинина в дооктябрьский период // Ученые записки Калининского педагогического института им. М. И. Калинина. Т. 27. – Калинин: 1958, С. 212.
(обратно)313
Гладков Ф. Встречи с М. И. Калининым // Калинин М. И. Избранные речи и статьи. Воспоминания. С. 210.
(обратно)314
Денисовский Н. Незабываемые встречи // Калинин М. И. Избранные речи и статьи. Воспоминания. С. 221–222.
(обратно)315
Дудочкин П. Тверские тетрадки // Байкал.1987. № 3. С. 117–118.
(обратно)316
Ворошилов К. Е. Рассказы о жизни. Воспоминания. Кн.1. – М., 1971. С. 6–7.
(обратно)317
Там же.
(обратно)318
Там же. С. 9–11.
(обратно)319
Архангельский В. Ногин. – М., 1964. С. 7–8, 29–30.
(обратно)320
Мельчин А. И. Николай Михайлович Шверник: Биографический очерк. – М., 1977. С. 5.
(обратно)321
Там же. С. 8–9, 17.
(обратно)322
Андреев А. А. Воспоминания, письма. – М., 1985. С. 14–15, 20.
(обратно)323
Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе республике Советов.1918–1920 годы. – М., 1988. С. 176–177.
(обратно)324
Деятельности «рабочей оппозиции» и «рабочей группы» посвящены работы: Наумов В. П. Александр Гаврилович Шляпников. – М., 1991; Санду Т. А. «Рабочая оппозиция» в РКП(б) 1919–1923 годов. Дисс. на соиск. уч. ст. канд. истор. наук. – Тюмень, 2006.
(обратно)325
Носач В. И. Профсоюзы России: драматические уроки. 1917–1921 годы. – Спб., 2001. С. 102.
(обратно)326
Гарви П. А. Профессиональные союзы в России в первые годы (1917–1921 годы). – Нью-Йорк, 1958. С. 76.
(обратно)327
Выступление Смирнова // VIII съезд Российской коммунистической партии (большевиков). Стенографический отчет. 18–23 марта 1919 года. – М., 1919. С. 133.
(обратно)328
Рабочий класс Советской России в первые годы диктатуры пролетариата. Сборник документов и материалов. – М., 1964. С. 201–202.
(обратно)329
Ленин В. И. Доклад о роли и задачах профессиональных союзов на заседании фракции съезда горнорабочих. 23 января 1921 года // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 249.
(обратно)330
Наумов В. П. Александр Гаврилович Шляпников. С. 3–4.
(обратно)331
Известия ЦК КПСС. 1990. № 5. С. 132.
(обратно)332
Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. – М., 1989. С. 191.
(обратно)333
Мясников Г. И. Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова (публикация Б. И. Беленкина и В. К. Виноградова) // Минувшее. Вып. 18. – СПб., 1995. С. 25.
(обратно)334
Там же. С. 49.
(обратно)335
Каторга и ссылка. Кн.11. 1924. № 4. С. 271.
(обратно)336
См., напр.: Санду Т. А. «Рабочая оппозиция в РКП(б) 1919–1920 годов. С. 61.
(обратно)337
Людвинская Т. Ф. Из истории борьбы за единство партии в 1920–1921 годах // Исторический архив. 1960. № 2. С. 161.
(обратно)338
Там же.
(обратно)339
Микоян А. И. В начале двадцатых… – М., 1975. С. 25.
(обратно)340
Там же. С. 59.
(обратно)341
Там же. С. 26.
(обратно)342
Подробно об этих событиях в Тульской губернии в 1920 году см.: Князева К. Борьба тульской партийной организации за сплочение рабочего класса в первые годы НЭПа (1920–1923 годы). – Тула, 1957.
(обратно)343
Из «тезисов, принятых группой членов Самарской организацией РКП(б) по вопросам о разногласиях внутри самой партии и о состоянии Самарской губернской партийной организации». 18 ноября 1920 года // Историк-марксист. 1935. № 7. С. 88–89.
(обратно)344
Там же. С.
(обратно)345
Фельдман В. В. Борьба уральских коммунистов против «мясниковщины» (1921–1922 годы) // Классовая борьба на Урале (1917–1932 годы). – Свердловск, 1974. С. 35–59.
(обратно)346
Выступление Д. З. Мануильского // VIII конференция РКП(б). Протоколы. Декабрь 1919 года. – М., 1961. С. 107.
(обратно)347
Киселев А. Ф. Профсоюзы и советское государство (дискуссии 1917–1920 годов). – М., 1991. С. 74.
(обратно)348
Письмо В. И. Ленина М. Горькому. 31 июля 1919 года // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 82.
(обратно)349
Киселев А. Ф. Указ. соч. С. 73–74.
(обратно)350
Выступление Ю. Х. Лутовинова // IX конференция РКП(б). Протоколы. Сентябрь 1920 года. – М., 1972. С. 164.
(обратно)351
Выступление С. П. Медведева // Там же. С. 176.
(обратно)352
Выступление И. И. Кутузова // Там же. С. 187.
(обратно)353
Выступление М. И. Калинина // IX конференция РКП(б). Протоколы. Сентябрь 1920 года. С. 168.
(обратно)354
Там же. С. 169.
(обратно)355
Выступление Ю. Х. Лутовинова // V Всероссийская конференция профессиональных союзов. Стенографический отчет. 3–7 ноября 1920 года. – М., 1921. С. 98, 10.
(обратно)356
Шляпников А. Г. О задачах рабочих союзов. 28 декабря 1920 года // ГАРФ. Ф.5451. Оп. 42. Д. 6. Л. 39–40.
(обратно)357
Там же. Л. 41.
(обратно)358
Там же. Л. 42.
(обратно)359
Там же. Л. 42–43.
(обратно)360
Задачи союза металлистов (тезисы к пленуму) // ГАРФ. Ф. 5469. Оп. 5.Д. 12а. Л. 55–56.
(обратно)361
Рыкунов М. Задачи профессиональных союзов // Правда. 1921. 12 янв.
(обратно)362
Тезисы рабочей оппозиции // Правда. 1921.25 янв.
(обратно)363
Там же.
(обратно)364
Рабочая газета // Труд. 1921. 15 фев.
(обратно)365
Какие вопросы волнуют рабочие массы? // Труд. 1921.20 фев.
(обратно)366
Вышинский А. Уроки одной конференции (продовольственный вопрос у металлистов) // Правда. 1921.08 фев.
(обратно)367
Яковлев А. О возрождении рабочих советов // Правда. 1921.09 фев.
(обратно)368
Волин Б. «Крестные» и «крестники» // Правда. 1921.10 фев.
(обратно)369
Ленин В. И. Доклад о роли и задачах профессиональных союзов на заседании фракции съезда горнорабочих. 23 января 1921 года // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 249.
(обратно)370
Ленин В. И. Доклад о роли и задачах профессиональных союзов на заседании фракции съезда горнорабочих. 23 января 1921 года // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 249.
(обратно)371
Там же.
(обратно)372
Юренев К. К. Наши нестроения (к вопросу о преодолении элементов упадка в РКП). – Курск, 1920. С. 39.
(обратно)373
Там же. С. 40.
(обратно)374
Каменев Л. Б. О профсоюзах (итоги дискуссии о профсоюзах в Московском комитете) // Правда. 1921.21 янв.
(обратно)375
Сталин И. Наши разногласия // Правда. 1921. 19 янв.
(обратно)376
Зиновьев Г. Е. Неправильное во взглядах рабочей оппозиции на роль профсоюзов // Правда. 1921.27 янв.
(обратно)377
Раскол в РКП // Социалистический вестник. – Берлин, 1921.01 фев.
(обратно)378
Эльяшов М. Кризис коммунистической партии // Сегодня. 1921. 27 янв. (Рига).
(обратно)379
Коллонтай А. М. Рабочая оппозиция. (На правах рукописи). – М., 1921. С. 4.
(обратно)380
Там же. С. 25.
(обратно)381
Там же. С. 34.
(обратно)382
Доклад В. И. Ленина // Х съезд РКП(б). Стенографический отчет. Март 1921 года. – М., 1933. С. 29.
(обратно)383
Там же. С. 30.
(обратно)384
Выступление А. Г. Шляпникова // Х съезд РКП(б). С. 74.
(обратно)385
Там же. С. 75.
(обратно)386
Выступление Сосновского // Там же. С. 81–82.
(обратно)387
Выступление Н. Н. Осинского // Там же. С. 80.
(обратно)388
Выступление Д. Б. Рязанова // Х съезд РКП(б). С. 88.
(обратно)389
Выступление К. Б. Радека // Там же. С. 291.
(обратно)390
Выступление Е. М. Ярославского // Там же. С. 107–108.
(обратно)391
Выступление В. И. Ленина // Там же. С. 126.
(обратно)392
Там же. С. 118.
(обратно)393
Выступление А. М. Коллонтай // Там же. С. 301.
(обратно)394
Выступление Е. Н. Игнатова // Там же. С. 242.
(обратно)395
Выступление С. П. Медведева // Там же. С. 274.
(обратно)396
Выступление Е. Н. Игнатова // Там же. С. 242–243.
(обратно)397
Выступление Н. И. Бухарина // Х съезд РКП(б). С. 327–328.
(обратно)398
Выступление Е. М. Ярославского // Там же. С. 266.
(обратно)399
Выступление С. П. Медведева // Там же. С. 271, 273.
(обратно)400
Подробно об этом феномене в рабочем движении см., Сыркин Д. Махаевщина. – М., – Л., 1931.
(обратно)401
Выступление Удова // IV Всероссийский съезд профессиональных союзов. Стенографический отчет. 17–25 мая 1921 года. – М., 1921. С. 59.
(обратно)402
Смилга И. На повороте. Заметки к Х съезду партии. – М., 1921. С. 24.
(обратно)403
Стенограмма заседания IV съезда рабочих-металлистов. 26–27 мая 1921 года // ГАРФ. Ф. 5469. Оп. 5. Д. 2. Л. 5.
(обратно)404
СНХ и профсоюзы (передовая) // Труд 1921.04 мая.
(обратно)405
Наумов В. П. Александр Гаврилович Шляпников. С. 41–42.
(обратно)406
Ленин В. И. Письмо Г. Мясникову. 5 августа 1921 года // Полн. собр. соч. Т. 44. С. 80.
(обратно)407
Там же. С. 79.
(обратно)408
Там же. С. 80.
(обратно)409
Ленин В. И. Письмо В. М. Молотову и всем членам политбюро ЦК РКП(б).5 ноября 1921 года // Полн. собр. Соч. Т. 54. С. 58–59.
(обратно)410
Опора пролетарской диктатуры // Труд. 1921.24 март.
(обратно)411
От станка – в центр // Труд. 1921.27 март.
(обратно)412
Х съезд РКП(б). Стенографический отчет. Март 1921 года. С. 390.
(обратно)413
Носач В. И. Профсоюзы России: драматические уроки. 1917–1921 годы. – СПб., 2001. С. 145–146.
(обратно)414
Соображения лидеров «рабочей оппозиции» по существу постановления президиума ВСНХ от 11 июля 1921 года в связи с декретом правительства «О сдаче в аренду предприятий» // ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 42. Д. 29. Л. 1–2.
(обратно)415
Там же. Л. 3.
(обратно)416
Тезисы профсоюза металлистов «Организационные задачи союза металлистов в области организации производства в связи с новой экономической политикой» // ГАРФ. Ф. 5469. Оп. 17. Д. 9. Л. 1–2.
(обратно)417
Протокол городской конференции рабочих-металлистов г. Казани. 9 мая 1921 года // ГАРФ. Ф. 5469. Оп. 5. Д. 11. Л. 37.
(обратно)418
Выступление Певцаева // IV Всероссийский съезд профессиональных союзов // Стенографический отчет. 17–25 мая 1921 года. С. 60.
(обратно)419
«Рабочая оппозиция». Материалы и документы. 1920–1926 годы. – М., 1926. С. 91.
(обратно)420
Мясников Г. И. Очередной обман. – Париж, 1931. С. 22.
(обратно)421
Там же. С. 17.
(обратно)422
Санду Т. А. Эволюция большевизма и «старая партийная гвардия»: заявление 22-х в ИККИ. Тюменский исторический сборник. Вып. IX. – Тюмень, 2006. С. 79–87.
(обратно)423
Профессиональные союзы и хозяйственные органы (Циркулярное обращение) // Труд. 1922. 22 фев.
(обратно)424
Там же.
(обратно)425
Там же.
(обратно)426
По поводу письма Томского (ВЦСПС) и Богданова (ВСНХ) // Труд. 1922. 25 фев.
(обратно)427
Выступление С. П. Медведева // XI съезд РКП(б). Стенографический отчет. 27 марта – 2 апреля 1922 года. – М., 1922. С. 174–175; Выступление А.М. Коллонтай // XI съезд РКП(б). С. 176–177.
(обратно)428
Выступление А. Г. Шляпникова // XI съезд РКП(б). С. 92–93.
(обратно)429
Выступление И. И. Кутузова // XI съезд РКП(б). С. 405.
(обратно)430
Ярославский Е. М. Рабочая оппозиция, Рабочая группа, Рабочая правда. – М., 1927. С. 63.
(обратно)431
Выступление Г. Е. Зиновьева // XII съезд РКП(б). Стенографический отчет.17–25 апреля 1923 года. – М., 1923. С. 201.
(обратно)432
XI съезд РКП(б). Стенографический отчет. 27 марта – 2 апреля 1922 года. – М., 1922. С. 26.
(обратно)433
Клибанов А. И. Из воспоминаний о Бонч-Бруевиче // ОР РГБ. Ф. 648. К. 75. Ед. хр. 17. Л. 16–17.
(обратно)434
В частности, с подачи Бонч-Бруевича в разгар Гражданской войны (4 января 1919 года) Ленин подписал декрет Совнаркома об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям. См., Декреты советской власти. Т. 4. – М., 1969. С. 283.
(обратно)435
К сектантам и старообрядцам, живущим в России и за границей (из воззвания комиссии по заселению свободных земель) // Известия.1921. 19 окт.
(обратно)436
Путинцев Ф. Политическая роль сектантства. – М., 1928. С. 73.
(обратно)437
К сектантам и старообрядцам… // Известия. 1921. 19 окт.
(обратно)438
Трегубов И. Сектанты как строители коммунистической жизни // Известия. 1921. 15 нояб.
(обратно)439
Бонч-Бруевич В. Д. Возможное участие сектантов в хозяйственной жизни СССР // Правда. 1924. 15 мая.
(обратно)440
Бирюков П. Роль и значение сектантства в строительстве новой жизни // Вестник духовных христиан-молокан. 1925. № 1–2. С. 21–22.
(обратно)441
Приложение к Стенографическому отчету XIII съезда РКП(б): Материалы секций и комиссий. – М., 1924. С. 79–80.
(обратно)442
Там же. С. 82.
(обратно)443
Шершенев Е. Ф. Новоиерусалимская коммуна им. Л. Н. Толстого // Воспоминания крестьян-толстовцев. 1900–1970 годы. – М., 1989. С. 81.
(обратно)444
Ярославский Е. М. Нужны ли привилегии сектантам // Правда.1924. 23 мая.
(обратно)445
Степанов И. И. Тринадцатый пункт тезисов «О работе в деревне» // Правда, 25.04.1924.
(обратно)446
Бонч-Бруевич В. Д. Возможное участие сектантов в хозяйственной жизни СССР // Правда. 1921.15 мая.
(обратно)447
Там же.
(обратно)448
К сектантам и старообрядцам… // Известия. 1921. 19 окт.
(обратно)449
Антирелигиозное совещание при Агитпроме ЦК ВКП(б). 27–29 1926 года // Антирелигиозник. 1926. 5. С. 22.
(обратно)450
Эткинд А. Русские секты и советский коммунизм: проект Владимира Бонч-Бруевича // Минувшее. Вып. 19. – СПб., 1996. С. 279.
(обратно)451
Путинцев Ф. Районы распространения сектантства прежде и теперь // Антирелигиозник. 1927. № 1. С. 19.
(обратно)452
Он же. Сектантство и антирелигиозная пропаганда // Антирелигиозник. 1929. № 6.С. 21.
(обратно)453
Рассел Б. Практика и теория большевизма. – М., 1998. С. 72.
(обратно)454
Шкаратан О. И. Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР. – М., 1970. С. 195.
(обратно)455
Там же. С. 257.
(обратно)456
Шкаратан О. И. Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР. – М., 1970. С. 258.
(обратно)457
Выступление Жолдака // XIV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 18-31 марта 1925 года. – М., – Л., 1926. С. 8S2.
(обратно)458
«О порядке снабжения новых заводов рабочей силой». Постановление НКТ СССР и ВСНХ СССР от 21 июня 1930 года // Сборник действующего законодательства и ведомственных распоряжений по подготовке рабочих кадров и снабжении ими народного хозяйства. – М., 1931. С. 121–122.
(обратно)459
Эренбург И. День второй // Эренбург И. Собр. соч. В 9 т. Т. 3. – М., 1964–1966. С. 162–175.
(обратно)460
Федотов Г. П. Есть и будет. – Париж: 1932, С. 140.
(обратно)461
Саранцев Н. В. Большевистская властвующая элита: возникновение, становление и трансформация. 1900–1939 годы. – Саратов, 2001. С. 132.
(обратно)462
Молотов В. М. Вопросы партийной практики. – М., 1923. С. 21.
(обратно)463
Ленин В. И. Об условиях приема новых членов в партию // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 19.
(обратно)464
Там же. С. 17.
(обратно)465
Выступление В. И. Ленина // VIII конференция РКП(б). Протоколы. Декабрь 1919 года. – М., 1961. С. 24.
(обратно)466
Выступление В. И. Ленина // XI съезд РКП(б). Стенографический отчет. 27 марта – 2 апреля 1922 года. – М., 1922. С. 32.
(обратно)467
Выступление Г. Е. Зиновьева // Там же. С. 248.
(обратно)468
Тяжельникова В. С. Ленинский призыв 1924–1925 годов: новые люди, новые модели политического поведения // Социальная история. Ежегодник. 2008. – СПб., 2009. С. 120–121.
(обратно)469
Ленин В. И. Добавление к письму от 24 декабря 1922 года. 26 декабря 1922 года // Полн. собр. соч. Т. 45. С. 47–348.
(обратно)470
Троцкий Л. Д. Письмо членам ЦК и ЦКК РКП(б). 8 октября 1923 года // Известия ЦК КПСС. 1990. № 5. С. 169.
(обратно)471
Там же.
(обратно)472
Сорин В. Л. Рабочая группа («мясниковщина»). – М., 1924. С. 121–126.
(обратно)473
Шляпников А. Г. Наши разногласия // Правда. 1924. 18 янв.
(обратно)474
Там же.
(обратно)475
Речь Сталина на пленуме МК и МКК ВКП(б) // Правда. 1928. 23 окт.
(обратно)476
Выступление И. В. Сталина // ХIII конференция РКП(б). Бюллетень № 3 от 17 января 1924 года. – М., 1924. С. 104.
(обратно)477
Московские большевики в борьбе с правым и левым оппортунизмом. 1921–1929 годы. – М., 1969. С. 61–62.
(обратно)478
Дискуссия 1923 года. Материалы и документы. – М., -Л., 1927. С. 107.
(обратно)479
Выступление Мельничанского // XIII конференция РКП(б). С. 138.
(обратно)480
Выступление И. В. Сталина // Там же. С. 156.
(обратно)481
Выступление Е. М. Ярославского // Там же. С. 130.
(обратно)482
Рассел Б. Практика и теория большевизма. – М., 1998. С. 31.
(обратно)483
Выступление Г. Е. Зиновьева // XI съезд РКП(б). Стенографический отчет. 27 марта – 2 апреля 1922 года. С. 363.
(обратно)484
Выступление Г. Е. Зиновьева // XII съезд РКП(б). Стенографический отчет. 17–25 апреля 1923 года. – М., 1923. С. 192.
(обратно)485
Там же. С. 345–346.
(обратно)486
См., напр.: Васютин В. Ленинский призыв // Молодой коммунист. 1964. № 1. С. 96.
(обратно)487
Речь Г. Е. Зиновьева на заседании коммунистической фракции II съезда советов СССР // Правда. 1924. 05 фев.
(обратно)488
Совещание в ЦК РКП(б) // Правда. 1924. 09 апр.
(обратно)489
Постановление пленума ЦК РКП(б) «О приеме рабочих от станка в партию». 29–31 января 1924 года // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 3. – М., 1984. С. 184–185.
(обратно)490
Совещание в ЦК РКП(б) // Правда. 1924. 09 апр.
(обратно)491
Молотов В. М. Ленинский призыв // Правда. 1924. 10 мая.
(обратно)492
Выступление В. В. Куйбышева // Всесоюзное совещание руководителей РКИ и представителей Контрольной комиссии РКП(б). Стенографический отчет. 3–4 февраля 1924 года. – М., 1924. С. 68.
(обратно)493
Выступление В. М. Молотова // XIII съезд РКП(б). Стенографический отчет. 23–31 января 1924 года. – М., 1924. С. 524.
(обратно)494
Совещание в ЦК РКП(б) // Правда. 1924. 09 апр.
(обратно)495
Речь Г. Е. Зиновьева на заседании коммунистической фракции II съезда Советов СССР // Правда. 1924. 05 фев.
(обратно)496
Выступление В. М. Молотова. XIV конференция РКП(б) // Стенографический отчет. 27–30 апреля 1925 года. – М., 1925. С. 23.
(обратно)497
Письмо ЦК об очередных задачах работы производственных партийных ячеек // Правда. 1924. 14 окт.
(обратно)498
Вяткин А. Я. Разгром коммунистической партией троцкизма и других антиленинских групп. – Л., 1966. С. 137.
(обратно)499
Выступление В. М. Молотова // XIV конференция РКП(б). Стенографический отчет. 27–30 апреля 1925 года. С. 15.
(обратно)500
Такер Р. Сталин. Путь к власти. 1879–1929. – М., 1991. С. 295–296.
(обратно)501
Выступление И. В. Сталина // XII съезд РКП(б). Стенографический отчет. 17–25 апреля 1923 года. – М., 1923. С. 61.
(обратно)502
Зиновьев Г. Е. Новый «Ленинский призыв» и новая глава в жизни нашей партии // Правда. 1924. 17 фев.
(обратно)503
Васецкий Н.А. Зиновьев (страницы политической биографии). – М., 1989. С. 20.
(обратно)504
Выступление В. М. Молотова // XIV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 18–31 декабря 1925 года. – М., – Л., 1926. С. 78.
(обратно)505
Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. – М., 2001. С. 257.
(обратно)506
Пришвин М. М. Кащеева цепь. Т. 2, с. 279–281 // Пришвин М. М. Собр. соч. В 8 т. – М., 1982.
(обратно)507
Выступление Г. Е. Зиновьева // XIII конференция РКП(б). Бюллетень № 4 от 18 января 1924 года. – М., 1924. С. 160.
(обратно)508
Выступление Г. Е. Зиновьева // XIV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 18–31 декабря 1925 года. С. 102, 105.
(обратно)509
Выступление Д. Б. Рязанова // IX съезд РКП(б). Протоколы. Март-апрель 1920 года. – М., 1934. С. 248.
(обратно)510
Письмо Н. К. Крупской К. Цеткин. 3 июля 1925 года // Известия ЦК КПСС. 1989. № 2. С. 204.
(обратно)511
Бонч-Бруевич В. Д. Об антисемитизме. 1927 год // ОР РГБ. Ф. 369. К. 49. Ед. хр. 29. Л. 16–17.
(обратно)512
Штиц И. И. Дневник «великого перелома». – Париж, 1991. С. 101.
(обратно)513
Выступление Завьялова // V Всесоюзная конференция ВЛКСМ. Стенографический отчет. 24–31 марта 1927 года. – М., – Л., 1927. С. 358.
(обратно)514
Маленков Г. Вовлечение рабочих в партию // Большевик. 1926. № 21–22. С. 41.
(обратно)515
Выступление А. А. Андреева // XIV съезд ВКП(б). Стенографический отчет.18–31 декабря. 1926. С. 876–877.
(обратно)516
Маленков Г. Вовлечение рабочих в партию // Большевик. 1926. № 21–22. С. 47.
(обратно)517
Там же. С. 48.
(обратно)518
Там же.
(обратно)519
XIII съезд РКП(б) об определенных задачах партийного строительства // КПСС в резолюциях. Т. 3. С. 215.
(обратно)520
Выступление С. В. Косиора (организационный отчет ЦК) // XV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. Декабрь 1927 года. – М., – Л., 1928. С. 104.
(обратно)521
Шуйский Ф. А. Партия и советы. – М., – Л., 1927. С. 90.
(обратно)522
Лепешкин А. И. Местные органы власти советского государства (1921–1936 годы). – М., 1959. С. 147–148.
(обратно)523
Выступление В. М. Молотова (доклад об организационной деятельности ЦК) // XI съезд РКП(б). Стенографический отчет. 27 марта – 2 апреля 1922 года. С. 43.
(обратно)524
В коммунистической партии неблагополучно (передовая) // Возрождение. 1925. 23 дек.
(обратно)525
Саранцев Н. В. Большевистская властвующая элита: возникновение, становление и трансформация. 1990–1939 годы. – Саратов, 2006. С. 97.
(обратно)526
Выступление Д.И. Курского (доклад Ревизионной комиссии) // XIII съезд РКП(б). Стенографический отчет. 23–31 мая 1924 года. С. 139.
(обратно)527
Выступление Д.И. Курского (доклад Ревизионной комиссии) // XIII съезд РКП(б). Стенографический отчет. 23–31 мая 1924 года. С. 140.
(обратно)528
Чистяков А. Н. Партийно-государственная бюрократия северо-запада России в 1920-е годы. – СПб., 2007. С. 126–127.
(обратно)529
Выступление В. П. Ногина (доклад Ревизионной комиссии) // XII съезд РКП(б). Стенографический отчет. 17–25 апреля 1923. – М., 1923. С. 66.
(обратно)530
Выступление Д.И. Курского // XV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. Декабрь 1927 года. – М., – Л., 1928. С. 114.
(обратно)531
Разгон Л. Э. Непридуманное. Биографическая проза. – М., 2006. С. 22.
(обратно)532
Павлюков А. Ежов. Биография. – М., 2007. С. 73–75.
(обратно)533
Постановление ЦК ВКП(б) «О задачах партии в деле выдвижения рабочих и крестьян в госаппарат». 7 марта 1927 года // КПСС в резолюциях… Т. 3. С. 159.
(обратно)534
Бывший секретарь Сталина Б. Бажанов описал, как Товстуха сверял почерки делегатов партийных съездов, которые при голосовании вычеркивали Сталина, вписывая вместо него другую фамилию. Можно не сомневаться, что все именно так и было, однако это всего лишь небольшой эпизод в подготовке репрессивного маховика, запущенного в конце 1930-х годов. См.: Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. – Париж, 1980. С. 129.
(обратно)535
Дмитриевский С. Сталин. – Берлин, 1931. С. 267.
(обратно)536
Ленин В. И. Доклад о концессиях на заседании коммунистической фракции ВЦСПС. 11 июня 1921 года // Полн. собр. соч. Т. 43. С. 179.
(обратно)537
Ленин В. И. О продовольственном налоге // Там же. С. 224.
(обратно)538
В. А. Маклаков – В. В. Шульгину. 5 апреля 1921 года // Спор о России. B. А. Маклаков – В. В. Шульгин. Переписка. 1919–1939 годы / Публ. вступит. ст. и примем. О. В. Будницкого. – М., 2012. С. 66.
(обратно)539
Ипатьев В. Н. Жизнь одного химика. Воспоминания. Т. 2. – Нью-Йорк, 1945.C. 176–177.
(обратно)540
Там же. С. 183.
(обратно)541
Промышленность и наука в России (беседа с профессором Ипатьевым) // Последние новости. 1922. 12 фев.
(обратно)542
Торгово-промышленное совещание // Последние новости. 1922. 03 янв.
(обратно)543
Торгово-промышленное совещание // Последние новости. 1922. 04 янв.
(обратно)544
Декларация русских промышленников // Последние новости. 1922. 21 мар.
(обратно)545
Там же.
(обратно)546
Ленин В. И. Доклад о концессиях на заседании коммунистической фракции ВЦСПС. 11 июня 1921 года // Полн. собр. соч. Т. 43. С. 168.
(обратно)547
Хромов С. С. Леонид Красин. Неизвестные страницы биографии. 1870–1926. – М., 2002. С. 108–109.
(обратно)548
Троцкий Л. Д. Об особенностях исторического развития России // Правда.1922. 02 июл.
(обратно)549
Речь Троцкого на Всероссийском совещании губженотделами // Правда.1920. 08 дек.
(обратно)550
Троцкий в Бакинском совете // Правда. 1924. 06 апр.
(обратно)551
Троцкий за уступки капиталу // Возрождение. 1926. 12 фев.
(обратно)552
Доклад Зиновьева на заседании Ленинградского совета рабочих и крестьянских депутатов. 8 апреля 1924 года // Правда. 1924. 15 апр.
(обратно)553
Выступление Г. Е. Зиновьева // XIII съезд РКП(б). Стенографический отчет. 23–31 мая 1924 года. – М., 1924. С. 72.
(обратно)554
Большевики и буржуазия // Последние новости. 1922. 16 мар.
(обратно)555
Бутовский В. Иностранные концессии в народное хозяйство СССР. – М., – Л., 1928. С. 35–36.
(обратно)556
Перед конференцией в Генуе // Последние новости. 1922. 10 фев.
(обратно)557
Соломон Г. А. Среди красных вождей. – Париж, 1930. С. 15.
(обратно)558
Выступление С. А. Лозовского // IV Всероссийский съезд профессиональных союзов. Стенографический отчет. 17–25 мая 1921 года. – М., 1921. С. 61.
(обратно)559
Напр.: Выступление Певцаева // Там же. С. 60–61.
(обратно)560
Выступление Г. В. Чичерина // СССР. ЦИК 2-го созыва. 2 сессия. Стенографический отчет. Заседание от 18 октября 1924 года. – М., 1924. С. 69–72.
(обратно)561
Там же. С. 79.
(обратно)562
Выступление Фомина // Там же. С. 80–81.
(обратно)563
Выступление Бархатова // Там же. С. 107.
(обратно)564
Доклад В. М. Молотова на пленуме ЦК ВКП(б). 16–24 ноября 1928 года // Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов 1928–1929 годов. Т. 3. – М., 2000. С. 471.
(обратно)565
Там же. С. 470.
(обратно)566
Выступление М. И. Калинина // XIV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 18–31 декабря 1925 года. С. 756.
(обратно)567
Там же.
(обратно)568
Доклад Сталина // XV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. Декабрь 1927 года. С. 81.
(обратно)569
Выступление Рудзутака // Там же. С. 196.
(обратно)570
Выступление Сталина // XIII конференция РКП(б). Бюллетень № 3 от 17 января 1924 года. С. 97.
(обратно)571
Выступление Л. М. Кагановича // XVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 26 июня – 13 июля 1930 года. – М., 1930. С. 83–84.
(обратно)572
Никитин А. Крепнут ряды авангарда // Правда. 1930. 26 июн.
(обратно)573
Там же.
(обратно)574
Выступление С. В. Борисова // XVI конференция ВКП (б). Стенографический отчет. 23–29 апреля 1929 года. – М., – Л., 1929. С. 240.
(обратно)575
Покровский М. Н. Десятилетие института красной профессуры // Правда. 1931. 11 фев.
(обратно)576
Доклад Я. А. Яковлева // XVI конференция ВКП (б). Стенографический отчет. 23–29 апреля 1929 года. – М., 1929. С. 212–213; Выступление В.Е. Цифриновича // Там же. С. 245–246.
(обратно)577
Вступительное слово М. Н. Покровского // Труды первой Всесоюзной конференции историков-марксистов. 28 декабря – 4 января 1929. Т. 1. – М., 1930. С. VIII–IX.
(обратно)578
Анциферов Н. П. Из дум о былом: Воспоминания. – М., 1992. С. 368.
(обратно)579
Покровский М. Н. К истории СССР (Предисловие к чешскому переводу «Русская история в самом сжатом очерке) // Историк-марксист. Т. 18–19. 1930. С. 18.
(обратно)580
Там же.
(обратно)581
Покровский М. Н. Возникновение московского государства и «великорусской» народности // Историк-марксист. 1930. С. 28.
(обратно)582
Покровский М. Н. К истории СССР… С. 19.
(обратно)583
Покровский М. Н. К истории СССР… С. 19.
(обратно)584
Там же. С. 19–21.
(обратно)585
Там же. С. 23–24.
(обратно)586
Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен // Покровский М. Н. Избранные произведения: В 4 т. Т. 1. – М., 1966–1967. С. 207.
(обратно)587
Покровский М. Н. 1905 год // Там же. Т. 4. С. 130.
(обратно)588
Покровский М. Н. Борьба классов и русская историческая литература. – Л. 1927. С. 32.
(обратно)589
Выступление М. Н. Покровского // Труды первой Всесоюзной конференции историков-марксистов. Т. 1. С. 494–495. Не меньше самого этого заявления поражает то, что, как не преминул напомнить Покровский, он сам по рождению является великороссом – «самым чистокровным, какой только может быть».
(обратно)590
Покровский М. Н. К истории СССР…, с.24.
(обратно)591
Гольцер С. Покровский М.Н. и некоторые вопросы истории войны и международной революции // Борьба классов. 1932. № 5. С. 68.
(обратно)592
Покровский М. Н. Борьба классов и русская историческая литература. С. 33–34.
(обратно)593
Гуковский А. И. Как я стал историком // История СССР. 1965. № 6. С. 92.
(обратно)594
Новые данные о пугачевщине (доклад Покровского) // Вестник коммунистической академии. Т. 12. 1925. С. 220–221.
(обратно)595
Там же. С. 227.
(обратно)596
Там же. С. 235.
(обратно)597
Там же. С. 233–234.
(обратно)598
Покровский М. Н. Борьба классов и русская историческая литература. С. 36.
(обратно)599
Ленин В. И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? // Полн. Сбор. соч. Т. 1. – М., 1979. С. 153–154.
(обратно)600
Выступление М. Н. Покровского // Труды первой Всесоюзной конференции историков-марксистов. Т.1. С. 308. Дело в том, что ленинское произведение «Что такое “друзья народа”…» состояло из трех частей (тетрадей), одна из которых еще до революции была утеряна и обнаружилась только после смерти вождя. В ней-то и содержались высказывания, пришедшиеся как нельзя кстати для обоснования «торгового капитализма».
(обратно)601
Покровский М. Н. Борьба классов и русская историческая литература. С. 32.
(обратно)602
Бантке С. Петровская реформа в освещении С. М. Соловьева // Историк-марксист. Т. 13. 1929. С. 164–165.
(обратно)603
Покровский М. Н. Институт истории и задачи историков-марксистов // Историк-марксист. Т. 14.1929 С. 9.
(обратно)604
Пионтковский С. Великодержавные тенденции в историографии России // Историк-марксист. Т 17. 1930. С. 23–24.
(обратно)605
Там же.
(обратно)606
Панкратова А. М. Борьба за победу социализма и исторической науки в СССР // Борьба классов. 1933. № 5. С. 11.
(обратно)607
Там же. С. 12.
(обратно)608
Мамет Л. История и общественно-политическое воспитание // Историк-марксист. Т. 14. 1929. С. 159.
(обратно)609
Покровский М. Н. Институт истории и задачи историков-марксистов // Историк-марксист. Т. 14.1929 С. 6.
(обратно)610
Там же.
(обратно)611
Покровский М. Н. 10 лет Коммунистической академии // Вестник коммунистической академии. Т. 28. 1928. С. 9–13.
(обратно)612
Протокол общего собрания членов Коммунистической академии. 2 июня 1925 года // Вестник Коммунистической академии. Т. 12. 1925. С. 365.
(обратно)613
Там же. С. 368.
(обратно)614
Выступление О. Ю. Шмидта. Протокол общего собрания членов Коммунистической академии. 2 июня 1925 года // Вестник Коммунистической академии. Т. 12. 1925. С. 368.
(обратно)615
Покровский М. Н. 10 лет Коммунистической академии // Вестник Коммунистической академии. Т. 28. 1928. С. 18.
(обратно)616
Пленум Коммунистической академии. Стенографический отчет. 29 января 1927 года // Вестник Коммунистической академии. Т. 20. 1927. С. 15.
(обратно)617
Пленум Коммунистической академии. Стенографический отчет. 27 июня 1930 года // Вестник Коммунистической академии. Т. 39. 1930. С. 65.
(обратно)618
Ульянов Н. Замолчанный Маркс. – Франкфурт-на-Майне, 1969. С. 33.
(обратно)619
Там же. С. 39–40.
(обратно)620
Положение (Устав) о Коммунистической академии при ЦИК СССР, утвержденное 26 ноября 1926 года // Вестник Коммунистической академии. Т. 19. 1927. С. 269–270.
(обратно)621
Обращение завода «Электросталь» к Коммунистической академии // Вестник Коммунистической академии. 1931. № 4. С. 111.
(обратно)622
Федотов Г. И есть и будет. – Париж, 1932. С. 47.
(обратно)623
Выступление Е. Ярославского // Стенографический отчет Второго Всесоюзного съезда совета воинствующих безбожников. Июнь 1929 года. – М., 1930. С. 64.
(обратно)624
Бедный Д. Слезай с печки. Правда. 1930. 07 сен // Бедный Д. Перерва. Правда. 1930. 11 сен; Бедный Д. Без пощады. Правда. 1930. 05 дек.
(обратно)625
Подробно об этом см.: Сарнов Б. Сталин и писатели. Кн. 1. – М., 2009. С. 471–609.
(обратно)626
Сталин И. В. Письмо к Д. Бедному // Сталин И. В. Сочинения. Т. 13. С. 25.
(обратно)627
Там же. С. 27.
(обратно)628
Сталин И. В. О некоторых вопросах истории большевизма // Пролетарская революция. 1931. № 6. С. 10.
(обратно)629
Такер Р. Сталин у власти: история и личность. 1928–1941 годы. – М., 1997. С. 141.
(обратно)630
Покровский М. Н. О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России // Борьба классов. 1931. № 2. С. 80.
(обратно)631
Стецкий А. О Коммунистической академии и научной работе (Стенограмма доклада на партколлегии Коммунистической академии 28 марта 1931 года) // Вестник Коммунистической академии. 1931. № 2–3. С. 8.
(обратно)632
Украинская контрреволюция перед советским судом // Правда. 1930. 27 фев.
(обратно)633
Приговор истории над украинской контрреволюцией // Правда. 1930. 21 апр.
(обратно)634
Украинская контрреволюция перед советским судом (Речь гособвинителя Т. Михайлина) // Правда. 1930. 16 апр.
(обратно)635
Югов М. Положение и задачи исторического фронта в Белоруссии // Историк-марксист. Т. 17. 1930. С. 41–42.
(обратно)636
Секерская Я., Сербента В., Поташ З. Белорусский национальный демократизм на идеологическом фронте БССР // Правда. 1930. 28 дек.
(обратно)637
Национал-оппортунисты, фашистские агенты Игнатовский и Жилукович // Правда. 1931.24 янв.
(обратно)638
Рубинштейн Л. В борьбе за ленинскую национальную политику. – Казань, 1930. С. 125.
(обратно)639
Анциферов Н. П. Из дум о былом: Воспоминания. – М., 1992. С. 368.
(обратно)640
Брачев В. С. «Дело историков». 1929–1931 годы. – СПб., 1997. С. 72.
(обратно)641
Один из итогов XVI съезда // Правда. 1930. 27 июн.
(обратно)642
Доклад И. В. Сталина // XVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 26 июня -13 июля 1930 года. – М., 1930. С. 55–56.
(обратно)643
Там же.
(обратно)644
Сегодня в Харькове открытие памятника Шевченко // Правда. 1935. 24 мар; Соболев Л. Открытие памятника Тарасу Шевченко // Правда. 1931.25. мар. и др.
(обратно)645
Кикодзе Г. Шота Руставели // Литературная газета. 1934. 08 сен.
(обратно)646
Выступление М. Н. Климовича // Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. 17 августа – 1 сентября 1934 года. – М., 1934. С. 53.
(обратно)647
Санжурский М. Об издании творчества народов СССР // Революция и национальности. 1936. № 5. С. 8.
(обратно)648
Счастье народа (передовая) // Известия. 1936. 17 мая.
(обратно)649
Хацкевич А. Дружба народов СССР растет и крепнет // Революция и национальности. 1936. № 2. С. 28.
(обратно)650
Великое братство свободных народов // Правда. 1935. 06 дек.
(обратно)651
Прием делегации Советской Грузии руководителями партии и правительства в Кремле // Правда. 1936. 21 мар.
(обратно)652
За Родину! // Правда. 1936. 09 июн.
(обратно)653
За родину! // Социалистический вестник. 1934. № 12. 25 июн. С. 1–2.
(обратно)654
Знать и любить историю своей Родины // Правда. 1936. 07 мар.
(обратно)655
Любить свою Родину, знать ее историю // Правда. 1936. 22 мая.
(обратно)656
Керженцев П. Фальсификация народного прошлого (О «Богатырях» Д. Бедного) // Правда. 1936. 15 ноя.
(обратно)657
Линия ошибок (О Камерном театре) // Правда. 1936. 20 нояб.
(обратно)658
Печета В. И. Крестьянская война с иностранной интервенцией в начале XVII века // Против антиисторической концепции М. Н. Покровского. Сб. ст. Ч. 2. – М.,– Л., 1940. С. 92–93.
(обратно)659
Печета В. И. Покровский М.Н. о войне 1812 года // Там же. Сб. ст. Ч. 1. – М.,– Л., 1939. С. 301.
(обратно)660
Дроздов П. «Историческая школа» Покровского // Правда. 1937. 28 мар.
(обратно)661
Дроздов П. Решение партии и правительства об учебниках истории и задачах советских историков // Историк-марксист. 1936. № 1 (53). С. 17.
(обратно)662
Дроздов П. Решение партии и правительства об учебниках истории и задачах советских историков // Историк-марксист. 1936. № 1 (53). С. 20.
(обратно)663
Фролов И. Безответственная книга (Рецензия «Очерки истории СССР. XIX – начало XX века» С. А. Пионтковского) // Историк-марксист. 1936. № 3 (55). С. 119, 132.
(обратно)664
Артизов А. Н. Судьбы историков школы М. Н. Покровского (середина 30-х годов) // Вопросы истории. 1994. № 7. С. 34–48.
(обратно)665
Артизов А. Н. Николай Николаевич Ванаг (1899–1937 годы) // Отечественная история. 1992. № 6. С. 103. Иловайский был известным в царской России автором учебников по истории. Они неоднократно переиздавались и пользовались большой популярностью в гимназиях.
(обратно)666
К изучению истории // Сборник документов. – М., 1946. С. 8–17.
(обратно)667
Левин А. Без права на мысль. Историки в эпоху «Большого террора». – Казань, 1994. С. 56–57.
(обратно)668
Федотов Г. Россия и свобода (Сборник статей). – Нью-Йорк, 1981. С. 142–143.
(обратно)669
Стражев А. Учебник истории царской России // Борьба классов. 1931. № 5–6. С. 62.
(обратно)670
В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б) // Правда. 1936. 27 янв.
(обратно)671
Быстрянский В. Критические замечания об учебниках по истории СССР // Правда. 1936. 01 фев.
(обратно)672
Жуков В. И. Иной Сталин. – М., 2005. С. 205–206. Интересно, что упразднить Коммунистическую академию удалось только с третьей попытки – в январе 1936 года.
(обратно)673
Традиции раболепия // Правда. 1936. 09 июл.
(обратно)674
Традиции раболепия // Правда. 1936. 09 июл.
(обратно)675
Юшкевич А. П. Дело академика Н. Н. Лузина // Вестник Академии наук СССР. 1989. № 4. С. 32–44.
(обратно)676
Достоинство советской науки // Правда. 1936. 06 авг.
(обратно)677
О врагах в советской маске // Правда. 1936. 03 июл.
(обратно)678
Бауман К. Положение и задачи советской науки // Правда. 1936. 06 сен.
(обратно)679
Конституция героического народа (передовая) // Правда. 1937. 16 янв.
(обратно)680
РСФСР (передовая) // Правда. 1938. 14 фев.
(обратно)681
Волин Б. М. Великий русский народ. – М., 1938. С. 6.
(обратно)682
Леонидов Н. Торжество ленинско-сталинской национальной политики // Правда. 1937. 15 нояб.
(обратно)683
Вересаев В. В защиту Пушкина // Правда. 1935. 20 апр.
(обратно)684
Осипов Д. Достоевскому ответила жизнь // Правда. 1937. 10 фев.
(обратно)685
Безансон А. Русское прошлое и советское настоящее. – Лондон, 1984. С. 17.
(обратно)686
Федотов Г. Россия и свобода (Сборник статей). – Нью-Йорк, 1981. С. 144.
(обратно)687
Вдовин А. И., В. Ю. Зорин, Никонов А. В. Русский народ в национальной политике XX века. – М., 1998. С. 217–223.
(обратно)688
Бухарин Н. И. Нужна ли марксистская историческая наука (О некоторых существенно важных, но несостоятельных взглядах М. Н. Покровского) // Известия. 1936. 27 янв.
(обратно)689
Бухарин Н. И. Конституция социалистического государства // Известия. 1936. 14 июн.
(обратно)690
Бухарин Н. И. Второе рождение человечества // Известия. 1935. 01 мая.
(обратно)691
Бухарин Н. И. Наш вождь, наш учитель, наш отец // Известия. 1936. 21 янв.
(обратно)692
Бухарин Н. И. Ответ на вопрос // Известия. 1936. 14 фев.
(обратно)693
Об одной гнилой концепции // Правда. 1936. 10 фев.
(обратно)694
Там же.
(обратно)695
Дело Маркса бессмертно! // Правда. 1938. 08 мая.
(обратно)696
Бессмертное творение древней русской литературы // Правда. 1938.25 мая.
(обратно)697
Великий русский народ // Правда. 1937. 15 янв.
(обратно)698
Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М., 1992. С. 138.
(обратно)699
Сталин И. В. О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма». К изучению истории // Сборник документов. – М., 1946. С. 41.
(обратно)700
Ванаг Н. Н. К методологии изучения финансового капитала в России // Историк-марксист. Т. 12. 1929. С. 9–10.
(обратно)701
Ронин С. Л. Иностранный капитал и русские банки. – М., 1926. С. 133.
(обратно)702
Грановский Е. Иностранный капитал в системе монополистического капитализма в России // Вестник Коммунистической академии. Т. 22. 1927. С. 77.
(обратно)703
Гиндин И. Ф. Некоторые спорные вопросы истории финансового капитала в России // Историк-марксист. Т. 12. 1929. С. 68.
(обратно)704
Ванаг Н. Н. Финансовый капитал в России накануне мировой войны. – М., 1930. С. 218–219.
(обратно)705
Труды Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов. 28 декабря 1928 – 4 января 1929 года. Т. 1. С. 318–385.
(обратно)706
Ванаг Н. Н. Письмо в редакцию // Историк-марксист. 1932. № 4–5. С. 358.
(обратно)707
За революционную бдительность, за большевистскую партийность (передовая) // Историк-марксист. 1935. № 1 (41). С. 7.
(обратно)708
История ВКП(б). Краткий курс. – М., 1946. С. 156.
(обратно)709
Бюллетень № 1 от 10.05.1929 года // XIV Всероссийский съезд советов. Стенографический отчет. – М., 1929. С. 10.
(обратно)710
Там же.
(обратно)711
Бюллетень № 13 от 15.05.1929 года // XIV Всероссийский съезд советов. Стенографический отчет. – М., 1929. С. 3–4.
(обратно)712
Бюллетень № 2 от 1105.1929 года // XIV Всероссийский съезд советов. Стенографический отчет. – М., 1929. С. 25.
(обратно)713
Бюллетень № 4 от 11.05.1929 года // XIV Всероссийский съезд советов. Стенографический отчет. – М., 1929. С. 13.
(обратно)714
Там же. С. 14.
(обратно)715
Стенографический отчет Второго всесоюзного съезда совета воинствующих безбожников. – М., 1930. С. 189.
(обратно)716
Там же. С. 143.
(обратно)717
Там же. С. 151.
(обратно)718
Стенографический отчет Второго всесоюзного съезда совета воинствующих безбожников. – М., 1930. С. 153–154.
(обратно)719
Там же. С. 161.
(обратно)720
Там же. С. 265.
(обратно)721
Подробно об А. А. Богданове и «Пролеткульте» в кн.: Полонский В. Очерки литературного движения революционной эпохи (1917–1927 годы). – М., – Л., 1928. С. 55–61.
(обратно)722
Богданов А. А. О пролетарской культуре. 1904–1924 годы. – М., 1924. С. 142143, 145.
(обратно)723
Там же. С. 146.
(обратно)724
Там же. С. 247.
(обратно)725
Богданов А. А. О пролетарской культуре. 1904–1924 годы. – М., 1924. С. 249-250.
(обратно)726
Родов С. Под обстрелом // На посту № 2–3, 1923. С. 28.
(обратно)727
Авербах Л. Творческие пути пролетарской литературы // На литературном посту. 1927. № 10. С. 6, 13.
(обратно)728
Саянов Б. Долой классиков // На литературном посту. 1927. № 9. С. 12.
(обратно)729
Там же. С. 11.
(обратно)730
Бухарин Н. И. О старинных традициях и современном культурном строительстве (Мысли вслух) // Революция и культура. 1927. № 1. С. 22.
(обратно)731
Там же. С. 19–20.
(обратно)732
Выступление С. Родова // К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе: Стенограмма совещания в отделе печати ЦК РКП(б). – М., 1924. С. 72.
(обратно)733
Авербах Л. О литературной политике партии // На посту. 1923. № 1. С. 54.
(обратно)734
Бухарин Н. И. Первая ласточка // Правда. 1923. 12 янв.
(обратно)735
Бедный Д. Не последнее дело // Полн. собр. соч. В 15 т. Т. 12. – М., 1926–1927. С. 165.
(обратно)736
Васильковский Г. Создадим произведения, достойные нашей эпохи // Комсомольская правда. 1931. 10 нояб.
(обратно)737
Доклад М. Гельфанда. Против буржуазного либерализма в художественной литературе // Дискуссия о «Перевале» (апрель 1930 года). Стенографический отчет. – М., 1931. С. 23.
(обратно)738
Пришвин М. М. Дневники. Запись от 25 декабря 1931 года. – СПб., 2006. С. 586.
(обратно)739
Зонин А. По полям литературы // Революция и культура. 1929. № 4. С. 72–73.
(обратно)740
Выступление С. Родова // К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе. Стенограмма совещания в отделе печати ЦК РКП(б). С. 74.
(обратно)741
Брик О. М. Почему понравился «Цемент» // На литературном посту. 1926. № 2. С. 32.
(обратно)742
Брик О. М. Почему понравился «Цемент» // На литературном посту. 1926. № 2. С. 32.
(обратно)743
Выступление Ф. Гладкова // Советская литература на новом этапе. Стенограмма первого пленума оргкомитета Союза советских писателей. 29 октября – 3 ноября 1932 года. – М., 1933. С. 142–143.
(обратно)744
Выступление Л. Д. Троцкого // К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе. Стенограмма совещания в отделе печати ЦК РКП(б). С. 66.
(обратно)745
Там же. С. 69.
(обратно)746
Троцкий Л. Д. Литература и революция. – М., 1923. С. 140.
(обратно)747
Троцкий Л. Д. Литература и революция. – М., 1923. С. 177.
(обратно)748
История русской литературы XX века (20-50-е годы). Литературный процесс. – М., 2006. С. 32.
(обратно)749
Шешкунов С. Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов. – М., 1984. С. 47.
(обратно)750
Там же.
(обратно)751
Белая Г. Дон-Кихоты 20-х годов. «Перевал» и судьбы его идей. – М., 1989. С. 387.
(обратно)752
Воронский А. О федерации советских писателей // Красная новь. 1927. № 4. С. 218.
(обратно)753
Там же. С. 219.
(обратно)754
Полонский В. Очерки литературного движения революционной эпохи (1917–1927 годы). – М., – Л., 1928. С. 142.
(обратно)755
На исторической грани // На литературном посту. 1927. № 15–16. С. 2 (передовая).
(обратно)756
Авербах Л. Литературные дискуссии текущего года // На литературном посту. 1927. № 13. С. 5.
(обратно)757
Там же.
(обратно)758
Против комчванства, вульгализаторства и приспособленчества // На литературном посту. 1927. № 14. С. 5 (передовая).
(обратно)759
Серебрянский М. Эпоха и ее «ровесники» // На литературном посту. 1930. № 5–6. С. 29.
(обратно)760
Доклад М. Гельфанда // Против буржуазного либерализма в художественной литературе. Дискуссия о «Перевале» (апрель 1930 год). Стенографический отчет. – М., 1931. С. 21.
(обратно)761
На текущие темы (передовая) // На литературном посту. 1928. № 20–21. С. 3.
(обратно)762
Ермилов В. За живого человека в литературе. – М., 1928. С. 99.
(обратно)763
Наиболее интересное, на наш взгляд, исследование об этом: Белая Г. Дон-Кихоты 20-х годов. «Перевал» и судьба его идей. – М., 1989.
(обратно)764
Григоров Я. Кризис «старых» попутчиков // На литературном посту. 1927. № 20. С. 27, 31.
(обратно)765
Кор Г. О «Чапаеве» Д. Фурманова // На посту. 1923. № 4. С. 196.
(обратно)766
Фурманова А. Дмитрий Фурманов. – Иваново, 1946. С. 3.
(обратно)767
Там же. С. 7.
(обратно)768
Там же. С. 12.
(обратно)769
Фурманов Д. Дневники // Собр. соч. В 4 т. Т. 4. – М., 1961. С. 350.
(обратно)770
Там же.
(обратно)771
Там же. С. 354.
(обратно)772
Там же.
(обратно)773
Примочкина Н. Н. Писатель и власть. – М., 1998. С. 127.
(обратно)774
Ставский В. Практика партруководства пролетписательскими организациями // На литературном посту. 1929. № 6. С. 11.
(обратно)775
Панферов Ф. И. Родное прошлое // Собр. соч. В 6 т. Т. 1. – М., 1986. С. 6, 41–42.
(обратно)776
Панферов А. И. Мой старший брат. – М., 1980. С. 11.
(обратно)777
Гладков Ф. В. Вольница // Собр. соч. В 5 т. Т. 4. – М., 1983–1984. С. 42–43, 47, 50, 59.
(обратно)778
Там же. С. 495.
(обратно)779
Гладков Ф. В. Вольница // Собр. соч. В 5 т. Т. 4. – М., 1983–1984. С. 146.
(обратно)780
Максимов П. Воспоминания о писателях. – Ростов-на-Дону, 1958. С. 129.
(обратно)781
Там же. С. 137.
(обратно)782
Динамов С. Творчество Михаила Чумандрина // На литературном посту. 1930. № 12. С. 37.
(обратно)783
Григорьев М. О романе Н. Кочина «Девки» // На литературном посту. 1930. № 2. С. 36–37.
(обратно)784
Динамов С. Заметки о романе С. Семенова «Наталья Тарпова» // На литературном посту. 1927. № 17–18. С. 49–55.
(обратно)785
Д-ов Б. Записки читателя о «Станице» В. Ставского // На литературном посту. 1931. № 10. С. 18.
(обратно)786
Панферов Ф. И. Родное прошлое. Т. 1. С. 176–179.
(обратно)787
Исбах А. Лицо классового врага в деревне по «Брускам» Ф. Панферова // На литературном посту. 1928. № 18. С. 45.
(обратно)788
Мазнин Д. Творческий метод Ф. Панферова // На литературном посту. 1930. № 18. С. 83.
(обратно)789
Адамович Г. «Бруски» Ф. Панферова // Последние новости. 1931.05 фев.
(обратно)790
Там же.
(обратно)791
Лежнев А. Два молодых (о Панферове и Слетове) // Новый мир. 1928. № 8. С. 184–185.
(обратно)792
Там же. С. 186.
(обратно)793
Чумандрин М. Иллюзии проходят, факты остаются // На литературном посту. 1930. № 21–22. С. 24.
(обратно)794
Авербах Л. О развертывании творческой дискуссии // На литературном посту. 1931. № 23. С. 1.
(обратно)795
Авербах Л. О развертывании творческой дискуссии // На литературном посту. 1931. № 23. С. 3.
(обратно)796
Авербах Л. О партийно-политическом воспитании рапповских кадров // На литературном посту. 1931. № 33. С. 3.
(обратно)797
Там же.
(обратно)798
Ильенков В. Группа т. Панферова // На литературном посту. 1931. № 23. С. 20.
(обратно)799
Там же. С. 21.
(обратно)800
Панферов Ф. Говорите голосом книг (Речь на пленуме РАПП) // На литературном посту № 1, 1932. С. 17.
(обратно)801
Там же. С. 15.
(обратно)802
Там же. С. 16, 18.
(обратно)803
Гребенников М. Непогребенные мертвецы (О «Перевале» и перевальцах) // Комсомольская правда. 1930. 08 мар.
(обратно)804
Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917–1932 годы. – М., 1998. С. 125.
(обратно)805
Интересно, что Авербах начинал карьеру как раз в комсомоле, избирался делегатом первых съездов, работал в Коммунистическом интернационале молодежи (КИМ), выезжал в Европу – разжигать мировой революционный пожар. Но для косаревской группы он явно не был своим.
(обратно)806
«Линия наибольшего сопротивления» в признании ошибок (передовая) // Комсомольская правда. 1931. 19 нояб.
(обратно)807
Еще одна попытка не допустить самокритику в РАПП (передовая) // Комсомольская правда. 1931.24 окт.
(обратно)808
Ковальчик Е. За высокую художественную литературу о комсомоле // Молодая гвардия. 1931. № 21–22. С. 126.
(обратно)809
За дружную совместную работу с РАПП (передовая) // Комсомольская правда. 1931. 18 нояб.
(обратно)810
За дружную совместную работу с комсомолом (передовая) // На литературном посту.1931. № 31–32. С. 8.
(обратно)811
Косарев А. В. Большевистскому поколению – ленинское руководство // Молодая гвардия. 1931. № 23–24. С. 93.
(обратно)812
Речь А. Косарева на пленуме ЦК ЛКСМ Украины // Комсомольская правда. 1931. 16 окт.
(обратно)813
Создадим произведения, достойные нашей эпохи (передовая) // Комсомольская правда. 1931. 10 нояб.
(обратно)814
Васильковский Г. Создадим произведения, достойные нашей эпохи // Правда. 1931. 03 нояб.
(обратно)815
Героическую борьбу комсомола – в образы художественной литературы (Как будет проводиться творческий смотр литературы) // Комсомольская правда. 1931. 21 дек.
(обратно)816
Дементьев А. А.М. Горький и советская журналистика // Новый мир. 1964. № 11. С. 214–215.
(обратно)817
Там же. С. 219.
(обратно)818
Эльсберг Ж. Глаза Максима Горького сквозь самгинские очки // На литературном посту. 1927. № 15–16. С. 31.
(обратно)819
Горький М. О пользе грамотности // Известия. 1928. 20 апр.
(обратно)820
Горький М. О пролетарском писателе // Известия. 1928. 21 апр.
(обратно)821
Авербах Л. Пошлость защищать не надо! // Комсомольская правда. 1928. 25 мая. Характерно, что отповедь Горькому со стороны Авербаха прозвучала со страниц «Комсомолки»; в 1928 году между РАПП и ЦК ВЛКСМ царило взаимопонимание.
(обратно)822
Постановление ЦК ВКП(б) «О выступлениях части сибирских литераторов и литературных организаций против Максима Горького» 15 декабря 1929 года // Власть и художественная интеллигенция. Сборник документов. – М., 1999. С. 123–124.
(обратно)823
Ломов И. Пятилетний план беспартийного культурничества // Молодая гвардия. 1929. № 13. С. 68.
(обратно)824
Михайлов А. О литературном наследии и учебе у «классиков» // На литературном посту. 1929. № 17. С. 15.
(обратно)825
Полонский В. Моя борьба на литературном фронте. Дневник. Май 1920 – январь 1932 года // Новый мир. 2008. № 5. С. 133.
(обратно)826
Примочкина Н. Н. Писатель и власть. – М., 1998. С. 127–128.
(обратно)827
Нерадов Г. О творчестве А. С. Серафимовича // Октябрь. 1931. № 10. С.169.
(обратно)828
Там же. С. 172, 178.
(обратно)829
Громов Е. С. Сталин. Власть и искусство. – М., 1998. С. 85.
(обратно)830
Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» 23 апреля 1932 года // Власть и художественная интеллигенция. Сборник документов. С. 172–173.
(обратно)831
Юдин П. Против извращений ленинского учения о культурной революции // Правда, 1932. 23 апр.
(обратно)832
Иванов Вяч. Вс. Почему Сталин убил Горького? // Вопросы литературы.1993. № 1. С. 115–116.
(обратно)833
Там же.
(обратно)834
Гронский И. Из прошлого. – М., 1991. С. 16, 24.
(обратно)835
Гронская Л. Наброски по памяти. Воспоминания. – М., 2004. С. 66.
(обратно)836
Фадеев А. Старое и новое // Литературная газета. 1932. 11 окт. Фадеев действительно принадлежал к авербаховской группе РАПП; его поначалу ценил Горький. Но затем он порывает с прежними соратниками и присоединяется к их оппонентам. Причем в этом кругу у Фадеева всегда были хорошие связи (так, по Северо-Кавказскому РАПП он хорошо знал того же Ставского). Да и вообще, по нашему мнению, в авербаховской компании Фадеев оказался во многом случайно. Он был родом из г. Кимры Тверской губернии – как известно, крупного центра Тверского беспоповского пояса. Отец Фадеева умер, когда ему было восемь лет, и мать, выйдя замуж, уехала к своим родственникам на Дальний Восток. Горький не простил Фадееву его переход и практически прекратил с ним отношения. См.: Романенко Д. Александр Фадеев. – М., 1956. С. 10, 37.
(обратно)837
Фадеев А. Старое и новое // Литературная газета. 1932. 23 окт.
(обратно)838
Адамович Г. Новые веяния // Последние новости. 1932. 15 сент.
(обратно)839
Выступление М. М. Пришвина // Советская литература на новом этапе. Стенограмма Первого пленума оргкомитета Союза советских писателей СССР. 29 октября – 3 ноября 1932 года. – М., 1933. С. 66.
(обратно)840
Выступление А. Белого // Там же. С. 69.
(обратно)841
Выступление С. Клычкова // Там же. С. 160.
(обратно)842
Докладная записка заместителя заведующего культпропотделом ЦК ВКП(б) Н. Н. Рабичева «О ходе пленума оргкомитета писателей» 1 ноября 1932 года // Власть и художественная интеллигенция. Сборник документов. С. 187.
(обратно)843
Пришвин М. М. Дневники. Запись от 18 ноября 1932 года. – М., 2009. С. 235.
(обратно)844
Выступление П. Ф. Юдина // XVII съезд ВКП(б). Стенографический ответ. 26 января – 20 февраля 1934 года. – М., 1934. С. 645.
(обратно)845
Выступление Ф. И. Панферова // Там же. С. 627.
(обратно)846
Из истории партийной политики в области литературы (Переписка И. Гронского и А. Овчаренко) // Вопросы литературы, № 2, 1989, С. 145.
(обратно)847
Горький М. По поводу одной дискуссии // Литературная газета. 1934. 28 янв.
(обратно)848
Там же.
(обратно)849
Серафимович А. О писателях «облизанных» и «необлизанных» // Литературная газета. 1934. 06 фев.
(обратно)850
Горький М. Открытое письмо А. С. Серафимовичу // Литературная газета. 1934. 14 фев.
(обратно)851
Горький М. О бойкости // Правда.1934. 28 фев.
(обратно)852
Правда. 1934. 18 мар.
(обратно)853
Горький М. По поводу одной полемике. Т. 26. // Собр. соч. В 30 т. – М., 1953.С. 295.
(обратно)854
Киршон В. За развертывание творческой дискуссии // Литературная газета.1934. 04 апр.
(обратно)855
Мирский Д. Замысел и выполнение // Литературная газета. 1934. 24 июн.
(обратно)856
Два письма Сталину (публикация В. С. Барахова) // Литературная газета. 1993. 10 мар.
(обратно)857
Примочкина Н. Н. Донкихоты большевизма: Максим Горький и Николай Бухарин // Свободная мысль. 1993. № 4. С. 67–68.
(обратно)858
Письмо А. М. Горького в ЦК ВКП(б). 30 августа – 1 сентября 1934 года // Известия ЦК КПСС. 1990. № 5. С. 217–218.
(обратно)859
Панферов Ф. Открытое письмо А. М. Горькому // Правда. 1935. 28 янв.
(обратно)860
Барахов В. С. Незавершенная дискуссия // Литературная Россия. 1992.03 апр.
(обратно)861
Пильняк Б. Голый год. Пильняк Б. Избранная проза. – М., 1988. С. 52–53, 154.
(обратно)862
Там же. С. 121.
(обратно)863
Там же. С. 74–75.
(обратно)864
Иванов Вс. Бронепоезд 14–69 // Собр. соч. В 8 т. Т. 1. – М., 1973–1978. С.121, 169.
(обратно)865
Леонов Л. М. Пирамида. Кн. 1. – М., 1994. С. 288–289.
(обратно)866
Толстой А. Н. Хождение по мукам. Т. 5 (сестры). С. 218–219 // Толстой А. Н.Собр. соч. В 10 т. – М., 1982–1986.
(обратно)867
Там же.
(обратно)868
Там же. С. 287.
(обратно)869
Там же. С. 293.
(обратно)870
Аросев А. Минувшие дни. Т. 2. С. 27 // Повести о людях советской страны. В 2 т. – М., – Л., 1929.
(обратно)871
Там же.
(обратно)872
Там же. С. 128.
(обратно)873
Фурманов Д. Чапаев. – М., 1985. С. 27.
(обратно)874
Там же. С. 97.
(обратно)875
Там же. С. 87, 112.
(обратно)876
Сейфулина Л. Н. Виринея // Сочинения. В 2 т. Т. 1. – М., 1980. С. 285.
(обратно)877
Там же. С. 288.
(обратно)878
Там же. С.289.
(обратно)879
Там же. С. 322–323, 349.
(обратно)880
Там же. С. 358.
(обратно)881
Там же. С. 364.
(обратно)882
Шолохов М. Тихий дон. Т. 1. – М., 2006. С. 511.
(обратно)883
Там же. Т. 2. – М., 2006. С. 332.
(обратно)884
Шагинян М. Перемена (Быль) // Собр. соч. В 6 т. Т. 1. – М., 1956–1958. С. 520.
(обратно)885
Подробно об этой теме см.: Зырянов П. Н. Крестьянская община Европейской России. 1907–1914 годы. – М., 1992.
(обратно)886
Письмо помощника миссионера Ярославской епархии Н. Касаткина IV миссионерскому съезду // РГИА. Ф. 796. Оп. 189. Д. 8127. Л. 1058об.
(обратно)887
Фурманов Д. Чапаев. С. 33.
(обратно)888
Шагинян М. Перемена. Т. 1. С. 522.
(обратно)889
Панферов Ф. И. Бруски // Собр. соч. В 6 т. Т. 1. – М., 1986. С. 407.
(обратно)890
Панферов Ф. И. Бруски // Собр. соч. В 6 т. Т. 2. С. 259.
(обратно)891
Панферов Ф. И. Бруски // Собр. соч. В 6 т. Т. 2. С. 242.
(обратно)892
Панферов Ф. И. Бруски // Собр. соч. В 6 т. Т. 1. С. 409.
(обратно)893
Панферов Ф. И. Бруски // Собр. соч. В 6 т. Т. 2. С. 328.
(обратно)894
Там же. С. 79.
(обратно)895
Панферов Ф. И. Бруски // Собр. соч. В 6 т. Т. 1. С. 371.
(обратно)896
Панферов Ф. И. Бруски // Собр. соч. В 6 т. Т. 2. С. 357.
(обратно)897
Панферов Ф. И. Бруски // Собр. соч. В 6 т. Т. 1. С. 412.
(обратно)898
Панферов Ф. И. Бруски // Собр. соч. В 6 т. Т. 2. С. 195.
(обратно)899
Панферов Ф. И. Бруски // Собр. соч. В 6 т. Т. 1. С. 434.
(обратно)900
Кочин Н. И. Девки // Собр. соч. В 3 т. Т. 1. – М., 1976. С. 396–397.
(обратно)901
Кочин Н. И. Девки // Собр. соч. В 3 т. Т. 1. – М., 1976. С. 114.
(обратно)902
Там же. С. 86.
(обратно)903
Там же. С. 419–420.
(обратно)904
Кочин Н. И. Девки // Собр. соч. В 3 т. Т. 1. – М., 1976. С. 421–422.
(обратно)905
Макаров И. Стальные ребра. – М., – Л., 1931. С. 13.
(обратно)906
Там же. С. 17.
(обратно)907
Там же. С. 151.
(обратно)908
Успенский Г. И. Поездки к интеллигентам // Собр. соч. В 9 т. Т. 8. – М., 1955–1957. С. 315–316.
(обратно)909
Там же. С. 315.
(обратно)910
Макаров И. Стальные ребра. – М., – Л., 1931. С. 55.
(обратно)911
Там же. С. 122.
(обратно)912
Там же. С. 180.
(обратно)913
Там же. С. 43.
(обратно)914
Макаров И. Стальные ребра. – М., – Л., 1931. С. 181–182.
(обратно)915
Там же. С. 170–171, 205.
(обратно)916
Там же. С. 219.
(обратно)917
Там же. С. 167.
(обратно)918
Там же. С. 173.
(обратно)919
Бонч-Бруевич В. Д. Мое изучение крестьянского вопроса // Бонч-Бруевич В. Д.Избранные произведения. В 3 т. Т. 1. – М., 1959. С. 315–316.
(обратно)920
Перегудов А. В. Фарфоровый город. – М., 1932. С. 38–39.
(обратно)921
Там же. С. 198–199.
(обратно)922
Березовский Ф. А. Бабьи тропы. – М., 1986. С. 74.
(обратно)923
Там же. С. 97.
(обратно)924
Там же. С. 185.
(обратно)925
Березовский Ф. А. Бабьи тропы. – М., 1986. С. 226–227.
(обратно)926
Там же. С. 186.
(обратно)927
Там же. С. 188.
(обратно)928
Там же. С. 229–230.
(обратно)929
Там же. С. 237.
(обратно)930
Там же. С. 267.
(обратно)931
Там же. С. 353.
(обратно)932
Березовский Ф. А. Бабьи тропы. – М., 1986. С. 364.
(обратно)933
Там же. С. 450.
(обратно)934
Гладков Ф. М. Цемент // Собр. соч. В 5 т. Т. 1. – М., 1983–1984. С. 439.
(обратно)935
Характерен, например, такой эпизод: Чумалов выговаривает пожилому слесарю Савельеву за медлительность в работе, но тот апеллирует к своему значительному рабочему стажу. Чумалов замечает: «Ты мне свою бороду не предъявляй». Собравшиеся вокруг рабочие весело подбадривают Чумалова: «Закручивай крепче, приводи старичье в православие». Там же. С. 495–496.
(обратно)936
Там же. С. 342.
(обратно)937
Гладков Ф. М. Цемент // Собр. соч. В 5 т. Т. 1. – М., 1983–1984. С. 342.
(обратно)938
Эренбург И. День второй. // Собр. соч. В 9 т. Т. 3. – М., 1964. С. 260.
(обратно)939
Семенов С. А. О чем рассказывал сакре (лопарские легенды) // Собр. Соч. В 3 т. Т. 1. – М., – Л., 1930. С. 183–184.
(обратно)940
Семенов С. А. Наталья Тарпова. Кн. 1. – Л., 1932. С. 104.
(обратно)941
Там же. С. 11.
(обратно)942
Там же. С. 264.
(обратно)943
Семенов С. А. Наталья Тарпова. Кн. 1. – Л., 1932. С. 269–270.
(обратно)944
Там же. С. 179.
(обратно)945
Толстой А. Н. Хождение по мукам. Т. 5 (Восемнадцатый год). С. 293.
(обратно)946
Леонов Л. М. Пирамида. Кн.1. – М., 1994. С. 601.
(обратно)947
Франк С. Из размышлений о русской революции: Русская мысль. Кн. 1–2.1922. С. 258.
(обратно)948
Там же. С. 251.
(обратно)949
Бердяев Н. А. Духовные основы русской революции. – М., 2006. С. 220.
(обратно)950
Замойский П. И. (Зевалкин) Лапти // Собр. соч. В 4 т. Т. 1. – М., 1959. С. 476, 492–493.
(обратно)951
Эренбург И. День второй. Т. 3. С. 163, 358.
(обратно)952
Фадеев А. А. Разгром. – М., 1980. С. 68, 71.
(обратно)953
Там же. С. 17.
(обратно)954
Леонов Л. М. Соть // Собр. соч. В 10 т. Т. 4. – М., 1982–1983. С. 266.
(обратно)955
Там же. С. 267.
(обратно)956
Там же. С. 87.
(обратно)957
Там же. С. 282.
(обратно)958
Леонов Л. М. Соть // Собр. соч. В 10 т. Т. 4. – М., 1982–1983. С. 202.
(обратно)959
Рывкин О. Очерки об истории ВЛКСМ. На заре движения. – М., 1931. С.153.
(обратно)960
Доклад И. С. Юзефовича. Движение рабочей молодежи на Западе // I съезд РКСМ. Протоколы. 29 октября – 4 ноября 1918 года. С. 56–57.
(обратно)961
Выступление С. Пономарева // Там же. С. 25.
(обратно)962
Выступление Н. Забродина // Там же. С. 38.
(обратно)963
Выступление Е. М. Ярославского // Там же. С. 46.
(обратно)964
Шацкин Л. Ленин и РЛКСМ // Ленин и молодежь. – М., – Л., 1925. С. 60. Что, правда, не помешало Шацкину впоследствии вспоминать об этой встрече с Лениным в самых радужных тонах.
(обратно)965
Зубков В. А. Второй съезд РКСМ. – М., 1984. С. 20–21.
(обратно)966
Выступление В. И. Ленина // III Всероссийский съезд РКСМ. Стенографический отчет. 2-10 октября 1920 года. – М., – Л., 1926. С. 13.
(обратно)967
Выступление Окулика (Украина) // Там же. С. 258.
(обратно)968
Там же. С. 259.
(обратно)969
Там же. С. 259–260.
(обратно)970
Доклад Л. Шацкина на организационной секции // Там же. С. 248–249.
(обратно)971
Доклад Л. Шацкина на организационной секции // Там же. С. 247.
(обратно)972
Выступление Дунаевского // Там же. С. 270.
(обратно)973
Выступление Н. И. Бухарина // Там же. С. 125.
(обратно)974
Там же. С. 126.
(обратно)975
Там же. С. 126.
(обратно)976
Выступление В. Васютина // IV Всероссийский съезд РКСМ. Стенографический отчет. 21–28 сентября 1921 года. – М., – Л., 1925. С. 133.
(обратно)977
Выступление Полонского // Там же. С. 260.
(обратно)978
Там же. Требования чистки комсомола встретили резкое противодействие лидеров РКСМ: они не считали ее важной задачей. В частности, Л. Шацкин недоумевал, кто будет ее проводить: в партии иная ситуация, поскольку там есть старая гвардия, обладающая огромным авторитетом, а в Союзе такой силы нет. См.: Выступление Л. Шацкина // Там же. С. 305.
(обратно)979
Выступление Е. А. Преображенского // Там же. С. 291.
(обратно)980
Выступление Е. А. Преображенского // IV Всероссийский съезд РКСМ. Стенографический отчет. 21–28 сентября 1921 года. С. 285.
(обратно)981
Там же. С. 287.
(обратно)982
Выступление Тужилкина // Там же. С. 292.
(обратно)983
Выступление Цытовича // Там же. С. 296.
(обратно)984
Выступление Цытовича // IV Всероссийский съезд РКСМ. Стенографический отчет. 21–28 сентября 1921 года. С. 297.
(обратно)985
Выступление О. Рывкина // Там же. С. 261.
(обратно)986
Там же.
(обратно)987
Там же. С. 216.
(обратно)988
II Всероссийская конференция РКСМ. Стенографический отчет. 16–19 мая 1922 года. – М., – Л., 1928. С. 52–53.
(обратно)989
Выступление Митрофанова (Нижний Новгород) // IV съезд РКСМ. Стенографический отчет 21–28 сентября 1921 года. С. 282.
(обратно)990
Тарханов О. Комсомол – резерв партии // Правда. 1924. 30 мар.
(обратно)991
III Всероссийская конференция РКСМ. Стенографический отчет. 25–30 июня 1923 года. – М., – Л., 1929. С. 16. Старый большевик Д. Рязанов не смог начать свое выступление на конференции, так как все помещение было прокурено «сквернейшим, мерзейшим табаком».
(обратно)992
Солженицын А. И. Двести лет вместе. Ч. 2. – М., 2002. С. 207.
(обратно)993
Троцкий Л. Д. Поколение Октября. Речи и статьи. – М., 1924. С. 20.
(обратно)994
Выступление Бухарина // VIII съезд РЛКСМ. Стенографический отчет. 5-16 мая 1928 года. – М., 1928. С. 19.
(обратно)995
Чаплин Н. К истории наших разногласий. Доклад на пленуме МК РЛКСМ. 7 января 1926 года. – М., 1926. С. 8.
(обратно)996
Выступление Сафарова // XI съезд РКП(б). Стенографический отчет. 27 марта – 2 апреля 1922 года. – М., 1922. С. 373.
(обратно)997
Выступление Шацкина // Там же. С. 404.
(обратно)998
Выступление Зиновьева // VI съезд РЛКСМ. Стенографический отчет. 1218 июля 1924 года. – М., – Л., 1924. С. 40–41.
(обратно)999
Там же. С. 40.
(обратно)1000
Выступление Зиновьева // IV съезд РЛКСМ. Стенографический отчет. 2128 сентября 1921 года. С. 17.
(обратно)1001
Выступление Зиновьева // VI съезд РЛКСМ. Стенографический отчет. 1218 июля 1924 года. С. 56.
(обратно)1002
Там же. С. 64.
(обратно)1003
Там же.
(обратно)1004
Там же. С. 37.
(обратно)1005
Выступление Ванштейна // Там же. С. 157.
(обратно)1006
Выступление О. Тарханова // XIII конференция РКП(б) // Бюллетень № 3 от 17 января 1924 года. – М., 1924. С. 146.
(обратно)1007
Выступление Матвеева // VI съезд РЛКСМ. Стенографический отчет. 1218 июля 1924 года. С. 152.
(обратно)1008
Выступление Бухарина // V съезд РЛКСМ. Стенографический отчет. 1119 октября 1922 года. – М., – Л., 1927. С. 118–119, 123 и др.
(обратно)1009
Выступление Зиновьева // Там же. С. 43.
(обратно)1010
V съезд РЛКСМ. Стенографический отчет. 11–19 октября 1922 года. – М., -Л., 1927. С. 133.
(обратно)1011
V съезд РЛКСМ. Стенографический отчет. 11–19 октября 1922 года. – М., – Л., 1927. С. 135.
(обратно)1012
Там же.
(обратно)1013
Выступление Бухарина // VI съезд РЛКСМ. Стенографический отчет. 12–18 июля. С. 277.
(обратно)1014
Чаплин Н. К истории наших разногласий. Доклад на пленуме МК РЛКСМ. 7 янв. 1926 года. – М., 1926. С. 9.
(обратно)1015
Чаплин Н. К истории наших разногласий. С. 15.
(обратно)1016
Доклад Чаплина // VII съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. 11–22 марта 1926 года. С. 28.
(обратно)1017
Мильчаков А. Об очередных опасностях // Комсомольская правда. 1925. 25 мая.
(обратно)1018
Тарханов О. Комсомол в деревне // Правда. 1924. 22 мая.
(обратно)1019
Выступление Минаева // IV Всесоюзная конференция РЛКСМ. Стенографический отчет. 16–23 июня 1925 года. – М., – Л., 1925. С. 109.
(обратно)1020
Выступление Данзинекса // IV Всесоюзная конференция РЛКСМ. Стенографический отчет. 16–23 июня 1925 года. – М., – Л., 1925. С. 106.
(обратно)1021
Чаплин Н. К истории наших разногласий. С. 17–18.
(обратно)1022
Выступление Бухарина на закрытом внеочередном пленуме ЦК РЛКСМ. 16 марта 1925 года // Бухарин Н. И. Речи и статьи о комсомоле. – Саратов, 1990. С. 152.
(обратно)1023
Доклад Чаплина // VII съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. 11–12 марта 1926 года. С. 50–51.
(обратно)1024
Выступление Бухарина // IV Всесоюзная конференция РЛКСМ. Стенографический отчет. 16–23 июня 1925 года. С. 30.
(обратно)1025
Доклад Чаплина // V Всесоюзная конференция ВЛКСМ. Стенографический отчет. 24–31 марта 1927 года. – М., – Л., 1927. С. 40.
(обратно)1026
Выступление Бухарина // VII съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. 1122 марта 1926 года. – М., – Л., 1926. С. 242.
(обратно)1027
Выступление Бухарина // VIII съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. 5-16 мая 1926 года. С. 23.
(обратно)1028
Там же. С. 24.
(обратно)1029
Выступление Каталынова // VII съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. 11–22 марта 1928 года. С. 108.
(обратно)1030
Выступление Косарева // VII съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. 11–22 марта 1926 года. С. 21.
(обратно)1031
V Всесоюзная конференция ВЛКСМ. Стенографический отчет. 24–31 марта 1927 года. – М., – Л., 1927. С. 22.
(обратно)1032
Выступление Сталина // Там же. С. 313–315.
(обратно)1033
Мильчаков А. Молодость светлая и трагическая. – М., 1988. С. 118.
(обратно)1034
Там же. С. 113–114.
(обратно)1035
Сталин И. Против опошления лозунга самокритики // Правда. 1928. 26 июн.
(обратно)1036
Письмо Сталину о «Комсомольской правде», принятое на заседании бюро ЦК ВЛКСМ 17 июля 1928 года // РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 46. С. 44.
(обратно)1037
Там же. С. 46.
(обратно)1038
Трущенко Н. Косарев. – М., 1988. С. 11–13.
(обратно)1039
Строка в биографии. Секретари и члены бюро ЦК комсомола, первые секретари ЦК ЛКСМ союзных республик. Справочник. – М., 2001. С. 44.
(обратно)1040
Там же. С. 44–45.
(обратно)1041
Там же. С. 46.
(обратно)1042
Строка в биографии. Секретари и члены бюро ЦК комсомола, первые секретари ЦК ЛКСМ союзных республик. Справочник. – М., 2001. С. 47–48.
(обратно)1043
Там же. С. 50–51.
(обратно)1044
Комсомольская правда. 1929. 26 апр.
(обратно)1045
Выступление Сталина // VIII съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. 5-16 мая 1928 года. – М., 1928. С. 539.
(обратно)1046
Там же.
(обратно)1047
Доклад Косарева «Очистим ряды комсомола от чуждых и разложившихся элементов: повысить роль комсомола в общей системе классовой борьбы» // Комсомольская правда. 1929. 24 мар.
(обратно)1048
Там же.
(обратно)1049
Там же.
(обратно)1050
Объявить беспощадную войну оппортунистической самоуспокоенности. Из доклада Косарева на собрании ленинградского актива ВЛКСМ // Комсомольская правда. 1932. 09 дек.
(обратно)1051
Там же.
(обратно)1052
Выступление Салтанова на пленуме ЦК ВЛКСМ. 4 декабря 1929 года // РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 2. Д. 74. Л. 119.
(обратно)1053
Там же. Л. 131–132.
(обратно)1054
Там же. С. 135.
(обратно)1055
Выступление Косарева // VI Всесоюзная конференция ВЛКСМ. Стенографический отчет. 17–24 июня 1929 года. С. 20.
(обратно)1056
Выступление Рудзутака // Там же. С. 218.
(обратно)1057
Выступление Кагановича // IX съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. 1626 января 1931 года. – М., 1931. С. 23.
(обратно)1058
Выступление Косарева // XVII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 26 января – 10 февраля 1934 года. – М., 1934. С. 121.
(обратно)1059
Там же. С. 122.
(обратно)1060
Выступление Косарева // XVII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 26 января – 10 февраля 1934 года. – М., 1934. С. 122–123.
(обратно)1061
Выступление Шверника // Там же. С. 242.
(обратно)1062
Выступление Косарева // XVI съезд ВКП(б). 26 июня – 13 июля 1930 года. – М., 1930. С. 192. Например, председательствовавший на заседании съезда Сырцов сообщил Косареву, что тот исчерпал лимит времени. Косарев просил добавить восемь минут; Сырцов настаивал на пяти. Но Постышев заметил: «Придется дать, молодежь ведь».
(обратно)1063
Федотов Г. П. Есть и будет. – Париж, 1932. С. 141.
(обратно)1064
Сталин, Ворошилов и «будущие хозяева мира» // Сегодня. 1931. 27 фев. (Рига).
(обратно)1065
Сталин, Ворошилов и «будущие хозяева мира» // Сегодня. 1931. 27 фев.(Рига).
(обратно)1066
Выступление Косарева на пленуме ЦК ВЛКСМ. 4 декабря 1929 года // РГАС-ПИ. Ф. М-1. Оп. 2. Д. 75. Л. 73–74.
(обратно)1067
Ольховский Б. О «праве» на «сомнение во всем» и об ошибке Л. Шацкина // Комсомольская правда. 1929. 29 авг.
(обратно)1068
Выступление Косарева // VII Всесоюзная конференция ВЛКСМ. Стенографический отчет. 1–8 июля 1932 года. – М., 1933. С. 25.
(обратно)1069
Выступление Косарева // Там же. С. 25.
(обратно)1070
Письмо секретаря ЦК ВЛКСМ Косарева комсомольцам и молодежи колхоза «Передовик» (д. Ивановская Кубано-Озерского района Северного края) // Комсомольская правда. 1934. 23 мар.
(обратно)1071
Там же.
(обратно)1072
Выступление Косарева // VI Всесоюзная конференция ВЛКСМ. Стенографический отчет. 17–24 мая 1929 года. С. 23.
(обратно)1073
Выступление Касименко // V Всероссийский съезд РКСМ. Стенографический отчет. 11–19 октября 1922 года. С. 83.
(обратно)1074
Там же.
(обратно)1075
Выступление Шацкина // Там же. С. 98–99.
(обратно)1076
Доклад Косарева на пленуме ЦК ВЛКСМ. 28 июня 1931 года // РГАСПИ. Ф. М-1, Оп.2, Д.84, Л.48.
(обратно)1077
Там же, Л.11.
(обратно)1078
Доклад Косарева // IX съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. 16–26 января 1931 года. С. 37.
(обратно)1079
Доклад Косарева // IX съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. 16–26 января 1931 года. С. 40.
(обратно)1080
Там же. С. 38.
(обратно)1081
Выступление Косарева // VII Всесоюзная конференция ВЛКСМ. Стенографический отчет. 1–8 июля 1932 года. С. 40.
(обратно)1082
Горшенин П. Воспитать смелых, отличных бойцов // Комсомольская правда. 1935. 05 янв.
(обратно)1083
Вступление Вершкова // Х съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. 11–21 апреля 1936 года. Т. 1. – М., 1936. С. 51–52.
(обратно)1084
О беседе т. Сталина с работниками ЦК ВЛКСМ. Февраль 1935 года // РГАС-ПИ. Ф. М-1. Оп. 2. Д. 117а. Л. 1.
(обратно)1085
Головков А. Не отрекаясь от себя // Огонек. 1988. № 7. С. 27.
(обратно)1086
Стенограмма пленума ЦК ВЛКСМ. 21 ноября 1938 года // РГАСПИ. Ф. М-1, Оп.2, Д.155.
(обратно)1087
Криворученко В. К. В тисках сталинщины: трагедия комсомола. – М., 1991. С. 373–374.
(обратно)1088
Выступление Мишаковой // XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 10–21 марта 1939 года. – М., 1940. С. 561.
(обратно)1089
Наиболее сильной работой, освещающей генезис русской партии в СССР, остается монография Н. Митрохина. Хотя и выполненная в рамках указанного стереотипа, для нас она стала отправной точкой в дальнейшем исследовании этой интереснейшей темы. См.: Митрохин Н. Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953–1985 годы. – М., 2003.
(обратно)1090
Солженицын А. И. Двести лет вместе. Ч. 2. – М., 2002. С. 205–206.
(обратно)1091
Подсчитано по: Гимпельсон Е. Г. Рабочий класс в управлении Советским государством. Ноябрь 1917 – 1920. – М., 1982. С. 175–176.
(обратно)1092
Выступление Н. И. Бухарина // XI съезд РКП(б). Протоколы. Март-апрель 1920 года. – М., 1934. С. 225.
(обратно)1093
Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. – М., 1991. С. 147.
(обратно)1094
Григоров Г. Повороты судьбы и произвол. Воспоминания 1905–1927. – М., 2005. С. 356.
(обратно)1095
Например, в феврале 1922 года в исполком Коминтерна была подана жалоба на РКП(б) – о невозможности выражать свою точку зрения (см.: Санду Т. А. Эволюция большевизма и «старая партийная гвардия»: заявление 22-х в ИККИ. Тюменский исторический сборник. Вып. IX. – Тюмень, 2006. С. 79–87).
(обратно)1096
Подробно об этом см.: Носач В. И. Профсоюзы России: драматические уроки. 1917–1921 гг. – СПб., 2001. С. 86–132.
(обратно)1097
Балязин В. Н. Профессор Александр Чаянов. – М., 1990. С. 165.
(обратно)1098
Устрялов Н. В. Hic Rondus, his Salta / Предисл. Л. А. Быстрянцевой. КЛИО. 1999. № 1 (7). С. 237.
(обратно)1099
Астров В. К вопросу о «перманентном» развитии русской революции // Правда. 1924. 07 ноя.
(обратно)1100
Дмитриевский С. Сталин. – Берлин, 1931. С. 316.
(обратно)1101
Валентинов Н. Доктрина правого коммунизма (1924-26 годы в истории советского государства). – Мюнхен, 1962. С. 32–33.
(обратно)1102
Беседовский Г. З. На путях к термидору. – М., 1997. С. 259.
(обратно)1103
Устрялов Н. В. Под знаком революции // В кн.: Устрялов Н. В. Избранные труды. – М., 2010. С. 287–288.
(обратно)1104
Подробно об этом: Романовский В. К. Жизненный путь и творчество Н. В. Устрялова. – М., 2009.
(обратно)1105
Устрялов Н. В. Под знаменем революции. С. 366.
(обратно)1106
Устрялов Н. В. Под знаменем революции. С. 372.
(обратно)1107
Передовая // Возрождение. 1925. 01 июл.
(обратно)1108
Передовая // Возрождение. 1925. 09 июн.
(обратно)1109
Открытие зарубежного съезда // Возрождение. 1926. 06 апр.
(обратно)1110
Государственная программа великого князя Николая Николаевича // Российский зарубежный съезд. 1926 год. Париж. – М., 2006. С. 206–208.
(обратно)1111
Валентинов В. Доктрина правого коммунизма. С. 41; Устрялов Н. В. Под знаменем революции. С. 366.
(обратно)1112
Выступления В. И. Гурко, А. Ф. Трепова // Российский зарубежный съезд. 1926 год. Париж. С. 591–594, 599.
(обратно)1113
Письмо В. А. Маклакова – Б. А. Бахметьеву. 8 марта 1929 года // Совершенно секретно и доверительно. В. А. Маклаков – Б. А. Бахметьев. Переписка. Т. 3. – М., – Стэнфорд, 2002. С. 426.
(обратно)1114
Киселев А. Ф. Профсоюзы и советское государство (дискуссии 1917–1920 годов). – М., 1991. С. 73–74.
(обратно)1115
Подробно об этом: Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе республике Советов. 1917–1920 гг. – М., 1988.
(обратно)1116
Ирошников М. П. Председатель Совета народных комиссаров – Вл. Ульянов (Ленин): очерки государственной деятельности. – Л., 1974. С. 426–427.
(обратно)1117
Там же.
(обратно)1118
Агурский М. Идеология национал-большевизма. – Париж, 1980. С. 226–227.
(обратно)1119
Войцеховский С. Л. Трест: воспоминания и документы. – Лондон, 1974. С. 29–30.
(обратно)1120
Там же. С. 7.
(обратно)1121
Пряшников Б. Незримая паутина. – Нью-Йорк, 1979. С. 5.
(обратно)1122
Флейшман Л. В тисках провокации. Операция «Трест» и русская зарубежная печать. – М., 2003. С. 61.
(обратно)1123
Плеханов А. М. ВЧК-ОГПУ в годы новой экономической политики. (19211927). – М., 2006. С. 322–323.
(обратно)1124
Доклад Н. И. Бухарина на IX губернском съезде московской организации РЛКСМ. 23 марта 1925 года // Бухарин Н. И. Речи и статьи о молодежи. – Саратов, 1990. С. 168–169.
(обратно)1125
Там же. С. 167.
(обратно)1126
В 1927 году заместитель местоблюстителя патриаршего престола митрополит Сергий издал Декларацию о признании РПЦ советской власти, что вызвало неоднозначную реакцию в церковных кругах.
(обратно)1127
Агурский М. Идеология национал-большевизма. С. 260.
(обратно)1128
Булгаков М. А. Дни Турбинных // Булгаков М. А. Собр. соч. В 5 т. – М., 1990. Т. 3. С. 71–72.
(обратно)1129
Дугин А. Тамплиеры пролетариата. Национал-большевизм и инициация. – М., 1997. С. 72.
(обратно)1130
Агурский М. Идеология национал-большевизма. С. 190.
(обратно)1131
Федотов Г. Есть и будет. – Париж, 1932. С. 138.
(обратно)1132
Это признавалось как внутри страны, так и в эмиграции, см.: Бонч-Бруевич В. Д. Об антисемитизме. 1927 год // ОР РГБ. Ф. 369, К.49, Ед. хр.29, Л.16–17; В коммунистической партии неблагополучно // Возрождение. 1925. 23 дек.
(обратно)1133
Карпов М. Пятая любовь. – М., 1930. 4-е изд. С. 73–74.
(обратно)1134
Там же. С. 102.
(обратно)1135
Там же.
(обратно)1136
Карпов М. Пятая любовь. – М., 1930. 4-е изд. С. 191, 343.
(обратно)1137
Там же. С. 277–278.
(обратно)1138
Доклад проф. С. А. Андрианова // Путь (Гельсинфорс). 1921. 18 дек.
(обратно)1139
Там же.
(обратно)1140
Лежнев И. Письмо проф. Н. В. Устрялову // Россия. 1923. № 9 (май-июнь).
(обратно)1141
Крылов С., Зыков А. О правой опасности. – М., – Л., 1929. С. 252–253.
(обратно)1142
Выступление М. И. Калинина // Труды первой Всесоюзной конференции аграрников-марксистов. – М., 1930. Т. 1. Ч. 1. С. 95.
(обратно)1143
Разногласия в Кремле // Возрождение. 1928. 20 нояб.
(обратно)1144
Новые уступки капиталу // Возрождение. 1928. 20 нояб.
(обратно)1145
На пути к «электрофикации» американо-советских отношений // Правда. 1928. 21 окт.
(обратно)1146
Международный комитет кредиторов // Возрождение. 1928. 27 окт.
(обратно)1147
Речь Сталина на пленуме МК и МКК // Правда. 1928. 23 окт.
(обратно)1148
XVI съезд ВКП(б) // Стенографический отчет. 26 июня – 13 июля 1930 года. – М., 1930. С. 84–85.
(обратно)1149
Письма Зиновьева в связи с беседой Бухарина с Каменевым. 13 июля 1928 года // Как ломали НЭП (Приложения). Т. 4. М. 2000. С. 695.
(обратно)1150
Сталин чистит партию // Возрождение. 1928. 23 окт.
(обратно)1151
Федотов Г. П. Есть и будет. – Париж, 1932. С. 109.
(обратно)1152
Постышев П. Воспоминания, выступления и письма. – М., 1987. С. 302–303.
(обратно)1153
Цыркун С. А. Сталин против «красных олигархов». – М., 2014. С. 283.
(обратно)1154
Полянский А. И. Ежов. История «железного наркома». – М., 2003. С. 39.
(обратно)1155
Павлюков А. Е. Ежов. Биография. – М., 2007. С. 6–17.
(обратно)1156
Ближайшее окружение диктатора // Социалистический вестник (Берлин).1933. № 23. С. 8–9.
(обратно)1157
Доклад председателя мандатной комиссии Москвина // XV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 2 декабря – 19 декабря 1927 года. С. 1106; Доклад председателя мандатной комиссии Булатова // XVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 26 июня – 13 июля 1930 года. С. 598; Доклад председателя мандатной комиссии Ежова // XVII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 26 января – 10 февраля 1934 года. С. 303.
(обратно)1158
XV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 2 декабря – 19 декабря 1927 года. С. 1105.
(обратно)1159
XVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 26 июня – 13 июля 1930 года. С. 599.
(обратно)1160
Модели Э., Уайт СТ. Советская элита от Ленина до Горбачева. ЦК и его члены в 1917–1991 годах. – М., 2011. С. 160.
(обратно)1161
Такие исключения являли собой Г. М. Кржижановский, окончивший Петербургский технологический институт, или Л. Б. Красин, до революции – управляющий крупного немецкого концерна «Сименс-Шуккерт» в России. Кстати, обоих как хозяйственных руководителей очень ценил Ленин.
(обратно)1162
Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. – М., 2010. С. 410.
(обратно)1163
Доклад Г. М. Маленкова // XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. IQ-21 марта 1939 года. – М., 1939. С. 15Q.
(обратно)1164
Модели Э., Уайт СТ. Советская элита от Ленина до Горбачева. С. 14Q.
(обратно)1165
Там же. С. 143.
(обратно)1166
Бенедиктов И. А. О Сталине и Хрущеве. Молодая гвардия. 1989. № 4. С. 17.
(обратно)1167
Доклад И. В. Сталина // XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. 1021 марта 1939 года. С. 30.
(обратно)1168
Доклад А. А. Жданова. Там же. С. 532.
(обратно)1169
Модели Э., Уайт СТ. Советская элита от Ленина до Горбачева. С. 104–105.
(обратно)1170
Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. С. 319.
(обратно)1171
Правда, гораздо больше известен его сынок. Вкусив западного образа жизни, в 1964 году он в звании офицера контрразведки КГБ СССР сбежал в США, чем вызвал немалый переполох в верхах.
(обратно)1172
Маленков А. Г. О моем отце Георгии Маленкове. – М., 1992. С. 8.
(обратно)1173
Там же. С. 9.
(обратно)1174
Там же.
(обратно)1175
Там же. С. 20.
(обратно)1176
Там же. С. 22.
(обратно)1177
Зверев А. Г. Записки министра. – М., 1973. С. 11.
(обратно)1178
Чуев. Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. С. 291.
(обратно)1179
Устинов Д. Ф. Во имя победы. Записки наркома вооружения. – М., 1988.С. 7–8.
(обратно)1180
Там же. С. 40.
(обратно)1181
Завенягина Е., Львов А. Завенягин. Личность и время. – М., 2006. С. 17.
(обратно)1182
Чалмаев В. Малышев. – М., 1981. С. 16–17.
(обратно)1183
Там же. С. 17.
(обратно)1184
См., например: Байгушев А. И. Русская партия внутри КПСС. – М., 2005; Чикин А. «Ленинградское дело»: удар по русским кадрам // Столетие. 2010. 29 декабря (интернет-газета).
(обратно)1185
Жданов Ю. А. Взгляд в прошлое. Воспоминания очевидца. – М., 2004. С. 64.
(обратно)1186
Рыбас С. Московские против питерских. Ленинградское дело Сталина. М.: 2013. С. 108–109.
(обратно)1187
Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. С. 322.
(обратно)1188
Проект программы ВКП(б) // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 476. Л. 144, 46, 39.
(обратно)1189
Там же. Л. 90. 25–28.
(обратно)1190
Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. Война и антисемитизм. – М., 2003. С. 289.
(обратно)1191
Одним из бенефициаров «ленинградского дела» называют Л. П. Берию. Конечно, это недалеко от истины. Тем не менее, следует понимать, что Берия вместе со своим кавказским выводком не олицетворял какое-либо идейное течение во власти. Ему-то как раз русское начало, как, собственно, и всякое другое, было глубоко безразлично. На наш взгляд, этим объясняется его быстрое устранение после смерти вождя. Берия никому не был нужен, но при этом представлял опасность, а поэтому участвовать в раскладах без Сталина никак не мог.
(обратно)1192
Микоян А. И. Так было. – М., 1999. С. 559.
(обратно)1193
Рыбас С. Московские против питерских. Ленинградское дело Сталина. С. 164.
(обратно)1194
Там же. С. 34.
(обратно)1195
Жданов Ю. А. Взгляд в прошлое. Воспоминания очевидца. С. 183.
(обратно)1196
РГАСПИ. Ф. 82, Оп. 2. Д. 645. Л. 83.
(обратно)1197
Пыжиков А. В. Хрущевская «оттепель». – М., 2002. С. 38–39.
(обратно)1198
XX съезд и его исторические реальности. – М., 1991. С. 30–32 (глава Н. А. Барсукова).
(обратно)1199
Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и другие документы. – М., 1998. С. 31–33.
(обратно)1200
См., например: Пыжиков А. В. Хрущевская «оттепель». С. 130–132.
(обратно)1201
Хрущев кичился рабочим прошлым, позиционировал себя шахтером. Его коллеги часто иронизировали: мол, шахту, где в молодости героически трудился их патрон, никак не удается обнаружить.
(обратно)1202
Бенедиктов И. А. О Сталине и Хрущеве. Молодая гвардия. 1989. № 4.С. 55.
(обратно)1203
Одинцов М. И. Вероисповедная политика советского государства в 1939–1958 годах // Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы. – М., 2003. С. 27.
(обратно)1204
Там же. С. 20.
(обратно)1205
Сталин назначил председателем Совета по делам Русской православной церкви (присматривать за воссозданной РПЦ) П. А. Карпова. Этот сотрудник госбезопасности не был чужд церкви: выходец из никонианской среды, до революции он даже успел поучиться в духовной семинарии. А вот в довоенный период церковь курировал кадровый чекист Е. А. Тучков. Он происходил из старообрядческой беспоповской среды (село близ г. Иваново-Вознесенска). И Тучкова, как известно, не в пример Карпову, отличала нескрываемая ненависть ко всему церковному.
(обратно)1206
Митрохин Н. Русская партия: движение русских националистов в СССР. 1953–1985 годы. – М., 2003.
(обратно)1207
Громыко А. А. Памятное. Кн. 1. – М., 1990. С. 9–11.
(обратно)1208
Там же. С. 13.
(обратно)1209
Там же.
(обратно)1210
Патоличев Н. С. Испытание на зрелость. – М., 1977. С. 32.
(обратно)1211
Патоличев Н. С. Испытание на зрелость. – М., 1977. С. 33.
(обратно)1212
Ее особенно активно эксплуатируют русские националисты – видимо, в отместку за те гонения, которые обрушил на их головы Андропов.
(обратно)1213
Быков Д. Советская литература. Краткий курс. – М., 2013. С. 186.
(обратно)1214
См., например: Леонид Леонов и русская литература XX века. – СПб., 2000 // Роман Л. Леонова «Пирамида». – СПб., 2004.
(обратно)1215
Леонов Л. М. Русский лес // Собр. соч. В 10 т. Т. 9. – М., 1982–1984. С. 52.
(обратно)1216
Там же. С. 18.
(обратно)1217
Там же. С. 37.
(обратно)1218
Леонов Л. М. Русский лес // Собр. соч. В 10 т. Т. 9. – М., 1982–1984. С. 62–63.
(обратно)1219
Там же. С. 64–65, 68.
(обратно)1220
Там же. С. 111.
(обратно)1221
Там же.
(обратно)1222
Там же. С. 155.
(обратно)1223
Леонов Л. М. Русский лес // Собр. соч. В 10 т. Т. 9. – М., 1982–1984. С. 58.
(обратно)1224
Там же. С. 49.
(обратно)1225
Там же. С. 50–51.
(обратно)1226
Там же. С. 176.
(обратно)1227
Там же.
(обратно)1228
Леонов Л. М. Русский лес // Собр. соч. В 10 т. Т. 9. – М., 1982–1984. С. 260–261.
(обратно)1229
Там же. С. 58.
(обратно)1230
Там же. С. 89.
(обратно)1231
Там же. С. 145.
(обратно)1232
Там же. С. 152.
(обратно)1233
Леонов Л. М. Русский лес // Собр. соч. В 10 т. Т. 9. – М., 1982–1984. С. 267.
(обратно)1234
Там же. С. 59.
(обратно)1235
Там же. С. 182.
(обратно)1236
Там же. С. 715–716.
(обратно)1237
Клычков С. А. Чертухинский балакирь // Собр. соч. В 2 т. Т. 2. – М., 2000. С.9, 22–28, 47–52, 86–89.
(обратно)1238
Клычков С. А. Чертухинский балакирь // Собр. соч. В 2 т. Т. 2. – М., 2000. С. 104–105.
(обратно)1239
Там же. С. 212.
(обратно)1240
Леонов Л. М. Пирамида. Кн. 1. – М., 1994. С. 288–289.
(обратно)1241
Леонов Л. М. Пирамида. Кн. 2. – М., 1994. С. 370.
(обратно)1242
Там же. С. 517.
(обратно)1243
Там же. С. 382.
(обратно)1244
Там же. С. 80.
(обратно)1245
Леонов Л. М. Пирамида. Кн. 2. – М., 1994. С. 264.
(обратно)1246
Там же. С. 29.
(обратно)1247
Там же. С. 263.
(обратно)1248
Леонов Л. М. Пирамида. Кн. 1. – М., 1994. С. 406.
(обратно)1249
Там же. С. 6.
(обратно)1250
Леонов Л. М. Пирамида. Кн. 1. – М., 1994. С. 290.
(обратно)1251
Там же. С. 290–291.
(обратно)1252
Там же. С. 291.
(обратно)1253
Леонов Л. М. Пирамида. Кн. 1. – М., 1994. С. 568–569.
(обратно)1254
Абрамов Ф. А. Самый надежный судья – совесть (выступление в телестудии «Останкино». 1981 г.) // Собр. соч. В 6 т. Т. 5. – М., 1991–1993. С. 35–36.
(обратно)1255
Абрамов Ф. А. Братья и сестры // Собр. соч. В 6 т. Т. 1. – М., 1991–1993. С. 42.
(обратно)1256
Там же. С. 304.
(обратно)1257
Там же. С. 331–332.
(обратно)1258
Абрамов Ф. А. Пути-перепутья // Собр. соч. В 6 т. Т. 3. – М., 1991–1993.С. 248.
(обратно)1259
Абрамов Ф. А. Две зимы и три лета // Собр. соч. В 6 т. Т. 1. – М., 1991–1993. С. 446.
(обратно)1260
Абрамов Ф. А. Две зимы и три лета // Собр. соч. В 6 т. Т. 1. – М., 1991–1993.С. 505–506, 509, 514.
(обратно)1261
Абрамов Ф. А. Братья и сестры // Собр. соч. В 6 т. Т. 1. – М., 1991–1993. С. 142.
(обратно)1262
Абрамов Ф. А. Две зимы и три лета // Собр. соч. В 6 т. Т. 1. – М., 1991–1993. С. 392.
(обратно)1263
Абрамов Ф. А. Пути-перепутья // Собр. соч. В 6 т. Т. 3. – М., 1991–1993. С. 218.
(обратно)1264
Там же. С. 219.
(обратно)1265
Абрамов Ф. А. Пути-перепутья // Собр. соч. В 6 т. Т. 3. – М., 1991–1993. С. 220.
(обратно)1266
Абрамов Ф. А. Дом // Собр. соч. В 6 т. Т. 2. – М., 1991–1993. С. 500.
(обратно)1267
Абрамов Ф. А. Самый надежный судья – совесть (выступление в телестудии «Останкино»). 1981 год. Т. 5. С. 45.
(обратно)1268
Там же. С. 44.
(обратно)1269
Абрамов Ф. А. Дом // Собр. соч. В 6 т. Т. 2. – М, 1991–1993. С. 403.
(обратно)1270
Абрамов Ф.А… Возжечь человеческое… (из выступления по Архангельскому телевидению). Т. 5. С. 319–320.
(обратно)1271
Абрамов Ф. А. Дом // Собр. соч. В 6 т. Т. 2. – М., 1991–1993. С. 484.
(обратно)1272
Там же. С. 364.
(обратно)1273
Абрамов Ф. А. Чистая книга (публикация Л. В. Крутиковой-Абрамовой). – СПб., 2008. С. 10.
(обратно)1274
Там же.
(обратно)1275
Абрамов Ф. А. Чистая книга (публикация Л. В. Крутиковой-Абрамовой). – СПб., 2008. С. 165, 211–212.
(обратно)1276
Там же. С. 131–132.
(обратно)1277
Там же. С. 123.
(обратно)1278
Можаев Б. А. Мужики и бабы // Собр. соч. В 4 т. Т. 3. – М., 1990. С. 315.
(обратно)1279
Можаев Б. А. Мужики и бабы // Собр. соч. В 4 т. Т. 4. – М., 1990. С. 41.
(обратно)1280
Там же. С. 95–96.
(обратно)1281
Там же. С. 323.
(обратно)1282
Можаев Б. А. Мужики и бабы // Собр. соч. В 4 т. Т. 3. – М., 1990. С. 354.
(обратно)1283
Можаев Б. А. Мужики и бабы // Собр. соч. В 4 т. Т. 4. – М., 1990. С. 99–100.
(обратно)1284
Там же. С. 100.
(обратно)1285
Там же. С. 101.
(обратно)1286
Можаев Б. А. Мужики и бабы // Собр. соч. В 4 т. Т. 4. – М., 1990. С. 101–102.
(обратно)1287
Там же. С. 310.
(обратно)1288
Там же. С. 103.
(обратно)1289
Там же. С. 209.
(обратно)1290
Белов В. И. Год великого перелома. – Вологда, 2002. С. 721–722.
(обратно)1291
Там же. С. 394.
(обратно)1292
Там же. С. 483.
(обратно)1293
Белов В. И. Год великого перелома. – Вологда, 2002. С. 688.
(обратно)1294
Там же. С. 383.
(обратно)1295
Там же. С. 944.
(обратно)1296
Воспоминания Л. В. Крутиковой-Абрамовой // Дмитрий Лихачев и его эпоха. Воспоминания. Эссе. Документы. Фотографии. – Спб.: 2006, с. 192–193.
(обратно)1297
Лихачев Д. С. Воспоминания. – СПб., 1995. С. 23.
(обратно)1298
Лихачев Д. С. Книга беспокойств. Воспоминания, статьи, беседы. – М., 1991. С. 309–310.
(обратно)1299
Лихачев Д. С. Книга беспокойств. Воспоминания, статьи, беседы. – М., 1991.С. 309–310.
(обратно)1300
Там же. С. 254.
(обратно)1301
Воспоминания И. А. Лобановой // Дмитрий Лихачев и его эпоха… С. 262.
(обратно)1302
Воспоминания З. Ю. Курбатовой // Дмитрий Лихачев и его эпоха… С. 35.
(обратно)1303
Там же. С. 36.
(обратно)1304
Абрамов Ф. Неужели поэтому пути идти всему человечеству? (Путевые заметки). – Архангельск, 2002. С. 204–205.
(обратно)1305
Там же.
(обратно)
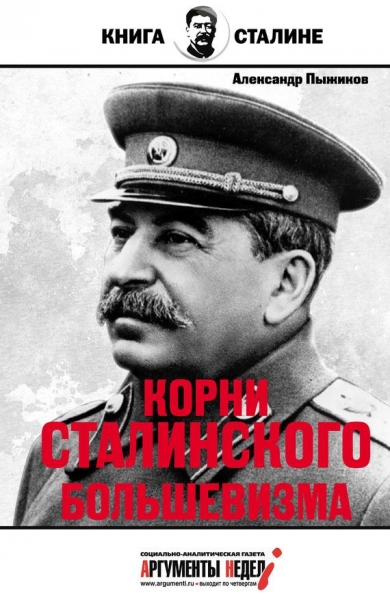
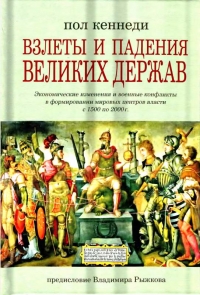


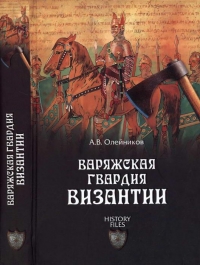


Комментарии к книге «Корни сталинского большевизма», Александр Владимирович Пыжиков
Всего 0 комментариев