ОТПАДЕНИЕ МАЛОРОССИИ ОТ ПОЛЬШИ (1340 — 1654). ТОМ ВТОРОЙ.
Из «Чтений» Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете.
Глава XI. Страх соединения казаков с азиатскими соседями. — Связь между Московским и Польским разорениями. — Главные действующие лица в ускорении Польской Руины. — Спасительный план великого полководца и гражданина.
У наших днепровских казаков, по их инстинктам, было больше общего с татарами, нежели с какою-либо частью польско-русского населения Малороссии.
Мы видели, что польские короли поступали с казаками так, как поступали древние русские князья с дикими обитателями пустынь, лежавших за рекой Росью с правой стороны Днепра и за рекой Сулой с левой; именно: привлекали их себе на службу, как и других иноплеменных ордынцев.
Страх соединения казаков с азиатцами против европейской гражданственности заставил польское правительство ухаживать за двумя изменниками своими, Евстафием Дашковичем и Димитрием Вишневецким. Тот же страх принуждал Польшу платить татарам гарач и вооружать хана против низовой вольницы для очистки от неё запорожских пустынь.
С своей стороны казаки, называя панов неблагодарными, старались ладить с крымцами, и чуть было не поступили на службу к хану под предводительством Самуила Зборовского, назвавшегося ханским сыном. Раздраженные намерением польско-русских властей взять их в крепкие руки, и обманувшись в рассчетах на татар, они пытаются ниспровергнуть панов собственными силами, с помощью накопившегося в безглавом обществе разбойного элемента. Но, когда домашние средства оказались недостаточными, казаки служат крымским ханам в их борьбе с турецким господством, и по-старому приглашают крымцев для опустошения панских владений. Паны бьют казаков на урочище Медвежьи Лозы и задабривают подарками татар. Казаки снова служат хану, под предводительством Дорошенка. Снова паны бьют их в Переяславле, и разлучают с крымцами посредством подарков. В 1637 и 1638 годах со стороны казаков повторяется та же попытка привлечь татар к совместному набегу на панские имения, а со стороны панов отправляются к хану возы кожухов, жупанов, сапогов и денежной дани.
Тяжелые вздохи, с которыми казаки слушали на Масляном Ставу евангельские внушения проповедника, присланного Петром Могилою, не замедлили сделаться у них, волчьим воем и медвежьим ревом, а когда ярость побежденных панским оружием стихла, они вернулись к той мысли, которая поддерживала их бунты со времен Косинского: стали в десятый раз искать своего торжества над панами в татарской помощи. Долго выжидали они благоприятных для того обстоятельств. Но Польша жила в согласии с Москвою; Конецпольский отражал казацкие набеги могущественно, и в 1644 году поразил крымцев под Охматовым так сильно, как будто воскрес памятный им панский казак, Стефан Хмелецкий.
Наконец «перекопским царем» сделался Ислам-Гирей, проведший всю молодость в польском и турецком плену. Это был дикий фанатик магометанства, надменный своим родом, который, по его взгляду, был выше султанского. Казаки, вращаясь по своим интересам в магометанском соседстве, знали его с той стороны, которая была им на руку, и обратились к нему с предложением своего подданства, лишь бы он помог им одолеть «ляхов». Но Ислам-Гирей презирал христиан вообще, смотрел на них, как на существа низшие, и если входил с ними в договоры, то лишь для того, чтоб их обмануть, как человек обманывает животных. Предложение днепровских джауров было им гордо отвергнуто. Это казаков не остановило. Они, с своей стороны, презирали мусульман, и называли их поганцами, неверными псами. Они татар и турок ненавидели почти столько же, как своих панов; если же, в последствии величались дружбой и братством крымцев, то делали это в опьянении торжества над панами и на досаду москалям, которые долго взвешивали, можно ли принять их «под высокую царскую руку». Отвергнутые в десятый раз, казаки терпеливо ждали времени, когда интересы «неверных псов» соединятся с их благоверными интересами для опустошения «Христианской земли» [1].
Между тем колонизация малорусских пустынь, по усмирении казаков и татар, пошла так успешно, что у Конецпольского явилась мысль — выместить кипчакскую Орду совсем из «Таврики» и заселить Крым христианами. Эту мысль Конецпольский давно уже оборачивал в уме своем и совещался о способах к её осуществлению с преданными ему людьми. В 1645 году изложил он свой проект на бумаге, но не решался покамест публиковать, в виду всеобщего стремления землевладельцев к мирным занятиям, которым больше всего мешали миновавшие с 1638 годом казацкие бунты.
Проект Станислава Конецпольского замечательнее всего тем, что в нем польско-русской республике указывалась необходимость искренно-тесного союза с Московским царством. Колонизатор малорусских пустынь признавал в московском правительстве такие способности к заселению новоприобретенных земель, что он был готов предоставить в его распоряжение Крым по изгнании из него татар. Он признавал за «москалями» также и уменье удержать навсегда в своем обладании «Таврику», к чему, очевидно, считал не способными своих единоплеменников, поляков. Дело это представлялось ему опасным с одной только стороны, именно с той, что Москва, заняв Крым, и живя в таком близком соседстве с казаками, может, пожалуй, отторгнуть от Польши и казаков, и «всю Русь»; но всё-таки приходил он к заключению, что для Польши лучше было бы иметь в «Таврике» соседями подозрительных приятелей, «москалей», нежели явных неприятелей «язычников».
План этот, столь же человечный, как и дальновидный, занимал знаменитого охранителя Польши так серьезно, что осенью 1645 года послал он в Крым искусного геометра и рисовальщика Себастиана Адерса, родом из Мазовии, под видом купца, для снятия на план и изображения тамошних городов и крепостей. Но через год с небольшим Конецпольского не стало, и его внезапная смерть открыла свободный ход роковым событиям, которые, по-видимому, один он мог бы остановить.
Эти события возымели свое начало в тех обстоятельствах, которые сопровождали Московское разорение. Из Московского разорения вытекало разорение Польское.
Одним из действующих лиц на сцене смут, последовавших за прекращением династии Рюриковичей, явился малолетний польский королевич, Владислав. Его царствование в Москве провогласил величайший полководец своего времени, Станислав Жовковский: значит, не было оно мечтой личностей мелких. Все десятилетнее царствование талантливого короля Стефана было исполненною кипучей деятельности пропагандою подчинения Москвы Польше и введения обоих государств в широкий план христианской войны с неверными. Эта пропаганда не осталась без последствий и по его смерти. Одним из них было унаследование мысли Стефана Владиславом. Скучая дома под опекой клерикалов наставников, живой и мечтательный королевич неожиданно увидел себя самодержцем народа, готового, по-видимому, посвятить себя тому делу, которое тогда и в героических понятиях рыцарства, и в набожных внушениях духовенства было величайшею славою государей и государств, — освобождению христианского света от мусульман. Король Сигизмунд, оттесняя сына от московского престола, только усиливал в его воображении сияние полновластной царственности. В то же самое время, в уме отрока напечатлевалось и обладание шведскою короною, которой домогался по-своему мечтательный отец. Походы в Московию, продолжавшиеся, с промежутками, от 1604 до 1618 года, еще больше развили отроческие и потом юношеские грезы Владислава. Не мало способствовало возрастанию истинно польского высокомерия и его путешествие по Европе, где всюду принимали его, как будущего носителя трех корон, польской, шведской, московской и, по духу панегирического века, на каждом шагу высказывали, что провидят в нем совершителя подвигов могущественной царственности. Наконец, его воцарение в Польше, приветствуемое единодушными восторгами всего народа и блистательная победа над воеводою Шеиным у Смоленска, по его самомнению, как будто рукою самой судьбы, вели его к престолам и завоеваниям, точно другого Александра Македонского.
В виду крестового похода на турок и преподанного ему отцовскими клерикалами освобождения Гроба Господня из рук неверных, король Владислав, наперекор самому папе, сделался сторонником польских протестантов и покровителем наших противников церковной унии. Но, готовясь к своим великим подвигам, он, и при жизни отца, и по своем вступлении на престол, содействовал развитию в Польше той разрушительной силы, которая, по его смерти, подавила, строительную.
Казаки, стучавшие в московские ворота булавой Сагайдачного, приводившие турок в отчаянье под Хотином и на Черном море, ратовавшие за сочиненное ими «ломанье веры» на Трубеже и на Альте, ложившиеся одни на других в Медвежьих Лозах и под Кумейками, истреблявшие цвет польского рыцарства на Суле и оказавшиеся неодолимыми в своих окопах на Старце, — были, можно сказать, его созданием, его тайной отрадою в борьбе с панским полновластием, его великою надеждою в будущем. Рост их увеличивался с каждой потерей из казацкого дела. Они, в неудачах своих, проходили курс науки крушения, основания которой преподал им обиженный панами шляхтич Косинский, и, падая под ударами культурников, подвергались только новому и новому искусу в своем руинном ремесле. Казацкая энергия в подвигах опустошения соответствовала энергии старших казацких братий, колонизовавших малорусские пустыни с быстротой изумительною. Смерть величайшего из польско-русских колонизаторов и могущественнейшего из обуздателей казатчины, Станислава Конецпольского, обозначила в судьбах Польши поворот, после которого началось торжество разрушительной силы над строительною, — началась победа номадов над культурниками...
Но возвратимся несколько назад.
1645 и 1646 годы были моментом последнего благоденствия, возможного для Польши. Европу оглушал не прерывавшийся третье десятилетие уже боевой гул; Европу потрясали кровавые войны, а в Польше царствовала тишина, тем драгоценнейшая для шляхты, что кругом ревела буря, — для шляхты, но не для её короля. Она его томила. Великие замыслы Владислава IV ограничивались, покамест, заключением славного мира с Москвой, Турцией и Швецией, а было ему уже 50 лет от роду, и он всё еще стоял при начале своего дела, так точно, как и в легкомысленном отрочестве. Вот что его томило в победительной Польше среди счастливой тишины!
Владислав не принадлежал к тем сильным характерам, которые упорною работою преодолевают встречаемые затруднения и постепенно достигают предположенной цели. Не обладает он способностью созидать средства для войны и выбирать людей, которые бы умели и желали содействовать ему в великом предприятии; проживал так или иначе все, что было у него в руках, и попадал в зависимость от сеймующей шляхты, в то время, когда, надобно было ею повелевать; выпрашивал у неё денег, угождал влиятельным сановникам, делал уступки, и этим уничижал царственное достоинство свое. Всякий раз, когда приступал он к делу (пишут о нем поляки), не доставало у него средств для исполнения; то разом начинал несколько предприятий, то впадал в унылое бездействие. И как было ему не унывать, когда вся Европа воевала, а он, который сознавал себя рожденным для блистательных побед, сидел сиднем на своем прославленном престоле? Любили и хвалили его в Польше за спокойное царствование; называли даже великим, но за что? За то, что он умел преодолеть жажду славы, и победил не только Москву, Турцию, Швецию, но — и самого себя. Таким образом ставили его выше Александра Македонского; но это была горькая ирония. Победитель терзался громкою хвалою молча, и готов был на самые отчаянные планы. Мысль о Турецкой войне сделалась наконец его маниею.
Несколько лет уже, не объявляя сейму, пропускал он сроки посылки татарам обычных подарков, а от их мстительных набегов заслонялся бдительным стражем границ, Конецпольским. Когда донские казаки, с помощью днепровских выписчиков, овладели Азовом, торжествуя разом над Портой и над крымцами, — он порывался к ним на помощь, соглашал к тому же и московского царя. Его уносчивое воображение озарилось картиной завоеванной Таврики, картиной заселения днестро-буго-днепровского Низу, богатства черноморской торговли и обращения убогих неучей казаков к обильной и просвещенной мещанской жизни в приморских городах. Но расхозяйничавшиеся землевладельцы не желали воевовать с татарами, опасаясь войны с Турцией, требовали удовлетворения крымцев подарками, а турок — надлежащим посольством. В 1643 году султан подтвердил мир с Польшею, и запретил татарам вторгаться в её владения. Татары, однакож, продолжали вторжения, как были наконец страшно поражены Конецпольским, с помощью князя Вишневецкого, под Охматовым, в 1644 году.
Тогда король выступил опять с проектом Крымской войны. Время было благоприятное. В Крыму происходили замешательства. Недовольный ханом Мехмет-Гиреем турецкий султан, Ибрагим, вскоре после Охматовского поражения, свергнул его с престола, велел выпустить из заточения брата его, Ислам-Гирея, и наименовал ханом.
В Орде открылась усобица между сторонниками братьев Гиреев. В это время Турция и Венеция готовились взаимно к войне, которая обещала быть долголетнею и для Турции гибельною, так как султан Ибрагим был «не в полном уме», а государство его терзали междоусобные войны. Король возымел надежду подавить крымцев беспрепятственно со стороны Турции.
После, победы под Охматовым, созвал Владислав сенаторскую раду и провел в ней постановление, чтобы с этого времени подарков татарам не давать. Постановление состоялось в конце февраля 1645 года. Ближайший сейм должен был подтвердить его, а между тем король стал готовиться к войне, которая долженствовала возгореться одновременно с Турко-Венецианскою: велел строить арсеналы в Кракове, во Львове, в Варшаве, вызывал инженеров и ремесленников из-за границы, запасался военными снарядами. Хан Ислам-Гирей прислал послов, домогаясь подарков. Король задержал их до сейма, а на сеймики выслал универсалы, предрасполагавшие шляхту к подтверждению постановления о подарках татарам, состоявшегося в сенаторской раде.
Главным помощником его был канцлер Оссолинский. В блестящей и злотворной деятельности этого сановника история видит воплощение общественных и государственных недугов, которыми неисцелимо уже разболелся тогда расслабленный организм Королевской Республики. Я представлю только выразительнейшие черты зловещей личности.
Род Оссолинских принадлежал к древнейшим, но не можновладным домам старой Польши. Отец канцлера первый возвысился до сана воеводы, следовательно и сенатора.
Он отличался таким умом, гражданским мужеством и даром слова, что пользовался равным уважением со стороны противоположных и враждебных между собою партий: явление редкое в жизни политических обществ. О матери канцлера почтенный биограф его, доктор Кубаля, говорит, что это была одна из тех великих матрон, которых возвышенная жизнь протекала в тишине и спокойствии. Над её гробом, по его мнению, можно было бы повторить слова, сказанные Замойскнм о её брате, Фирлее: «Собраны сливки с нашего молока».
Но на вопрос апостола: «течет ли мутная вода из чистого источника?» приходится отвечать здесь утвердительно. Чистейшие источники старопольской жизни были повсеместно возмущаемы иезуитами у самого жерла их. До того умели эти ревностные служители папы подделаться под самые благородные характеры простосердечных полонусов, что пагубное воспитание, даваемое ими панским детям, прославлялось, как наилучшее. Так было и с домом Оссолинских.
Юрий Оссолинский, будущий канцлер, лишился добродетельной матери на пятом году жизни, а добродетельный отец, на девятом году, отдал его в иезуитскую гимназию в Пултуске, считавшуюся наилучшею в Польше. Здесь оставался он три года, которые совпали с тем временем, когда польские иезуиты, с королем Сигизмундом III во главе, обработали дело первого Лжедимитрия.
Насажденное ими в польских сердцах лукавство приносило уже свои плоды, и заражало атмосферу общественной жизни на широком пространстве. Под влиянием общего извращения чувства правды, честный полонус доверчиво погрузил сына в самое жерло религиозной и политической фальши.
Перед воцарением Сигизмунда Вазы, он оказал императорскому австрийскому дому памятное для этого дома усердие, и теперь послал сына в иезуитскую академию в Граце, состоявшую под главным заведыванием эрцгерцога Фердинанда, будущего императора, который любил и чтил орден иезуитов «как мать», сохранял его «как зеницу ока» и объявлял во всеуслышание, что «лучше желал бы, чтоб его собственный дом исчез, нежели иезуиты».
Биограф Оссолинского говорит, что «никогда бы в Польше не мог усвоить он таких католических воззрений», какие усвоил на всю жизнь в тесном общении с семейством Фердинанда и с иезуитами. Четыре года провел он в грацкой аптеке ядов, отравлявших умы и сердца католического мира, а эти годы соответствовали тому крушению нравственности в москво-русском и польско-русском народе, посредством которого иезуиты едва не погубили Московского царства заодно с будущим его приростом, воссоединенною Малороссиею.
По тогдашней общественной оценке, установленной, как в Австрии, так и в Польше, иезуитами, Юрий Оссолинский получил воспитание блестящее. По оценке нашего современника, его биографа, монастырь и монарший двор было все, что он видел; людей таких, какими они есть, Оссолинский не знал и не понимал, — можно сказать, что в течение четырех лет не развился он вовсе... В этом-то и состояла суть иезуитского воспитания.
Господствовавшая тогда в Польше мода велела образованному юноше, перед вступлением в государственную службу, совершить путешествие по Европе. В этом поляко-руссы опередили москво-руссов тремя столетиями; но иезуиты обратили преимущество их в ничто.
Молодой Оссолинский прежде всего посетил Голландию, которую так великодушно силился вырвать из католических рук Вильгельм Оранский, и которая вверила ему власть на все время войны за свободу совести. Прошло уже 24 года после того, как вооруженный иезуитами фанатик своим выстрелом положил конец человеколюбивым подвигам Вильгельма, — и представитель «вольного шляхетского народа», путешествуя по местам, которые Вильгельм Оранский прославил в истории борьбы с деспотизмом, не находил для себя другого дела, как богомольничать в католических церквах. Бледный и худой от прилежного учения, едва вышедший из отрочества, юноша «был похож на клерика». Он состоял уже членом церковного братства Марии Панны и такого же братства Св. Духа, а в Кракове вписался у бернардинов членом братства Св. Михаила.
Сохранились его записки, проливающие безотрадный свет на людей, которые считались лучшими и даже великими в Польше. В них Оссолинский рассказывает о характеристической проделке, которую он сочинил самостоятельно, на шестнадцатом году жизни, по случаю болезни сопровождавшего его, в качестве телохранителя, Далмата Посседари. Вот его собственные слова: «Посседари заболел так, что три недели, от тяжких страданий, находился почти в беспамятстве. Опасаясь, чтобы меня, mlodego chlopca, не ограбили, или не умертвили, я выдал себя за его слугу, одевшись в лакейское платье и говоря, что это убогий воин едет из Москвы в Нидерланды на службу, а меня, как знающего немецкий язык, уговорил в Силезии ехать с собою».
В Лувене, славившемся своею разноверческою академией, Оссолинский слушал весьма прилежно целый год философию, право, историю, политику, блистательно защитил диссертацию «De optimo reipublicae statu», посетил Фландрию, Англию, оттуда переехал во Францию, провел опять целый год в Париже, усовершенствовался во французском языке, в математике и в красноречии. Кроме того брал уроки верховой езды, игры на лютне и танцев, изучая в то же время всякие публичные церемонии и торжества. После того отправился на год в Падую, где учился итальянскому языку, стилистике и декламации. Из Падуи ездил в Рим, чтоб изучать церковные дела. Здесь он погрузился в омут клерикальной казуистики, под руководством чествуемого при папском дворе доминиканца, Авраама Бзовского, славного автора Церковной Летописи, как отец вызвал его домой по случаю предпринимаемого королевичем Владиславом похода в Московию, на который он смотрел, как на дорогой для молодого человека случай проложить себе дорогу к дигнитарствам и пожалованиям.
Теперь Юрий Оссолинский не был уже похож бледною худощавостью на клерика. Теперь он чаровал всем глаза прекрасною наружностью и тем, что называлось тогда grandezza, тем искусством лицедействовать в роли публичного оратора и общественного деятеля, которое он усвоил себе в высокой степени, как самое важное достоинство молодого аристократа. Только смех был на его выразительных устах «слишком редким гостем». Но что нас поражало бы неприятно в молодом человеке, то еще больше возвышало его во мнении общества польско-русских магнатов, более или менее одураченных иезуитским взглядом на вещи. Во всех положениях жизни он был всё тем же клериком, являвшимся в разнообразных ролях, — до того, что, когда ему пришлось соперничать за невесту с богатейшим из польско-русских панов, князем Янушем Острожским, и Януш внезапно скончался, он устранение соперника с его дороги приписывал Господу Богу, и «благодарил святой маестат Божий за его великое провидение (za wielka opalrsznosc Boza Jego Swietemu Majestatowi dziekowal)». Это ero собственные слова.
«Во всем его повествовании» (говорит о записках Оссолинского его биограф) «видим его постоянно в (ксензовском) орнате, и дурно ли, хорошо ли он поступает, всегда у него Господь Бог на устах».
Перл иезуитского воспитания не мог оставаться в Польше без соответственной оправы. В виду угроз Османа II завоевать Польшу по Балтийское море, чтоб, окружив Европу своим флотом в соединении с голландскими и немецкими протестантами, начать борьбу с австрийским домом, — надобно было согласить Англию к противодействию магометанам. Органом этого соглашения был избран блестящий питомец иезуитов, и, чтоб его несравненная grandezza делала надлежащее впечатление, дали ему каким-то — выражусь по-польски — pokatnym способом громкий титул графа Тенчинского. В своей сияющей оправе, поражающий высоким, по мнению современников, просвещением, 26-летний посол оправдал перед Иаковом I английским и его парламентом составившееся в Польше мнение о его красноречии. Как отец графа Тенчинского своим честным вмешательством примирял враждебные партии даже во время конференции, так наружность, ораторские позы и декламация сына его производили на польских верховодов такое впечатление, что когда, в позднейшее время, поднимался он с места в законодательном собрании, самые сварливые люди умолкали ради одного удовольствия слушать его. «Он царствует словом (ille regit dictis)», говорили о нем приверженцы. «Обезоруживает умы и сердца (animos et pectora mulcet)», прибавляли враги его... Так было и в Англии. При всем разномыслии своем, и тории и виги заслушались цицероновской латыни посла красавца. Речь, произнесенную Оссолинским перед королевским троном, восхищенный Иаков повелел напечатать на латинском, английском, французском, испанском и немецком языках.
Так и должно было быть. Оссолинский владел в совершенстве искусством лести, и постигал истинно иезуитски слабые стороны тех, к кому обращал свое усладительное и вместе грандиозное слово, в декламации же превзошел он всех своих учителей. Но грустное впечатление делает ныне та часть речи польского посла, в которой он изобразил, какая предстоит опасность всей Европе, и наипаче Англии, в случае падения Польши. Эти слова, внушенные блестящему оратору его национальным высокомерием, выслушивались в то время, как нечто разумное, людьми, державшими в своих руках богатства и судьбы вселенной. Такое же впечатление производит и торжественный, пышный, преисполненный почтения к Польше прием посла её с самого появления его на английской территории. То была горькая ирония так называемого рока, возвышающего и низвергающего гражданские общества в видах потребностей человечества.
Торжество политического витии польского в Англии было полное. Но Иаков I относительно недалекой уже английской революции был то, что Сигизмунд III относительно приближающейся Польской Руины. Будущие кромвелисты, пуритане, озабочивали его не меньше, как и будущие хмельнисты, казаки, тревожили современного ему короля польского. Посольство Оссолинского и его продолжительное пребывание в Англии не имели никаких результатов.
К чести польско-русских правительственных людей, сенаторов и земских послов, созданный иезуитами государственный человек не имел большого между ними хода до конца жизни Сигизмунда Вазы. Из панской добычи, которою львы польской олигархии делились яростно между собою, Оссолинский добился только трех староств. Этого было бы достаточно для многих других панов, но слишком мало для человека с его завоевательными средствами. Только перед смертью старого короля благоприятели сделали его надворным подскарбием, что, при его выработанной в иезуитских школах деятельности и ловкости, дало ему возможность держать в руках и Коронный Скарб.
К чести ума и сердца Владиславова надобно также сказать, что, будучи королевичем, Владислав держал Оссолинского в почтительном отдалении. Но Оссолинский, возвышаясь медленно, заставил нового короля, оценить свои способности выше, нежели ценило их олигархическое правительство. В качестве надворного подскарбия, то есть министра двора, принимал он важное участие в избрании на престол сына почившего короля, и сделался его оратором, его приватным министром. Новый король осыпал его вдруг такими дарами, что одну только пожалованную ему саблю ценили в 10.000 злотых. Но Владислав IV сверх того подарил ему собственный дворец в Варшаве, шестерню дорогих лошадей, 60.000 наличными деньгами, богатые обои, которыми были украшены хоры краковского собора, и бидгоское староство, одно из богатейших в Польше. Сколько эта чрезмерная щедрость озлила некоторых олигархов, столько привлекла она к восходящему светилу можновладства других, заинтересованных по-своему в королевских пожалованиях.
Результатом умножения благоприятелей нового вельможи было то, что коронационный сейм согласился на замену его дедичных добр королевскими добрами, называвшимися Смердиною и находившимися в его «державе». Подобная мена всегда составляла выгоду частного лица, и была для Оссолинского своего рода наградою, которая опять привлекла к нему многих, видевших в этом собственный интерес.
Оссолинский начал играть в одно и то же время две роли, невидимому несовместимые: католическая партия видела в нем своего представителя, так точно как и протестантская, или что в сущности было одно и то же, разноверческая. Питая противоположные надежды одних и других, подвизался он для себя лично, вовсе не для короля, и в то время, когда казалось, что католичество для него всего дороже, или, что для разноверцев он рискует своею репутацией в католическом свете, — на дне его души таилась польская privata, поддерживаемая брацишками Иезуса в польских можновладниках весьма старательно.
Новый глава олигархической республики, король Владислав, избрал политику, противоположную политике миновавшего царствования. По его мнению, друг и наставник отца его, император Фердинанд II, в своей ревности к церкви, обнаруживал нелюбовь к своему народу. Владислав заявлял не только религиозную терпимость но и религиозное согласие. Предполагалось привлечь к деятельному участию в предприятиях короля и протестантов, и державшихся с ними за руки православников важными уступками в их домогательствах, только эти уступки надлежало сделать таким способом, который бы успокоил негодование католической партии и самого папы. В проведении такого неудобопонятного для нас церковно-политического проекта Оссолинский вырос во всю высоту своего злотворного гения, в котором проявился оиезуиченный гений самой Польши.
Желая возвратить своему дому протестантскую Швецию, новый король обещал не ограничивать свободы польских диссидентов никакими мерами; а намереваясь объявить свои права на московский престол, привлекал он к себе дизунитов. Между тем первенец новой династии московских государей, пользуясь промежутком бескоролевья в Польше, вознамерился отнять у неё старые ворота своего царства, Смоленск. Польских патриотов тревожило опасение, как бы Москва не привлекла к себе малорусских православников, которых они воображали солидарными в их национальных и общественных интересах. Перемирие со шведами истекло уже. В случае новой войны, боялись, как бы шведы не нашли себе доброжелателей в Королевской Республике. При таких обстоятельствах, правительственные паны-католики, в бескоролевное время, были принуждены к уступкам диссидентам и совершенно предоставили новому королю успокоение «схизматиков», как называют поляки православных и ныне.
В качестве воина, король действовал искренно, но советники и руководители его, во главе которых стоял Оссолинский, основывались на иезуитском правиле, по которому в присяге слова и намерения могут быть и не одинаковы, так что, кто перед Богом обещает исполнить данное слово, но в то самое время вознамерился не исполнить его, того присяга не обязывает ни к чему. Когда Владислав произносил торжественную присягу — ввести в самую жизнь то, что обещал диссидентам и православникам ревностный католик, литовский канцлер, Альбрехт Станислав Радивил, [2] присутствуя при этом официально, шепнул ему на ухо: «Не могите ваша королевская милость иметь этого в намерении»; на что король отвечал честно: «Кому присягою устами, тому присягаю и намерением».
Слова Радивила служат историку ключом к объяснению дальнейших действий католической партии, представляемой в своем лице Оссолинским.
Зная обнаруженное этими словами правило, папский нунций тотчас успокоился насчет сделанных схизматикам уступок, лишь только ему сказали, что уступки вынуждены временною необходимостью, в видах войны с Москвою; что король обещал вести унию иным, более прочным способом; что отправит к папе посольство для объяснения своих действий, и не только обещает ему привести на лоно католической церкви польских схизматиков, но и шведов, и Москву, против которой идет воевать, повергнет к ногам святого отца. Собственно королю нужно было не позволение, а молчание Римской Курии, потому что католическая партия была довольно сильна для того, чтобы все планы его рушились, если бы папа объявил свое несогласие на те пункты перемирия с иноверцами, в которых присягнул король.
Существовал в Польше обычай — по восшествии на престол нового короля, посылать в Рим посольство для засвидетельствования Апостольскому престолу государственной подчиненности, которою поляки гордились, как ревностнейшие из всех воителей под знаменем Св. Креста. Теперь надобно было снарядить посольство, как для оправдания сделанных иноверцам уступок, так и для других, менее важных для короля дел, из которых особенное внимание русского историка обращает на себя ходатайство шляхты перед святым отцом о приостановлении перехода панских, иначе земских, имуществ в руки духовенства.
Уже четыре короля старались приостановить это зло, угрожавшее Польше, по словам самих католиков польских, обратить ее в «духовное государство». В последние годы царствования Сигизмунда III особенно усилился зловещий переход светских имуществ к духовенству; на других же имениях отяготели такие долги, что много богатых землевладельцев было вытеснено духовными людьми из имений, а сыновья их «принуждены были жить среди казаков». Папским нунциям, резидовавшим в Польше, представлялась уже возможность — «в короткое время обратить в католичество всю русскую шляхту, а за нею мещан и мужиков, без всяких увещаний, одним тем, чтобы все 23.000 дигнитарств и бенефиций, находившихся в распоряжении короля, раздавать одним только духовным».
Послом в Рим был избран человек, пользовавшийся доверием не только таких панов, какие возвели на митрополию Петра Могилу, но и таких, какие стояли за спиной у литовского канцлера, когда он шептал королю достопамятное слово о намерении. Самые иезуиты надеялись, что им, как ордену полусветскому, Тенчинский граф, помимо орденов монашеских, исходатайствует разрешение святого отца на обращение шляхетского сословия в безземельников. Но у них, сверх того, была еще тяжба с Краковской Академией, которую они теснили своими школами. Они и здесь возлагали надежду на своего питомца, так точно как надеялись на него и академики.
В качестве великого посла, Оссолинский воспользовался вывезенными из Москвы сокровищами коронного скарба, для того чтоб явиться перед Западною Европой представителем «величайшего из монархов севера, короля польского, шведского и царя московского». Наглядным представлением могущества своего монарха и своею собственною пышностью ему надобно было облегчить себе достижение предположенной цели в том городе, «где» (по замечанию самих поляков) «богатым и сильным редко в чем отказывали». Но, так как богачем он всё-таки не был и «денег напрасно тратить не любил», то в приготовлениях к своему посольству должен был прибегнуть к соображениям, свойственным его изворотливости.
Прежде всего подобрал он себе «дворян», отличавшихся мужественною красотой, богатством и образованностью, из которых бы каждый представлял с таким достоинством особу посла, своего пана, с каким он сам — особу короля, и чтобы, видя их, можно было сделать выгодное заключение обо всей шляхте. Зная, с каким великолепием появлялись в Риме посольства французские, постановил он: «чтобы то, что у них было из серебра, у него было из чистого золота, — что у них из золота, то у него из драгоценных камней, — что у них из драгоценных камней, то у него из диамантов». А для того стоило только взять из коронного скарба на показ все блестящее да истратить соответственно незначительную сумму на выставку, — и глаза римлян будут ослеплены. Кортеж его состоял из 300 людей, 20 экипажей, 30 верховых лошадей, 10 вьючных верблюдов и соответственного количества нагруженных всяким добром брик. Все это было распределено и построено с такой глубокой обдуманностью, для поражения римлян изумлением, с каким гениальный воин ведет в огонь свои победоносные колонны. В довершение дешевого эффекта, Оссолинский вез папе подлинную грамоту Константина Великого, которою Константин подарил церкви город Рим. Грамота эта, по завоевании турками Константинополя, сделалась достоянием казны московских царей, а по взятии Москвы великим русином Жовковским, попала в польские руки: «драгоценный подарок для папы и славный для польской нации», как пишут поляки.
В то самое время, когда Оссолинский дивил представителей католической Европы театральным великолепием своей обстановки, получено было в Риме известие о торжестве короля Владислава над московскою ратью под Смоленском. Это событие вдохновило польского оратора такою громозвучностью, хвалебною для короля и папы, а порицательного для Москвы, что святой отец тут же сказал своему камерленго: [3] «И Цицерон не говорил бы лучше».
Слушали латинскую речь Оссолинского послы французский и других католических государств. Было что слушать им. Представитель могущественнейшего монарха севера приветствовал главу западной церкви такими например словами:
«Сколько ни есть народов, покрывающих север Европы на широком пространстве от Карпат до Каспийского моря и от Ледовитого океана до моря Черного, все они, в лице моего монарха Владислава, преклоняются ныне пред престолом твоим, святый отче: ибо все тамошние народы — или принадлежат его маестату по праву наследственному, или же, покоренные оружием, признают его повелителем своим».
Национальное самохвальство польского посла находило в Риме полное сочувствие, когда он говорил: «Оттоманский полумесяц, разрушивший столько городов укрепленных, перешагнувший столько непроходимых пропастей и быстрых рек, истребивший столько христианских поселений, останавливают поляки голою грудью. Что татарская свирепость не разлилась по всей Европе, этим обязана Европа одной Речи Посполитой. Многократно победили мы москалей, христиан только именем, самим же делом и обычаем горших из всех варваров, — победили, и наконец прекраснейшую часть их областей обратили в нашу провинцию... Узришь еще, с помощию Божией, перед своею столицей и одичалых скандинавских львов, присмиревших под могучей рукою Владислава; узришь перед собой отступников общего пастыря, и затворишь их в овчарне своей», etc. etc.
Чтобы заручиться помощью самовластной олигархии в великих предприятиях короля своего, проектировал Оссолинский еще прежде союз католических магнатов под фирмою рыцарского братства беспорочного зачатия. Это братство долженствовало состоять из 48 членов, возвышенных папою в княжеское достоинство и обязанных повиноваться в войне с неверными великому магистру, польскому королю. Папа, через своего нунция, обещал дать санкцию проекту Оссолинского, который, служа мечтательным видам Владислава, в то же самое время представлял Римской Курии новый способ обладания Польшею в лице богатейших и могущественнейших её олигархов. Теперь, восхищенный послом и посольством, наместник Христа утвердил Братство беспорочного зачатия, и дал Оссолинскому титул римского князя. Зато ж и римский князь уверял Христова наместника, что в Польше «весь сейм, сенат и народ больше заняты борьбою за религию с согражданами своими, нежели безопасностью и целостью общего отечества».
Но тут Оссолинский зашел уже слишком далеко в обольщении властителей земли: основавшись на его уверении, папа не поступился ни одним епископством и ни одним храмом из той добычи, какую получил в польской Руси через посредство измышленной иезуитами унии. Наряженная им конгрегация из 4 кардиналов, 4 прелатов и 4 ученейших теологов, после пятинедельного взвешиванья этого вопроса на католических весах, не могла найти никакого способа, которым бы апостольская столица могла принять самомалейшее участие в возвращении схизматикам их предковской собственности. Оссолинский добился того, что папа запретил монашеским орденам в Польше приобретать земские имущества (однакож фактически оказалось это невозможным), добился своими истинно иезуитскими уловками, через самих же иезуитов, и того, что иезуитские школы, основанные в Кракове вопреки привилегированной королями Краковской Академии, были закрыты; но вопрос униатский de jure остался в том же положении, в каком был при Сигизмунде III.
Таким образом то, для чего собственно ездил Оссолинский в Рим, послужило только к его славе среди толпы, стекавшейся со всего света в столицу католичества, и к его возвышению в глазах людей, ценящих заслуги по титулам. Возвращаясь в отечество через Флоренцию, Венецию и Вену, он был принимаем точно владетельный потентат; и осыпаем беспримерными подарками, а Фердинанд II австрийский вручил ему на прощанье диплом, которым княжеское титло, присвоенное имениям Оссолинского, сделалось принадлежностью, как его особы, так и его потомков; Фердинанд наименовал его князем Римской Империи. Латинским языком различие между двумя титулами выражалось так: Princeps Ossolinski, Dux in Ossolin.
Возвратясь в отечество, Оссолинский получил в награду обширные имения в завоеванной королем Северии, к которым прикупил еще Батурин с его окрестностями и Конотоп. Теперь он был вполне магнат, или то, что поляко-руссы называли на всю губу пан. [4] Но король был им недоволен; иезуиты обиделись; духовные и светские можновладники завидовали; шляхта видела свои надежды обманутыми, а его титулами была разогорчена.
Всего досаднее шляхте было то, что Оссолинский не привез из Рима запрещения всему духовенству приобретать земские имущества. Уже давно ходили в Польше тревожные толки, что духовенству принадлежит в Короне больше имений, нежели королю и дворянству. В недавнее время некоторые монашеские ордена, путем судебных обязательств, получили в Великой Польше по 15, 20 и 30 сел, а под нашим Львовом католическое поповство и монашество приобрело покупкой столько имений, что «если бы надобно было выбрать подсудка, то пришлось бы выбирать монаха или монахиню». Лучшие из католиков были такого мнения, что «безмерное расширение церковных имуществ затрудняет согласие между сословиями светским и духовным, помогает возрастанию еретичества, подкапывает рыцарство и грозит католической церкви презрением, а отечеству руиною... Могут наступить такие времена» (говорили многие), «когда шляхта не будет в состоянии и даже не захочет оборонять духовенство: тогда еретики возьмут себе все».
Но, впустивши козла в огород еще тогда, когда невежество мешало знать его свойства, шляхта не знала теперь, как положить предел его вредоносности. В облегчение «сословия рыцарского» хотели стеснить церковную собственность разными обязательствами. «Речь Посполитая» (твердили поумневшие вотще люди) «окружена со всех сторон грозными неприятелями. Нет у неё других крепостей, кроме шляхетских порогов. Шляхтич должен приготовлять сыновей к военной службе, покупать вооружение, держать наготове коня, отбывать военную службу на собственном содержании, идти на посполитое рушение и почти всегда впутываться в долги, при этом оставлять хозяйство, во время похода нести значительные траты, издерживаться на воспитание детей, давать приданое дочерям. На его голове лежат пожертвования, монашеские ордена, записи костелам, содержание каплиц и гробовищ, церковные расходы, десятина, литургийная плата (meszne), зерновая десятина (maldraty), выкуп пленников, сеймикованье, трибунальные расходы, военные смотры. Духовные же никаких издержек не несут, и потому обростают перьем, скопляют деньги и скупают шляхетские имения. Было бы справедливее, чтоб они от своего достатка уделяли шляхте, а не от шляхты приобретали добра, которые должны ненарушимо переходить из рыцарских рук в рыцарские, чтоб и Речь Посполитая, и костелы оставались целыми... Республика — хозяйка у себя: может она воспретить ксендзам и монахам приобретение шляхетских имуществ».
Много было всяческих пререканий со стороны противников и защитников духовенства. Защитники успокаивали шляхту законом 1607 года, по которому духовным нельзя ни приобретать светских маетностей, ни держать их за собой пожизненно. Противники отвечали, — что «этого закона невозможно привести в исполнение по причине могущества духовенства, которое не признает его. Да его легко и обойти, потому что, хотя бы закон и ангелы писали, а дьявол в нем лазейку найдет. Вот папа запретил монахам приобретать имущества, а монахи твердят, что под предлогом милостыни (jalmuzny) приобретать дозволено».
Дело кончилось тем, что на сейме 1635 года было запрещено всему духовенству приобретать земские имущества. Но сеймовые постановления часто оставались в Польше мертвою буквою. Духовные органы Сейма, епископы, отстаивали сильно свое полное обладание жалким шляхетским народом, и только юридически не устояли против соединенных усилий шляхты.
Король, будучи в согласии с антиклерикалами, настоял и на том, чтобы сейм, не взирая на папу, подтвердил его примирение с малорусскими противниками унии.
В этом случае бессилие общественного мнения в Польше, колеблемого во все стороны, выразилось тем, что маршалом Посольской Избы выбран был не кто другой, как тот же, недавно всех огорчивший Оссолинский, и он-то, главным образом, содействовал сеймовому постановлению относительно юридического спасения шляхты от старательности духовенства.
Но зато его великолепный проект о титулах, сопровождаемых ношением орденского креста на золотой цепи, подложенной лентою, — проект, за который ухватился Владислав для подкрепления своего ничтожного монархизма, сеймующая шляхта отвергла решительно, для сохранения своего гражданского равенства, надобно помнить, только номинального.
С тем же упорством стояло законодательное собрание и против войны, которой жаждал король, мечтая возвратить отчину предков своих, Шведское Королевство, и достояние казако-панского оружия, престол наших Рюриковичей, занимаемый уже 23 года Романовыми, — возвратить с тем, чтобы соединенные силы трех монархий обратить против турок, а в конце концов обессмертить себя завоеванием Гроба Господня.
Добиваясь высшего и высшего положения в государстве, Оссолинский поддерживал рыцарскую мечтательность короля, и в то же самое время комбинировал всевозможные события в пользу всемирного владычества римского папы. В 1638 году он был наименован коронным подканцлером, а в 1645-м — коронным великим канцлером.
Восходя со ступени на ступень, он, подобно многим счастливцам того времени, веровал в свою звезду, ворочал всем законодательным собранием, смотрел на него сверху вниз, и дошел до того, что произносил перед соединенными Посольскою и Сенаторскою Избами такие слова, которые, по выражению его биографа, были «дерзким пренебрежением всего законодательного собрания». Но этим-то и брал он у короля, который постоянно боролся за монархические права свои с сеймовыми представителями панской республики. В 1639 году, из-за его открытой наглости против маршала Посольской Избы, государственный сейм был что называется сорван. По собственным словам Оссолинского, он «карабкался выше и выше по скалам, и преодолел самую фортуну». Немудрено, что такой фаталист политической интриги был вдохновением рыцаря-короля, и держал его до конца под своим пагубным влиянием.
Едва ли не самым лукавым, иначе — самым глубоким, дипломатическим замыслом Оссолинского было создание в Польше малорусского патриархата, напрасно приписываемое Владиславу. По пословице ex ungue leonem [5], оно похоже больше на изворотливого выскочку-магната, нежели на простодушного воина-короля. Еслиб удалось Оссолинскому облечь Петра Могилу патриаршим саном, то этим самым была бы расторгнута историческая связь польской Руси с востоком, следовательно и с Русью московскою, уния с западною церковью совершилась бы сама собою, и тогда бы оправдалось таинственное обещание короля, что он устроит новую унию, более прочную и могущественную, нежели Брестская, которую нарушил он ради того же Петра Могилы. Один папа, но не киевский митрополит, как у нас думают, был препятствием к созданию малорусского патриархата, который разлучил бы навсегда две русские народности, и сделал бы в истории римской церкви имена Оссолинского и Петра Могилы одинаково великими. Для сохранения церковной традиции во всей ненарушимости, святой отец неумышленно погубил Польшу и, на вечное горе своих поклонников, спас от исчезновения в польском элементе Малороссию.
Кстати замечу здесь, что в Риме вовсе не понимали, как стоит у нас униатское дело. Находя немыслимым утвердить малорусский патриархат, папа находил возможным для Петра Могилы и его приятеля, Адама Киселя, среди тогдашнего смятения малорусских умов, объявить себя католиками. В 1643 году он звал своими письмами того и другого на лоно римской церкви.
Да, король был воин, а не политик. Вопреки приемам Оссолинского, который, с именем Господа Бога на устах в добрых и злых поступках, всегда действовал так, что и козы были сыты, и сено цело, он прослыл в Риме «главным опекуном еретиков и схизматиков»; он поссорился из-за унии с папой Урбаном VIII, и вооружил его против себя так, что святой отец велел иезуитам сделать королевского брата, Яна Казимира, членом своего ордена, и собственноручно уведомил о том короля. Владислав был задет этим за живое, и не мог удержаться от слез. Надоело ему наконец возиться с церковными делами. Он предоставил поповское попам, и погрузился в комбинацию борьбы с мусульманами во славу своего, можно сказать казацкого, имени.
С осени 1644 года на папском престоле, вместо Урбана VIII, сидел Иннокентий X, отличавшийся дружелюбием к польскому воинственному королю. Под его ласковым влиянием, у Владислава ожила с новою силою мысль об изгнании неприятелей Св. Креста из Европы. Осуществлением этой мысли король, очевидно, надеялся дать иной оборот церковным делам в Польше. Притом же он имел в виду ниспровергнуть империю Оттоманов через посредство христианских подданных султана: мечта, сделавшаяся популярною и в казацкой республике со времени пребывания в ней Александра Оттомануса, назвавшего себя крещеным султаничем. Поэтому не следовало ему огорчать константинопольского патриарха и его греков малорусским патриархатом, который нашу церковную иерархию привел бы прямой дорогой к «единости» с церковью римскою. Да и папу надобно было по возможности ласкать уважением церковных традиций, рассчитывая на его денежную помощь...
Григорий XV помогал Сигизмунду III деньгами во все время войны с Османом II и платил ему 10.000 скуди [6] ежемесячно до конца жизни, для содержания военной силы против турок, не считая щедрого пожертвования, сделанного кардиналом Бамберини.
Такой же помощи ожидал и Владислав IV от папы Иннокентия X. На письмо свое о пособии получил он ответ благоприятный. Папа обещал помогать полякам, очевидно, в виде подкупа их относительно унии, которая была, как сознается польская историография, — «зеницей ока католической церкви». Посылая в Польшу нунция Торреса, архиепископа адрианопольского in partibus infidelium, то есть титулярного или будущего, папа велел ему действовать по предмету соединения церквей тайно даже от короля и примаса [7], открываясь во всем только трем лицам, Оссолинскому, Селяве и Терлецкому, которые должны были наставлять его, как поступать с примасом, чтоб он помог у короля и стоял за Брестскую унию на сейме.
Этот наказ обнаруживает сам по себе, какого двуличного человека сделал своим наперсником Владислав IV в особе канцлера, и чего надобно было ждать от королевского любимца в решительные моменты внутренней и внешней политики.
Оссолинский придумал способ для открытия военных действий против Турции без согласия польской палаты депутатов, называвшейся Посольскою Избою и польской палаты перов, называвшейся Избою Сенаторскою. Король был от него в восхищении.
По плану канцлера, известное уже нам постановление сената об отказе татарам в подарках должно было оставаться во всей силе до полного собрания на сейме обеих законодательных палат. Раздосадованные отказом татары не замедлят вторгнуться в польские границы. Тогда король воспользуется предоставленным ему правом «отвращать от государства опасность собственными средствами», из оборонной войны перейдет в наступательную и займет Крым. Турки станут оборонять свою Татарию. Панам, домогавшимся от короля мира, поневоле придется поддержать честь польского оружия и вторжением в Турцию предупредить повторение Хотинской войны.
Обещанные папою деньги, вместе с его влиянием на католическую партию, устроят остальное. Таков был, в общих чертах, план Оссолинского.
Шляхта, в своем вечном разладе с панами желала Турецкой войны, подобно её родственникам, казакам, которые постоянно расходились в своих интересах с богатою и мирною частью населения Речи Посполитой. Оссолинский умел и дома не хуже, как за границей, направлять умы к предположенной цели; но его задушевная цель всегда и для всех оставалась тайною. В качестве великого, то есть коронного, канцлера, он, в сеймовой пропозиции 1645 года, высказался так:
«В обеспечение украинных земель мы основывались на платеже татарам подарков, которые они попросту зовут гарачем. Этот всюду ославленный стыд нашего народа сносили мы еще, пока наша дань утоляла в Орде жажду грабежа и пленения в Польше.
Теперь же, когда весь Крым едва не обратился в разбойничий вертеп тех, которые увозят наши подарки, король предполагает вам на размышление: хотите ли оставаться в таком посрамлении, платя за собственные утраты, или же, уповая на милость Божию, на дознанное счастье и доблесть нашего монарха, на пламенную готовность вождей служить отечеству и на мужество войска, желаете поступить, как велят нам — неизвращенная слава наших народов, безопасность наших братий, достоинство шляхетской крови и, наконец, свобода стольких душ, кровью Спасителя нашего искупленных, прикованная к языческим галерам на гибель христианства. Не хочет его милость король отдавать на страшном Божием суде отчет в таком множестве своих подданных, отуреченных, Божие имя ругающих; не желает он также кровавых слез, взывающих к Богу о мщении и прошибающих небеса. Готов он вверенных ему людей заслонить от их несчастья собственною грудью и там искать свободы, откуда приходит неволя».
Польско-русские магнаты, при всей своей гордости, можно сказать царственной, издавна привыкли продавать королям свои услуги за дигнитарства и пожалования.
Владислав задобрил представителя когда-то православных Острожских, Доминика, князя на Остроге Заславского, литовского подканцлера Льва Сопигу, Юрия Скумина Тишковича, Иеремию князя Вишневецкого, Януша Радивила, а в том числе и фактора продажи, Юрия Оссолинского, раздачею — кому воеводства, кому гетманства, кому города, кому богатого староства. Прочие «дуки» польской олигархии должны были ждать и дослуживаться такой же раздачи. Но кроме дигнитарств и королевщин, у Владислава в руках были еще римские скуди, которые было предположено делить между пособниками Турецкой войны. Победитель московской рати покупал у панов, под видом помощи, косвенное позволение выступить на новое поприще военной славы, и фактические государи Польши обещали явиться к титулярному королю своему с контингентами, как союзники. Когда татары будут отражены и прогнаны, в чем, после Охматовского поражения, не сомневался никто, победители «на их шеях» въедут в Крым; но то будет уже не войско Речи Посполитой, а хоругви польских панов: различие, с польской точки зрения, существенное. Всем будет казаться, что воюет не король, не Королевская Республика, а Заславский, Радивил, Вишневецкий и другие по собственной воле (nа swoja reke), без ведома и дозволения короля в отмщение за татарский набег на их владения. Этим де способом крымские ханы не раз высылали в Польшу своих мурз; не один раз и Порта, повелев хану вторгнуться в Украину, оправдывалась потом, что случилось это без её ведома. А чтобы турки не помогли татарам, казаки, с позволения коронного гетмана, пойдут на Черное море и не допустят галер турецких в Крым.
В ожидании папского ответа касательно 500.000 скуди ежегодно на два года, король поставил отдать Москве город Трубчевск и звать ее к совместным действиям против татар, а из Турции прийдет к нему известие, лишь только загорится война с Венецией.
Ведя свои дела по обдуманному таким образом плану, король мог обойтись без постановления сейма. Довольно было для него — согласия обоих канцлеров, коронного великого гетмана да нескольких первенствующих панов.
Весною 1645 года ожидаемая Турко-Венецианская война вспыхнула, и в конце апреля турецкий флот в 348 кораблей вез уже сильное войско, сухопутное и морское, для завоевания острова Крита, считавшегося оборонными воротами Венеции.
С другой стороны хан Ислам-Гирей, не получив гарача и сведав об универсалах, которыми король побуждал свою Республику к войне с татарами, просил у турецкого султана так-называемого эмира, то есть дозволения вторгнуться в Польшу со всеми крымскими, ногайскими и буджацкими ордами.
Султан подозревал волошского господаря в неверности, боялся, чтоб король не поддержал его и не соединился с Москвою против татар, как об этом носился уже слух в Турции. В июле прислал он хану просимый эмир.
Король спокойно вызывал татарский набег, так как недавно получил известие, что новый хан не совладает с собственными подданными. Трудно было предвидеть, что султанский узник, освобожденный по прихоти полупомешанного деспота, разыграет вместе с завзятым казаком столь важную роль в пользу московской царственности, какую готовился разыграть интриган канцлер с послушным ему королем в пользу всемирного владычества римского папы. Но Ислам-Гирей был не таков, каким воображали его в Польше.
Ориенталист Гаммер-Пургшталь рассказывает, что, привезенный из заточения на острове Родосе в Стамбул, не знал он, что его ждет, и был принят грозным в своем полуисступлении султаном над купальней (в июне 1644). «Смотри, Ислам», (сказал полураздетый Ибрагим) «я сделал тебя ханом. Отныне будь другом друзей моих и врагом врагов моих. Кроме моего слова, не слушай никакого другого. Сколько тебе лет»? — «Сорок» (отвечал новонареченный хан). «Но хотя только-что начал я садиться на седло, надеюсь править моим боевым конем хорошо на службе падишаха». Тут на него накинули соболью шубу, опоясали дорогой саблею, и царственный Гирей, гордый внушением султана, обратился к великому визирю с такими словами: «Так как вы сделали меня ханом, то надеюсь, что будете поступать по моим просьбам и не станете давать мне наказов, обращаться с неверными. Между мной и ими сабля». — «Да правит Аллах тобою! Мы не будем в это вмешиваться», отвечал визирь.
Прибывши в Крым, Ислам-Гирей обезглавил своих врагов, отправил в Польшу послов за гарачем, а часть мятежной Орды послал в Московию, под предводительством своих приверженцев. В числе их находился и поляк Свидерский, которого татары звали Сяус. Но спокойствия в Крыму новый хан восстановить не мог. Сторонники бывшего хана ушли на Буджаки, и ждали возвращения своих из похода, чтобы низвергнуть Ислам-Гирея. Видя грозящую опасность, испросил он у султана эмир, по которому все орды должны были идти под его бунчуком в Польшу.
Известие об этом могло прийти в Варшаву не раньше половины июля 1645 года. Орда обыкновенно набегала в начале января, если не по первой траве: оставалось полгода на приготовления к отпору.
Король тотчас послал повеление строить чайки, чтобы весною 1646 года, в отмщение за «неожиданный» набег татар, они могли появиться на море; коронному великому гетману велел (в августе) написать к визирю, что если татары осмелятся вторгнуться в Польшу, то он покроет Черное море казацкими чайками; воеводе Мстиславскому приказал отдать немедленно Трубчевск царю, а послу своему в Москве велел предложить ему союз для соединения вооруженных сил обеих держав против татар.
Недавно наследовавший своему отцу молодой царь, Алексей Михайлович, назначил в Варшаву великих послов с наказом трактовать с королем о войне с татарами.
Одновременно с вестью о близком вторжении Орды прибыл в Польшу венецианский посол Джиованни Тьеполо с просьбой о помощи Венеции. Именно просил он, чтобы король, для разъединения турецких сил, повелел казакам идти на море и выжечь на побережьях заготовленный лес и галеры, которые строили из него турки.
Владислав знал этого венецианца, как приятного человека, еще во время своего путешествия по Европе. Потом Тьеполо приезжал в Польшу послом и ознакомился с этим государством. Джиованни Тьеполо был представитель одной из древних и знатнейших венецианских фамилий: предок его был дожем; а знатность рода поляки ценили выше всего.
Владислав слушал посла весьма благосклонно; обещал употребить всю свою власть и «повагу» для того, чтобы как можно скорее угодить Венеции; сожалел, что наступающая зима не позволит казакам идти на море, и при этом сказал, что должен еще посоветоваться с коронным гетманом и с канцлером.
Оссолинский также выразил свое усердие: секретно уведомил посла, что король готовит войну против татар; что может предпринять ее, не созывая сейма; что послал к папе с просьбой о денежной помощи, и теперь ожидает нетерпеливо прибытия нунция; наконец спросил дружески: не может ли и Венеция в предстоящей войне помочь какою-нибудь суммою? Татарская война (говорил он) принесла бы ей немалые выгоды. Но Тьеполо отвечал, что не имеет от своего правительства поручения трактовать об этом предмете.
Между тем султан Ибрагим, испуганный письмом Конецпольского, послал (в конце сентября) к хану гонца с повелением не вторгаться в Польшу. Вместо того, позволял ему воевать Московское царство.
Папа денег не прислал, потому что не имел, а тут пришли вести о претерпенных венецианцами поражениях и неожиданных турецких победах. Венецианская крепость Канея была взята, а с нею и весь остров Кандия, древний Крит, передовой редут Венеции со стороны турок, очутился у них в руках. Опасность грозила всей Италии.
Это подало канцлеру мысль, чтобы 500,000 скуди, которых король просил у папы, заплатили итальянские князья вместе с папою, в виде благодарности за помощь Италии в её опасном положении. И потому, когда нунций и Тьеполо просили его о немедленной отправке казаков на море, Оссолинский объявил, что король, глядя на дело Венеции, как на свое собственное, предполагает подать ей более действительную помощь, нежели казацкий морской поход, и открыл им замысел Владислава воевать с Турцией.
Но, так как наступательной войны король, без согласия сейма, предпринять не может, то будет вести войну оборонительную, под предлогом освобождения государства от татарских набегов, из чего, очевидно, возникнет война наступательная: ибо турки, будучи вынуждены помогать Орде, тем самым заставят поляков дать им отпор на Черном море. Этак незаметно начнется открытая война, не подвергая короля со стороны сейма упрекам в нарушении мира и ломанье присяги. Но на войну с Ордой и на вооружение многочисленного войска казацкого королю нужны деньги, а потому желает он, чтобы папа, Венеция и князья итальянские в течение двух лет заплатили миллион скуди, «с тем чтобы поделить эти деньги между можновладниками». Речь свою канцлер завершил просьбою обдумать королевское предложение и представить его своим дворам, так чтоб это дело получило твердое решение и конец. С своей стороны король написал в Венецию и еще однажды к папе.
Тьеполо уведомил венецианский сенат о плане канцлера, но, должно быть, не очень поддерживал его, так как объявил немедленно, что война с татарами не подлежит решению Венеции.
Между тем пришли в Варшаву несомненные известия, — что оба господаря, волошский (молдавский) и мультянский (валахский, Мультания (Румыния), восточная части Валахии, располагавшаяся между реками Дунай на востоке и юге и Олт на западе) постановили воспользоваться Турецко-Венецианскою войною для того чтобы свергнуть с себя мусульманское иго; что они послали с этою целью к королю послов; что греки, болгары и другие завоеванные турками народы замышляют восстать, и, наконец, что московский царь отправляет посольство в Польшу для заключения союза против татар.
Эти известия подвинули Владислава на дальнейший шаг. В начале октября, через несколько дней после последнего совещания, уведомил Оссолинский венецианского посла и папского нунция, — что султан запретил хану вторгаться в Польшу, и потому предлог к войне с Ордой отменяется, но что на то место вскоре прибудет от московского царя посол, уполномоченный заключить с Польшею союз и предложить ей великую вооруженную силу; что волохи и мультяны постановили свергнуть турецкое иго, и что, при таких обстоятельствах, появление короля на границах Турции вызвало бы в ней великое смятение, которое было бы сигналом широкой войны с Портою, лишь бы Венеция без отлагательства дала потребные на то средства... «Тогда мы» (говорил канцлер) «оставим царское войско с горстью наших против татар, а сами с союзниками приблизимся к Дунаю, а в то же время пихнем толпы казаков к Царьграду».
Эти слова воспламенили венецианца. Тотчас пишет он к своему сенату, чтобы безотлагательно решались действовать в интересе столь великой важности; сам же, не теряя времени, на собственный риск, договаривается с Оссолинским, и предлагает от имени Венеции ежегодно по 500.000 талеров на два года. Польша и по истечении двух лет будет нуждаться в помощи; поэтому желал Оссолинский знать: может ли дожеская республика заключить с королевской республикой наступательно-оборонительный союз? Что же касается похода на Черное море, советовал послу, чтобы постарался снабдить коронного гетмана деньгами для поощрения казаков.
Это были предварительные переговоры, в которых король не желал принимать участие, дабы не открывать своих мыслей и не связывать себя каким-либо обещанием до получения ответа из Венеции. Несколько раз повторял он венецианскому послу, что было бы очень хорошо, когда бы королевская власть в Польше соответствовала его добрым желаниям; что все зависит от решения Рима, Венеции и князей итальянских; что не имеет права объявить наступательную войну, и что указанный предлог войны с татарами был единственным способом открыть ее; казацкий же поход откладывает он до совещаний с коронным гетманом.
Все внимание короля, по-видимому, было сосредоточено на Москве. Сведав, что хан получил дозволение вторгнуться в её пределы, немедленно уведомил он о том царя, а брацлавский каштелян Стемпковский, королевский посол при царе, заключил с ним оборонительный союз, которым король обязался, по первому известию от московских воевод о вторжении татар, выслать войска свои на помощь Москве, что для неё было бы важной услугою в тогдашних обстоятельствах.
Ислам-Гирей, успокоив мятежи в Крыму, отправил в декабре 1645 года в Московию 30.000 отборной Орды, под предводительством брата своего, Нурадин-султана (второго соправителя), «чтоб он поздравил нового царя». Нурадин побил, как было слышно, московских воевод в Рыльском уезде, разбил царскую рать и три недели опустошал пограничные области между Путивлем, Рыльском и Курском, гоня бесчисленное множество скота перед своими чамбулами. Коронный полевой гетман, Николай Потоцкий, по повелению короля, выступил с 15.000 войска в помощь Москве: но, по причине страшных морозов, польское войско с трудом добралось до реки Мерла; оттуда не могло двинуться дальше и с большими потерями в людях и лошадях вернулось печально домой. Так пишут поляки. Но страшные морозы не помешали Нурадин-султану сделать удачный набег и прийти в Крым с ясыром и скотом. Он отправил к царю гонца (говорили в Польше) с требованием десятилетней дани; в противном случае грозил, дав отдохнуть коням, через 40 дней вновь опустошать Московское царство.
Когда полевой гетман вступил на помощь Москве, великий гетман прибыл в Варшаву. Он был уже старик, но рассудил за благо жениться вторично, и ехал для того в имение Опалинского, Рытвяны. Однакож, постоянно думая о войне с татарами и завоевании Крыма, хотел утвердить короля в его предприятии, представить свой проект и защищать его лично, так чтоб этот проект был регулятором переговоров с московскими послами, которых вскоре ожидали. Кроме того, вез он королю важные известия, которые могли дать замыслам его другое направление.
О проекте Конецпольского было говорено у меня поверхностно. Здесь представлю его в полном виде, как документ великой важности в оценке польско-московской взаимности.
Коронный великий гетман, в присутствии нескольких дружественных сенаторов, прочел королю и канцлеру свой «Dyskurs об уничтожении крымских татар и о союзе с Москвою», состоявший в следующем:
«Относительно вооруженного союза с Москвою против татар, кто не видит, как этот союз нужен ей и приятен, особенно теперь, когда Орда уничтожила почти половину царства? (Это было написано по-польски и для поляков, которых надобно было предрасположить в пользу проекта) Счастливые бы настали времена, когда бы Таврику заселили христиане, прогнав язычников, что совершенно нетрудно.
Давно я оборачивал в своей голове это дело: но, глядя на его легкость, тотчас вижу и трудность, зная, как мы привыкли относиться к общественному благу. Нам жаль и этого малого гарнизона в Украине, а, пожалуй, и на Кодаке: еще больше было бы жаль того, чем бы надобно было удержать Крым.
Поэтому было бы лучше предоставить Таврику Москве, получив от неё за то помощь и вознаграждение из соседних областей. Москва сумела бы наверное заселить и держать ее, основав, по своему обычаю, колонии. Тогда вернулся бы к ним Азов, а турецкие войска не могли бы к ним ходить сухим путем, а хоть бы морем и пришли, то москали, снабдив гарнизоном четыре порта, были бы безопасны, чего не было бы с нами, потому что, если бы мы взяли и держали Крым, тогда бы война велась не в Крыму, а в Польше.
Но когда примем в соображение врожденную зависть Москвы к нашему народу и дознанную скользкость её верности, то это дело представляется весьма опасным (res periculi plena). Ибо, заселив это место, Москва привлекла бы к себе все христианство, прилежащее к Эвксинскому Понту и Азовскому морю; потянула бы она и татарские Орды, которые бы отделились уже от турок, и могла бы ими быть нам тяжелою. А что еще больше, живя в таком близком соседстве с казаками, кто знает, не оторвала ли бы их от нас и верою, и надеждой добычи (spe praedae), а потом — и всей Руси.
Думая потом несколько лет, каким бы способом обезопасить себя с этой страны, напал было я в мыслях на один способ: женить королевича (Яна) Казимира в Москве, под условием, чтоб ему Москва отдала, в виде приданого (ratione dotis), некоторые соседние с той страной области, дала бы помощь для завоевания Таврики, и до тех пор ее держала, пока бы он там не утвердился (pokiby sobie nie ugruntowal sedem), в чем приняла бы участие и наша Речь Посполитая. Часто беседовал я об этом с моими приятелями, не желая о том заводить речь выше, так как у нас все считается невозможным. Теперь же, когда королевич (Ян Казимир) принял другое положение [8], а королевич Карл [9] верно бы на такой брак не согласился, особенно там, где так трактуют женихов, других же особ не представляется, — едва ли не лучше (satius) было бы иметь в Крыму подозрительного приятеля москаля, нежели явного неприятеля язычника.
Ибо, что касается усиления Москвы новозавоевательными народами, то и ныне эти народы находятся во власти язычников, и однакож Господь Бог Речь Посполитую держит, а сильнейшие должны быть (в союзе) с сильнейшими (fortiores cum fortioribus).
Москва же волей и неволей расширяется, и их непременно бы за собой потянула. К тому же, будучи с нами в союзе, имея также что делать и с турками, которые бы такую яктуру не оставили без внимания, уповаю, пребывала бы в приязни с нами, которые бы ей в том помогли.
Нам же легче было бы иметь дело с турками: потому что, когда бы татары были от них отделены, тогда бы, без всякого затруднения, сделали мы своею границей Дунай, шагнули бы и дальше. К этому же есть у нас способы. За Крым вознаградили бы нас Волошская и Мультянская земли, а то, пожалуй, и Седмиградская, провинции столь же богатые, которые бы могли сами собою вести войну с турками, вследствие чего отечество наше было бы и безопасно извне от неприятеля, и свободно внутри (in visceribus) от контрибуций и от своих войск (подразумевается, столь же вредоносных, как и неприятельские).
Все-таки надобно бы осторожно предлагать это москалям. Они по природе горделивы (pyszni), упорны и в каждый предмет привыкли вникать основательно(w kazdej rzeczy zwykli sie zasadzac). Поэтому было бы невыгодно предоставлять им в обладание Крым тотчас сначала, а надобно только требовать от них помощи. Потом, когда б они держались (в Крыму) крепко, уступить им (Крым) таким способом, чтоб они дали Речи Посполитой за помощь какую-либо сильную область, чтобы обязались спасать (ratowac) нас от турок, всякий раз когда в том будет надобность, и договор с нами сохраняли ненарушимо. Я не теряю надежды, что когда б это дело повели искусно и достойным образом (decenter), то они, в нынешней кручине своей, глядя на свои обширные области, дымящиеся после пожаров, и на пленение такого множества душ христианских, ухватились бы за случай к отмщению».
Такова была мысль, которою Конецпольский, можно сказать, завершил свою достопамятную деятельность. «Dyskurs» его можно назвать духовным завещанием глубокомысленного и честного гражданина, оставляющего свое отечество в руках людей легкомысленных и любящих только себя. Как бы предчувствуя, что после него будет коронный поистине «великий гетман», как и его предшественник, уверял в счастливом окончании задуманного им дела под условием, что к войне с татарами приступят не так, как ухитрился оиезуиченный канцлер с подчинившимся ему королем, а «искусно, законно, соответственным способом и порядком», то есть с ведома, согласия и одобрения Королевской Республики.
Вслед за этими словами, обеспечивающими будущность Польши, из его уст излилась похожая на грозящие письмена Валтасарова пира весть, — что казаки, «раздосадованные невозможностью ходить на Черное море, откуда они бывало привозят много добычи, и убедясь в своем бессилии восторжествовать над панами», стали недавно трактовать с татарами, обещая поддаться хану, лишь бы он искренно помогал им воевать «ляхов». Имя Богдана Хмельницкого, как творца нового бунта, долго не было еще произнесено. Это показывает, что он воспользовался многолетнею работой других и могучим течением событий.
Глава XII. Два различные плана войны с Турцией. — Смерть великого воина и патриота. — Секретные сношения короля с казаками. — Лады у Москвы с Польшею. — Мечты короля о завоеваниях. — Сношения с иностранными дворами по предположенной войне. — Вооружения короля. — Оппозиция сторонников мира.
Реляция Конецпольского о казаках не испугала короля; напротив, она послужила ему новым доказательством необходимости Турецкой войны. Добиваясь поприща для великой славы, Владислав созвал сенаторскую раду. Нунций и венецианский посол объявили на ней свою готовность доставить часть суммы, потребной для казацкого похода на море. Конецпольский не одобрял трактатов с Венецией, Римом, итальянскими князьями, а чтобы воевать одновременно и с турками, и с татарами при таких субсидиях, каких желал канцлер, об этом не хотел и слышать.
Он советовал отменить условия, предложенные Оссолинским, и настаивал, чтобы заинтересованные князья доставили сразу миллион скуди, а кроме того платили по 500,000 скуди ежегодно в течение трех лет, так как оттоманская сила вся обратится на Польшу. Только на таких условиях соглашался Конецпольский держать совет о войне с Турцией. Относительно же казацкого похода отвечал венецианскому послу, что сжечь 200 турецких кораблей в самих верфях значило бы покушаться на дело трудное и чрезвычайно опасное. Но против казацкого похода не возражал, и кончил свою речь тем, что король и канцлер дадут ему окончательный ответ сообразно течению дел. С этим он и уехал из Варшавы к своей невесте, панне Опалинской, с которой обвенчался в январе 1646 года.
Теперь король настойчивее прежнего стал торопить богиню случайностей, которой одной поклонялся. Теперь он согласился на казацкий поход, о котором Тьеполо просил его до сих пор безуспешно. В начале января состоялся договор, по которому, с открытием весны, казаки должны были выйти в море на 40 чайках. Тьеполо обязался уплатить им 20,000 талеров тотчас, а остальные 40,000 в течение двух лет, ежегодно по 20,000. Король обещал привести в движение все пружины, чтоб уничтожить лес, галеры и даже верфи в Стамбуле.
Не знал Владислав IV во что играет. Определенного плана действий у него не было. Во всем он полагался на фортуну, которая вскружила ему голову еще в детстве.
Канцлер надувал его парус то с одной, то с другой стороны, но думал всего больше о том, чтобы, в случае крушения, обезопасить лично себя. Различие между его внушениями и советами Конецпольского состояло в том, что он рассчитывал на итальянский союз и на придунайских князьков; а коронный гетман желал опираться на собственные силы и соединиться с москалями. Коронный гетман советовал завоевать сперва Крым и поделиться им с северными соседями, как будто знал, что без этого Крым сделается жерлом пожаров и руины для страны, которую предки его, Конецпольские, начали колонизовать с XIV столетия. Не прочь был он служить королю и в войне Турецкой; но происходившие до тех пор переговоры по этому предмету не удовлетворяли его.
Он был против какого бы то ни было оборонительно-наступательного союза; не доверял итальянцам; боялся, чтобы, при обстоятельствах, для них благоприятных, не помирились они с турками и не оставили Королевской Республики без помощи. По его мнению, действительным обеспечением польского рыцарства от купеческого вероломства была бы только уплата вперед миллиона дукатов и по полумиллиону в течение трех лет.
Но самым выразительным различием между планами коронного гетмана и коронного канцлера было то, что гетман предлагал войну законную, предпринятую с согласия Речи Посполитой, а канцлер не обращал внимания на средства, лишь бы достигнуть цели. Оссолинский знал, что на войну с турками Речь Посполитая не согласится ни в каком случае, а на войну с татарами согласилась бы без затруднения.
Это различие во взглядах сделалось причиной неприязни между канцлером и гетманом, выразившейся в колком письме Оссолинского Конецпольскому.
1645 год еще не вполне благоприятствовал замыслам короля; зато в первые месяцы 1646-го приходили одна за другою вести, побуждавшие его к окончательной решимости.
По утрате Канеи, Венеция показала столько энергии, что в течение нескольких месяцев, к удивлению всего света, выставила для борьбы с Турцией 53 галеры, 6 галиотов для бомб, 40 больших вооруженных кораблей, 4 бандера и значительное число мелких судов. Венецианская синьория постановила — не дать турецкому флоту вернуться для обеспечения своего завоевания в Кандии, где турецкий гарнизон в Канее начинал уже бороться с недостатком съестных припасов.
Тьеполо получил благоприятный ответ на предложение короля. Синьория назначила для Польши 600,000 талеров на два года, по 300,000 ежегодно, вместо ежегодных 500,000, которых домогался король от папы и князей итальянских. Но Тьеполо, на собственную ответственность, уменьшил эту сумму, и сказал королю, будто сенат назначил только 400,000 скуди, по 200,000 ежегодно, после чего прекратит платеж, и синьория будет свободна от всяких обязательств.
Король согласился в принципе и на эти условия, в надежде, что недостающую сумму пополнит папа с итальянскими князьями, в виду страшных приготовлений турок на суше и на море.
С делами внешней политики тесно вязались у Владислава домашние дела, которых печальная сторона для нас виднее, чем для современников.
Французские придворные дипломаты, в соединении с польскими хотели сперва женить его на французской принцессе Марии Людвике Гонзага, княжне мантуанской, превознося до небес её небывалую красоту и преувеличивая до миллионов её довольно скромные доходы. Но влиятельный при французском дворе капуцин, Валериан Магни, при деятельном участии Оссолинского, повернул дело так, что Владислав избрал в подруги жизни Цецилию Ренату, дочь Фердинанда II австрийского. От этого брака родился у него сын, которому, как думал отец, было предназначено воспользоваться новыми завоеваниями поляко-руссов. Не долго жила на свете королева, и едва разнеслась весть о её смерти, как перед царственным вдовцом явились агенты европейских дворов с портретами принцесс, предлагая на выбор любую. Король по политическим соображениям, предпочел всем ту самую Марию Людвику Гонзага, от которой отвлекли его усердные советники. Важную роль в этих соображениях играло то обстоятельство, что княжна мантуанская производила свой род от Палеологов, и что астрологи, по сочетанию планет, предсказывали ей престол Восточной Империи.
Тот же самый Оссолинский, который в 1637 году женил его на Цецилии Ренате, называя себя «простою глиною, из которой король мог лепить что-угодно», — в 1646-м помог сделаться польскою королевой Марии Людвике, все-таки прославляемой красавицею. Незадолго перед её прибытием в Польшу, до короля дошел слух о её тайном романе, в котором она компрометировала себя открывшеюся случайно перепискою. Это обстоятельство, вместе с её 34 годами и увядшей красотою, так поразило Владислава, что он не мог скрыть своего отвращения и в торжественной встрече нареченной королевы польской. Однакож заставил себя доиграть роль осчастливленного паладина, и мужественно выслушал речь своего Мефистофеля-канцлера, который приветствовал королеву, как цветущую лилию Франции, чудесно пересаженную Владиславом в свой вертоград среди морозной зимы; как венец, украшающий собранные им отовсюду лавры; как залог возвращения могущества Палеологов; как сочетание богов, оправдывающее сочетание планет; как надежду рождения новых победителей от победительницы защитника всего христианства.
В марте прибыли в Варшаву послы волошские и мультянские, под тем предлогом, что поздравляют короля со вторым браком, но в сущности для того, чтобы трактовать о Турецкой войне. Вслед за ними прибыло наконец и посольство московское, для договора о войне с татарами.
Свадебные празднества заставили отложить на некоторое время все политические дела. Варшава закружилась в танцах. Женитьба единственного сына Оссолинского совпала с пиршествами королевскими, и увеличила национальную манию гостеприимства, в котором поляки не дали превзойти себя ни одному народу. Но когда опьянели до забвения всего на свете действующие лица приближающейся трагедии, — их отрезвила неожиданная весть о смерти великого воина и патриота. Станислав Конецпольский скончался, едва пережив свой медовый месяц.
Беспощадная в своей иронии судьба Польши соединяла не раз великое со смешным нераздельно: новый Александр Македонский, счастливый супруг прелестной, как цветущая лилия, принцессы, не вставал с брачного ложа от подагры, и плакал о смерти своего Гефестиона в подушках.
Плакало в Польше о смерти Конецпольского многое множество людей и получше короля Владислава. В наше время, когда панегирики стоявшим на политических высотах людям вышли совсем из моды, и когда поляки нередко изрекают суровый приговор над знаменитыми своими предками, польская историография следующими словами характеризует почившего навеки строителя Королевской Республики:
«Это был великий гражданин, счастливый воитель и знаменитый хозяин. Щедрый от благоразумия, благотворительный от сострадания, полный огня и таланта, деятельный, мужественный и слову своему верный, в сохранении тайны точный, в дружбе непогрешительный. Гнушался он лестью, уважал отечественные законы и обычаи, а своим доблестям придавал еще больше блеска великою ученостью и остроумием» [10].
Общественное мнение о нем выразилось в глубокой горести множества людей, которые в смерти его, даже в составе его имени Конец-Польский суеверно видели конец Польши [11]. Но из всех предвещателей страшных бедствий, которые чуяло собирательное сердце нации по заходе светила польской чести и доблести, никто не предсказал грядущего так верно, как волошский господарь, будущий сват и жертва кровавого Хмельницкого.
«Я считаю смерть его за величайшую для христианства утрату» (сказал он) «и могу только оплакивать его со всем моим народом. Вы, поляки, еще не знаете, что вы утратили, но не пройдет двух, а найдальше трех лет, когда не только вы, но и все христианство будет горевать о потере столь великого сенатора и полководца».
Король веровал, что один Конецпольский мог отвлечь казаков от их руинных подвигов и направить эту дикую силу к государственной пользе. Лишь только миновал в нем первый припадок горя о потере друга, которого только теперь оценил он по достоинству, и военачальника, которого заменить кем-либо было немыслимо, — он отправил гонца к Днепру, разузнать, что делают казаки. Тьеполо писал в Венецию, что Владислав «оставался между страхом и надеждою, что теперь будет, и признался ему, что боится (казацкого) бунта, который все уничтожит».
Королевским гонцом был Иероним Радзеёвский, впоследствии польский эмигрант и предатель, рассказывавший в Париже о своей поездке в Украину французу Линажу, автору известных записок о бунте Хмельницкого. Это был hono novus между польскою знатью, как и Оссолинский; но разницу между ними составляло то, что источник, из которого вытекла его пройдошеская душа, был мутен. Главными заслугами, поднявшими его отца из средней шляхты на степень воеводы и сенатора, были подвиги старопольского гостеприимства. В его имении Радзеевичах, в семи милях от столицы, стояла знаменитая корчма на 200 лошадей, с дворовыми строениями на 1000 гостей, с десятком или более пушек, сопровождавших своим громом панские виваты, с неисчерпаемым винным погребом и с отличною кухнею. Там сановитый пан Радзеёвский предлагал усладительный отдых заграничным и земским послам, равно как и членам Сенаторской Избы. Там Сигизмунд III и Владислав IV гостили по нескольку дней с ряду. Не было во всей Польше таких веселых, обильных и свободных пиров, как в Радзеевичах, и вот почему сын достойного родителя, Иероним, сделался любимцем короля Владислава. Впрочем он получил изысканное воспитание, владел несколькими иностранными языками, говорил смело и плавно, знал то, что называли тогда историей, знал польские законы, вернее сказать — казуистику, и при этом — теорию военного искусства. Но всего глубже изучил он при дворе важную в панской жизни науку интриги, и в 1645 году был избран маршалом Посольской Избы, то есть умел показать себя достойнейшим представителем палаты депутатов. В этом звании выступал он против королевского правительства; но сам король руководился такими сбивчивыми правилами в выборе людей, что отправил его в Украину по секретному делу величайшей важности.
Иероним Радзеёвский уехал из Варшавы под предлогом осмотра имений жены своей. Оставшись молодым вдовцом после первого, весьма выгодного брака, сумел он жениться на княжне Евфросинии Вишневецкой и, что еще замечательнее, отбить ее у пана Денгофа, с которым она была обручена. Её-то вено поехал он осматривать в Украине.
Был у него там старый знакомый, войсковой есаул, Иван Барабаш, сын Димитрия, гетманившего казаками в 1617 году. Этому Барабашу отдал он «королевские листы», в которых король уверял, что казакам будут возвращены их «прежние права». Барабаш уведомил о том дружественных казаков, и в том числе кума своего, Богдана Хмельницкого, войскового писаря, пользовавшегося большою популярностью в казацкой среде. Четверо войсковых старшин отправились немедленно в Варшаву, именно: Иван Барабаш, Илья пли Ильяш, известный между казаками под именем Вирмена (армянина), а между панами — под именем Вадовского, [12] Нестеренко и Богдан Хмель, которого паны, для польского благозвучия, именовали Хмельницким. Радзеёвский рекомендовал Хмельницкого особенному вниманию короля, как бы оправдывая древнюю пословицу: «подобный подобному нравится».
С этими представителями Запорожского войска Владислав совещался ночью, в присутствии только семи лиц, которых казаки, в своих показаниях, называли сенаторами, принимая за польского сенатора и самого Тьеполо. Он повелел казакам быть готовыми к сухопутному и к морскому походу, но против какого неприятеля, не обозначил. Казаки предлагали ему к услугам 50.000 войска, «а повелит король» (говорили они), «то, по его мановению, станет нас и 100.000». За это король обещал им вернуть «старые привилегии», увеличить число реестровиков до 20.000 и не дозволять польским хоругвям «лежать на лежах» дальше Белой Церкви.
Говорили в Польше после катастрофы, что король, давая казакам обещания, утаил это от своего канцлера, а Радзеёвский (по словам Линажа) рассказывает в Париже, что роковую тайну знали только четыре сенатора. (Это напоминает нам Стефана Батория, доверившего свой замысел о Турецкой войне только четырем панам). Как бы то ни было, но совещания польского короля с казаками представляют вид заговора против республиканского государства. В позднейшей обвинительной записке, известной под заглавием: «Польза Канцлерских Советов (Compendium Rad Kanclerza)», этот заговор взваливали на Оссолинского; писали даже, будто казакам тогда шепнули, чтоб они свергнули свое иго (excutiant jugum). Но мудрый последователь апостолов Лойолы во всех случаях, где чувствовалась личная ответственность, не оставлял явных следов своей прикосновенности к делу. Он мог и руководить заговором, и в то же время держаться в стороне от заговорщиков. Сигизмунд III и его советники, иезуиты, поступали не в одном случае по правилу; в случае успеха своевольников, воспользоваться успехом; в случае неуспеха, являться перед светом с омовенными руками. Этому правилу в настоящем случае мог следовать и Оссолинский.
Одновременно с таинственным пребыванием Хмельницкого в Варшаве велись переговоры и с послами того государства, которое, по праву возмездия за свое разорение, воспользовалось результатами готовящейся в Польше усобицы. Московских послов было четверо, и во главе их стоял царский дядя, боярин Василий Иванович Стрешнев. Он отличался прекрасною наружностью и такими же «обычаями».
Литовский канцлер говорит в своем дневнике, что «не видал еще у москалей большего рационалиста и политика». Посольство это приехало для подтверждения Поляновского договора с молодым царем Алексеем Михайловичем, и, как доносил королю Стемпковский из Москвы, имело наказ трактовать секретно о союзе против татар.
Московские сановники не захотели принять участие в свадебных пиршествах, чтобы не сидеть на последних местах в ущерб чести своего государя, поэтому заболели все четверо, и явились только на аудиенцию 24 (14) мая.
Король назначил пять сенаторов, под управлением обоих канцлеров, для rozgoworu с ними. Но представители Москвы не упоминали о союзе и не домогались аудиенции секретной, очевидно выжидая почина от сенаторов, или от короля.
Не дождавшись этого от польских дипломатов, Стрешнев заговорил о необходимости согласия между христианскими государями, и объявил царскую волю заключить с королем договор против татар, которые набегают ежегодно на оба соседние государства и тысячами уводят христиан в неволю. Речь свою закончил он такими словами:
«Ведомо учинилось нашему великому государю, что турецкий султан, Ибрагим, побежден от Венетов, и что турецкие войска обсадили критскую Канею, а теперь осада их погибает от голода: затем что султан помочи послать не может. Тот же султан, желая построить сто новых галер, не имеет способных людей, и для того послал к крымскому хану, чтобы шел тотчас на Московское царство да на Польское королевство и набрал бы невольников на новые галеры. И теперь самое время, чтоб оба великие государи соединились для обороны веры. Наш государь крепко мыслит о том, чтобы соединиться с вашим государем. Послал он войско для обороны своих украин, под начальством бояр, князя Никиты Ивановича Одоевского да Василия Петровича Шереметева. Если татары пойдут на королевскую украину, то великий наш государь желает помогать королю своим войском соединенно с войсками королевскими. И вам бы, радные паны, надлежало мыслить о том, и короля вашего приводить к тому, чтоб он, для избавленья Христианства в это столь удобное время, благоволил отворить Днепр и повелел днепровским казакам с донскими казаками воевать крымцев, а гетману своему повелел бы, чтоб он стоял на Украйне в готовности и с царскими воеводами ссылался бы, как обоюдно становиться против татар и в каких местах соединяться».
Сенаторы отвечали: «Мы от всей души тому рады, и молим Бога, чтобы благословил десницы обоих монархов, поднятые над головами язычников».
Когда, после заседания, доложили королю, он обрадовался чрезвычайно. Но созванный на другой день совет министров постановил, выведать сперва у послов, имеют ли они полномочие трактовать об этом предмете.
Послы объявили, что им дан только словесный наказ. Тогда коронный канцлер сказал им, — что сенаторская рада откладывает это дело до посольства, которое король и Речь Посполитая отправят в Москву.
Послы поникли головами и, вернувшись в свое жилище, тотчас послали к царю гонца.
Московский царь желал того самого, что и польский король: желал воспользоваться Венецианскою войной и завоевать Крым. Когда Стрешнев ехал в Польшу, война с татарами была в Москве делом решенным. Князь Семен Михайлович Пожарский получил приказание созвать в Астрахани, в виде охотников, ногайских мурз да черкесов и привести их на Дон. Воеводе Кондыреву было наказано собрать в Воронеже 3.000 царской рати из украинных городов, соединиться с Пожарским и двинуться к Азову, в помощь донцам, которые между тем должны были начать с татарами войну. В арьергарде стояло 80.000 войска под начальством Одоевского и Шереметева.
Стрешнев держал все это в секрете. Он желал, чтобы король позволил запорожским казакам соединиться с донцами и вторгнуться в Крым, как это не раз уже они делали, а когда б Орда вторгнулась в Московское царство, в таком случае оба союзные государства должны были помогать друг другу, как в прошлом году. Еслиб его желание исполнилось, то царь воспользовался бы казацкой помощью и, в случае надобности, обороною со стороны польского войска, а Москва не была бы ни к чему обязана, так как было известно, что Менгли-Гирей замышляет идти не на Польшу, а на Московское царство. Данный ему ответ разрушал его план и грозил царю опасностью.
Не теряя времени, Стрешнев начал секретно трактовать с королем, высказал царские предположения и объявил, что царь, «доверяя королю, как брату, желает, чтобы союзною христианскою рукой общий неприятель был обуздан и уничтожен».
Готовность Москвы ускорила окончательную решимость короля. Настало наконец время ударить соединенными польско-московскими силами на татар, о чем так страстно мечтал, чего так энергически добивался еще Стефан Баторий. Но главный советник и деятель татарской войны уже не существовал. Король постановил предоставить войну с татарами Москве, сам же он, имея свободные руки, ударит на Турцию.
После совещания с панами, Стрешневу дан такой ответ:
«Король повелел коронному полевому гетману сноситься с царскими воеводами по предмету отражения татарского набега, как и в прошлом году гетман был готов прийти в помощь царским войскам, только морозы помешали. Король желает, чтобы в настоящем году войска обоих монархов стояли наготове для обороны обоих государств от набега, дальнейшее же, большее дело хотел бы отложить на будущее время, так как запорожские казаки не могут скоро выйти на море: ибо все их челны сожжены, а новых ныне делать нельзя. Король думает, что татар наилучше воевать тогда, когда султан разошлет Орду на свою службу. Дозволить казакам воевать Крым совместно с донцами король не может: ибо между Польшей и Турцией вечный мир».
К такому ответу привели сенаторов отчасти известия из Крыма и приезд татарского посла, который привез королю «все направленное к миру». Дело в том, что хан поссорился с султаном, и можно было надеяться, что не вторгнется в Польшу, хотя бы король и нарушил мир с Турцией. Этим способом еще по крайней мере на один год освобождалась Польша от набега татар, которые сами искали мира и должны были отражать Москву. В наихудшем случае, то есть, когда бы хан, во время войны с Турцией, вторгнулся в Польшу, король обеспечил себе московскую помощь.
Так стояли в Польше вещи по отношению к тому государству, которому вскоре сами поляки, споткнувшись на Баториевском вопросе о всемирном господстве папы под эгидою польского рыцарства, дали возможность возвратить с лихвою потери, понесенные в отрицании такого господства. Мечтательный король и мечтательный по своему канцлер были только стимулами многовековой борьбы между великими силами — католичеством и православием.
Со времени таинственных переговоров с казаками, Владислав не переставал обдумывать план Турецкой войны, которая долженствовала кончиться изгнанием турок из Европы, воссоздание Восточной Империи и, без сомнения, введением обеих наших Россий в систему единой вселенской церкви.
Происшествия, случившиеся в последние месяцы, благоприятствовали его замыслам. Все вокруг него устраивалось так, чтобы вовлечь Польшу в эту войну.
Вооружения Венеции, предлагаемые ему субсидии, посольство московское, обоих придунайских княжеств и татарское, все побуждало его к действию. Турция была развлечена внутренними волнениями: ей угрожала междоусобная война. В азиатских и европейских провинциях готовились восстания, которые венецианцы поджигали.
Можно было надеяться, что, с приближением польского войска, все турецкие христиане встанут и увеличат силы короля в десять раз. Владислав надеялся также, что папа, император, князья итальянские и немецкие, Франция, Испания, даже Швеция — поддержат его предприятие. Он хотел склонить к войне с султаном Персию и Морокко, рассчитывал и на Москву, что она, завоевавши Крым, даст ему помощь. Словом, замышлял привести в движение весь мир и, во главе Христианства, уничтожить могущество магометан, а потом дела пойдут сами собою к устройству всемирной империи с такой основою, которой бы позавидовал и сам Александр Великий, с основой всеобъемлющего и всепросвещающего католичества.
Воображение короля-мечтателя, работая день и ночь над одной мыслью, питалось постоянно новыми впечатлениями. Он был суеверен; он думал, что его будущность предопределена в ходе небесных светил, и верил предсказаниям астрологов. Он и свою жалкую женитьбу считал счастливым предзнаменованием, так как Мария Гонзага была последняя наследница Палеологов, и льстецы, еще до замужества, предсказывали ей греческую корону. «В её происхождении» (говорит её брачный контракт) «видели соединенными имя, надежду и святость Восточной Империи». Каждый день приносил Владиславу какое-нибудь счастливое известие; все, как бы каким чудом, как бы чародейскою силою приведенное в движение, соединялось для осуществления планов его.
Окружавшие короля ласкатели поддерживали его рыцарские фантазии. Кроме Оссолинского, то были большею частью иностранцы, люди характера отважного, как раз под стать казако-польскому характеру Владислава.
Впереди всех стояли два брата Магни, родом миланцы, которых отец заслужил у императора поместья в Чехии. Известный уже нам капуцин, Валериан Магни, молчаливый, видом смиренный старик, был теолог, астролог и философ, прославившийся множеством суеверных сочинений, изданных в Вене, Антверпене, Болонии, Кракове и Варшаве. Под монашеской рясой скрывал он такое же честолюбие, каким пылал титулярный польский король среди фактических королей польских. Он метил попасть в римские папы на земле и в прославленные Божии святые на небе. Его-то внушениям Владислав был обязан мыслью о крестовом походе еще в звании королевича. Глубокою верою в свои католические утопии, поражающею ученостью, пронырливым умом и суровою монашескою жизнью Валериан Магни внушал всем, кто с ним сближался, уверенность в его будущности, но больше всех своему брату, графу Магни. Тот желал быть королем, и надеялся взойти на какой-нибудь престол, когда старший брат воссядет на Святом Седалище в Риме, а Владислав — на троне Палеологов в Константинополе. Граф Магни появился в Польше еще в 1637 году, в качестве агента своего брата, капуцина, по сватовству короля за Цецилию Ренату, и с того времени пользовался чрезвычайною благосклонностью Владислава за свою говорливость обо всех европейских дворах, которых тайны были ему известны в подробностях, а в особенности за свою преданность идее абсолютного монархизма и критику республиканских учреждений.
После этих двух ближайших к королю иностранцев, пользовался его благосклонностью Фантони Итальянец, простонародного происхождения, поэт и музыкант. Видя, что в Польше пренебрегают простолюдинами, не взирая на их таланты, — он сделался ксендзом каноником и королевским секретарем. За это поляки ненавидели его столько же, как графа Магни за порицание республиканских обычаев.
Но король вверял перу Итальянца то, чего не смел вверить ни одному поляку, — и те из кичливых полонусов, которые под безмолвием секретаря видели влиятельного советника, осыпали его подарками.
Далее следовал Джиованни Бантиста Тьеполо. Этот венецианец был приставом у Владислава, когда он, в звании польского королевича, гостил в Республике Святого Марка. Владислав полюбил его и приглашал в Польшу; но Тьеполо обещал явиться к нему не прежде, как он будет королем, — и в самом деле приехал к Владиславу IV в Гродно. Он был принят как нельзя ласковее, и с того времени венецианцы стали видеть в нем «приятеля польского короля». Так он попал в посланники, когда синьория обратилась ко всем дворам с просьбами о помощи. Этот в сущности такой же пустой малый, как и все приближенные к особе короля иностранцы, не сделал в Польше ничего путного ни для Владислава, ни для своего отечества. Играя роль глубокого политика, он веровал в счастливую звезду польского короля, и был готов рисковать своим имуществом для войны с турками. Предок его, Джакоббо Тьеполь, был первым венецианским князем в Кандии (1212) и привел Венецию к обладанию этим островом, где дом нобилей Тьеполо владел значительными имениями. Естественно, что король, в своей страсти к войне, подчинялся странности, с которою венецианский посол проповедовал казако-польский поход на Черное море.
Но на первом месте в числе тех, которые советовали королю воевать с Турцией, стоял талантливый пройдоха, Оссолинский. Правда, план его состоял только в том, чтобы принять под королевское верховенство господарей, очистить от татар Буджаки, занять турецкие крепостцы над Черным морем между Днепром и Днестром, поселить по нижнему Днепру и черноморскому берегу казаков. Правда и то, что для выполнения этого плана не надобно было вербовать большего войска и собирать громадных сумм, так как нигде в этих местах не было турецких гарнизонов, которые султан постягивал для войны с Венецией. Достаточно было вооруженных сил двух господарей, обыкновенного квартяного войска, казаков и венецианских субсидий, разделенных между можновладниками. В случае же, когда бы турки, по истечении двухлетнего договора с Венецией, захотели возвратить утраченные провинции, — господари и казаки могли бы сами себя оборонять, безо всяких издержек со стороны Речи Посполитой. Но, хотя канцлер и не переходил, в своем плане, через Дунай, тем не менее план этот был первым шагом Польши в Турецкой войне, вторжением в пределы Турции, и потому король следовал доверчиво советам своего канцлера. С своей стороны Оссолинский не видел законной или казуистической необходимости отступать от своих предначертаний из-за того, что король замышляет идти дальше. Занять придунайские княжества было не трудно, а дальнейший поход зависел от стольких обстоятельств и требовал таких приготовлений, что на него можно было смотреть, как на создание фантазии, которое исчезнет само собою, лишь только столкнется с действительностью и с оппозицией всего шляхетского народа; изолировать же явно короля с его великолепными планами значило бы — отказаться от опоры своего могущества не только в Польше, но и за границею. А в тот век, когда Валленштейн читал в созвездиях свою великолепную будущность, чего не мог вообразить о себе польский выскочка, которому казалось, что он побеждал и самую фортуну. И король и королевская республика — по всему видно — были только орудиями и, если понадобится, жертвами его махинаций, так точно, как и в глазах его создателей — иезуитов.
Канцлер стоял тогда в зените своего значения и влияния. Великие и малые земли искали его благосклонности. Дворы его палат, его передние и залы были переполнены шляхтою. Когда он шествовал в королевский замок, или возвращался от короля, ему сопутствовала целая группа сенаторов. Родные канцлера, приятели, слуги — все сияло лучами монаршего благоволения.
И не был антураж Оссолинского мелким ласкательством людей, добившихся кой-как «сенаторской лавицы». Вся Польша, претворенная иезуитами во что-то совсем не похожее на грубую, но честную и благородно гордую Сарматию времен доиезуитских, видела в коронном канцлере то, что, за исключением разве некоторых, желали бы поляки видеть в своих сыновьях и внуках. Когда великий канцлер выдавал дочь свою, Терезу, за Сигизмунда Денгофа, сокальского старосту, серадзского воеводича и племянника по сестре коронному великому гетману Конецпольскому (а было это в феврале 1645 года), — во второй день свадебных церемоний panna mloda получила 70 дорогих подарков из разных сторон Польши; в третий день опять поднесли ей 80 подарков, в числе которых были приношения от седмиградского князя, Ракочия, от князя курляндского и почти от всех польских городов; а подарки в тот век считались не посулами, предосудительными для честного дома: они были выражением внимания и почитания; они у знатных и богатых людей составляли предмет особенного честолюбия. В этом смысле сосчитано, что молодая пани Денгоф получила свадебных подарков на 150.000 злотых.
Король отличал канцлера от всех своих подданных, и делал ему почести, подобающие принцам крови; а самый гордый, знатный и влиятельный из можновладников, глава католической партии в Польше, князь Альбрехт Радивил, передавая невесту из родительских рук в руки жениха, счел достойным своего сана и характера превозносить заслуги Оссолинского. После краткого изложения истории дома его, повествовал он широковещательно о жизни и делах самого канцлера: как Оссолинский с юных лет, подобно пчелке, брал и усматривал то, что было услугою королям, опорою отечеству и утешением собственному дому; как он, будучи послом и маршалом Посольской Избы, улаживал величайшие затруднения; как счастливо выполнил посольство в Англию; как своим красноречием и пышностью возвещал в Риме славу и величие своего короля; как убедил Апостольскую Столицу к соизволению по предметам величайшей для Речи Посполитой важности; как в Регенсбурге содействовал элекции императора Фердинанда III, и устроил бракосочетание императорской дочери с королем; как строил замки, костелы, семинарии; как из чужих краев привлекал в Польшу монахов небывалых дотоле в ней орденов; современные же заслуги коронного канцлера, его труды и попечения литовский канцлер оставил «похвалам веков грядущих».
И так вот они, те люди, которые устраняли всякое зазрение совести и все сомнения короля, которые утверждали его в опасном замысле и окружили туманом общих в Польше понятий о долге и честности, сквозь который он смотрел на свет. Капуцин Валериан и граф Магни, каноник Фантони, венецианский посол Тьеполо и коронный канцлер Оссолинский заменяли для него людей дальновидных, одаренных умом и сердцем Конецпольского. Владиславу казалось, что все того жаждут, чего жаждет он.
Король только с теми проводил приятно время, с кем говорил свободно о своих планах, и потому сделался для прочих недоступным. «Только эти люди имеют свободный доступ к королю» (писал современник). «Королевские слуги сторожат каждую дверь; не отойдут и не поднимут портьеры ни для кого, пока им кто-нибудь из этих великих не прикажет».
При таких-то обстоятельствах образовался широкий план Владислава IV, и так сросся с его душою, что никакие затруднения, никакие препятствия не могли потом прогнать его из королевской головы. Владислав стоял на своем до самой смерти, не взирая на то, что все от него отшатнулись.
В апреле 1646 года, пока еще московские послы не выехали из Варшавы, Турецкая война была у него делом решенным, как у московского царя — Татарская. В этом месяце были кончены его договоры с Москвою, с казаками, с послами господарей и с Венецианскою Республикой.
Тьеполо уведомил свою синьорию, что волошский господарь пойдет к Дунаю с 30.000 войска, которое будет служить авангардом королевской армии. То же самое сделает мультянский господарь с 20.000 войска. К нему де послан литовский полевой гетман, князь Януш Радивил, для понуждения к скорейшему выполнению заключенного с королем договора. Князя седмиградского уведомил король через нарочного гонца о своем предприятии. В течение нескольких недель вознамерился он собрать более 20.000 казацкой милиции, кроме 6.000 регулярного войска, обыкновенной своей гвардии. Далее писал Тьеполо, что король повелел полевому гетману, чтобы в соединении с московскими полководцами, готовился вызвать войну с татарами, а когда в июне и в июле будет отворен Днепр, казаки выйдут на море; наконец, что он призвал к себе нунция и отдал ему собственноручное письмо к папе, в котором просил о скорой, столь необходимой помощи.
Тьеполо, как сказано выше, уменьшил сумму 600.000 талеров, которые Венеция ассигновала для Польши, и предложил королю от синьории только 400.000. По смерти Конецпольского, «для воспламенения и пробуждения ума короля», прибавил еще 100,000, говоря, что делает это сверх данного ему наказа. В счет своей прибавки, он тотчас отсчитал 20.000.
В то же время Владислав дал аудиенцию двум греческим монахам. Они уже четыре месяца ждали её с письмами от восточных архиереев, которые молили короля о помощи польским войскам, клятвенно уверяя, что оно будет сильно поддержано ими и всею Грециею.
На беду Польши, тут же вынырнул из забвения известный уже нам Александр Оттоманус, иначе султан Ахия, если не кто-нибудь другой под его именем. Теперь это новорожденное чадо самозванщины, выработанной папскими приверженцами на беду России, назвали султаном Захиею Оттоманно, иначе Александром графом Монтенегри.
В конце прошлого года, следовательно через десять лет после напрасных подступов к царскому правительству, проявился он во Львове и обратился к королю с уверениями, подобными тем, которые Москва извела уже к их истинному значению. Владислав не сомневался, как и его любимцы казаки в 1625 году, что на турок встанут все греки и турецкие славяне.
Венецианская Республика предполагала выслать войска в Фриули и Далмацию, и поддержать восстание в Боснии, которое действительно вспыхнуло в нескольких местах. К Стемпковскому, своему послу в Москве, король послал наказ, чтоб, узнав хорошо намерение царя, составил прелиминарные пункты наступательно-оборонительного союза.
Владислав постановил — увеличить силы свои в первом году войны до 50.000, именно до 20.000 казацкой милиции и 30.000 регулярного войска различных вооружений, которое повелел вербовать и в Польше и в Германии. Немецкою конницею должен был предводить генерал-лейтенант, граф Баудисен, пехотою — генерал-майор фон Видель, артиллерией — Криштоф Артишевский.
Кроме того король рассчитывал на помощь польских панов и надеялся, что, в случае надобности, они предоставят в его распоряжение свои надворные хоругви, состоявшие почти из одной конницы.
По ревнивому исчислению шляхетского народа, боявшегося воинских подвигов своего короля, Владислав надеялся, в случае, когда бы султан перенес войну в Польшу, противопоставить ему 100.000 казацкой пехоты сверх 6.000 реестровиков, 52.000 панской конницы, 30.000 регулярного войска и 50.000 войска господарского; всего до 250.000, к которым, по окончании Крымской войны, должно было присоединиться 100,000 московской рати.
Войну было предположено начать безотлагательно. В конце июля Владислав намеревался выступить во Львов, 4 августа — соединиться с полевым гетманом и двинуться к Подольскому Каменцу. Оттуда гетман должен был, с частью войска и с панскими ополчениями, идти к Днепру и там, в соединении с московской ратью, стоять против татар; король же, с сорока с лишком тысячами, предположил направиться между Днепром, Бугом и Днестром на Очаков, Белгород и другие ближайшие приморские города, выбить из Буджаков татар и овладеть турецкими крепостями. А чтобы турки не препятствовали с сухого пути, волошский и мультянский господари обещали оборонять переходы через Дунай, лишь бы только им было послано в помощь сколько-нибудь польского войска.
Таков был план кампании 1646 года, фантастический на взгляд панов домоседов и хозяйственной шляхты, но сравнительно с ничтожными ополчениями будущей безгосударной Польши — грандиозный. Оставалось только найти предлог к нарушению мира с Турцией и сочинить законное в глазах Речи Посполитий основание для ведения войны; ибо королевская присяга не дозволяла Владиславу, без соизволения сейма, ни собирать войско, ни заключать союзы, ни вести наступательную войну.
Оссолинский изыскал на то способы. Военные действия короля должны быть обращены против татар, но против татар буджацких.
Турецкое название Буджак по-русски значит кут. Буджаки, или куты, обнимали край между Черным морем, Днестром и Дунаем, с городами: Бендеры (Тегинь), Измаил, Акерман (Белгород), Килия и Рени. Там, в XVI столетии, поселились ногайцы, крымские бунтовщики, подобные утикачам на Запорожье, и распространили свои кочевья за Днестр. Жили они, как и наши запорожские казаки, почти исключительно добычею, а добычным поприщем служили им Подолия, Украина и Волынь.
Первым и главным условием мира, заключенного между Речью Посполитою и Турцией в 1634 году, было: «чтобы татары были выселены из Буджаков и кочевья их сожжены». Это была conditio sine qua non со стороны Польши. Но Турция не выполнила своего обязательства. Хотя король беспрестанно настаивал на рассеянии этой орды, она, как бы на зло ему, дозволяла усиливаться буджацким татарам, так что число их в 1645 году возросло до 20.000 наездников. Это были татары самые воинственные, самые дикие, наилучше вооруженные и наибольше чуждые промыслам мирным. Если на Крым смотреть, как на Украину Турции, то они для крымского хана были то, что для колонизаторов польской Украины были запорожцы, а для турецкого султана — то, чем запорожцев желал и, при других условиях, мог бы сделать польский король.
Целые области между Буджаками и Малороссией были заняты кочевьями сбродных татар. В широких промежутках между их кочевьями, милях на десяти и больше, не было никому возможности ни поселиться, ни проехать безопасно за их разбоями и хищничеством. Враги крымского хана и слуги турецкого султана, буджацкие наездники беспрестанно вторгались в польские пределы, не входя глубже шести или семи миль, и, после нескольких дней грабежа, возвращались обремененные добычей. Турция, по-видимому, смотрела с удовольствием на то, что южные окраины Польши вечно терпели беспокойства и утраты, вечно находились в оборонительном положении.
И вот эти-то татары долженствовали сделаться главным поводом к нарушению мира. В случае упреков со стороны сеймовых представителей Речи Посполитой, король мог заслониться постановлением, обязывавшим его «отвращать опасности, грозящие государству, каковы суть набеги татар». На этом основании мог он, под видом войны оборонительной, начать войну наступательную. Очистив Буджаки и стоя с войском над Дунаем, дал бы он сигнал общего восстания христиан Турции, а принимая господарей под свое покровительство, на что имел всяческое право, этим самым начал бы войну с Турцией. Волей и неволей должна была бы тогда Речь Посполитая помогать ему, если бы не хотела ждать страшного возмездия.
Начертав мысленно план великой войны в строжайшей тайне, так что и ближайшие ко двору сановники не догадывались, в чем дело, король повелел призвать в Варшаву нужных ремесленников, инженеров и вербовщиков, а сам, позабавившись якобы беззаботно в замке комедией, отплыл по Висле вместе с королевой на охоту в Стембов.
Но там, под влиянием венецианского посла, изменил план действия и решился выступить с своим замыслом открыто. Вернувшись в мае с охоты, Владислав объявил публично Турецкую войну, и с лихорадочной поспешностью начал приготовления, точно как будто совершившимся фактом, энергией своих движений и молвой о приготовлениях хотел увлечь за собой республиканское государство и подавить в нем оппозицию.
Это был такой взрыв долго сдерживаемой страсти к славе и величию, несчастнейшей из польских страстей, что последовательно идущий к своей цели канцлер должен был ужаснуться орудия собственной мечты своей.
Варшава вдруг начала наполняться войском. Предводитель королевских трабантов, Ян Денгоф, получив повеление вербовать гвардию, устроил в самой Варшаве контору вербовки. Капитаны Плайтер и Корф, произведенные теперь в подполковники, вербовали шляхту в Мазовецком воеводстве. Коронная хоругвь была отдана Антонию Пацу, с повелением набрать несколько полков конницы. Отовсюду звали на войну. Арсенал наполнялся рабочими, замок — новобранцами.
Королевский дворец в Уяздове стоял как бы посреди лагеря, окруженный палатками, возами, торговками и шумно толкающимися жолнерами. Оседланные кони, поминутно выбегающие вестовые, наплыв разнообразно вооруженных офицеров, муштрующиеся на площади отряды пехоты, звяканье оружия и толпящиеся караулы, — все это характеризовало главную квартиру полководца, а не резиденцию короля.
Сам Владислав, помолодевший, возбужденно деятельный, назначал полковников и капитанов, отправлял вербовщиков за границу, пехоту вербовал лично, приказывал объезжать лошадей, ревизовал ежедневно арсенал. При нем изготовлено 36 пушек, огромный запас пороху, ядер, бомб и гранат: все это 18 (8) мая должно было идти во Львов.
С началом августа кампания должна была открыться. В Яссах была назначена главная квартира короля. Там господари должны были собирать съестные припасы, фураж и материалы для постройки мостов.
Все приготовления делал король открыто, перед глазами всего света. На поверхностный взгляд, ему оставалось только выступить в поле. Но это были действия или человека сумасшедшего, или же короля, задумавшего решительным движением спасти государство свое от олигархов, рискуя семейными жертвами и личными опасностями.
Возможности такого замысла не допускали фактические короли Польши, которым и во сне не снилось, что даже казак скоро будет нагибать их под свою дикую волю.
Оссолинский испугался ответственности перед соправителями своими за поддержку титулярного короля. Взвешивая две соперничающие силы, канцлер знал, что король не способен восторжествовать над оппозицией и увлечет его своим падением, если он останется явно на стороне государя, возмутившегося против подданных. «Если же провидению святого маестата Божия» (мог думать на своем языке Оссолинский) «будет угодно восстановить так внезапно Восточную Империю, как внезапно устранен им с моего жизненного пути непреодолимый соперник, Януш Острожский, то новый император без такого канцлера не обойдется, и, при его слабом характере, не трудно будет мне стать одесную всемирного властителя».
Оссолинский решился действовать патриотически. Когда Владислав просил его приложить канцлерскую печать к так называемым приповедным листам, которыми ротмистры уполномочивались вербовать в Польше и за границею войско, канцлер отказал королю в просьбе. Того мало: он сделался противником войны, которую две недели назад, вместе с королем, обдумывал.
Отказ в печати со стороны канцлера был делом законодательной предусмотрительности шляхетского народа, вечно боявшегося самовластия не только в государе своем, но и в его сановниках. Канцлер обыкновенно присягал не печатать приповедных листов против общественного права, дабы король не мог собрать войско без позволения своей республики.
Но противником Турецкой войны Оссолинский сделался из опасения междоусобия, которое могло бы вспыхнуть в Польше ради подавления королевского самовластия. В то же самое время Турция могла б обратить все силы на Польшу, помирившись с Венецией. В этом Оссолинский, как человек государственный, был тоже прав. И турецкое могущество, и венецианское торгашество понимал он вернее своего короля.
Турция в самом деле, видя, что ей грозит война с севера, готова была заключить мир с Венецией; а синьория, как видно, на то и рассчитывала: ибо, в то самое время, когда Тьеполо так ревностно хлопотал в Варшаве о Турецкой войне, она в Стамбуле, при посредстве французского посла, старалась о мире. Синьория решилась купить мир с турками громадными суммами, и продолжала войну так, «как будто не хотела раздражить султана». Ей было нужно, чтобы Владислав IV выступил открыто с Турецкой войною, чтоб он обнаружил свои замыслы, и чтобы Турция узнала, что делается в Варшаве. Сам Тьеполо служил ей бессознательным орудием для ослепления размечтавшегося воителя: он обещал королю три миллиона скуди субсидии, в случае когда бы Турция перенесла войну в Польшу, но, по своим инструкциям, не подавал никакой надежды, чтобы Венеция захотела заключить оборонительно-наступательный договор с Польшей и обязалась не заключать с Турцией мира без согласия короля; а король до того увлекся погонею за славой, что принимал, зажмуря глаза, все условия синьории, не обязывая Венеции ни к чему с её стороны.
К этим двум извинительным причинам отступничества канцлера присоединился еще и недостаток денег, необходимых для ведения войны, которая требовала издержек громадных. Здесь неспособность короля к великим предприятиям выказалась поразительно. Он твердил, что у него довольно средств, и уже в первые дни приготовлений должен был занять у своей нелюбимой королевы 80.000 злотых, которые раздал полковникам и капитанам. Это само по себе гнусно, но в герое Христианства еще гнуснее данное Марии Гонзага обещание, что за этот заем он будет раздавать все должности не иначе, как через её руки. Суммы, которые обещал Тьеполо от папы и от князя тосканского, оказались весьма сомнительными. 250.000 талеров, которые венецианский посол занял под собственное обязательство под 7% у королевы, не были достаточны для войны, которую король постановил вести приватно, без помощи Речи Посполитой. На одни работы в арсенале шло у него ежедневно по 1.000 дукатов, а как приготовления были рассчитаны на три месяца, то один арсенал требовал 180.000 талеров. Желая навербовать 30.000 войска, надобно было по крайней мере «дать на руку» простым жолнерам столько, что это составляло до миллиона флоринов, не считая покупки лошадей, мундиров, возов и платы офицерам. Сколько же надобно было припасти денег, чтобы выступить в поле?
Неудивительно, что Оссолинский, видя, как отступил король от первоначального плана войны, или вернее сказать — от её таинственности, неудивительно, что он подчинился общему негодованию, и не только сделался противником короля, вылепившего себе магната из «простой глины», но увлек за собой и всю свою партию. Поляки полагают, что Оссолинский, обязанный, как канцлер и сенатор, предостерегать Речь Посполитую от угрожающей ей опасности, уведомил и некоторых сенаторов о королевских замыслах. Во всяком случае король, как личность, был почтеннее своего канцлера. Он входил в положение Оссолинского, и в последствии жаловался перед венецианским послом так: «Изменил мне канцлер, как Иуда Христу, не из злости и ненависти». Два польские ротмистра, вербовавшие жолнеров от имени короля, бросились к Оссолинскому с обнаженными саблями, называя его врагом отечества, за что были наказаны инфамией. Но король, по невозможности заменить канцлера другим советником, или же по недостатку твердости характера, продолжал доверять ему, как и Радзеёвскому.
Получив отказ от канцлера коронного, Владислав надеялся, что не откажет ему в печати по крайней мере канцлер литовский. Но Альбрехт Радивил, приехавши в Варшаву, писал в своем дневнике следующее:
«12 мая прибыл я в Уяздов, и слышу изо всех уст о войне. Удивляюсь, расспрашиваю, доискиваюсь причины. Я думал, что шведы ударили на нас, как прибыл ко мне коронный канцлер от короля с уведомлением, что, вместо зайца, поймали на охоте войну... Я спросил: напечатаны ли уже листы для ротмистров? — Еще нет. — Тогда я сказал, что скорее позволю отрубить себе руку, нежели приложу к ним литовскую печать. Коронный канцлер был того же мнения».
Король почувствовал необходимость сделать первый легальный шаг для того, чтобы втянуть Речь Посполитую в пойманную на охоте войну. Сеймовое постановление 1613 года гласило, — что в случае какой-нибудь внезапной опасности, король обязан предупреждать ее «по докладу радным панам, каких скорее может увидеть». Владислав призвал в Варшаву самых приверженных к нему членов Сенаторской Избы, чтоб убедить их в грозящей Польше опасности и склонить к войне. Постановление панов рады узаконило бы его поступки и — что всего важнее — подскарбий, то есть государственный казначей, мог бы тогда выдать ему сумму, которую Речь Посполитая собирала уже четыре года на случай войны с Турцией.
Оба канцлера опасались этой сенаторской рады, и потому условились видеться накануне в саду монахов реформатов для совещания.
«Я советовал» (пишет литовский канцлер), «чтобы рады не было, по той причине, что постановления секретных сенаторских рад всегда зависели от решения короля. Завтрашняя рада не сопротивлялась бы его мнению, и мы должны были бы взять его вины на себя, а пока оправдались бы на сейме, общая ненависть задушила бы нас. Вот почему советовал я отложить раду до коронации королевы, чтобы дать обществу время ознакомиться с этим делом».
Так и было поступлено. Оссолинский убедил короля, точно учитель школьника, отложить безотлагательное в его революционных интересах дело, и так как оба канцлера не согласились печатать приповедных листов, то король велел печатать их комнатною (pokojawa) печатью. О комнатной печати в сеймовых постановлениях вовсе не упоминалось, и каждому гражданину представлялся полный произвол «респектовать» эту печать, или нет.
Когда происходила в Варшаве такая путаница королевского и панского двоевластия, пришло официальное известие о событии, которое говорило ясно, что и на русской почве Польша стоит неурядицей: казаки вышли на Черное море. Это известие произвело в среде можновладников чрезвычайное волнение, точно как будто с их стороны было сделано все, что мог бы сделать, в качестве панского диктатора, Конецпольский для предотвращения подобных событий.
Одновременно с одной революционной новостью поразила панов и другая: к Люблину двинулось 40 пушек, а перед арсеналом стояло уже 20 новых, готовых для похода. Венецианский посол, получив часть занятых у королевы денег, делил их между офицерами, давая себе такой вид, как будто он управлял войною. Тьеполо обращался с речью к жолнерам, обещал награды, надзирал в арсенале за работами, объявлял даже, что король выступит в поход.
В то же самое время заграничные газеты говорили о королевских планах, неизвестных правителям Польши, о договорах с иностранными державами, игнорировавших права Речи Посполитой.
Все это возбуждало в сенаторах негодование; а тут еще было получено известие о приближении турецкого посла. Надобно было действовать.
В несколько дней все можновладники пришли в движение и соединились против короля. Революция королевская вызвала в Польше революцию шляхетскую. Быстро вскипела оппозиция, и уже литовские «сословия» требовали от короля созвания сейма, в противном случае, грозили прибыть в Варшаву и держать рады, хотя бы и в его присутствии. Сенаторы, резиденты и прибывшие по их зову члены Сенаторской Избы, истощив напрасно просьбы и убеждения, стали обходиться с королем дерзко даже в гостях у Оссолинского. За обедом коронный подканцлер, Андрей Лещинский, указывая пальцем на послов французского и венецианского, спросил вслух: «Что это за послы? по какому праву сидят они за королевским столом? Королевская свадьба кончилась: зачем они остаются у нас»?
Этой наглости даже и Владислав IV не вынес: он уехал поспешно с королевой и со своей свитой. Гости Оссолинского остались в великом волнении. Сенаторы принялись разбирать поступки короля: упрекали, что он руководился советами своих иностранцев, которые разносили по всему свету секреты Речи Посполитой; что сделался орудием чужой политики в руках венецианского посла; что своим образом действий хочет вызвать междоусобие; указывали на его болезнь и на лета, на ссору с соседними государствами по поводу вооружений, и все приходили к тому заключению, чтоб не позволить ему вербовать войско и не поддерживать войны, которую задумал он противозаконно, вопреки присяге и без внимания к возможным последствиям.
Канцлер говорил сдержанно, не хотел выступить против короля открыто, и представлял, что Речь Посполитая имела бы достаточно поводов к нарушению мира с Турцией. Этим он утвердил многих во мнении, что и сам был участником замыслов короля.
Паны группировались вокруг литовского канцлера, который делал королю самые неприятные представления в самых почтительных словах, и Оссолинский уступил наконец просьбам своего панегириста, чтобы к его напрасным убеждениям присоединил и свои. Король оставался при своей решимости, однакож задержал в Варшаве пушки, приготовленные к отправке.
Владислав сделался раздражителен, чего с ним до тех пор не бывало. На непрошенный совет Якова Собиского, относительно Турецкой войны он отвечал с таким язвительным презрением, что гордый магнат «впал в меланхолию, заболел и вскоре умер».
К увеличению досады, терзавшей короля, со всех сторон посыпались к нему письма от бискупов и светских сенаторов. Особенно горько ему было письмо князя Иеремии Вишневецкого, товарища Конецпольского в Охматовской победе и самого воинственного из магнатов, который, будучи в это время опекуном малолетнего наследника Фомы Замойского, располагал значительною силою. Этот объявил королю без обиняков, что Турецкой войны предпринимать без ведома Речи Посполитой не следует.
Но громче всех был голос краковского воеводы, Станислава Любомирского, считавшегося «великим и первенствующим в государстве мужем». Он обратился к королю с письмом по просьбе малопольских сенаторов, и его письмо разошлось во многочисленных копиях и в Польше, и за границей. Любомирский говорил, что король нарушил права и вольности шляхетские, ломает свою присягу, советы иностранцев предпочитает отечественным, искренним, опытным, и поступает так, как будто поляки утратили свою верность, или не понимали подобных предприятий и не имели сердца для смелого дела. Он просил не таить от поляков войны, в которой дело идет об их собственной шкуре, и заключил свое длинное послание надеждою, что настанет время, когда король уразумеет разницу между теми, которые хотят ему только полюбиться, и между верными, преданными своими подданными.
Письмо краковского воеводы было сигналом ко всеобщему ропоту. Короля называли «творцом вредоносных смут», дразнили подметными письмами, похожими на пасквили, грозили, что сейм разгонит навербованных жолнеров и привлечет вербовщиков к ответственности.
Король нашелся вынужденным вернуться к первоначальному плану, к походу на Буджаки, тем более, что в это время папа и князья итальянские обнадеживали его своею помощью. Владислав начал объявлять публично, что никогда не имел намерения начинать войну с турками; что все его приготовления были направлены к войне против татар; что никаких договоров против турок не заключал, и вообще ничего без согласия Речи Посполитой предпринимать не замышлял, так как все зависит от сенаторской рады, которая вскоре должна состояться.
Этим способом успокоил он бурю, которая собралась над его головою. Правда, сенаторы не верили, что никогда он о войне с турками не думал, но были убеждены, что король уступил их просьбам и желает идти путем законным.
По пословице: «каков приход, таков и поп», польские можновладники до тех пор вертели своими королями, вымаливая и вынуждая уступку за уступкою, пока наконец, в лице Владислава IV, увидели лукавого дельца по предмету царственности, вместо государя, — увидели не вершителя общественных дел, а школьника, которого от времени до времени надобно стращать. Не имея сами гражданского самоотвержения, требовали его от короля; присягая сами словом и противным слову намерением воображали, что избирательный король будет верен своей присяге. Рано или поздно должны были они проиграть в эгоистическую игру государство и раскаяться в своем иезуитстве.
Поступки Владислава, по-видимому, подтверждали то, что он говорил... 29 (19) мая он решительно разорвал договор с Венецией, и объявил пораженному изумлением послу её, что при таких обстоятельствах, как безденежье папы и князей итальянских, войны для обороны Италии вести не думает; велел ему вернуть данное королеве обязательство и принял заем на себя. Согласно просьбе великополян повелел изготовить и подписал универсалы под коронною печатью о прекращении вербовок и распущении навербованного войска. Запасы пороху, ядер, пушки и всю аммуницию приказал спрятать, лошадей и возовую прислугу отослал, в Стамбул обещал послать гонца для успокоения султана, а сам предался праздности и забавам, точно как будто голова его не была ничем озабочена.
И однакож, в то самое время, когда отпирался от всякой мысли о Турецкой войне, писал он к папе, к итальянским князьям и в Венецию, обеспечивая себя дальнейшею помощью. Графа Магни послал, в половине июня, к немецким князьям, приглашая их к войне с Турцией, а победоносного шведского полководца, Торстенсона, просил уступить ему свое войско. Князь Януш Радивил выехал в начале июня из Варшавы с инструкциями к волошскому господарю. Универсалы о распущении новобранцев лежали нераспечатанные. Вместо них, новонабранные дружины получили знамена с надписью: «Во славу Креста (Pro gloria Crucis)».
Военные приготовления не прекращались, только делались под предлогом войны с татарами. В арсенале работы шли день и ночь. На эти работы король ежедневно тратил по 1.000 дукатов. Из королевской канцелярии было послано приказание к прусским оберратам, чтобы содействовали вербовке пяти компаний драгун по 200 всадников, под начальством Крейца и Фабиана фон Кенигсек. Можновладники получили воззвание о доставке для королевской службы соответственного числа жолнеров. Приповедные листы выдавались под комнатною печатью.
Варшава наполнилась офицерами различных вооружений и рангов. Король ограничивался только сообществом военных людей: с ними проводил время, охотился, пил, веселился, и так как обладал редкою способностью привлекать к себе и убеждать людей, то в короткое время такую возбудил к себе преданность, что все были готовы лезть в огонь по его мановению. Чтобы привлечь к себе военные таланты, наименовал Николая Потоцкого краковским каштеляном и коронным гетманом. Потоцкий был противником Турецкой войны, но татар воевать был готов, и обещал выполнять королевские повеления.
Имея вождя и войско на своей стороне, король надеялся, что в августе можно будет начать военные действия и, под видом войны с татарами, втянуть Речь Посполитую в войну с Турцией.
Под конец июня разослал он письма ко всем сенаторам с приглашением в Краков на коронацию королевы и на совет. В письмах жаловался на распущенные вести, якобы он, без ведома сейма, предпринимал войну с Турцией, просил этим вестям не верить и успокоить шляхту, так как он готовит войну против татар, на которых московский царь уже наступил, пока султан, занятый войною, не может их оборонять.
«....Предоставляем это рассудку вашей преданности, uprzejmosci waszej» (писал он к популярному краковскому воеводе, Любомирскому), «столь достойное и с делом короля согласное намерение заслуживает ли такого превратного истолкования, для того, чтобы встревожить доверие преданных нам подданных, которое мы столькими благодеяниями так утвердили в их сердцах, что не опасаемся, чтобы его поколебали порывистые рассуждения и представления нашего намерения. Требуем, однакож, от вашего усердия, дабы, по вашей сенаторской обязанности, вы содействовали пренебрежению этими неосновательными слухами и доверчивому мнению о нашей опеке гражданских прав и вольностей. Впрочем близок уже наступающий сейм, который, если, по совету панов сенаторов, не ускорит, то на время, определенное законом, созвать не замедлим, и тогда об этом предмете откровенно побеседуем с вашею преданностию....»
Этим способом король, в течение одного месяца, так обработал общественное мнение, что в Варшаве никто не подозревал упорства, с которым он держался своего замысла. Нашлись даже такие, которые готовы были присягать, что король о Турецкой войне никогда и не думал. Но в провинции не удалось ему так легко отвратить подозрение: ибо вербунки, происходившие там у всех перед глазами, и новые приповедные листы под комнатною печатью, — опровергали уверения, что король оставил мысль о Турецкой войне. Не хотели верить, чтобы против татар надобно было вербовать вооруженную тяжело пехоту. Война с татарами также не была очень популярна. Появились многочисленные сатиры, летучие сочинения и колкие шутки против короля и его гетмана. Распускали слух, что москалей татары разбили наголову.
Зато приверженцы двора разглашали, будто коронный гетман прислал известие о завоевании венецианцами Дарданелл, а для возбуждения религиозной ревности католиков было распущено в то же время пророчество о погибели турок в 1646 году, вместе с поддельным письмом султана Ибрагима к королю. Султан грозил, что возьмет Краков, ксендзов и их распятого Бога без милосердия потопчет, веру искоренит, монахов будет разрывать лошадьми. «Пускай де на меня досадует Бог твой: имея за собой Магомета, я совершу все»...
Уклонения от долга, чести и национального достоинства со стороны короля, которого панское общество выработало по образу своему и по подобию, для русского читателя могут казаться посторонними предмету книги. Но я напомню ему, что в отпадении Малороссии от Польши совершилось отпадение верхних слоев народа от самой Малороссии, вместе с тою землей, которую наши отступники предали ipso facto в обладание иноверцев и иноплеменников. Клерикалы обделали свое дело в пользу польщизны давным давно. Мы забываем уже, как звали тех, которые были представителями странной метаморфозы, и пишем в русской истории имена Радивилов, Сопиг и пр. и пр. в ополяченной форме. Но, повествуя о черторые польской жизни со слов самих поляков, и часто подлинными словами поляков, не должны забывать, что в этом черторые кружились, тонули и утонули наконец, может быть, лучшие из наших малорусских людей вместе с худшими, и что поэтому на историю польской неурядицы, почти во всех случаях, можно смотреть как на горестные воспоминания о наших собственных предках.
Оссолинский — с того времени как склонил короля отказаться от войны с Турцией, повернул его к первоначальному плану похода и уничтожил преобладающее влияние венецианского посла, — сделался вновь горячим приверженцем королевских замыслов, и стал во главе действия. Он умел изгладить в умах мысль о заговоре с королем против шляхетских вольностей, и разгласил по всей Польше, будто бы король отказался от войны с Турцией по его убеждению. Великопольские сенаторы благодарили его за королевское письмо, «в котором де нас его королевская милость уверяет, что ничего такого не замышлял, что причинило бы ущерб нашим правам, и так как ваша милость был и есть причиною того, за это вашей милости много благодарны».
Перемена в образе действий Оссолинского очевидна. Через девять дней по разрыве с Венецией, канцлер явился у венецианского посла и, между прочим, сказал ему, что «можно бы и не оставлять начатого дела, еслиб только король был уверен, что не будет оставлен», а через несколько недель уведомил Тьеполо, что сенаторская рада соберется в Кракове и что король нуждается в помощи.
Король действительно нуждался в помощи, то есть в деньгах, так как после краковской рады намеревался двинуться во Львов и начать кампанию.
27 (17) июня выехал он из Варшавы в Краков, и в день его выезда выступило ко Львову 3.000 пехоты. Повеление вывозить остальные пушки было приостановлено, дабы не возбудить подозрения.
В Ченстохове король снял с себя саблю, положил на алтарь Богоматери и велел освятить хоругвь новосформированных гусар. В этом акте поляки видят его возвращение к мысли об учреждении ордена и рыцарства Беспорочного зачатия: тем и другим он мог надеяться привлечь охотников к войне с неверными.
17 (7) июля после коронации королевы, в Кракове состоялось первое заседание сенаторской рады. Король представил ей то самое, что повторял уже целый месяц: уверял, что никогда ничего противного праву делать не намеревался; что о войне с турками не думал; что желал только предупреждать ордынские набеги, но и войны с татарами не имел намерения начинать без дозволения Речи Посполитой, чему де доказательством служит созванная рада; приготовления же и договоры с христианскими державами делал в надежде, что Речь Посполитая, несомненно, согласится на эту войну. Потом представил сенаторам причины, которые склонили его мысли к татарской войне. Эти причины были: готовность Москвы воевать заодно с Польшей и ослабление Турции, которым надлежит воспользоваться. Но совсем умолчал о казацком союзе с татарами, из опасения, чтоб этот секрет не сделался предметом толков. Наконец, просил присутствующих, чтобы не только сами согласились на Турецкую войну, да и Речь Посполитую искренно к тому приводили.
Сенаторов было в раде 19; предводительствовали ими 5 бискупов. Все они знали уже о задуманном открытии кампании, усиливались отвлечь короля от войны и склоняли к созванию чрезвычайного сейма; наконец объявили, что без третьего, то есть «рыцарского сословия, второе сословие, (состоявшее из сенаторов) и первое (представляемое особою короля) не имеют права решать вопрос о предполагаемой королем войне.
Такую же декларацию получил король письменно и от сенаторов отсутствующих. Так называемый гремиальный (задушевный) лист великопольских сенаторов и шляхты, адресованный к королю и коронному канцлеру, признавал, как отеческую попечителность монарха, так и пользу войны с Ордою; «но поелику» (писали великополяне) «речь идет здесь о войне наступательной, которой без согласия всех трех сословий начать нельзя», то они просили Владислава — свои королевские предначертания приспособить к общественному праву и приостановиться с военными действиями, доколе сейм не согласится на татарскую войну, которая де может навлечь на государство войну Турецкую: ибо и турецкий «император» должен за своих подданных, и король не на татар, а на турок готовится.
Краковская рада продолжалась три дня. Оссолинский поддерживал мнения сенаторов, как объявил об этом сам в ответе великополянам. Согласились наконец в том, что король сзовет 23 (13) октября сейм и уведомит все державы, с которыми начал договоры, чтобы прислали на сейм послов с определенным и твердым объявлением, чего Речь Посполитая может от них надеяться в случае войны. Наконец, сенаторы признали войну с татарами необходимою, обещали склонять к ней шляхту, просили только «униженно», чтобы король не выезжал во Львов и не возбуждал этим турок, а лучше употребил то время на поправление своего здоровья. Король отвечал, что должен посоветоваться с коронным гетманом, а когда ему советовали лучше вызвать к себе гетмана, или через верного человека объявить ему свою волю, он оставил этот совет без ответа и удалился.
Пытались еще однажды, вечером, сделать ему представление об этом деле, но король, произнося несколько непонятных слов, велел прислуге нести себя в спальню, откуда тайком уехал в Неполомицы на охоту.
Гнев бискупов-сенаторов обратился на венецианского посла. Едва король уехал, ему велели, в два часа ночи, выехать за 4 мили от городского округа. Тьеполо поехал жаловаться к королю, и застал у него графа Магни, который вернулся из своего посольства с донесением, что, как немецкие князья, так и Торстенсон отказали в своей помощи.
«Мы сделали все» (сказал король венецианскому послу), «что были в силах. Все князья отказали нам в помощи; весь народ нам воспротивился; мы подвергли опасности наше королевское достоинство... Но не сожалеем о том; по-прежнему стоим на своем предприятии, и когда б имели достаточно помощи, могли бы теперь действовать еще успешнее».
К этому прибавил он, что выезжает во Львов; что значительные силы стоят уже на границе; но если решительный ответ итальянских князей придет поздно, тогда — все кончено.
Граф Магни получил тотчас повеление ехать в Италию. Король отправил гонцов к московскому царю и в Персию, а сам выехал во Львов, повелев остальные пушки везти за собою.
Поездка во Львов открыла глаза всем, кто до сих пор верил королю, что он с Турцией воевать не думает. Вспомнили, что еще в мае говорили в Варшаве публично; что военные приготовления окончатся в июле; что тогда же король выедет во Львов; что в первых числах августа выступит в поле... Поэтому выезд его во Львов считали началом военных действий против Турции.
5 августа прибыл король в город нашего Льва Даниловича. Его сопровождала королева, вместе с нунцием, французским послом, Оссолинским и несколькими надежными приятелями. Едва приехал он в столицу Червонной Руси, как его засыпали письмами можновладников. Шляхта следила за своим королем, как за опасным врагом. Знали, кто входил в архиепископские палаты, где он остановился, кто выходил. Знали, у кого король был и с кем говорил. Ловили на лету слова его дворян. Но не было возможности проникнуть в окружавшую его тайну.
Король сделал смотр войску. Но видя, что вербовка шла вяло, по недостатку денег, что шляхта сторонится от военной службы, а можновладники проникнуты духом оппозиции, решился, вместо дальнейшего пути к Подольскому Каменцу, вернуться в Варшаву. С этим намерением созвал он, под величайшим секретом, военный совет, и повелел гетману Потоцкому, ставши с обозом под Каменцом, ожидать дальнейших распоряжений. В то же время казаки вышли вновь на Черное море, а король отправил изо Львова к султану письмо, обвинявшее Турцию в нарушении мира, так как буджацкие татары не переселены в Крым. Это письмо было вызовом на войну. Король, очевидно, надеялся, что Порта потребует объяснений и пойдет на уступки, или же станет грозить войною. В случае благоприятного ответа со стороны венецианской синьории и князей итальянских, как опасения, так и угрозы Порты могли только помочь королю на сейме для начатия войны. Но если бы Венеция ответила отрицательно, тогда вооружения короля и уступки, ожидаемые от Порты, принесли бы по крайней мере ту пользу Польше, что буджацкие татары были бы переселены в Крым. Во всяком случае, можно было бы, на основании этого письма, начать переговоры и доказать Порте ясно, что вооружения короля были направлены не против неё, а против буджацких татар.
Между тем гетман Потоцкий, вместо того, чтобы повиноваться королевским повелениям, донес обо всем сенаторам, а они советовали ему, с предостережениями и внушениями, чтобы медлительностью уклонялся от исполнения королевских распоряжений. Согласно с панскими внушениями, Потоцкий изыскивал различные препятствия к немедленному перенесению лагеря под Каменец, пока король, не догадываясь о его махинации, вернулся наконец в Варшаву ни с чем.
«Был я у короля» (писал в Венецию Тьеполо), «лишь только он вернулся изо Львова, и нашел его непоколебимым в своих предначертаниях. Король говорил мне, что его пребывание во Львове встревожит Порту; что баша силистрийский прислал во Львов соглядатая с уверением, будто буджацкие татары получили строгое повеление не появляться в Польше, а быть в готовности против Москвы. Сказал мне также, что нетерпеливо ждет возвращения графа Магни и сейма, и что получил верное известие о казаках: они ободрены удачею в морском походе и двинулись дальше».
Поездка во Львов и смотр войска дали шляхте новый повод к нареканиям. Даже придворные говорили о короле дурно, называли его нарушителем вольностей, угнетателем народа. Не только словом, но и письменно подрывали они славу его и подстрекали общество к бунту.
Двусмысленное в глазах двух государственных сословий поведение Оссолинского и его секретные совещания с королем во Львове возбудили против него не меньшие подозрения и досаду, как и против короля, — тем более, что в этом городе, по его всемогущему влиянию, решен был важный для магнатских партий вопрос о том: кому, после возвышения Николая Потоцкого до «великой булавы», король вверит «булаву малую», то есть полевое гетманство. Наибольшее право на этот высокий пост, по военным заслугам, имел сподвижник Николая Потоцкого в последнем, опасном для панов усмирении казацкого бунта, Станислав Потоцкий, воевода подольский. За ним следовал не менее известный воинскими подвигами воевода русский, князь Иеремия Вишневецкий. Наконец, по обычной в Речи Посполитой наследственности дигнитарств, следовало бы малую булаву предоставить сыну великого Конецпольского, Александру, коронному хорунжему. На ходатайство Оссолинского в пользу свекра его любимой дочери, Урсулы, черниговского воеводы, Мартина Калиновского, перевесило все, чем эти три кандидата возвышались во мнении шляхетского народа.
По горестной для Польши случайности, новый коронный полевой гетман был внук того Калиновского, который «переломал ребра отцу Северина Наливайко и которого Наливайко называл, в письме к королю, счастливым, что не захватил его дома, когда налетел на его местечко Гусятин с венгерских гор, сжег замок и разорил местечко.
Теперь потомство самовластного магната глухим еще покамест гулом нового казацкого бунта вызывалось на боевой суд, по-казацки на суд Божий, с наследниками и учениками дикого Царя Наливая.
Но Божий суд совершался уже над всеми олигархами польско-русской республики за их презрения, — совершался в том смысле, какой выражен в русской и польской пословице: «кого Бог захочет покарать, у того отнимает разум». Не предвидя, в гордости многовековых успехов, какое унижение готовится им в наследственных приватах их, они устами многочисленных своих приятелей и клиентов ревели против нарушения политического равновесия панских партий и наконец свой рев сосредоточили в безымянном «дискурсе», [13] обвинявшем канцлера в том, что, под предлогом Турецкой войны, намеревался он уничтожить шляхетские вольности и реорганизовать Речь Посполитую.
«Это давнишняя мысль канцлера» (писал безымянник) «уничтожить шляхту и ввести в Польше правление оптиматов (аристократов). Не так он привержен к монарху, чтобы желать ему правления наследственного; нет, он хочет ввести такое положение, чтоб у нас не было ни полной вольности, ни полной неволи. Он хочет быть не министром, а товарищем короля. К этому, после всех его подвигов, были направлены его широковещательные дискурсы о Правах Посольской и Сенаторской Избы. С этой целью сочинил он кавалерию, которой сломили голову, и которую теперь поднимают за хвост. Для того же искал он в Империи княжеских титулов, и наследственных князей в Польше уничтожал. То же самое обнаружилось в благодарности, вымученной у шляхты, в контрибуции, выжатой у ксендзов, в складках, выманенных у городов. То же самое и в вопросе, как повалить Посольскую Избу. То же высказалось и в гвардии для развода схваток на сеймах. Вот почему не решался он привыкший к вольности народ привести к строгому повиновению, а довольствовался постепенным увеличением королевской власти. Не имел он и теперь намерения выступить с насилием; но когда его захватили врасплох королевские замыслы, захотелось ему воспользоваться случаем и ниспровергнуть существующее правление в Польше. Давно уже сказал о нем варвар, что это польский Ришелье, только что не попал на такого государя, которого мог бы сделать статуею, а себя — королем».
Глава XIII. Польские сеймики и сеймы. — Возмущение второго и третьего государственных сословий против первого. — Король отдается в руки своих подданных. — Недоверчивость шляхетского народа к королю. — Новый сейм. — Религиозные дела вместо политических. — Сеймовая неурядица развязывает королю руки.
Я показывал русскому читателю государственную и общественную жизнь былой Польши со стороны её олигархических и охлократических крайностей, сопоставляя в ней две родственные национальности, руководимые и охраняемые представителями двух противоположных церквей. Читатель мой был зрителем и цивилизованного, и дикого геройства её воинов, зрителем соперничества различных сословий и состояний.
Дивный по своей оригинальности конгломерат, называемый Польским Королевством, Речью Посполитою Польскою, по-казацки Королевскою Республикой и Королевскою землей, по-пански шляхетским народом, — готов теперь, силою своих исторических судеб, перейти в новую формацию, к гордости одних, к досаде других и к отчаянью третьих. Радуясь тихо падению погибших «от своих беззаконий» и наслаждаясь торжеством истинной гражданственности под её призраком, мы с русским читателем не можем отказать себе в удовольствии вызвать из глубины прошедшего кажущееся польское величие в истинном его виде, — в виде государственного ничтожества, и представить национальные доблести польские тем, чем они были действительно.
Зрелище того и другого открывается перед нами всего поразительнее на тщеславной выставке общественной свободы, — на том пресловутом съезде польских перов и депутатов, который носил прискорбное подобие наших старинных русских веч.
Все польские сеймы были интересны в смысле представительства польской государственности, — как те, на которых народно и величаво появлялся наш «святопамятный» с тысячами разнородно вооруженного войска, — зтот прототип можновладной «приваты», так и те, на которых оскорбленная гордость великого пана готова была превратить Сенаторскую Избу в дикую сцену кулачного права. Но чтобы видеть полный расцвет всего химерического в Королевской Республике накануне того потопа, которым угрожал ему выделившийся из шляхты разбойный элемент, надобно было присутствовать на двух сеймах, которые непосредственно предшествовали падению самоуверенной силы, измерявшей славолюбивыми взорами громадное пространство между Ледовитым океаном и Средиземным морем, между Атлантикою и морем Каспийским.
Я посвящу целую главу пересказу того, что на этих двух сеймах видели глаза и слышал слух наших малорусских предков, кто бы они ни были, — пересказу со слов самих поляков. С какими бы чувствами и мнениями ни описывали они свое прошедшее, их верные фактам описания рождают в русском сердце другие чувства, в русском уме — другие мнения.
Каждому сейму в Польше предшествовали поветовые сеймики, посредством которых высказывались общественные желания, и каждый сеймик отправлял на центральный сейм своего представителя, под названием земского посла. По теории польского самоуправления, — теории, надобно сказать, прекрасной, — земским послом мог быть не только крупный, но и мелкий землевладелец-шляхтич, преобладающий умом и нравственными достоинствами над прочими «братьями шляхтою»; но на практике выбор падал всегда на богатого и сильного всяческими связями. Таким образом прославляемое демократическое правление шляхты в сущности было аристократическим.
На провинциальных сеймиках 1646 года все высказались против короля. Шляхта южных воеводств опасалась, чтобы король Турецкою войною не обратил её подданных в казаки и не расстроил этим её хозяйства. Литовские паны боялись вторжения шведов, которым казалось, что Владислав собирается воевать за свое право на шведскую корону. Но и война Турецкая могла дать случай шведам продолжать военные действия, приостановленные Густавом Адольфом. Всего же больше были вооружены против короля великополяне. Свеженавербованные иностранцы причиняли им великое разорение. Местные старожилы знали на опыте неистовства польского жолнера, но такой разнузданности, какую представляла военщина, навербованная за границей, никто из них не запомнил.
Так оно и должно было быть. Тридцатилетняя война довела истощенные государства Западной Европы до необходимости положить конец убийствам, совершившимся ради одних, или других притязаний. Война, известная под именем Тридцатилетней, была, собственно говоря, продолжением той войны, которая началась восстанием Нидерландов против испанского владычества. С промежутками трактатов, контрибуций, набора новых войск и отдыха старых, военный разбой, освященный воззваниями за веру, честь и свободу, тянулся не тридцать, а восемьдесят лет. Искусство нападать и обороняться, при пособии возродившихся точных наук, достигло высокой степени в этот горестный период жизни западных народов, и породило массу специалистов человекоубийства, от которых безоружные классы страдали, точно в басне глиняные горшки от медных, плывущих с ними по одной и той же реке. Когда наследники и питомцы восьмидесятилетних неистовств пришли к великополянам на указанные им сборные пункты, их жестокое прикосновение было почувствовано всеми до такой степени, что по всей Польше раздался громкий вопль, и успокоенная в течение последних десяти лет Королевская Республика узнала с ужасом, что ей предстоит новая всегда опасная война с Турцией.
По официальному заявлению местного воеводы, в Великой Польше было полно обид и плача убогих людей. «Их слезы» (писал он) «иностранцы жолнеры отсылают к небесам, насмехаясь над вольностью и правами граждан и грозя публично, что хлопов обратят в шляхту, а шляхту — в хлопов». Но протесты, угрозы и жалобы шляхты не помогали. Польские высшие ведомства привыкли к подобным представлениям. В Королевской Республике, за отсутствием исполнительной власти, её место занимало самоуправство. Еще в 1590 году коронный полевой гетман писал к великому, что его жолнеры будут тяжелы местным жителям. «Но я» (говорил он) «от вашей милости научился быть контемптором подобных вещей. Надобно угождать совести делать, что разум и нужда Речи Посполитой указывают. Пускай горланит что кто хочет: больший и справедливейший был бы крик, когда бы нас упредил неприятель». Если так думали Станислав Жовковский и Ян Замойский, тем естественнее было так думать Владиславу IV и Юрию Оссолинскому. Они молчали на получаемые донесения, и, в надежде предотвратить гораздо большее зло, продолжали готовиться к войне.
Прусские сословия протестовали не меньше великопольских и перед канцлером, и перед королевскими полковниками; но все было напрасно. Только провинциальные сеймики были отголоском таких протестов. Подобно наступающей со всех сторон грозе, их вечевые взывания готовы были разразиться громом на центральном, столичном сейме. Всюду носился слух, что король намерен отнять у шляхты свободу и ввести наследственный монархизм. Одни вопияли, что, вербуя без согласия сейма войско, он этим самым уже вводит самодержавие в Польше; другие твердили, что договор с Венецией и война с татарами были только предлогом к этому. «Король не надеется долго жить и, не видя обеспечения семилетнему королевичу, со стороны сейма, прибегает к насильству в его пользу», говорили некоторые; а один из шведских сановников высказал публично, что король посылал за помощью к Торстенсону, с целью ввести в Польше неограниченное правление; что уже Густав Адольф обещал ему свою помощь в этом деле за отречение от прав на шведскую корону, и что король теперь снова искал помощи у Швеции, а Швеция обещала ее. Всего больше было между шляхтой таких, которые проповедовали, что чем бы Турецкая война ни кончилась, она грозит полякам утратою свободы. «Если одолеет короля Турция» (говорили они), «Речь Посполитую ожидает рабство; если турок побьет король, шляхту ожидает рабство; если война не разрешится ничем, тогда наш край сделается добычею жолнеров».
Подобные толки заняли всех до такой степени, что ни о чем не желали трактовать на центральном сейме, как о распущении иностранной и королевской гвардии, которая выросла уже до 5.000. Все сеймиковые инструкции вменяли в обязанность земским послам: не соглашаться на Турецкую войну, открыть её двигателей, домогаться распущения вербовок, отправить посла в Турцию для подтверждения мира, заплатить татарам недоплаченный гарач, называемый подарками. А чтобы король какою-нибудь хитростью не обманул двух сословий, был принят предложенный краковским воеводою сигнал: противоречие всему! Если же король не согласится с желанием шляхетского народа, шляхта постановила: сесть на коней и разогнать вербунки.
Королю было известно постановление каждого сеймика: он знал, что сеймики грозили отказать ему в повиновении; что сенаторы вписывали свои постановления в гродские книги; знал, какие выбраны послы и какие даны им инструкции. Но при всем том не только не оставил своих замыслов, а еще больше, нежели когда-либо, жаждал войны. «Такой жар пылает в сердце короля» (писал современник), «что надобно опасаться, как бы он не сгорел».
После краковской рады Владислав разослал ко всем христианским королям и князьям, даже к их старшим полководцам, приглашения к участию в войне против язычников, а 3 октября отправил посла в Персию. Послал и в Париж посла, дабы уверить Швецию в своих мирных намерениях и просить у Франции помощи.
Со всех сторон получались благоприятные известия. Венеция, не дождавшись польско-турецкой войны для заключения с Турцией мира, начала воевать с нею серьёзно. Из Москвы уведомляли короля о начавшейся войне с татарами. Султан повелел башам помогать хану. Персы облегли Вавилон. В Палестине и в других турецких провинциях вспыхнули бунты. Князь Януш Радивил вернулся из Ясс и Мункача и привез уведомление, что Ракочий обязался не пускать турок через венгерские границы в Польшу, а оба господаря обещали поставить по 25.000 войска, дать значительные субсидии и прислать послов на сейм.
Король был в наилучшем расположении духа. Он отправил во Львов другие 24 пушки, 4 большие мортиры и 25 бочек аммуниции с повелением коронному гетману — двинуться в Волощину с 22.000 войска. Владислав надеялся, что если приближающийся сейм не одобрит войны с татарами, то по крайней мере определит налоги и прибавку войска на оборону Речи Посполитой; а этого было довольно, чтоб из войны оборонительной втянуть шляхту в войну наступательную.
При таких обстоятельствах, среди общей тревоги по всему государству, начался в Варшаве, 25 (15) октября, достопамятный сейм 1646 года.
Маршалом Посольской Избы был избран Николай Станкевич, писарь жмудский, сделавшийся на этом сейме лицом историческим. Шляхта, представляемая земскими послами, распорядилась на сей раз, чтобы так называемая презентация состоялась не в Сенаторской, а в Посольской Избе. И вот внесли кресла для сенаторов. При короле всегда находилось человека три-четыре сенаторов-резидентов, радных панов, а всех сановников, заседавших в сенаторских креслах, было 140. Из этого числа, для спасения отечества от угрожавшего ему лишения гражданской свободы, прибыло на сейм, чреватый событиями величайшей важности, только семь. Боясь огорчить — или короля, или шляхту, отцы отечества выжидали вечевого результата дома. Земские послы, сидя кругом Избы на скамьях, обитых красным сукном, встретили входящих сенаторов громким смехом.
В половине первого часа вошел королевский канцлер, а за ним — король. По выражению польского историка, они вошли, как двое обвиняемых. Приветствовали их молчанием.
Маршал Посольской Избы обратился к королю с пожеланием доброго здоровья, и выразил надежду, что он здоровыми своими советами благоволит утешить Речь Посполитую, которую изображали собою земские послы.
Ему отвечал коронный подканцлер, бискуп Андрей Лещинский, но с такими намеками на короля, что скорее казался главой оппозиции, нежели министром короля и Речи Посполитой.
После его язвительной речи маршал Посольской Избы читал имена земских послов, которые один за другим приближались для целования королевской руки. В числе их оказалось много врагов его польского величества: они целовали королевскую руку на воздухе. Этим актом публичного уважения монаршего достоинства кончилась презентация.
На другой день, в первом заседании сейма, надобно было ждать бури. Но коронный канцлер Оссолинский, стоя по обычаю на первой ступени трона, произнес «королевскую пропозицию» с таким благодушием, как будто его только и занимали ложные слухи на счет короля, которые он тут же уничижал своим пленительным для поляков словом. У соотечественников Оссолинского эта пропозиция считается самою знаменитою из его речей, сказанных им по-польски. Пасторий переложил ее на латинский язык и поместил в свой Historiae Polonae plenioris partes duae, на вечную, как он писал, память потомству. Коронный канцлер так ублажил представителей шляхетского народа восхвалением созданной им Речи Посполитой, что один из самых завзятых земских послов назвал его слово «благотворным елеем», а под конец пропозиции представил в таком ласкательном виде просьбы короля о многочисленных нуждах, как его собственных, так и всего королевского дома, что слушателям показалось неправдоподобным, чтобы король, находясь в такой зависимости от Речи Посполитой, мог питать замыслы, противные желаниям её. Сохраненная на вечную память потомству речь много способствовала тому, что сейм, настроенный весьма враждебно, прошел гораздо тише, нежели можно было надеяться.
Для русского читателя интересно пышное начало её, точно медом помазавшее по сердцу польскую шляхту, от природы доверчивую и добродушную.
«Населили доблестные поляки в открытых полях свободное королевство, окруженное только стеною любви и единодушного между сословиями доверия. Поставили среди него сторожевую башню королевского маестата, дабы с её высоты вовремя слышать предостережения единого повелителя, усматривающего отдаленнейшие бури. Возле башни от имени сената воздвигли курию (то есть Посольскую Избу), дабы, вместе с верховными предостережениями, во все стороны растекался зрелый и непорывистый совет о потребностях Речи Посполитой. На себя же, неразлучные с боевым оружием, взяли функцию добровольной, ревностной обороны общественной безопасности.
Так установленная стояла и, даст Бог, будет стоять непоколебимо целость, слава и краса нашего милого отечества, усиленного братским присоединением к нашим предкам великих народов, возвеличенного бесстрашными подвигами королей, повелителей наших, особенно же расширенного в своих границах отважными делами его королевской милости, нашего всемилостивейшего государя.
И однакож (продолжал исполненный гражданского самоотвержения канцлер) бесчестная жадность приватных выгод силится при всяком удобном случае порицать и путать столь хорошо обдуманную форму правления. В стачке с самомнением, она всего неистовее штурмует это главное передовое укрепление взаимного доверия, дабы, открыв неприятелю и его хитростям общественное благо, тем легче обеспечить свою ненасытную привату. Вот откуда происходит уклончивость от должного доверия к предостережениям бдительного и благодетельного государя и в высшей степени легкомысленное уверение, что ниоткуда не грозит нам никакая опасность; вот откуда превратное истолкование горячей его заботливости; вот откуда пренебрежение к братской раде сената, а что горше всего — потрясение целого состава Речи Посполитой», и т. д. и т. д.
Исчислив подвиги короля и жертвы, принесенные подданным для освобождения отечества, коронный канцлер, в числе таких жертв, упомянул и «усмирение казаков бесценною кровью рыцарства», а потом перешел к татарским опустошениям края, которые де сопровождаются наполнением Крыма и Буджаков христианскими пленниками. «И до того уже дошла» (говорил он) «языческая самоуверенность, что и под самый бок его королевской милости, несколько месяцев тому назад, посол татарский привел в тяжких оковах польского шляхтича, пана Замойского, заполоненного в Северии, и тут же устроил позорный базар для торга свободною шляхетскою кровью, к несмываемому стыду наших народов и к неутешной горести его королевской милости и всего двора, бывшего тому свидетелем».
Но напрасно сторожевая башня, олицетворяемая славным оратором в особе короля, давала сигналы об угрожающей польским гражданам опасности. Красноречивую пропозицию принялись обсуждать сенаторы, встреченные на презентации громким смехом со стороны земских послов. Первый из них, архиепископ гнезненскии, Матвей Лубенский, будучи стар, говорил таким тихим голосом, что видно было только, как шевелились его губы, но и ближайшие к нему послы «не могли сказать, произносил ли он хоть что-нибудь». Вслед за ним бискуп хелмский, Станислав Петроконский, говорил «сухо и холодно», наступательной войны не советовал, но и подарков татарам не одобрял. Далее воевода равский, Андрей Грудзинский, не соглашался на войну, и под конец наговорил такого, «что никто его и сам себя он не понимал». Каштеляна серадского, Предислава Быковского, «никто не слушал и не слышал». Каштелян данцигский, Станислав Кобержицкий, в «прекрасно речи», хвалил королевские предначертания, но настоящей войны с татарами не одобрял, боясь Турции; советовал, однакож, быть наготове и не желал распускать вербовок, а только полковников поставить польских. Каштелян бжезинский, Хабрицкий, войны не одобрял. Каштелян перемышльский, Тарло, «советовал быть черепахою, сидеть тихо и головы не выставлять». Еще два каштеляна сопротивлялись войне. Жарче и смелее всех говорил подканцлер, бискуп хелминский, Андрей Лещинский. Он угодил шляхте дерзостями против короля, но советовал не посылать в Турцию посла, а лучше думать об обороне.
Вообще все сенаторы соглашались в том, что Речь Посполитая должна быть готова к войне, но каждый из них «боялся королевской немилости», и не высказался вполне.
Голосованье двенадцати сенаторов тянулось четыре дня. Оссолинский был раздражен некоторыми речами, как публичными, так и домашними, которые тогда произносились в провинциальных кругах, где его называли открыто сочинителем королевских замыслов. В заключительной канцлерской речи, он излил свою досаду на коронного подканцлера, Лещинского.
«И у меня» (говорил он) «скорее не хватит жизни, нежели свободы слова. Но пользоваться свободой мысли в царствование благодетельного монарха, любящего права, вольности и счастье подданных, — в этом еще мало славы, заслуги никакой... Надобно только благодарить Бога, что в наш век мы наслаждаемся таким счастьем, истекающим от благотворного царствования его королевской милости... Я подаю мой голос только в пользу сохранения неразрывной связи королевского маестата с оощественным благом. Тот был бы общий изменник, кто бы смел маестат монарха разлучать со свободой народа тайным поджигательством, или публичною декламацией»...
Такое вступление слушали «с великим смущением». Глаза всех обратились на подканцлера, которого Оссолинский назвал изменником и декламатором. Лещинский «сидел бледный, как стена». Но красноречию Оссолинского не доставало той победительной силы, которая заключается в чистоте побуждений и возвышенности духа. Не один из его слушателей вспоминал о другом «великом», как называли Оссолинского, государственном муже, — недавно утраченном Станиславе Конецпольском, который «скорее делал, чем высказывался», и которого каждое слово, произносимое с природным заиканием, растекалось по всей Польше. Коронный канцлер, желая польстить примасу, Лубенскому, неожиданно кончил свою речь ссылкою на его мнение, «которого никто не слышал». Тогда «поднялся шум, шепот, смех. Послы не обращали внимания на остальную часть речи, и вынесли убеждение, что канцлер не хотел высказать собственного мнения относительно распущения войска, ссылаясь в деле военном на отзыв архиепископа».
Со стороны короля делались всяческие заискиванья у третьего сословия в пользу Турецкой войны. Недавно были им получены от гетмана Потоцкого желанные известия о грозном для поляков движении турок. Король надеялся, что под впечатлением этих известий, послы озаботятся безопасностью государства, утвердят и войско, и налоги, вследствие чего ненадобно будет ни распускать вербунок, ни платить им: ибо в таком случае Речь Посполитая приняла бы их на собственный счет и вернула бы ему издержки.
Первая речь Оссолинского при открытии сейма ублажила земских послов, успокоила опасения, придала надежды сторонникам двора. Да и между послами было много приверженцев Турецкой войны. Таковы были: Януш Радивил, Александр Конецпольский, Иероним Радзеёвский. Прочие белорусские, червоннорусские и украинские можновладники, заседавшие в Посольской Избе, при всем своем возбуждении к оппозиции, готовы были стать на стороне короля, если бы представители третьего сословия зашли слишком далеко. По признанию поляков, «многих можно было, как это делалось обыкновенно, угомонить просьбами, убеждениями, подкупом и обещаниями, а в наихудшем случае — создать сильную факцию и парализовать деятельность Посольской Избы». Таланты Оссолинского и его канцлерское достоинство могли сделать много и даже все, когда б он был искренно предан королю и его грандиозной политике. Но для этого недоставало одного, — чтобы король, вылепив себе канцлера из простой глины, вдохнул в него самоотверженную душу. Такой души природа не дала ему самому. При всей готовности своей служить Христианству и при всем своем геройстве, он был своего рода эгоист и своего рода трус. Усвоенная им с детства лживость, свойственная ему по его природе оплошность, недостаток определенного начертанного плана действия, внезапные затеи по вдохновению минуты и школьнические увертки перед судьями гражданского долга, — все это ослабило достоинство его царственности, раздражало дерзость оппонентов и придавало им небывалые силы.
31 (21) октября, по выслушании сенаторских заявлений, земские послы вернулись в свою Избу, недовольные тем, что сенат стращает их татарским и турецким набегом, советует готовить войско и требует от них налогов. Они не верили, чтобы Турция думала о войне с Речью Посполитою, гремели против королевских замыслов, против советников войны, а когда один посол из Сендомирского воеводства, рассыпаясь в похвалах канцлеру, подал голос в пользу вооружения, — это возбудило такое негодование, что несколько человек ухватилось за сабли. В первом же заседании Посольской Избы, состоялось постановление: отправить к королю посольство с объявлением, что послы не приступят ни к чему, пока противозаконно навербованное войско не будет распущено.
Король отговаривался нездоровьем, и едва 5 ноября принял земских послов, да и то в постели. Он отвечал им через посредство Оссолинского, между прочим, что распущенное войско не преминет грабить и угнетать их сограждан. Если земские послы и сенаторы не заботятся об обороне Речи Посполитой и решат, что набранное войско не нужно, король готов распустить его, лишь бы Речь Посполитая указала способ распущения.
Изба послала вновь к королю посольство, с требованием, чтоб он выдал главного советника Турецкой войны и разослал универсалы на распущение жолнеров. Речь Посполитая не нуждается де в них, так как, в случае надобности, собственною грудью готова отражать неприятеля.
Король опять откладывал со дня на день аудиенцию, сказываясь больным, и только 10 ноября принял маршала Посольской Избы Яна Николая Станкевича. Отвечал ему Оссолинский, советуя вновь, от имени короля, чтобы Посольская Изба, относительно распущения войска, держала раду с Избой Сенаторской, так как дело здесь идет о королевском достоинстве и безопасности отечества.
Коронные послы соглашались на эту пропозицию, но литовские за решением другого, важного собственно для них вопроса, протянули дело до 15 ноября.
В этот незабвенный для польских либералов день выступили на сцену действия познанские послы, именно Болеслав Лещинский, Лукаш Оржельский, Леон Шлихтинг и Андрей Твардовский, с инструкциями от своего сеймика, и потребовали «братской беседы с сенаторами в отсутствии короля».
Предложенная ими братская беседа, называвшаяся collegium vel colloquium, это был древний парламентский обычай, к которому прибегали только тогда, когда поведение короля, или сената возбуждало опасения. В таком случае два государственные сословия, в лице своих представителей, соединялись в одно тело, в отсутствии короля совершенно независимое, и совещались об устранении зла. Диктатура братской беседы над верховною властью предпринималась в моменты важные, когда все легальные способы оказывались недействительными.
Оссолинский, как мы видели, предлагал уже послам совместную с сенаторами раду и надеялся от неё великой пользы; но эта беседа была нечто совсем иное. «Если бы совместная рада происходила в присутствии короля, то сенаторы могли бы отвергнуть постановление Посольской Избы относительно распущения войска; в отсутствии же короля они этого сделать не смели».
Посольская Изба одобрила пропозицию познанских послов и постановила: отправить в третий раз посольство к королю с требованием, чтоб он разослал универсалы на распущение жолнеров; чтобы выдал сочинителя Турецкой войны, и согласился на братскую беседу в своем отсутствии.
Это было постановление опасное для короля, для сенаторов и министров. Нельзя было на него согласиться, но страшно было и отказать в согласии, именно потому, что, после каждого отказа, требования Посольской Избы росли, опасность увеличивалась.
Варшава кипела нетерпеливостью вооруженной шляхты, которая наполняла столицу и была готова, с оружием в руках, поддержать постановление земских послов.
Король решился обещаниями успокоить оппонентов. Когда 16 ноября герой бесплодной и злотворной революции, Станкевич, потребовал аудиенции, ему отвечали, что король сам пошлет к третьему сословию посольство. Действительно в Посольскую Избу прибыли: познанский и жмудский бискуп, Андрей Шолдрский, брестский, мстиславский и померанский воеводы, серадский и данцигский каштеляны. Бискуп Шолдрский, обнажив покорно голову, объявил земским послам, что не кто иной, как сам король, без всякого внушения, из побуждений важных и из любви к отечеству, вербовал войско, и что готов распустить вербунок добровольно, лишь только его намерения представляются противными праву, если Посольская Изба, с своей стороны, изыщет способ для обороны государства, возвратит королю издержки, а королеву, которая растратила свои скарбы, снабдит приличным содержанием.
В ответ на это посольство, третье сословие потребовало, чтобы тотчас были изготовлены универсалы, и чтобы копии были ему прочитаны. Король, желая угодить земским послам, немедленно прислал проект универсалов; но его нашли слишком мягким, и потребовали более строгого, с прибавкой инфамии на непослушных и писем к гетманам и старостам, повелевающих карать преступных иностранцев. Король велел изготовить новый проект универсалов, с объявлением, что жолнеров, которые не подчинятся комиссарам и разойтись не захотят, повелевает считать галастрою (сволочью), лишенною покровительства законов. Эти универсалы обещал он разослать немедленно.
Неожиданная уступчивость короля показалась подозрительною. Уверяли, что король, несколько дней назад, разослал полковникам приказ, чтобы на универсалы, если бы к ним пришли, не обращали внимания. Твердили, что король выдает новые патенты; что в Польшу съезжаются иностранцы-полковники и ждут указания, где им представиться. Некоторые из земских послов предсказывали, что король в случае крайности, причислит упраздненные хоругви к своей гвардии, количество которой не определено законом. Другие были готовы присягать, что король играет комедию, и ни универсалов, ни комиссаров к войску не пошлет.
Чтоб успокоить шляхту, король несколько раз призывал сенаторов к себе, и уверял их дружески, что сделает все, чего государство от него домогается.
Между тем ноября 27 пришло в Посольскую Избу известие, что распущение войска секретно приостановлено. В страшном волнении умов, начались об этом совещания, и когда один из послов намекнул слегка, что все сделанное до сих пор ни к чему не приведет, Посольская Изба вдруг постановила несколько пунктов, и с этим постановлением двинулась «наверх» в сенат, где король отправлял правосудие.
Станкевич представил Владиславу следующие требования: чтобы действие универсалов о распущении жолнеров наступило немедленно; чтобы король назначил комиссаров для распущения войска; чтобы казаков приудержал, дабы они не давали повода к войне с Турцией; чтобы гвардию уменьшил, новых патентов на вербунки не выдавал, и согласился на братскую беседу с сенатом в своем отсутствии, с целью выговора сенаторам за недосмотр и невнимание.
На это требование Оссолинский вовсе неожиданно отвечал коротко, жестко и неучтиво (niedyskretnie), не пригласив даже, как велел обычай, сенаторов к аудиенции: что универсалы посланы; что гвардии будет король держать столько, сколько ему понадобится; относительно казаков снесется с гетманом; новых патентов не выдаст, а на беседу не согласен.
Дело в том, что король всё еще полагаясь на свое личное влияние, поддерживаемое раздачею дигнитарств, надеялся склонить на свою сторону панов, располагавших значительными боевыми средствами, и, с помощью сторонников войны, подавить партию мира. Но в шляхетском народе распространились уже опасения насчет его автократических замыслов. Боялись не одних военных тягостей, неразлучных с войной утрат и бедствий, боялись, и самого торжества над неприятелем.
«Теперь мы свободны в нашем отечестве» (рассуждали республиканцы); «теперь мы знаем принадлежащие нам права и имеем все средства их отстаивать. Но предположим, что король, с помощью чужеземцев, завоюет себе Константинополь. Чья это будет собственность? Самого ли короля и его союзников, или же Речи Посполитой? Если это будет королевская собственность, будем ли мы довольны тем, что наш король усилится? А если бы король поделился добычею с народом, то какая была бы разница между поляками и народами присоединенными к Польше? Новые подданные, привычные к рабству, повиновались бы королю во всем, а нам достался бы жребий тех македонян, которые, бывши свободными, пошли за Александром Македонским на войну, и вернулись бы рабами, еслиб Александр не умер».
В то время победителям на Солонице, в Медвежьих Лозах, под Переяславом, Кумейками, на Суле и на Старце — не могло прийти в голову, что своим террором над благодушным хоть и беспутным, королем они напоминали ему те счастливые моменты жизни, когда казаки, в широковладычной Московии, бросались перед его глазами в быстрые реки, обращали в забаву страшные морозы, играли смертью и жизнью безразлично, и своим боевым энтузиазмом увлекали в опасные сражения рыцарскую шляхту. Польское самомнение, польская кичливость не давали сеймующим Станкевичам приписать победы под Москвой и под Смоленском тем «хлопам казакам», которые, по признанию одного из участников голодной Хотинской войны, помогли шляхте отразить Ксеркса Османа, и сделались «розовым венком» на её голове. Но король Владислав был выше шляхетской надменности. Ленивая, мечтательная и беспорядочная жизнь, часто весьма скудная, ставила иногда его самого в положение бездомовного казака.
Любил он бивуак, охоту, отсутствие царственной обстановки, и часто проводил запросто время в мужицкой хате с простолюдинами гораздо веселее, чем у себя во дворце с магнатами. В его глазах, как и в глазах Станислава Конецпольского, казаки были такие же рыцари, как и паны, с важным преимуществом беззаветной преданности, которой отсутствие сеймовые паны давали ему теперь так горько чувствовать; и если он мечтал о восстановлении Восточной Империи, то 100.000 «казаков-серомах» в его надеждах играли весьма важную роль, — быть может, гораздо важнейшую, нежели все «королята» с их многочисленными хоругвями. Самое имя хлопы, даваемое казакам в смысле юридическом, никло в уме короля, от которого зависело снять баницию и инфамию с преступной шляхты, ворочавшей казацкими делами, и наградить поместьями тех, которых нужда и беспомощность прогоняли из общества кармазинной шляхты в серые казацкие купы. Не принимали Станкевичи в рассчет «дикой милиции днепровской» и на сердце своего короля, поражаемом беспощадно, как наковальня, патриотически выковывали близкую к ним уже Хмельнитчину.
Получив неожиданно гордый и полный решимости ответ, земские послы вернулись в свою революционную Избу смущенными. Брацлавский подсудок Николай Косаковский затормозил законность дальнейших совещаний своим veto (nie pozwalam), посредством которого каждый земский посол делался могущественным народным трибуном. В устах Косаковского veto состояло в заявлении, что не приступит ни к чему, доколе войско не будет распущено. Краковский подсудок Хршонстовский и малорусс Обухович предложили братнюю беседу хоть бы и в присутствии короля. Они советовали идти к королю еще однажды и, в случае отказа в беседе, оставить сейм.
Краковский стольник, Корыцинский, предложил послать к примасу, чтобы назначил беседу с сенатом. Некоторые советовали отправить беседу в жилище самого примаса.
Понентовский пошел дальше всех: он выступил с постановлением о неоказании повиновения (de non praestanda obedientia). По ero мнению, надобно было взять с собой избирательные условия (pacta conventa) и, ставши перед примасом, призвать его в свидетели нарушения королем прав и пактов, а потом — отказать клятвопреступнику в повиновении. Большинство послов рукоплескали его словам. Обороняли короля Шумский, Яблоновский, Остророг (имена почтенные в польской анархии, которая вызвала торжество руинников над строителями). К ним присоединилось много и других земских послов, советуя просить еще раз о беседе, тем больше, что приближался уже конец сейма. Не согласились на это земские послы. «Не просить больше! переговорить с примасом»! горланил Шлихтинг. Корыцинский сравнивал Владислава с Ксерксом. Понентовский кричал, потрясая над головой рукою: «Кто отвергает лекарства, тот готовит гибель (qui negat remedia, procurat interitum)»...
Вообще, не было ни одного посла, который бы не сказал какого-нибудь сарказма против короля, а все королевские замыслы толковали самым злобным образом. Проклинали не только сенаторов и министров, секретарей, резидентов королевских, князей итальянских, но «и самого папу»; а один староста грозил публично, что убьет графа Магни, хоть за это положит головою. Бешенство душило разъяренных. Отворяли двери, разбивали окна для воздуха; терзали заподозренных; грозили рассекать противников... Маршал отложил заседание до утра.
А в это самое время Хмельницкий, не зная, что делается с королем, открыл реестр для 20.000 казаков, за которыми стояло еще 80.000 готовых на все доброе и на все злое для Польши, смотря по тому, кто будет ими гетманить: сам ли король Владислав, или наследник Царя Наливая.
Вечером того же зловещего 15 ноября шляхта совещалась об отказе в повиновении.
Послы грозили, что, если король не распустит войска, они не разъедутся до тех пор, пока их собратия и избиратели не прибудут в столицу с оружием в руках, чтоб изгнать из государства непрошенных гостей. Королю грозил шляхетский рокош.
«Если домашняя война не вспыхнула, и потом не раздвоил нас на нашу гибель какой-нибудь посредник» (писал Обухов), «то за это мы должны хвалить милосердие Божие».
«Чтобы в коротких словах» (писал прусский резидент) «представить образ того, что здесь делается, довольно сказать, что ни 1618 год в Чехии, ни начало английского парламента не посеяли столько вражды, как ныне посеяно здесь. Обе стороны были готовы броситься в драку, когдаб у одной были деньги, а у другой голова».
«Все в великом лабиринте» (писал Тьеполо), «из которого, без домашней войны, а может быть — и потери свободы, не выйдут. Король, невыразимо смущенный, не знает, что делать».
Кареты сенаторов летали из Уяздова в замок и обратно. Одни молили короля уступить, другие королеву — подействовать на мужа, что она и делала. Были и такие, что советовали королю лучше разорвать сейм, но сохранить королевское достоинство.
Король так и сделал бы, но боялся за будущность сына... В любви к идее государства и в готовности жертвовать ради этой идеи всем польскому Владиславу было так далеко до нашего Петра, «как до небесной звезды».
Он созвал сенаторскую раду и, получив почти от всех удостоверение, что «Речь Посполитая сама должна почувствовать долг свой относительно общей обороны и безопасности своей», решил «отдаться в руки шляхты».
Когда, на другой день, собрались послы в своей Избе, и одни побуждали собрание идти к примасу, а другие — вместе с сенаторами к королю, выступил подкоморий Великого Княжества Литовского, Пац, любимец короля, и сообщил послам его решение, под видом уверения, что его королевская милость теперь даст более благосклонный ответ. Законодательное собрание шляхты, в лице своих революционных вождей, отправилось в «последний раз» просить у короля отречения от верховной власти.
Маршал Посольской Избы, знаменитый Станкевич, произнес к нему речь, в которой прежде всего настаивал на том, чтобы жолнеры были «действительно распущены».
Потом говорил об универсалах, которыми король повелевал содержать его гвардию в Великом Княжестве Литовском; о казаках, которым он дозволил идти на море; о братской беседе с сенатом в отсутствии короля; об уменьшении гвардии и прекращении вооружений.
Король, как бы в вознаграждение за прежнюю ошибку свою, что, без соглашения с панами рады, дал такой жесткий ответ, пустил представление Посольской Избы на голосование сенаторов, после чего, устами канцлера, произнес требуемое отречение в следующих словах, записанных Альбрехтом Радивилом:
«Украсил Бог дивными триумфами правление его королевской милости, сегодня же возложил на главу его новый венец, когда он, после стольких побед, победил самого себя и отдал во власть и в руки своим подданным. Однако же не без горести принимает король эти слова маршала, чтобы жолнеры действительно были распущены: ибо не раз показал свою действительность, когда подвергал свою голову и грудь столь великой опасности. Что же касается жолнеров, он повелел их распустить, отправил листы к гетманам и старостам, отправил еще и комиссаров. Универсалы Великому Княжеству Литовскому он отрицает: он писал только частным образом к литовскому подскарбию, чтобы не отказывали по экономиям в прокормлении королевской гвардии, которая прибыла уже к королю. Что до казаков, то это правда, что они готовили чайки с ведома сената: ибо в пактах с султаном написано, чтоб он не держался за руки с буджацкими татарами, а как он это нарушил, то представлялось необходимым постращать его казаками. Теперь, удовлетворяя вашим желаниям, король пошлет к гетману листы, чтобы казаки оставили эти чайки и вели себя спокойно, не давая повода к нарушению мира. О беседе с сенатом король повелел сказать, что в какой форме нашел он Речь Посполитую, в такой желает сохранить ее и оставить потомкам. Если в этой беседе будут совещаться о делах королевских, как тому существуют примеры, то король согласится на то охотно. Наконец гвардии держит король больше ради достоинства и величия королевства. Если обеспечат общественную безопасность, король готов от него отказаться».
Такова была сцена зловещей разлуки государя с его верховною властью. Оссолинский, желая усладить ее своим «новым венцом», еще увеличил её горечь. Зато послы вернулись домой в восторге от своего подвига. Теперь многие из них объявляли публично, что не видят уже надобности в братской беседе. Но предводители оппозиции хорошо знали, что только посредством беседы достигнут полной законности и непреложности своего постановления, для чего было необходимо согласие всех трех сословий, то есть короля, Сенаторской Избы и Избы Посольской.
Казуист канцлер, говоря от имени короля, ограничил эту беседу совещанием о предметах, касающихся исключительно его особы, а не общественных дел.
Посольская Изба не могла отступать от состоявшегося своего постановления, хотя бы дело шло только о выполнении формальности. На основании такого уважения к народному праву, начали толковать о недостатке последовательности короля, и достигли наконец того, что король, умиротворяя шляхетский народ свой, велел уведомить Станкевича частным образом, точно товарища товарищ, что соглашается на братнюю беседу в своем отсутствии безо всякого ограничения. Это был карточный король, которого побивал даже и такой туз, как Станкевич.
Славное colloquium состоялось 1 декабря 1646 года, в присутствии министров и сенаторов, которых подъехало в Варшаву столько, что набралось теперь 36, и которых имена лучшие люди того злополучного времени записали, как бы для «вечной памяти» о том, что дома выжидало конца бури всё-таки больше сотни представителей второго сословия. Здесь-то наконец правительствующая шляхта связала своего короля по рукам и по ногам так, что он очутился «во власти и в руках подданных». Факт совещания о делах общественных в отсутствии короля считали новою добычей, которой обогатилась пресловутая свобода шляхетского народа. В ближайшем заседании Посольской Избы главным вопросом дня было исполнение братской беседы, то есть представление королю пунктов, принятых в ней сенатом. Все поняли необходимость этого акта, приняли его единогласно, поспешно изложили постановленные пункты, и велели уведомить сенат и короля, что вся Посольская Изба тотчас прибудет «наверх». Все сознавали, что победа зависит от поспешности. Оба королевские маршала, великий коронный и литовский, находили невозможным ввести в сенат земских послов, говоря, что король теперь занимается делом великой важности.
«Нет важнейшего дела, как дело всей Речи Посполитой»! закричали земские послы, и тотчас двинулись шумно (trzaskiem) наверх.
Станкевич победоносно подал пункты братней беседы примасу. Сенаторы встали с кресел, и примас, исчислив требования Посольской Избы, просил короля от имени сената — удовлетворить законным желаниям «народа».
Вслед за ним обратился к Владиславу «свободным голосом (glosem wolnym)» брестокуявский воевода, Щавинский. Стоя у своего сенаторского кресла, он говорил, что светские сенаторы не должны всего бремени своей службы взваливать на духовных, а все вместе склонять короля к устранению причин зла. Восхвалив потом общими местами отеческую попечительность польского государя, он перешел к следующим внушениям: «До сих пор мы и по церквам, и по частным домам не иной слышали голос, как только такой: «Виват, король Владислав»! Но теперь наша радость изменилась в печаль и в огорчение по причине бедствия убогих, воздыхания злополучных. Теперь только и слышим, что жалобы, проклятия и вздохи убогих людей. Первая тому причина — рада иностранцев, которых полон двор. Они дают вашей королевской милости дурные советы, лишь бы только жить чужим добром. Невозможное дело, чтобы они любили наше отечество, не имея с ним ничего общего. Это вы можете видеть из того, что мы скорее получаем известия о том, что делается у вас, из Гамбурга, Любека, или Данцига, нежели из Варшавы. Верьте, государь, что они причина всего зла, так как под видом услуг вашей королевской милости, ищут своих приватных интересов. Обращаю мое слово к венецианскому послу. Исполнив свое посольство, живет он здесь так долго для того, чтобы сделаться началом всего зла, своими стараниями всю тягость войны с венецианских плеч взвалить на наши. Следовало бы напомнить ему сентенцию венецианского сенатора, который, в ответ чехам на их призыв к союзу против императора, сказал: «Не хотим зажигать своего дома, чтобы дымом нашим устрашить императора». Поэтому покорнейше просим вашу королевскую милость отдалить от себя иностранцев, так как их советы производят у нас великое замешательство. Умоляем также распустить иностранное войско, введенное во внутренности отечества в противность правам и пактам. Оно так нам надоело, что словом невозможно выразить. Угнетения, претерпеваемые от этих жолнеров, превосходят шведские и мансфельдовские жестокости: ибо рана от руки друга болит сильнее. Рука вашей королевской милости, предназначенная для защиты отечества, так тяжко на нас падает! Причиняет нам боль и злословие жолнеров, которые смеют хвалиться публично, что нас усмирят, и дивною алхимией обещают превратить хлопа в шляхтича, а шляхтича — в хлопа».
Последние слова дерзостного олигарха были вещими. Скоро настало время такого превращения; но дивными алхимиками явились не иноземные жолнеры, а русские попы да монахи вместе с запорожскими крамольниками, питомцами целого ряда самозванщин, — вместе с банитами да инфамисами, руководившими казацкою вольницей со времен Самуила Зборовского.
Коронный канцлер, именем короля, отвечал всем «кротко» что он тем больше склоняется к желанию Речи Посполитой, чем теснейшее видит согласие всех сословий в пунктах их просьб, и, перечисливши все пункты, заключил желанием короля, чтоб они были довольны декларацией, и приступили к дальнейшим постановлениям, причем предостерегал, чтобы не слишком полагались на спокойствие Речи Посполитой, ничем не обеспеченное.
Заручившись теперь согласием и сената, и короля, третьему сословию оставалось только обеспечить оборонительное постановление (warowna kostytucye), дабы в будущем не случилось чего-либо подобного. Король этому не сопротивлялся, и тем самым изъявил согласие на изложение такого постановления. Целых два дня трудилась Посольская Изба, эта спасительная курия Оссолинского, над сочинением акта, по словам самих поляков, наших современников, «уничтожающего славу, достоинство и власть короля», — накануне событий, в которых только государь, облеченный всеми принадлежностями верховенства, мог бы спасти шляхту от погибельной несостоятельности присвоенного ею правления.
Акт был прочитан 6 декабря, в заключение достославного, по мнению шляхты, сейма и занял почетное место в польском своде законов (Volumina Legum). Этим оборонительным на будущее время постановлением, от имени связанного по рукам и по ногам короля, повелевалось: навербованное войско распустить не далее, как через две недели после настоящего сейма; а которые из навербованных людей не разойдутся, против тех вооружатся коронные гетманы, старосты и городские власти, как против своевольных, не ожидая королевских универсалов. Кто из польских граждан принадлежит к навербованному войску, тем король за непослушание грозил карой инфамии и конфискации имущества. Он обещал за себя и за потомков своих никогда впредь подобных вербунков не делать, приповедных листов под комнатной печатью не выдавать, никаких войн без ведома и совета Речи Посполитой не предпринимать, и никаких договоров с соседними державами не заключать, а заключенных не нарушать; а кто бы осмелился по таким приповедным листам делать вербунки, того имущество король будет раздавать кадуковым (выморочным) правом. Обещал также иностранцев при себе не держать, и к советам их не обращаться, гвардию же ограничить шестью сотнями человек из граждан Речи Посполитой.
Король выслушал акт своего уничижения с веселым видом и подтвердил без колебания, прося только увеличить гвардию до 1.200 человек, что тотчас и сделано.
Этой сговорчивостью он так задобрил шляхту, что она назначила королеве 250.000 французских ливров ежегодного дохода.
Всякий общественный и государственный переворот имеет свое оправдание в нравственных успехах и в благосостоянии граждан. Созданный задолго до христианской эры, во времена быстрого развития греков, идеал республиканского правления занимает, как идеал, высокое место в истории культуры; но приближаются к нему народы не своевольством и дерзостью, а благородством общественных понятий о долге и чести, с которыми граждане совершенствуют всякую форму правления, и без которых самая либеральная форма делается лишь видоизменением гражданского рабства. Со стороны шляхты было бы и разумно и доблестно взять в свои руки государственное управление во всех его частях, когда бы шляхта стояла на высоте гражданственного развития, когда бы она была способна защищать отечество от всяческих врагов единством убеждений своих в том, что надобно делать, и господством лучших людей над худшими. Но польско-русская шляхта была только самомнительна, и относительно государственности вовсе не отличалась той способностью, которую Конецпольский признавал в презираемых ею москалях, привыкших, по его словам, «в каждый предмет вникать основательно». Это доказала она слишком скоро, когда ни высокая образованность нескольких из её представителей, ни воинские таланты других, ни громадные богатства третьих, ни великие жертвы остальных — не могли остановить наплыва двух разноплеменных орд, соединенных только жадностью к добыче.
Даже и теперь, в сладостном упоении революционным успехом, которого никто не предначертывал и не ожидал, многие либералы были недовольны своим завоеванием и не знали, что с ним делать. Одни роптали, что опрометчиво ослабили власть и достоинство короля; другие находили оборонительное постановление мерою бессильною; наконец, были и такие, что не доверяли королю даже в его уничижении.
Всосавши с матерним молоком совместимость обещания и клятвы с противным намерением, шляхта ждала от короля нового посягательства на её свободу. «Никто не может понять» (писал в это время прусский резидент), «какие намерения у короля, который собрал столько войска, предпринял такое дело, уведомил о нем всех государей, и теперь вдруг выпустил войско из рук. Это возбуждает подозрение во всех сословиях. Не доверяют королю, готовятся воевать навербованных жолнеров, и назначили новый сейм через четыре месяца».
В самом деле, было постановлено созвать новый сейм на 2 мая 1647 года, собственно для того, чтобы всякую мысль о войне и всевозможные недоразумения устранить. Опозоренный, но тем не менее упрямый в своих замыслах, король, с своей стороны, надеялся, что в мае будущего года ему удастся склонить Речь Посполитую исполнять его предначертания, и потому дал свое согласие на созвание нового сейма.
Но едва земские послы успели разгласить в провинции о своем республиканском торжестве, как он, 10 декабря, объявил, что не уволит ни одного жолнера. Он представлял сенаторам резидентам грозную опасность со стороны Турции; и в самом деле Порта думала тогда о примирении с Венецией и о войне с Польшей.
Король сделался крайне раздражительным. Сенаторы боялись говорить с ним официально, и не знали, что делать. Наконец прибегнули к хитрости: королю была подана просьба об увольнении от полковников гвардии, Денгофа, Осинского, Лессгевана. Король сделался прямым казуистом: начал ссылаться на законоположения, по смыслу которых (говорил он) сеймовое постановление относится к будущим вербовкам, но не к настоящим. Тогда несколько духовных сенаторов погрозило ему законом de non praestanda obedientia, и он обещал оставить на службе только 1.200 человек. Однакож, дал полковникам гвардии приказ — для вида, распустить немного войска, но лучших жолнеров оставить. 13 декабря он снова переменил свое решение: оставил гвардию в полном составе и выслал ее в Прусы, чтобы спрятать от сенаторов, а войска, под предлогом опасности со стороны Турции, велел не распускать. Потом разослал по полкам нарочитых посланцов для возвращения универсалов разосланных Оссолинским, а 14 декабря начал снова вербовать жолнеров. Из Силезии несколькими дорогами вступили в Польшу навербованные прежде хоругви, грабя и насильствуя по пути, к неописанному негодованию шляхты, которая, при этом известии, начала съезжаться для принятия своих мер.
Шляхетский народ чуял давно уже, что стоит на вулкане; наконец додумался, где находится кратер вулкана, и стал опасаться своего короля всего больше со стороны украинских бунтов. Еще во время сейма король повелел запорожским казакам соединиться с донцами и грабить морские побережья, а к султану отправил тогда же посла, в надежде, что он вернется с угрозами. Жолнеры между тем бушевали. Шляхта начала сильно вооружаться против буянов. Все говорило о вражде двух партий, из которых одну поддержат казаки. Но готовую начаться в Польше усобицу остановили сами жолнеры. Видя грозу со стороны шляхты, они «поблагодарили за службу», и во многих местах, не дождавшись даже уплаты заслуженного жолду, разошлись. Только тогда король, с крайней досадой, постановил распустить войско.
Но тем не менее мечтал он о Турецкой войне, надеясь на иностранную помощь со стороны Швеции и Франции. Опять начались у него сношения по этому предмету с папой и с итальянскими князьями.
Между тем Россия, рассчитывая на обещанную королем помощь, начала воевать с татарами и задела Турцию. Царь просил у него помощи. Но король не мог ни послать ему войска, ни одновременно с ним начать войну; не мог даже отправить к нему посла для заключения договора. Бездейственно должен был он ждать сейма, в страшной тревоге, как бы не потерять этого драгоценного случая для соединения польских сил с московскими, как бы союзники Польши, москали, не обратились в неприятелей.
С этой стороны беда грозила полякам еще в большей мере, чем со стороны Диких полей. Будучи покамест не в силах мериться с Польшею боевыми людьми, Москва превосходила ее государственным строением. У республиканца поляка все валилось из рук, и даже военные средства его были опаснее для него самого, нежели для соседей.
Монархист москаль держал добытое потом и кровью крепко, не так как его сосед, легко ему доставшуюся Малороссию. Для нас, потомков тогдашних русских деятелей в Польше, очевидно, чем были способны москали воспреобладать над хозяевами южно-русской земли, поляками. Современники не видели того ни с польской, ни с московской стороны. Москва не управилась еще с остатками покоренной ею кипчакской Орды, крымцами, которые под управлением Ислам-Гирея, сделались похожи на своих предков, батыевцев. Но из посольства «рационалиста и политика» Стрешнева мы видим, что завоевание Крыма было у неё на очереди. Смерть Конецпольского и бунт Хмельницкого с его руинными последствиями отодвинули это важное дело больше, чем на столетие. Русская жизнь давно уже заявила потребность подавления ордынцев, но ее постоянно эксплуатировали и тормозили для своей иноземной политики ляхи. Питомцы и пособники ляхов, днепровские казаки, сделались новым тормозом русского торжества над ордынщиной.
В прошлом году, как мы уже знаем, донцы и подвластные Москве татары готовились как бы своевольно, без ведома царя, начать войну с татарами. Татары, узнав об их замысле, предупредили их вторжением в московские пределы, но были отражены. Осмелённые этим донцы облегли Азов со стороны моря, в то время когда Кондратов и князь Черкасский заперли Азов со стороны суши с черкескими, калмыцкими и астраханскими татарами. Но тут явился на выручку Азова крымский хан и оттеснил осаждавших. Хан доносил султану, что донцы готовят 150 новых чаек, с целью воевать Крым, и просил о позволении вторгнуться в Московское царство. Ханские послы прибыли в Стамбул, когда турки одержали победу над венецианцами. В ноябре турки взяли крепость Реттимо, и султан, закончив кампанию текущего года этой победою, мог располагать свободно своими силами. Поэтому великий визирь, как было слышно в Польше, посадил московского посла в тюрьму, и послал хану повеление вторгнуться в Московское царство. Ислам-Гирей бросился на добычу и, как рассказывали за московским рубежом, увел в Крым 40.000 ясыра. В возмездие за это, царь повелел донцам идти на Черное море, грабить турецкие города, а сам, собрав 100.000 войска, намеревался воевать Крым и просил у короля Владислава помощи.
Можно вообразить, с какою горечью принял эту просьбу Владислав. Ему были готовы повиноваться одни казаки, как бы предчувствуя, что покарают за него сборище панов своекорыстников и, в конце концов, нагнут их гордые выи под москаля еще ниже, нежели Посольская Изба нагнула под свою волю королевскую власть.
Все теперь зависело в Польше от одобрения сейма, который должен был собраться в мае 1647 года. Король ждал его с терпением, воображая, что достаточно раздражил мусульман, и что два враждебные ему сословия поневоле должны будут выполнять его планы. Но и в этом ошибся.
В Стамбуле хорошо знали, что делалось в Варшаве. У Порты были в Польше шпионы между купцами армянами. Она получала точные вести из Крыма и Буджаков, из Мультан и Волощины от пограничных воевод-башей своих, а еще больше от европейских резидентов при султане, которые считали своею обязанностью уведомлять его визиря о взаимных отношениях христианских дворов. На сей раз Венеция доставила Порте наилучшие известия о королевских намерениях. Она была более вредным другом для Польши, нежели врагом для Турции. С самого начала Порта знала, что задумал Владислав, и брак его с Марией Гонзага подтвердил её опасения.
Поляки, по проторенной ими дороге самозванщины, еще в 20-х годах XVII столетия заявили мысль о покушении на оттоманское владычество посредством самозванного турецкого царевича, крещенного тайно в христианскую веру. Москва, с достоинством державы степенной, без шуму столкнула претендента с его ходуль, устроенных шляхтой да казаками, очевидно, под руководством все той же таинственной интриги, которая создала и её Лжедимитрия. Но в 30-х годах появился перед Оттоманами призрак Палеологов из Франции. Князь Нервес, отец Марии Гонзага, вместе с князем тосканским (который поощрял и чествуемого казаками «Турецкого Царя Ахию») стали готовить восстание греков и других подвластных Турции христианских народов.
Англия, Испания и Франция обещали им свою помощь. Хотя замыслы князя Нервеса, наследника Палеологов, оказались такою ж несостоятельною затеей, как и претензии Александра Оттомануса, но имя его постоянно пугало турок, бывших свидетелями потрясения Московского царства польскими героями самозванщины. Брак польского короля с наследницей претендента, которого права католическая Европа лукаво признавала серьезными, был для турецких правителей событием тревожным. Владислав слыл счастливым полководцем и казался издали грозным.
Были известны Порте, хотя бы только из газет, и сношения короля с Москвою, Персиею, Венецией, Римом, Тосканой и другими державами. Она подозревала обоих господарей в неверности и боялась волнения христианских народов, ненавидевших турецкое подданство. Если взять во внимание, как легко было заохотить к войне Персов и все христианские национальности в Азии и в Африке к восстанию, то легко понять опасения Порты, чтобы, в случае войны с Польшею, не загорелся у неё пожар, которого не могли погасить её силы. И однакож, в виду столь грозной опасности, не могла Порта решиться на заключение мира с Венецией.
Еще в 1619 году писал испанский посол, что турки видят в Венеции единственное препятствие своим стремлениям к господству на морях, и лишь только разделаются с Персией, немедленно станут воевать за Кандию. Обладание этим богатым островом, по его взгляду, обеспечит Порте архипелаг и отворит дорогу в Средиземное море; поэтому и венецианам (писал он) не остается ничего иного, как покупать временный мир дорогою ценою; но лишь только явится визирь неподкупный, ничто их не избавит от войны.
Вот почему турки, начавши воевать с Венецией, не хотели кончить войны без приобретения Кандии. Тем не менее, однакож, был момент, когда Порта колебалась в выборе неприятеля между Польшей и Венецией, — именно в 1646 году, когда король объявил в Варшаве Турецкую войну, и особенно, когда выехал во Львов, чтобы начать военные действия, и послал оттуда ультиматум, требующий переселения буджацких татар в Крым. Султан повелел было стянуть часть войска к Силистрии, другую послал на Буджаки, а с третьей готовился двинуться сам визирь. Все это девалось под покровом уверений в мире; но король узнал из верного источника, уже после сейма, что великий визирь убеждал султана к примирению с Венецией и советовал перенести войну в Польшу. Так близко было осуществление надежды короля втянуть Речь Посполитую в Турецкую войну; так возможно было соединение России с Польшей без казацкой руины!
Не получая никакого ответа на свой ультиматум, король велел наконец Оссолинскому послать гонца в Стамбул, чтоб осведомиться о положении сейма до начала майского сейма.
Оссолинский послал к визирю письма от себя и от гетмана Потоцкого. Канцлер вступался за волошского государя Лупула; гетман же обвинял хана, что набегает на Москву, и требовал переселения буджацких татар в Крым.
Король ожидал и желал сурового ответа, — пожалуй, даже заключения гонца в тюрьму. Но визирь обошелся с ним ласково и представил его султану. Ему дозволили повторить жалобу на хана и дали такой ответ, каким польские короли не раз отделывались от турок, когда те настаивали на уничтожении казаков, именно, — что «падишаху нет никакого дела до этих людей», чего никогда прежде от них не слыхали, и тут же был отправлен с письмом к королю султанский чауш, Согаим-баша.
Прибытие чауша, о котором уведомляли с каждого ночлега, ожидалось в Варшаве со страхом и надеждою. Шляхта боялась объявления войны; король надеялся, что ему развяжут наконец руки и позволят казаковать, в роли нового Ахии Оттомануса.
Султанский чауш прибыл в конце января 1647 года, и немедленно получил аудиенцию. Церемониал его приема замечателен в том отношении, что Стамбул чествовал еще Варшаву, как соперницу своего могущества. С высоты утвержденного всячески в политическом мире мнения о Речи Посполитой Польской правителям её было суждено спуститься, точно с ломких подмосток, на самую низкую ступень, на ступень господ, подчиняющихся требованию рабов.
Чауш Согаим-баша выехал из отведенной ему квартиры верхом, в сопровождении 20 конных королевских дворян. Ему предшествовал слуга, неся султанскую грамоту в мешке из золотой парчи, на подушке, вышитой жемчугом. Надворный маршал, Казановский, ввел его к королю, окруженному радою сенаторов. Чауш приблизился к трону медленно и с важной осанкою; вдруг он остановился шагах в десяти и потом быстро подошел к ступеням трона, упал на колени, поцеловал королевскую руку и край плаща у короля, ударил челом, потом вернулся на то место, где было приостановился, взял от своего слуги подушку с грамотой, подошел к Оссолинскому и, когда канцлер принял грамоту, чауш быстро вернулся на прежнее место, и оттуда произнес речь, которую толмач повторял по-польски.
Султанская грамота была дружелюбная, и сверх титулов, заключалась только в следующих словах, разбавленных повторениями:
«В пактах между нами написано, чтобы ты удерживал от набегов разбойников и воров, называемых казаками донскими и запорожскими, а я татарского хана и буджацкие орды буду крепко держать. Но ты другой год уже не отдаешь хану дани, да еще и послов его задерживаешь; а я повелел хану ни под каким видом не нарушать нашего мира, лишь бы ты, помня достоинство святого примирения, отдавал ему обычную дань и держал казаков, дабы они не осмеливались выходить Днепром на Дунай под названием донцов».
Эта миролюбивая грамота раздражила короля до такой степени, что он, как доносил в Венецию посол, «имел на особу чауша известные виды». Однакож, Владислав отправил Согаим-башу спокойно, с письмом к султану следующего содержания:
«Не понял ты моего письма, отправленного в августе прошлого года. Я требовал, чтобы ты, согласно пактам, прогнал татар из Буджаков и переселил в Крым. Теперь, видя из твоего письма, что ты этих татар хочешь обуздать, вновь требую, чтобы переселил их в Крым, и тогда зацветет между нами мир. Отдать подарки хану соглашусь охотно, но под условием, что татары перестанут наездничать, пленников возвратят, из Буджаков прогнаны будут, и когда их позовут на военную службу, обязательства свои будут выполнять верно. Но поелику сие дело откладывается до следующего сейма, то ожидаю твоего посла с ответом на нынешнее письмо».
Вслед за чаушем прибыло в Варшаву от хана пять посланцов, которые объявляли по дороге мир, и опровергали королевские известия о враждебном настроении мусульман.
У каждого из них было особое письмо, обещающее ничем не нарушать мира и вместе просящее подарков. Король был взбешен миролюбием азиатцев, велел их остановить и поместить в пяти милях от столицы.
Но весть о том и другом посольстве разнеслась по Польше, и вдруг все страхи, которыми король побуждал шляхетский народ к Турецкой войне, исчезли. От них осталось только подозрение, что не султан короля, а король султана вызывает на войну.
С своей стороны, король, видя, что не удалось ему закрыть свои замыслы мнимою татарскою войною, решился вторично сбросить маску и выступить с Турецкою войной открыто. Он просил папу выслать в Польшу breve, вызывающее шляхту на войну с Турцией, а сам старался, через холмского бискупа, Станислава Петроконского, склонить к этой войне прочих бискупов. Это ему не удалось. Бискуп куявский, Гневош, выступил с полной твердостью против короля, а прочие сенаторы, сознавая себя, в виду султанского и ханского посольства, освобожденными от обещания, данного королю на прошлом сейме, распространили по государству весть о его новых военных замыслах.
Владислав был принужден опровергнуть эту весть, имея в виду приближающиеся сеймики, но не умел скрыть своего неудовольствия: разослал к остальным сенаторам собственноручные письма, в которых жаловался на амбицию многих из них и недоверие к нему, говорил, что постановление прошлого сейма ослабило королевское достоинство и просил — или переменить его, или уничтожить, с вознаграждением его за причиненный ему вред.
Он сделал еще худшее: вслед за этими письмами, королевская канцелярия, а потом и Оссолинский, разослали инструкции на сеймики и делибератории к сенаторам, переполненные жалобами на оппонентов.
«В прошлом году» (сказано было, между прочим, в инструкциях) «было предпринято королем дело, которое обеспечило бы всему христианству и Речи Посполитий мир и безопасность... Но святые помыслы, вместо благодарности, были осмеяны злостью ядовитых языков, которая дерзнула броситься на репутацию и достоинство самого маестата королевского, представляя, будто бы его предприятия насиловали свободу и безопасность подданных, и т. д. Король, однакож, из-за злости нескольких языков не утратил любви к подданным, и теперь представляет им опасность Речи Посполитой по причине ненадежной верности язычников и т. д. и т. д. Для предотвращения этой опасности, хотя бы король мог предложить действительные средства, давши всей Европе доказательства своего мужества, счастья и воинской опытности, но желая показать, что свои советы думает согласовать с намерениями сословий, требует от сеймиков, чтобы поручили послам своим совещаться о действительных средствах и определить оные».
Делибератории также выступали жестоко против оппонентов. Король упрекал их в искании популярности наступлением на его репутацию, и утверждал, будто бы потому распустил войско, что Речь Посполитая, по уверению сенаторов, сама почувствовала обязанность позаботиться об общей обороне и безопасности государства.
По повелению короля, и коронный гетман разослал письма на все сеймики о враждебном намерении Турции, внушая земским послам, чтоб они, имея перед глазами грозящие отечеству опасности, не полагались на слабые силы квартяного войска и готовили такую оборону, которая была бы достаточна для сохранения безопасности Речи Посполитой и отражения неприятелей.
Все было невпопад. И духовные, и светские можновладники, обиженные королевскою инструкцией, которая представляла их злоязычными клеветниками, писали на сеймики, якобы король оскорбляет весь шляхетский народ. В это же время кто-то распубликовал поддельную грамоту султана, объявляюшую королю войну. Шляхта твердила, что это сделал сам король, и хоть обманщик был открыт и наказан, но королевская репутация пострадала тем не менее.
Трехнедельный сейм 1647 года начался при самых неблагоприятных для короля обстоятельствах. Между сеймовыми панами было решено — всячески устранять мысль о войне, а чтобы занять умы — покончить с теми религиозными вопросами, над которыми так долго трудился король. Диссиденты и дизуниты постановили добиться собственными силами равноправия, которого король, очевидно, не мог уже им доставить, а католики грозили лишить и протестантов, и православников всяких вольностей, соединяя религиозные интересы тех и других с замыслами короля против Швеции и Турции.
Были и другие причины необычайной религиозной ревности со стороны католической партии. Она боялась, чтобы Польша не обратилась в духовное государство, и вооружила уже пятого короля против обогащения пастырей на счет пасомых. Лелея в душе житейскую мысль о самозащите от господствующей в Польше церкви, паны, забитые с детства духовными наставниками своими, не могли придумать иного средства к освобождению земских имуществ от набожного расхищения, как угодить папе подавлением его отступников и схизматиков у себя дома, в свободной, теперь, можно сказать, уже и бескоролевной республике.
В первые дни сейма нунций раздал всем бискупам письма, которыми папа, по просьбе короля, возбуждал поляков к войне с Турцией, обещая с своей стороны всякую помощь. Король отвечал папе на это breve 4 мая, что готов двинуться на освобождение Гроба Господня, если ему помогут другие государи, и объявил при открытии сейма, крестовый поход устами придворного Петра Пустынника, ксендза Выджги. Королевский проповедник с великим жаром гремел против тех, которые осмелятся сопротивляться христолюбивым предначертаниям великого воителя. Но и папа, и его варшавский апостол только повредили королю. Как бискупы, так и вся шляхта вознамерились явить главе вселенской церкви тем еще большее рвение сеймовым угнетением домашних его противников. Может быть, святый отец, не имея денег для Турецкой войны, на то и рассчитывал, чтобы, вместо неверной затраты круглых сумм скуди, увеличить, без всякого риска, свои доходы в разноверном покамест польском стаде своем. А поляки, с своей стороны, угождая наместнику Христа дешевою ревностью к его владычеству, старались освободить земские имущества от чужеядных порождений римской ехидны.
На новом сейме Оссолинский явился министром холодным и нелицеприятным. Повторивши в королевской пропозиции инструкции на сеймики, выразил он желание, чтобы, вместе с весенним пробуждением природы, пробудилось доверие между троном и народом; уведомил, что на сейм прибудет коронный гетман Потоцкий и поставит сословия в известность об опасностях со стороны язычников; объявил волю короля, чтобы Речь Посполитая свергнула с себя постыдный татарский гарач, в виду того, что московский царь так горячо и беспрестанно домогается союза; а так как посол за болезнью еще не уехал в Москву, то спрашивал, какую декларацию должен дать король царю, и как поступить, когда посол возвратится из Москвы.
В этой же пропозиции, наряду с необходимостью починить и снабдить обороною пограничные замки Каменец, Кольмак, Владислав, указана была необходимость ограничить законом излишество в драгоценных одеждах, всюду вошедшее в обычай, — точно как бы сам канцлер сознавал, что поляки не способны оборонять грудью того, чем они дорожили.
На пункты пропозиции, среди напряженного внимания обеих законодательных Изб, говорил известный уже нам Гневош, куявский бискуп. Громозвучный и ровный голос его досягал до самых дальних галлерей Сенаторской Избы, где королева, окруженная двором, сидела в сообществе венецианского посла. Оратор, по рассказу польского историка, вырастал гигантом с каждым отделом речи своей; глаза его светились огнем зловещим; лицо выражало маестат Речи Посполитой, а говорил он с таким сознанием своего превосходства, как будто все замыслы и все поведение короля считал фантазиями беспокойного и высокомерного недоросля, которого надобно было проучить. Подобно тому, как король, в инструкциях на сеймики исчислял свои благодеяния, оказанные Речи Посиолитой, громовержец бискуп начал свою речь исчислением всех благодеяний, оказанных королю Речью Посполитою. «Воспитание, снабжение средствами, единогласное избрание на престол, уплата долгов, обеспечение всего семейства, беспрестанные налоги, любовь и доверие, оказываемые королю во все время его царствования: вот наши доказательства (гремел сеймовый вития), что в Польше нет у короля ни злоязычных, ни злонамеренных людей, и было бы лучше, если бы королевская канцелярия назвала тех, на кого она метила. Таких людей нет в польском народе. Их надобно искать между иностранцами, которыми полон двор и которые королевское сердце отравляют злобою против народа. Поэтому покорнейше прошу его королевскую милость отослать от себя графа Магни, ксендза капуцина, Фантони и Бильбони, как людей, вредных для Речи Посполитой. Надобно также, чтобы канцелярия отправляла скоро иностранных послов, которые у нас обратились в постоянных резидентов, выдают секреты Речи Посполитой, и дошли наконец до такого любопытства, что на этой самой галлерее, в Сенаторской Избе, подслушивают наши совещания. Хотел бы я спросить венецианского посла, позволила ли бы мне Венецианская Республика так подслушивать свои рады»...
Когда Гневош говорил это, обращаясь к галлерее, королева спросила великого конюшего Платемберга, о чем оратор так разглагольствует. Узнав, что бискуп требует отсылки всех иностранцев, она воскликнула: «О, какое порабощение! (О che servitu)» и удалилась со всем двором.
Гневош говорил далее: горевал о несбывшейся надежде государства; что король оставит военные затеи; критиковал инструкции и пропозиции канцлера; выражал недоверие к опасениям со стороны Турции. «Не могу согласиться на наступательную войну» (гудел он, точно церковный колокол): «ибо вижу, что наших сил ни в каком случае недостаточно, и потому советую отправить посла к Порте, склонить шляхту, в случае надобности, к посполитому рушению, казакам строго запретить морские походы и постановить двухнедельный сейм единственно на случай опасности со стороны Турции. А чтобы Турция обратила в провинцию Мультаны и Волощину, это напрасные опасения. Султан этих земель ни татарами не населит, ни башам не отдаст: ибо земли эти снабжают съестными припасами его кухню, визирям приносят великие доходы, и за таким распоряжением тотчас бы в Седмиградии вспыхнул бунт, а волошские и мультанские мужики разбежались бы в Венгрию и в Польшу».
Долго в таком смысле ратовал против короля бискуп. Король слушал его наморщив лоб, наконец встал и вышел из законодательной толпы, а по окончании заседания выразил всему сенату свое бессильное неудовольствие.
Это происходило 4 мая. На другой день, в числе многих других панов, прибыли в Варшаву два магната, соперничавшие на сеймовом суде за Хорол и Гадяч в нашей Малороссии. Для обычных в Польше доводов своего права, обратившихся в поговорку железные доводы (zelazne гасуе), они привели с собой 5.000 так называемой ассистенции. Один из них, князь Иеремия Вишневецкий, заявил, что на прошлом сейме кто-то, в его отсутствие, «сделавшись ревизором имений, лежащих на татарском пограничье», жаловался перед королем, якобы он (Вишневецкий) грозил ему (самозванному ревизору) киями. «Еслиб я думал об этом» (сказал представитель общественной свободы среди шляхетского народа), «то наверное он бы почувствовал это на своей спине». Таково было предуведомление полновластного магната о том, как независимые от короля паны должны решить его тяжбу.
Между тем дело Турецкой войны совсем упало, а вместо него католическая партия подняла два вопроса и, поставив их выше прочих государственных интересов, заняла ими всех сеймующих панов. Накануне падения Речи Посполитой (она пала в Хмельнитчину), оправдались ласкательные слова Оссолинского к папе, что поляки больше заняты религиозною борьбою с согражданами, нежели безопасностью и целостью отечества.
Первый вопрос касался арианина Шлихтинга. Его обвинили в издании богохульных книг, отрицающих божественность Христа, и 11 мая, за таковое возмущение против Божеского и королевского маестата, он был заочно приговорен к инфамии и конфискации имущества. Изданные им книги сожжены через палача; все арианские сочинения воспрещены, новых не дозволено печатать, под смертною казнью, и арианские школы уничтожены. При сем Оссолинский выразил удивление, как эта новая секта, будучи пришельцем и гостем в Польше, усиливается притеснить старинную в ней хозяйку — веру католическую!
Второй вопрос касался полевого гетмана литовского, Януша Радивила, потомка двух Радивилов, на которых опирались даже и такие православники, как Иов Борецкий. Виленский бискуп обвинял этого кальвиниста в низвержении придорожных крестов, поставленных мещанами в его имении. Дело это поглотило две недели сеймового времени, «среди страшного крику одних, которые были воспламенены религиозною ревностью, других, которые, под этим предлогом, хлопотали о своих приватах, и третьих, которые желали показать свой ум в орациях» (пишет современный нам поляк-историк). Замечательнее всех показались те орации, в которых, с одной стороны, взвешивалась оскорбленная «честь Бога», а с другой — «великое имя» обвиняемого.
Когда один оратор заявил, что здесь надобно стоять больше за «кривду Божию», нежели за «посполитое право», ошмянский подстаростий, «одноглазый еретик» (как назвал его в дневнике литовский канцлер) заметил, что непристойно сравнивать Божие право с человеческим. На это коронный подчаший, ученый Остророг, тотчас ответил ему, что речь идет не о сравнении, часто «одноглазом и хромом», и этот «жарт» записал в своем дневнике литовский канцлер, обыкновенно чуждый того, что назвал бы он празднословием.
Оставалась уже только неделя для сеймованья. Тогда Посольская Изба назначила одних депутатов для комиссии Шведской, других — для комиссии Московской по предмету союза против татар, и наконец — озаботилась уплатою установленному войску, в числе которых и реестровые казаки уже пять лет не получали жолду.
Дальнейшим совещаниям помешала жалоба послов Мазовецкого воеводства на воеводу поморского, Денгофа, и каштеляна хелминского, Горайского, совершавших лютеранское богослужение в Варшаве во время сейма, на который должна была призываться благодать исключительно бога католического. Мазуры выступили с таким «бешенством», что хотели отказать в повиновении познанскому бискупу за то, что, как он, так и другие ксендзы и даже иезуиты не достаточно ревностно обороняли веру.
Превзошедшие самих учителей ученики ссылались на декрет мазовецких князей 1525 года, воспрещающий, под смертною казнью, произносить какие-либо проповеди, кроме католических, и повторяли премудрое мнение ломжинского старосты, — что людские кривды Бог предоставил своему суду, но свои собственные поручил нам. Из-за придорожных крестов (которые, как видим, не напрасно ставил в Малороссии Петр Могила) едва не был сорван чрезвычайный сейм; наконец это важное дело удалось отложить до следующего сейма (а следующий сейм 1648 года собрался уже по падении свободной Польши). Достойны замечания слова заблудовского плебана, по свидетельству литовского канцлера, успокоившие земских послов: «Князь Радивил — мой благодетель, и часто приглашает меня к своему столу».
Если заседания королевских законодателей поставить рядом с государственными думами царских бояр и дьяков, то может показаться, что здесь умствовали дети, а там — зрелые мужи. И действительно, католичество, которого самым выразительным проявлением были иезуиты, направляло все нравственное влияние своей церкви на то, чтобы держать и общество, и государство в детской от себя зависимости; а поляки превзошли все народы в детской покорности папе, и на ней основывали славу свою.
При конце сейма, когда и такой вопрос, как запоздалая уплата жолду жолнерам и казакам, оставался еще нерешенным, течение совещаний прервало прибытие двух коронных гетманов: «ибо многие послы выехали им навстречу», говорит очевидец. Это напоминает русскому читателю 1589 год, когда татарский набег увел в неволю множество панских жен и детей, а сеймующие паны прекратили спешные дела, и целый день глазели на великолепный въезд князя Василия, который прибыл на сейм ради фамильных интересов своих и привел такое войско с богатым обозом и артиллерией, которого было бы достаточно для устрашения татар, набежавших почти безоружно.
Наконец сеймовое время совсем истекло среди волнений и ссор из-за Божьих кривд. Посольская Изба не утвердила еще ни одного постановления, не взирая на просьбы литовских панов и канцлеров, от которых земские послы отделывались воскликами и непристойными выражениями, забывая даже о присутствии короля. По просьбе сенаторов, согласились наконец на продление сейма до 27 мая. Обе законодательные палаты соединились немедленно, и сами «дивились, что сейм начинается в тот день, в который следовало бы ему кончиться». Но и тут был поднят злополучный вопрос о господстве католиков над прочими религиантами.
Евангелики выступили против него сильнее, нежели когда-либо, жалуясь, что все исповедания веры, кроме католического, только терпятся в Польше: ибо, по мнению католиков, велюнский декрет против иноверцев может быть осуществлен во всякое время. Протестанты представляли несправедливости и притеснения со стороны католической партии, а королю припоминали права, конфедерации и его присягу. С своей стороны бискупы вооружались против диссидентов, представляя несправедливости и притеснения, терпимые католиками. Оссолинский был умереннее всех и говорил против католиков за бесчинства, которые они себе позволяли, но и он не признавал за иноверцами, кроме спокойствия и безопасности, сохраняемых терпимостью, никаких прав, не только равенства. «В государственных делах» (говорил он) «вы равны с католиками на основании конфедерации, и не имеете причины жаловаться, ибо занимаете высшие должности наравне с католиками, но занимаете лишь потому, что вы шляхта, а не потому, что вы разноверцы. Ради вашей религии никто не стал бы входить с вами в конфедерацию». Наконец король объявил, что желает оставить Речь Посполитую в том же положении, в каком ее нашел, и не видит надобности в новых постановлениях.
На другой день выступили с своими претензиями наши православники, как арьергард протестантов, которых авангардом были ариане. Здесь важную роль играли освободившиеся вакансии. В самом начале 1647 года умер киевский митрополит и печерский архимандрит, Петр Могила. Король, по желанию участвовавших в сеймованье панов православников, в конце сейма, отдал киевскую митрополию Сильвестру Косову, иначе Косу, воспитаннику Петра Могилы, а печерскую архимандрию, Иосифу Тризне, происходившему из знатной белорусской фамилии и состоявшему в родстве с Сопигами. Так как право «подавания» этих «духовных хлебов» (Jus patronatus) принадлежало королю, и панам не за что было с этой стороны спорить на сейме, то православников наших успокоили обещанием — права греческой религии безотлагательно привести в исполнение согласно пунктам, изложенным на избирательном сейме, и с этою целью назначили тотчас из сейма комиссаров.
Здесь я припомню моему читателю, что литовский канцлер Лев Сопига, предшественник Альбрехта Радивила, еще до витебской трагедии, пугал униатского фанатика, Иосафата Кунцевича, петициею, «поданною королю от всего Запорожского войска», говоря, что «казаки ждут в Киеве решения назначенной по сему предмету комиссии». Но казаки оставили без внимания витебскую трагедию, не смотря на то, что из-под бунчука Сагайдачного перешли под бунчук Жмайла. Мало того: спустя два года, не могли они в Медвежьих Лозах, сказать военно-судной комиссии и её президенту, Конецпольскому, ничего о своем вмешательстве, при Сагайдачном, в дела церковной иерархии, кроме того, что об этом «духовные старшие имели переговоры с коронными властями». В «Пактах с казаками» после осады их в Переяславе Конецпольский упрекал их зловредною выдумкой о ломанье греческой веры, «которой никто не ломал», но казаки не ответили ему ни слова на этот упрек. В петиции, которою запасся, едучи на избирательный сейм, Петр Могила, казаки снова фигурируют под покровом панской политики. Их даже научили просить об участии в избрании короля и о том, чтобы «греческая религия была успокоена, и чтобы ее не беспокоили униаты». Но ответ им отложен до другого времени, а между тем протестанты, «под видом» православников, или, как называли их католики, схизматиков, представили на сейме свои еретические требования и грозили, в случае отказа, противодействовать предстоящему избранию. Протестанты домогались, чтобы русская митрополия была отдана православникам и подчинялась константинопольскому патриарху; чтобы владыки, архимандриты и другие члены иерархии были его ставленниками; чтобы униаты, оставив свои места, отдали православным семинарии, типографии и иные места. [14] etc. etc.
Это дает нам понять, почему на последнем перед Польским Разорением сейме 1647 года постарались разъединить православников с их покровителями, или другими словами — отделить от протестантов их арьергард. Что касается казацких послов на избирательном сейме, то, по словам литовского канцлера, князя Радивила, им сделали строгий выговор за дерзостную просьбу об участии в избрании короля, и сенат сурово наказал им, чтоб они не смели больше говорить о том.
По воцарении Петра Могилы на митрополии, казаки сделались не нужными арьергарду протестантского движения против католиков. Интересовались греческою верою такие люди, как Адам Кисель и Лаврентий Древинский, в качестве представителей оппозиции католикам; но казаки, в лице своего героя, Сулимы, чествовали папу в самом Риме, не чуждались даже перехода в католичество, а их свирепые бунты против панов 1637 и 1638 годов не представляют нам никакого с их стороны упоминания о том, чтобы права греческой религии, взятые Владиславом на свою ответственность, были введены в самую жизнь. Теперь на сейме, непосредственно предшествовавшем казако-татарскому нашествию, о казаках, как православниках, не было и помину. Образцом восстания за веру творцу этого нашествия могла служить одна Переяславщина, иначе Тарасовщина.
Сеймовые паны, «дивясь», что убили все время сеймованья своего в религиозных треволнениях, начали читать свои постановления «в неслыханном замешательстве».
Так как Посольская Изба не утвердила до сих пор ни одного закона, то теперь «все разом, совместно с сенатом, формулировали, писали, рассматривали и решали»... При этом разные факции и даже единичные послы подавали свои проекты постановлений маршалу для чтения, вместе с заявлением, что, в случае непрочтения, сейм будет сорван, а их единомышленники вторили угрозе неистовыми криками. Было таким образом прочитано и принято 134 пункта, и большая часть без всякой обдуманности, посреди воскликов, воззваний и протестов.
Шляхетский народ, в последний момент своей политической целости, показал вполне свою государственную и общественную несостоятельность. Благо личной свободы, драгоценнейшее из благ жизни, путем самоуправства, превратилось у него в такое зло, которое могла устранить одна диктатура. Первым на нее претендентом явился король Владислав IV, но, по его неспособности, завладела диктатурою шляхта.
Присвоив себе верховенство, она явилась несостоятельнее самого короля в управлении государством. За отсутствием в этом безглавом политическом теле единомыслия и самопожертвования, решающая все споры диктатура вскоре должна была перейти к человеку, который наругался над польским разъединением свирепыми словами своих кобзарей:
Тим і сталась по всьому світу Страшенна козацькая сила, Що у вас, панове молодці, Була воля и дума едина...Но возвратимся к сейму. Среди неописанной суматохи, была подана маршалу Посольской Избы, (которым на сей раз был избран грабовецкий староста, Сарбевский), состоящее из нескольких слов постановление «об удержании (на службе) квартяного войска соответственно скрипту 1643 года, поданному в архив». Лаконическое постановление было прочитано и утверждено без оппозиции, к великому удовольствию короля и его канцлера, которые после того немного уже заботились о дальнейшем сеймованье. Однакож, канцлер воспользовался случаем расположить к себе раздраженную спором католическую партию. Когда, в последние часы сейма, протестанты еще однажды возобновили свои притязания, надеясь вынудить у католиков равноправие угрозою сорвать сейм, Оссолинский поднялся с своего места и, в тон прочим ревнителям католичества, заговорил языком своего наставника, Фердинанда II, и его приверженца, Сигизмунда III:
«Очень удивляет меня, что иноверцы, обнадеженные вполне отеческою декларацией короля, желают чего-то нового, готовые уничтожить состоявшиеся постановления ради своих претензий. Они думают, видно, что мы больше стоим за какую-нибудь привату, нежели за веру. Я, не внеся на сейм никакого приватного дела, предпочитаю, чтобы погиб и сейм, и оборона отечества не состоялась, чтобы даже королевство и весь мир пропали, нежели чтобы Бог и вера были оскорблены».
Пораженные такими словами, присмирели протестанты, и потом была прочитана декларация воеводств о налоге для регулярного войска. Наступившая ночь побуждала к заключению сейма, когда Оссолинский внес мнение короля об уплате долга, сделанного им на регулярное войско. Не соглашались на это Познанское и Русское воеводства, советуя королю требовать возврата своих денег от тех, кто убедил его воевать с Турцией; и король, опасаясь, чтоб они не испортили ему всего дела, послал маршалу Посольской Избы повеление — как можно скорее приступить к распущению сейма.
«Постановление о квартяном войске развязало королю в известной степени руки. Этим постановлением сейм возвратился к закону 1643 года, который заключался в следующем:
«Определяя средства для общественной безопасности, поданный о том ad archivum, за подписью примаса и посольского маршала, скрипт властью нынешнего сейма одобряем. Наши печатари (канцлеры), подскарбий и гетманы обязаны будут поступать согласно с оным скриптом, который будет действителен только до следующего сейма».
Общественной безопасности в настоящее время угрожали татары вместе с турецким султаном, домогавшимся для них дани, которой сословия не постановили давать. Насколько, велика была отсюда опасность, это зависело от усмотрения короля, коронного гетмана и сенаторской рады, которая, с 1 июля, состояла из одних королевских приверженцев: киевского бискупа, Станислава из Калинова, воевод — мстиславского, Николая Абрамовича, мальборского, Якова Вейгера, каштелянов — каменецкого, Петра Фирлея, волынского, Казимира Беневского, и еще двух менее важных. С согласия этой рады, король мог, на основании упомянутого постановления, готовиться к оборонительной войне и, как того домогался, перейти к наступательной.
Ближайшим следствием сейма 1647 года была аудиенция, данная 20 июня ханскому послу, в тронном зале, в присутствии сенаторов. Переступив порог зала в сопровождении своих товарищей, посол будущего властителя Польши, Ислам-Гирея, упал на колени и ударил о землю челом; потом, сидя, представил через толмача желания хана. Отказали в них решительно, и велели послу выехать без всякого ответа на ханскую грамоту. Посол просил дозволения поцеловать королевскую руку; но ему дозволили только коснуться края королевского плаща. Поцеловал он с товарищами своими край королевской одежды, ударивши сперва трижды челом о землю; но, выйдя из зала, сказал, что эту аудиенцию считает объявлением войны, и грозил, что хан, с помощью султана, сам приедет за гарачем в Варшаву. Ему отвечали, что поляки примут его, как подобает, и потому не посылают подарков, которых он требует.
Трагикомическое явление представляла величавая Польша, порываясь, накануне своего падения, к обладанию империей Палеологов. Признаки Польского Разорения, далеко превзошедшего Московское, наметились тогда уже выразительно. Обыкновенно думают, что если бы кто-нибудь из полновластных панов догадался убить «страшного человека», Хмельницкого, передовые в Европе борцы за подавление свободной совести и процветание свободы личной, поляки, благоденствовали бы в своей республике доныне. Но между казаками, кроме Хмельницкого, были Цари Наливаи, были дивные воины Сагайдачные, были непостижимые в воинском искусстве Гуни.
Русские таланты, не имея простора в иезуитском государстве для его строения, должны были проявить себя в деятельности разрушительной... Да и кроме казацких буйтуров, Польша была полна буйтуров панских, все-таки наших русичей, втянутных так или иначе в состав этого «духовного», ксендзовского государства. Гиганты сильной воли и боевой энергии, они проявляли свое бурное величие в борьбе с разрушительным разливом русско-татарского казачества; но сами были готовы разрушить Польшу из-за той дикой свободы, которую поляки считали верхом человеческого благополучия, и которую они внедрили с одной стороны в жолнерах, с другой — в казаках.
Это мог видеть каждый, у кого были бы глаза, и на последнем, едва не расстроившемся сейме. По рассказу покойного Шайнохи, самого талантливого из польских историков, одно событие кончившееся на этом сейме благополучно, — подобно пролетевшей таинственно буре, бросило на польскую будущность такой же кровавый свет, как и глухо ревущая покамест в отдалении буря казацкая, дававшая о себе знать переговорами орды днепровской с ордою крымскою. В сравнении с этим зловещим эпизодом, все перипетии двух последних сеймов теряют свою антигосударственную выразительность, и я перескажу его со слов Шайнохи, давая, во всех подобных случаях, предпочтение органу тех, которые заинтересованы в характеристике события ближе нас, русичей.
Был у короля Владислава IV известный любимец, Казановский, связанный с ним тесною дружбою с самого раннего возраста. Когда еще при Сигизмунде III, была завоевана московская Северия, королевич Владислав выпросил у отца для Казановского обширные добра, называвшиеся Ромном. Лет пятнадцать пользовался Казановский спокойно королевским пожалованием; но в эти годы возмужал князь Иеремия Вишневецкий, и предъявил старинное право свое на роменские добра, опиравшееся на такие данные, что на них вовремя оно не обратили никакого внимания. Вишневецкий был уже славным воином. В битвах с казаками на Суле и Старце в 1638 году он был правой рукою Николая Потоцкого, а в поражении татар под Охматовым помог Станиславу Конецпольскому настолько, насколько Сагайдачный Ходковичу — под Москвою. Слава означала в шляхетском народе силу, и славный воин повелел своим слугам занять Ромен. Способ, к какому прибегнул князь Вишневецкий для овладения королевским пожалованием, мог выработаться только в Польше, которой паны унаследовали кулачное право наших удельных князей.
В один прекрасный месяц (рассказывает Шайноха), летом 1644 года, к «губернатору» роменских добр явился, в виде гостя, приятель, принадлежавший к партии Вишневецкого. Пан губернатор угощал его ужином, к которому, по счастливой случайности, подоспел другой, третий, четвертый гость, все старые знакомые губернатора. Но когда встали из-за стола, гости просят пана губернатора остаться ночевать у них, и в то же самое время столовую наполнили княжеские жолнеры. Многочисленной дружине непрошенных гостей мудрено было дать отпор, и губернатор считал себя еще счастливым, что и импровизированные обладатели замка выпустили его за ворота живым и здоровым. Ему был дан торжественный наказ — объявить своему пану, что князь Иеремия Вишневецкий занял Ромен по праву наследства.
Весь королевский двор пришел в волнение от самоуправства пограничного магната. Вся Польша наполнилась рассказами о сеймовых замешательствах по поводу вражды королевского любимца с великим воином. С 1644 года не переставала эта вражда занимать законодательную власть и обнаруживать ничтожество власти исполнительной. Вишневецкий был объявлен банитом, но, как ни в чем не бывало, появлялся в Варшаве и даже в королевском дворце. Король только тем и мог явить свое неудовольствие, что не захотел с ним видеться. Дело в том, что если одна половина Польши стояла за королевское пожалование, то другая рукоплескала презрению воинственного магната к власти закона. Это засвидетельствовали провинциальные сеймики, заговорившие в пользу Вишневецкого, лишь только разослал он по всему государству письма. Наконец король, с большим трудом, примирил врагов, присудив Ромен Вишневецкому, с тем чтобы он уплатил Казановскому 100.000 злотых. Это было сделано в силу решения луцкого сеймика, который дал строгий наказ послам своим, «чтобы лучше рвался сейм, нежели чтобы Вишневецкого удалили каким-либо декретом от владения роменскими добрами, отнятыми у Казановского».
«По тогдашнему воззрению на вещи» (говорит Шайноха) «такая мировая сделка была самым постыдным заключением процесса: ибо в подобных случаях магнаты ратовали не столько за самые добра, сколько за то, чтоб устоять на своем. Затеяв раз что бы то ни было, надобно было упорствовать до конца, не обращая внимания на всяческие оттуда опасности для себя и хоть бы даже для государства... Казановский за мировую с Вишневецким взял деньги, а такой торг за претензию, за punkt honoru, подорвал его панскую репутацию у шляхты. Сам король, после их мировой, перешел на сторону Вишневецкого, как это известно из дневника литовского канцлера. «Взявши 100.000 злотых» (пишет канцлер) «Казановский подвергся презрению короля и других... Умеет Вишневецкий побеждать и врагов отечества, и своих собственных».
«Однакож (замечает красноречивый историк) от таких домашних побед дрожали стены дома», и о таком дрожании непрочно построенного государства рассказывает еще более многозначительный пример магнатского гайдамачества со стороны того же Вишневецкого.
Через год по захвате Ромна у Казановского, захватил князь Вишневецкий у своего швагера, коронного хорунжего Александра Конецпольского, добра гадяческие. Пан хорунжий позвал пана воеводу на сеймовый суд 1646 года; но Вишневецкий уклонился от суда под предлогом болезни. В 1647 году коронный хорунжий готов был сорвать сейм, если князь не присягнет, что действительно в прошлом году был болен; а читатель помнит, что оба магната прибыли судиться с железными доказательствами.
Литовский канцлер выразился об этом лаконически, как о деле, не поражавшем тогдашнего поляка: «5 мая прибыли в Варшаву воевода русский и коронный хорунжий, которых ассистенция заключала в себе 5.000, ради неприязни их между собою».
Присягнуть по требованию швагера для магната, не знавшего никакого принуждения, было таким унижением, что после того оставалось только убить соперника среди Сенаторской Избы, на что Вишневецкий и решился.
«Узнав об этом требовании» (записал в своем дневнике дворянин Вишневецкого, Машкевич, и польский историк не нашел в его показании ничего невероятного), «князь всячески старался уклониться от присяги (xiaze zabiegal rozno, zeby nie przysiegal), однакож, по причине упорства пана хорунжего, не мог склонить его к этому. Но сохрани Господи Боже! Была бы бездна зла из-за этой присяги. Ибо с вечера, перед судом, князь Вишневецкий, собравши всех слуг, которых было с ним до 4.000, собравши всех, кроме пехоты да мелкого народа, сказал всем речь и просил, чтобы все стояли за него и смотрели на его почин, а потом кончили, что он начнет. Ибо объявил то, что, если присягну, то, вставши, тотчас ударю саблею хорунжего и буду сечь всех, кто бы за него стоял, хотя б и самого короля, а вы все до единого, дворные слуги и молодежь, протеснитесь в Сенаторскую Избу и меня поддержите. И было бы все это, если бы присягнул. Но сам король Владислав IV с панами сенаторами постарались, чтобы хорунжий не настаивал на присяге».
«Как акт доброй воли» (замечает Шайноха), «эта уступка не вредила в общественном мнении Конецпольскому».
Литовский канцлер, в своем дневнике доканчивает характеристику обоих соперников. Русский воевода овладел Гадячем за то, что коронный хорунжий присвоил себе Хорол, который прежде принадлежал к добрам князя Вишневецкого, но сеймовым декретом обращен в королевщину. Не смотря на готовность Вишневецкого к неслыханному покушению, в возможности которого никто не сомневался, король настолько ценил и боялся бывшего банита, что назначил во дворце домашние заседания сенаторов, расположенных к одному и другому сопернику. После многократных сходок, насилу согласили их к тому, чтобы князь отдал гадячские добра хорунжему, а хорунжий уплатил князю за хорольские добра 100.000 злотых. «О примирении их» (пишет литовский канцлер) «долго мы хлопотали и насилу обоих уговорили поблагодарить короля за интерпозицию своего достоинства. Итак, взаимно обнявшись, не знаю, искренно ли, расстались они, ибо хорунжий сказал мне: «Что пользы в этом мире, который скоро запылает еще большею враждою? И потом, не побеседовав, оба выехали из Варшавы».
Оставалось уже только двенадцать месяцев до кровавого мая 1648 года, в котором враждующие паны должны были мириться для того, чтоб отстаивать свою колонизацию против собственных подданных.
Глава XIV. Пророчество о гибели Польши от унии. — Вопрос церковный и вопрос казацкий. — Вершитель казацких бунтов. — Свидание короля-демагога с казаком-демагогом. — Надежда на восстание Болгарии. — Казако-татарский союз против Речи Посполитой. — Казацкие досады на украинскую шляхту. — Пограничные сношения Польши с Москвою. — Панское войско идет против казацкого.
Оба заговорщика против «свободного королевства, населенного доблестными поляками в открытых полях и окруженного только стеною любви и единодушного между сословиями доверия»; оба казуиста, пользовавшиеся для своих личных целей неурядицей олигархической республики и её неспособностью к государственности; оба великие мужа, которые могли бы спасти свою польскую отчизну, даже и накануне уготованной ею себе гибели, еслиб не были эгоистами и трусами, — решились отныне действовать под покровом глубокой тайны, и потому осталось весьма мало письменных следов от их последней игры в политику.
Покров глубокой тайны лежал и на казацких делах того времени. В качестве преданных королю подданных, казаки сделались наконец главным орудием для принуждения Королевской Республики к Турецкой войне. Как много значили они теперь у короля, видно из одного того, что для сношений с ними послал он такого человека, которого никто не мог бы заметить ни в Лондоне, ни в Риме, ни в Венеции и Вене.
Но с казаками, кроме военного ремесла их, соединялся у поляков погибельный для олигархии церковный вопрос. Возник этот вопрос, как надобно думать, в умах московских собирателей Русской земли, и обнаружился в Киеве внезапным восстановлением православной митрополии через посредство Сагайдачного. Теперь он опирался уже не на таких людей, какими были творцы «Советования о Благочестии», а на таких, каким явился Петр Могила с его питомцами и креатурами; только Малороссия наша не была успокоена с религиозной стороны митрополитом, созданным родственниками магнатами.
Монашеские вопли о «наступлении ляхов на христианскую веру» подхватывали зложелатели «панов ляхов», запорожские крамольники, питомцы целого ряда казако-панских усобиц, и, вместе с бегавшими к ним банитами да инфамисами, усердно ширили эти вопли в казацких кошах, куда не имели ходу ни попы, ни чернецы. Огласив Малороссию при «яровитом католике», монашеские жалобы не переставали раздаваться и при том короле, которого латинские клерикалы заподазривали в покровительстве всем ересям.
Один из «юродивых ради Христа» игуменов, Афанасий Филипович, видел погибель Польши не в «казацких войнах», которые он, подобно многим таким, как он, энтузиастам, приписывал введению унии, а в самой унии, потворствуемой, по его словам, даже православною иерархиею. Строгий аскет, бессребряник и вечный богомолец, Филипович вообразил себя пророком, посланным от Бога предостеречь короля Владислава от страшной участи, которая должна постигнуть народ его. Не допускаемый к королю не только светскими панами, но и собственными духовными «старшими», Филипович зашил свое пророчество в зеленый атлас и бросил Владиславу в карету. Дерзновение свое оправдывал он словами, которые дают нам понять, что в православном духовенстве произошло, при Петре Могиле, такое же деление, какое при князе Василии постигло православников панов, то есть, что духовные верховники носили на себе, уже только образ древнего русского благочестия, духа же его отверглись.
«Некоторые» (писал Филипович) «обращаются ко мне, убогому человеку, так: почему ваши вдадыки и старшие отцы не домогаются того, чего требуешь один ты, ничтожный?.. Так, правда! Но не моя вина, что меня всемогущий Бог назначил и послал к вашей королевской милости с объявлением святой воли Его, подобно тому, как убогий человек Нафан был послан к царю Давиду», и т. д.
Это было еще в 1645 году. Юродивого игумена, за его безумное, как тогда казалось, предсказание, держали по нескольку недель в тюрьме. Но он вырывался из-под надзора тюремщиков, бегал (по собственному рассказу) выпачкавшись в грязной луже нагой, в одном клобуке и монашеском параманте, по Варшаве и кричал: «Горе проклятым и неверным (Vae maledictis et infidelibus)»! По королевскому распоряжению, Филиповича отправили в Киев к Петру Могиле, а Могила поместил его в отдаленном от Украины Берестовском монастыре, то есть возвратил в ту самую Литовскую Бресть, откуда и распространилось волнение между православным духовенством посредством «синодов» и объявления церковной унии [15].
Напрасны были все старания правительства успокоить эти волнения: причины их таились в «делах давно минувших дней». Ни потачки архиереям, посвященным иерусалимским патриархом в виду ставленников римского папы, ни признание их законности в лице Петра Могилы, ничто не переменило вкоренившегося в народной массе убеждения, что паны о том только и думают, как бы «христианскую веру переменить на римскую». Правительство, озабоченное денежными затруднениями своими и борьбою шляхетских партий, не удостоивало даже прислушиваться к толкам русского простонародья, руководимого своим убогим и озлобленным духовенством; а между тем эти толки смешивались в темных умах с казацкими вымыслами о поголовном истреблении коронным войском таких местечек, как Лысянка, об избиении панами жолнерами встречавшейся на походе руси единственно за то, что она русь, о предположении вырезать все православное население Украины вплоть до московского рубежа и тому подобных ужасах. Две пропаганды, исходя из разных источников и побуждений, приводили украинскую городскую и сельскую чернь к ненависти и, можно сказать, освящали в её сердце ненависть к тем, кого называла она ляхами, в отличие от тех, кого разумела она под именем руси. Недоставало только случая к широкому бунту. Этот случай готовил король с премудрым своим канцлером.
Неожиданно скончался митрополит, с помощью которого Владислав надеялся оторвать схизматиков от константинопольского патриарха, дабы потом привести их к такой унии, которая была бы прочнее устроенной Сигизмундом в Бресте. Ревностные католики не любили Петра Могилы. Им не было дела до его важного, в историческом смысле для нас, как и в князе Острожском, единения с римскою церковью путем науки, общежития, родства и национальности. Еще больше не любили Петра Могилы униаты, у которых отнял он вдруг столько хлебов духовных. Но с Замойскими, Потоцкими, протестантами Радивилами и окатоличившимися Вишневецкими он был связан родством и наследственною зажилостью. Это и было причиною, что никто, а всего меньше сам он, не беспокоил сеймов напоминанием о казаках, из которых Кисели да Древинские, заодно с протестантами, делали «опекунов греческой церкви» в Малороссии, стращая своих религиозных противников исчужа, как стращал и Сопига Кунцевича. Смерть законного, хоть и «схизматического», киевского митрополита заставила короля, в начале 1647 года, с согласия нунция, назначить съезд в Вильне, с целью компромисса между «схизматиками» и униатами.
Малорусский пан Иоаким Ерлич, владелец лежащего невдалеке от Киева местечка Ходоркова [16], был один из тех представителей православного движения, которые, с благими намерениями, содействовали, как и Петр Могила, ополячению Малороссии.
Ерлич участвовал в сеймованье 1647 года, и ему надворный маршал, Казановский, подарил копию состоявшегося в Вильне компромисса. В своих воспоминаниях, писанных по-польски, под названием Latopisiec, он говорит следующее:
«Средство для общего умиротворения, предложенное съездом в Вильне, состояло в том, чтобы никто из руси греческого обряда не произносил символа веры с прибавкою и от сына исходящего Духа Святого; чтобы никто из руси не порицал и не упрекал латинников ересью за прибавку и от Сына; чтобы каждый греческого исповедания русин говорил, что Святый Дух есть Дух Отца и исходит через Сына, и никто из латинников не упрекал бы его за то в ереси; чтобы все в Руси греческого исповедания веровали в третье место, в котором души задерживаются для покаяния, или для разрешения, и нуждаются в молитвах верных, но никто не должен веровать, что в том третьем месте есть огонь, а может разуметь огонь не огнем. Вся русь греческого обряда, находящиеся в подданстве у короля, должны быть под властью патриарха константинопольского, но с условием, — что патриарх будет веровать, как написано выше; что патриарх будет верным, то есть христианином; что будет посвящен по правилам и будет избран один; что после своего посвящения пошлет к польскому королю, к митрополиту и епископам русским, и объявит, что так верует, как написано выше. Тогда только вся русь греческого обряда будет ему послушна, а все другие пункты веры, церемонии, обряды, согласно обычаю восточной церкви, должны сохранить ненарушимо, без всяких новых выдумок».
Каждому из нас, православных, ясно, что этот компромисс был тем же отлучением паствы от константинопольского патриарха, которое хотели сделать посредством патриархата малорусского. Теперь король намеревался, все с той же целью, испросить у константинопольского патриарха согласие на учреждение в Польше экзархата для русинов. Всегда злотворное для Польши внушение папского нунция, или папских духов тьмы — иезуитов, обнаружилось при этом в намерении избрать экзарха схизматикам вместе с униатами, или же, чтобы его назначал сам король, а сакру должен был он получать явно — или от местного клира, или (как этого желали униаты) от константинопольского патриарха, а потом «другую сакру, преподанную папою, от короля, хотя б и тайно, ради спокойствия совести».
Эти пункты были предложены на сейме русской шляхте (о мнимых опекунах греческой церкви в Малороссии никто не думал, не думал даже и король, нуждавшийся в казаках) и выбранному его электу, Сильвестру Косову, которого король, в конце сейма, наименовал киевским митрополитом. На том же сейме состоялось постановление, в котором король обещал дизунитам привести в исполнение все права греческой религии, и с этой целью назначил из сейма комиссию, которая должна была притязания схизматиков рассмотреть на месте.
И вот коронный канцлер выехал в Украину, чтобы склонить на месте малорусскую шляхту греческой веры к принятию Виленских пунктов, чтоб облегчить и проложить дорогу комиссии, выбранной сеймом, с целью введения в жизнь признанных за дизунитами прав, и, наконец, чтоб исследовать на месте несправедливости, какие они терпели.
Королевский дворянин Освецим, великий поклонник Оссолинского, вспоминает об этой миссии канцлера так:
«В августе 1647 года коронный канцлер выехал из Варшавы в задуманную давно дорогу на Заднеприе, в Батурин, Конотоп и другие находящиеся там свои маетности, которые он держал ленным правом. Тайная же цель этой поездки была вот какая. Так как королю его милости не удалось в прежние годы присоединить к своей церкви всех еретиков, то он возжелал присоединить обратно к римской церкви греческую веру, которую так давно схизма от неё оторвала, с намерением при этом случае вместе присоединить дизунитов к унии и прервать оную казацкую лигу с татарами. Когда у него в переговорах с некоторыми панами русских краев и даже с митрополитом киевским явилась великая и вероятная надежда, упомянутый канцлер, желая привести это как можно скорее в исполнение, изобрел себе предлог осмотреть заднепровские свои маетности, дабы, под этим предлогом, тем скорее с ними переговорить и предложить способы (media) для удовлетворения обеих сторон, сносясь с киевским митрополитом, с Адамом Киселем и Максимилианом Бжозовским, — которому обещал киевскую каштелянию, [17] дабы его тем более заохотить и на свою сторону привлечь, — как с старшими главами греческой религии. В чем они не только великую — дай Бог согласие — надежду, но назначили и время для публичного трактата на день 16 (6) июля будущего (1648) года. И хотя это держали в великом секрете, но, так как все дела пана канцлера — хотя бы были и самые святые — возбуждают к нему немалую зависть, то и эта заднепровская поездка возбудила между шляхтою разные против него подозрения».
«Великий секрет» не позволил Оссолинскому быть лично в Киеве и других близких к нему местах. Операционным базисом тайных сношений служил канцлеру Батурин, в котором памятником его пребывания осталась данная им Крупецкому монастырю грамота. Через полстолетия с небольшим, отсюда вел такие же покрытые глубокою тайною сношения Мазепа. Приезжавшие к нему иезуиты останавливались в 30 верстах от Батурина, в селе Оленовке. Может быть, так поступали и агенты преемника Могилы, продавая нашу отеческую церковь папистам.
Католические же подозрения, о которых говорит Освецим касались другого дела, которое обработал Оссолинский, прикрываясь делами экономическими, а, может быть, и церковными. Его в последствии обвиняли, что главною целью поездки его в Украину были договоры с казаками. Враги упрекали его за это в измене государству, делали его ответственным за бунты, поднятые Хмельницким, и за все несчастья, постигшие Речь Посполитую в последние годы. Приятели не были в состоянии оборонять его и освободить от упреков и подозрений, которые, в страшном раздражении общества, разрослись до того, что их повторяли наконец и люди беспристрастные. Даже украинские землевладельцы, которым легче было пронюхать, что делал в Украине королевский наперсник, считали его виновником Польской Руины. Опасаясь в Печерском монастыре от разлива Хмельнитчины, прибежавший туда из Ходоркова пешком Ерлич писал в своих воспоминаниях: «Что сделалось в Польской Короне от хлопства, то все через короля и гнусного изменою канцлера, человека безбожного, — эта распря и гибель Польской Короны и столь великое кровопролитие, поругание и посмеяние от иноземных соседей, что собственные хлопы и подданные завоевали нас и обратили в ничто».
Про канцлера говорили публично, что по его внушениям король, с помощью казаков, хотел отнять у шляхты свободу и ввести монархизм наследственный. Между обвинителями короля и его советника были и такие, которые утверждали, что король дозволил казакам увеличить число их войска для того, чтобы, в случае несогласия сейма на Турецкую войну, казаки не послушались королевского повеления прекратить набеги на турок и татар. Король выступил бы в поход под предлогом их усмирения, вошел бы с ними в переговоры и склонил бы их к повиновению позволением воевать с мусульманами. Казаки сделались бы тогда авангардом королевского войска, которое Владислав повел бы в Турцию с преданными ему панами, не заботясь о меньшинстве противников Турецкой войны. А современный французский посол рассказывал своему соотечественнику, Петру Шевалье, в Варшаве следующее:
«Ходили слухи, по мнению некоторых, весьма правдоподобные, что король, желая еще однажды поднять давнишний замысел похода на татар, вошел в соглашение с Хмельницким, и что Хмельницкий действовал по его воле и повелению, начиная бунт с тою целью, чтобы доставить королю повод к набору войска против казаков. Войдя в Украину, намеревался он присоединить казаков к своему войску, которое, будучи предводимо иностранцами, или приверженцами короля, не заботилось бы о воле и повелении Речи Посполитой, а пошло бы с королем в Крым и потом против турок, что неизбежно привело бы к наступательной войне. Между тем Хмельницкий, видя, что письма, которые послал он с жалобой о казацких и своих собственных обидах, при всей покорности, с которой были писаны, не имели никакого последствия, напротив, коронный гетман готовился против него, — перестал доверять собственным силам, и призвал на помощь татар, которые зимовали в Диких Полях и ждали удобного случая, чтобы распустить по Украине загоны».
Сколько правды, преувеличений и прибавок во всех этих толках, мудрено сказать, не имея письменных свидетельств о деятельности Оссолинского в Украине и зная, как он умел себя маскировать еще в положении путешествующего школьника. Несомненно одно — что Оссолинский договаривался с казаками. В этом убеждают историка не только достоверные свидетельства, но и самая необходимость договора, указанная обстоятельствами.
Десять лет уже, так называемая, казацкая Украина была в глухом, но постоянном бунте. Хотя такие люди, как Дмитрий Гуня, отчаялись в возможности соединить еще однажды рассеянную казацкую орду и призвать к ней на помощь орду татарскую, но наследственная привычка многих десятков тысяч людей питаться «казацким хлебом» могла быть подавлена — и то нескоро — привычкою к трудовому хлебу только под рукой таких великих хозяев, какими были московские собиратели Русской земли. Кроме того, в Королевской Республике доступ к дигнитарствам, соединенным всегда с обильным кормлением, имели только шляхтичи-землевладельцы; люди же, теснимые можновладниками и заедателями шляхетского имущества — ксендзами да католическими монахами, — по утрате земельной собственности, обращались к исканию хлеба казацкого. У нас в России не только высшая и низшая старшина казацкая вошла в состав привилегированного сословия, но даже два сына козелецкой казачки Розумихи, очутясь, царскою волею, на высших местах, как и некоторые простолюдины великорусские, были приняты древними сановитыми барами в родство и дружбу. В Польше, как мы видели, знатная шляхта не хотела забыть, что музыкант и поэт Фантони — итальянский мужичок, не смотря на то, что король сделал его своим секретарем, а церковь католическая возвела в каноники. Там даже таких деятелей, как Жовковский и Конецпольский, паны, наследовавшие «великие имена», называли людьми мелкими. Следствием «столь хорошо обдуманного государства» было то, что 40.000 казаков Сагайдачного, этот «розовый венок» на головах победителей турецкого Ксеркса, были заперты в тесном пространстве чигиринского, корсунского и черкасского староств, и не только не входили в состав государственных сословий, как и торговые классы, но, за исключением 6.000 реестровиков, считались панскими, или, что все равно, старостинскими подданными. Каковы бы ни были казаки по своему разбойно-воровскому быту, но государство, обязанное им столько времени славою побед и завоеваний, должно было бы позаботиться о них по крайней мере настолько, чтоб они, в диком отчуждении своем, не терзали, как выражались паны, «внутренностей» этого государства. Вместо того, им вечно не доплачивали скудного жолду; вместо того, Польша обрекала на тесноту и убожество, даже тех реестровиков, воспитанных в школе Конашевича-Сагайдачного, которые были способны орудовать целыми армиями и, как Дмитрий Гуня, совершали почти невероятные подвиги военного искусства. В ваше время говорят это сами поляки: нам остается только повторять их признания.
Низойдя, волею законодательной шляхты, до уровня пренебрегаемых украинскими лыцарями «хлеборобов» и «гречкосеев», казаки Сагайдачного (так величали их и по смерти великого наездника) влияли на своих товарищей по убогому ничтожеству столь же вредоносно для «доблестных поляков» Оссолинского, как и наши голодные попы да монахи, в виду пожирателей русских духовных хлебов. Это было тем опаснее для Королевской Республики, что и между панскими мужиками было множество воинов, руками которых паны «граничились» между собою, оборонялись от крымских и буджацких татар и, сверх того, хаживали с ними помогать Баторию, Сигизмунду и Владиславу в их прославленных походах. Этим способом интересы казатчины мало-помалу сделались интересами громадной массы украинского населения, и в виду так называемого народа шляхетского явился даже в летописях и документах столь же несообразно называемый народ казацкий.
Очевидно, что Украина, при таком положении общественных дел, находилась в постоянном, немом покамест, заговоре против государства, которому принадлежала, и которому была обязана цветущею колонизацией своих пустынь; а так как Речь Посполитая успокоить казаков не хотела и, по своей тройственности, не могла, то взрыв повсеместного бунта был только делом времени.
Гетман Конецпольский держал казачество в железных, но, по отношению к реестровикам, справедливых руках, и заставлял его быть послушным. Будучи доблестным воином, он умел ценить, как мы видели, воинственные доблести казаков даже и в то время, когда усмирял их бунты. Он их оборонял и от их собственных демагогов, по нынешнему кулаков, и от наглых в пользовании своими правами шляхтичей. [18] Он их награждал и землею и другими «подарками на саблю»... «Но, зная ненадежную верность их» (привожу слова Освецима, служившего в звании маршалка гетманского двора), «зная их завзятую злость и обычную готовность к бунту, старательно наблюдал за их делами и приватными поступками, дабы заблаговременно предупреждать возможность события. И, хотя они, чуя над собою бдительную стражу, поступали весьма осторожно в своих замыслах, однакож не могли уберечься, чтоб ему не были известны сокровеннейшие дела их через посредство шпионов, размещенных в самой среде их. Этим способом узнал гетман, что казаки, желая вырваться из-под своего ярма, и не смея рвануться собственными силами, наученные давнишними поражениями, начали трактовать с татарами о союзе, обещая поддаться им, лишь бы татары искренно им помогали воевать ляхов».
С целью разорвать этот союз, коронный гетман находил возможным дозволить казакам идти на море, советовал королю войну с татарами и завоевание Крыма.
Король сохранил в тайне известие Конецпольского о казацком замысле, сознавая себя, в свою очередь, вольным казаком, которому, за все боевые заслуги, законодательная шляхта связала руки. На казацкую завзятость рассчитывал он всего больше в Турецкой войне. Мы уже знаем, что, по смерти Конецпольского, он вызвал в Варшаву Барабаша, Вирмена, Нестеренка и — как его называли в народе — Хмеля; что они обещали королю 100.000 войска, и что король дал им за это весьма важные обещания, подкрепленные венецианскими талерами. Была ли в ночных переговорах речь о казако-татарском союзе, и как стоял Хмель с тремя своими товарищами относительно этого темного вопроса, мы ничего не знаем. Но королевские обещания и поход на Черное море, устроенный на полученные в Варшаве деньги, произвели в казацкой среде великое движение, и так как не было уже на свете великого гетмана, который даже на казацкий заговор с татарами смотрел с уверенностью в могуществе своего режима, то движение между казаками перешло в бурные волнения , грозившие бунтом.
Этот момент Николай Потоцкий изобразил, в письме к подканцлеру Лещинскому, такими словами:
«Надобно было мне удержать Запорожское войско в повиновении... так как, по смерти святой памяти коронного гетмана, распространился слух, что все войсковые должности будут отменены; однако, эту искру тотчас потушил».
Искра бунта была потушена, очевидно, не чем иным, как допущением тайной вербовки в казаки со стороны Потоцкого, задобренного в пользу королевских замыслов, по которым казацкое войско в первый же год войны предполагалось увеличить до 20.000.
Вербовкой, по-украински затяганьем в казаки, должен был заниматься не кто другой, как писарь Запорожского войска, который вписывал годных людей в войсковой реестр. Он мог принять и вписать столько, сколько ему было угодно, если только в его реестровку не вникал королевский по казацким делам комиссар, и это было тем легче, что новонабранных затяжцев не нужно было сзывать в полки: они ждали «поклика» по своим жилищам.
Зная московское (1618), хотинское (1621) и смоленское (1633) сверхштатное затягиванье в казаки, надобно думать, что, по королевской регуляции 1647 года, 6.000 реестровиков должны были оставаться под властью королевского комиссара и польских полковников, согласно ординации, а 12 и до 14 тысяч новых затяжцев, называясь также Запорожским войском, состояло бы под начальством казацкого гетмана и казацких полковников. Этим способом король не нарушал постановления Речи Посполитой, столь важного и столь чувствительного для шляхты (Оссолинский, в знаменитой своей пропозиции, причислил это постановление, как результат усмирения казаков, к королевским благодеяниям) и вместе с тем удовлетворял казаков, не думая, как не думали и во времена оны, о последствиях сверхштатной вербовки. Она, в глазах псевдоправительства польского, была то же самое, что и вербовка, под нужду, жолнеров посредством приповедных листов, а между тем домогательства казаков об увеличении реестра и назначении избирательных предводителей — совпадало с интересами короля, так как было известно, что, стоило только дозволить казакам избрать гетмана и собственных полковников, число их тотчас выростало втрое и вчетверо. Под разными видами, под видом родичей, казацких чур, пастухов, погонцев и т. п., они принимали к себе тысячи и тысячи людей, которых исчислить и выискать не было возможности. Гетманом новых казаков, вероятно, под скромным именем «казацкого старшого», был тогда назначен войсковой есаул Иван Барабаш, а писарем остался Богдан Хмель, для польского благозвучия зовимый Хмельницким.
Столько, не больше, определенности допускает изучение неопределенной сумятицы, в которой зародилась истребительная во всех отношениях наша Хмельнитчина.
Польская историография называет Хмельницкого, по его дальнейшим действиям, превосходным вождем, несравненным организатором и политиком, мастером изобретательности и предательства. Мы, питомцы гражданственности москво-русской, сторонясь и от панской, и от казацкой славы одинаково, принимаем это мнение без поправок. Кому, как не полякам, знать, что такое был Хмельницкий? Родной наш Хмель, выросши на возделанной иезуитами почве под именем Хмельницкого, был продуктом культуры польской, продуктом того политического разврата, который резко бросается члену нынешнего велико- и малорусского общества в глаза и под королевской мантией, и под казацким кобеняком. Поляки, прежде наших разъединенных и перепорченных ими предков, отличили Хмельницкого в толпе ему подобных казаков. Они возвели его на самое высокое место, какое только мог занимать казак в Запорожском войске, обезгетманенном и разжалованном, по сеймовому постановлению, в хлопы. Они, устами блестяще образованного Радзеёвского, рекомендовали его особенному вниманию своего короля. На нашу долю, в оценке опьянившего казацкую орду Хмеля, остается только кровь, пролитая лучшими из наших малорусских и великорусских предков по милости его предательской политики, да к тому еще превращение цветущих областей в безлюдную и голодную пустыню, да несметный ясыр, которым он оплачивал татарскую помощь, да крайняя деморализация не только наших мирян, но и самого духовенства малорусского... Если сердце поляка сжимается при мысли об этой демонической личности, то пускай оно утешится хоть малорусским признанием национального позора в той славе, которою казакующая пресса покрыла Ислам-Гиреева сподвижника; пускай утешится хоть вечным нашим сожалением о реках неповинно пролитой и погубленной ясыром нашей крови, ничем не вознагражденной и никем не отомщенной.
Что касается воинской и политической характеристики нашего Хмеля, то он сделался вершителем попыток предшествовавших ему бунтовщиков, очевидно, без определенного плана действий, в силу течения жизни, которая слишком долго подчинялась панской неурядице, считавшейся нормальною. Он первую свою молодость провел в школе у ярославо-галицких иезуитов, но не порхнул из их рук таким наметанным соколом своекорыстия, как Оссолинский с австро-иезуитской насести; напротив, мирился с низменным положением панского слуги-казака и мелкопоместного хозяина до таких лет, в которые порыв к широкой деятельности сохраняется у немногих. Увильнув от беды, постигшей подобных ему шляхтичей под Кумейками, он служил верно интересам Конецпольского, — так верно, что никакие шпионы не заронили в верховном вожде казачества ни малейшего подозрения, до его последнего свидания с королем. Но, сознавая в себе способности к чему-то большему, не мог наш Хмель выносить спокойно высокомерия магнатских креатур, в роде Самуила Лаща, с одной стороны, и подвергаться мстительности новых бунтовщиков казацких — с другой. Человеку с его грамотностью, природными способностями, подавленной энергией и мятежной опытностью, не трудно было стать во главе казако-татарского заговора, хотя паны приписывали потом непостижимым чарам свой недосмотр относительно «давнишних его стачек с перекопским беем». Если же казаки скрывали и от него самого, как от наследственного панского слуги, новое обращение казаков к татарской помощи, то оно могло перед ним обнаружиться во время волнений, последовавших за смертью Конецпольского; а, пожалуй, и сам он был в числе тех, посредством которых Конецпольский, с величавым спокойствием сильного, сведал о начинающейся казако-татарской «лиге». Тогда ему представлялось два пути к торжеству над своими обидчиками: или идти по течению казацких бунтов, все более и более широкому, или же стать против шляхетского самовластия на стороне любимого казаками короля.
Хмельницкому была хорошо известна слабость королевской власти. Он знал, что шляхетский деспотизм никогда не поделится своими захватами добровольно ни с королем, ни с казаками; знал, что полноправная панская республика без борьбы не переменит ординации бесправной республики казацкой, — той ординации, которую с таким трудом завоевали панам Конецпольский и Потоцкий. Король между тем был непомерно щедр на обещания. Это знало множество людей в Польше и повыше и пониже нашего Хмеля. Да и по народной философии малорусса верить обещаниям вообще считается глупостью: «обіцянка — цяцанка, а дурневі радощі». Как Хмельницкий, так и другие умудренные прежними бунтами казаки могли скорее надеяться, что Турецкая война, к которой они порывались и для Ахии Оттомануса, представит королю возможность изменить Польшу в абсолютную монархию, которая обеспечит им права равенства на суде и в землевладении вернее всяких обещаний. Среди казаков было много шляхтичей банитов, много шляхтичей, обедневших под давлением можновладников и чужеядного католического духовенства. В Запорожском войске было много вихреватых голов, подобных Зборовскому. Сидя по пятнадцати и больше лет за Порогами, в отчуждении от правоправящего сословия, как преемник Наливайка, Кремпский, как товарищ Лободы, Подвысоцкий, все такие люди, конечно, желали, чтобы король властвовал без «королят», против которых в последствии гремел Хмельницкий, а казаки, под его верховенством, были бы такою же самоуправною республикой, как и шляхта. Вот в каких интересах и стремлениях позволительно историку искать источника тех слухов о заговоре короля с казаками, которые ходили и до, и после Хмельнитчины по всей Польше. На этой-то связи королевских интересов с казацкими могло основываться и мнение казаков, высказавшееся еще в Павлюковщину, что король не будет гневаться за их бунт.
В 1646 году затягиванье затяжцев казаков шло быстро. Весело и бурно оглашалась казацкая Украина песнями, которых дошедшие до нас отголоски поражают знатока дикою поэтичностью народа, забытого тогдашнею Россиею, пренебрегаемого Польшею и назвавшего себя, как бы в укор им обеим, народом казацким, что собственно значит разбойно-воровским. В его пылком, все преувеличивающем воображении даже Ахия был благочестивым «Турецким Царем». Теперь король представлялся ему Царем Восточным: титул, который казаки, уважавшие силу больше всего на свете, перенесли потом на московского самодержца, согнувшего их в бараний рог. Доверие к Владиславу, носившему такое любезное казацкому сердцу имя силы и власти, с каждым днем возрастало.
Сельская шляхта и замковые урядники, слывшие у казацкого народа ляхами, хотя бы по языку и обычаю были разрусскими, а по родству и вере разблагочестивыми, — слышала кругом косвенные и прямые угрозы, подобные тем, какие в Великой Польше делали навербованные за границей жолнеры. В «доматорах гречкосеях и хлеборобах» проявлялась дерзость, которою еще за полвека до Хмельнитчины гуманный киевский бискуп, Верещинский, характеризовал малорусского хлопа, «гордящегося украинскою свободою своею». Вообще в простонародье обнаруживались чувства, внушенные ему с того поколения, которое назвало панов неблагодарными, и распространенные в темной массе казаками с одной стороны, а мужиковатым, отверженным новыми «старшими» духовенством — с другой.
Шляхта смотрела с ужасом на глухое волнение окружавшего ее народа, и ждала сейма, без которого никто не мог ничего предпринять; а король послал для Запорожского войска красные китайчатые знамена, с изображением на них креста и своего имени, гласящего о славе, следовательно и о добыче, — знамена, родственные той хоругви новосформированных гусар, которая была освящена им в Ченстохове. На Днепре и в Данциге строились чайки и другие суда для морского похода. Из Варшавы ожидались изготовленные королем корабельные реквизиты. Все казаковатые люди обзавелись оружием, в ожидании стотысячного «затяганья на войну». И старым, и новым затяжцам, и бесчисленному множеству затяжцев будущих — грезилось, что зависимое положение казаковавших так или иначе людей никогда уже не возвратится, как из Варшавы пришло известие, что сейм не согласился на войну, повелел распустить, под страшными угрозами, всех вообще затяжцев, как бы они ни назывались, и строжайше воспретил казакам идти на море.
Невозможно изобразить, какое впечатление сделало это известие на оказаченную чернь, и на тех, кого она звала зауряд ляхами. Но легко представить, с какою злостью принялось повелевающее сословие за рассчеты с подчиненными ему, людьми, в том числе и с прямыми казаками, о которых в последствии не напрасно Хмельницкий писал, в исчислении казацких обид, что им вырывали бороды.
Постановление 1646 года было первым сигналом к бунту, славу которого приписывают нашему Хмелю. Зная все обстоятельства, при которых и в силу которых он совершился, Хмель должен был выбрать один из двух жребиев: или сделаться жертвой казацкой ярости, как Грицько Чёрный и Сава Кононович, или прославиться, как те, которых имена гремели в подмывающих на разбой и руину кобзарских песнях.
Выбором его властительно управляли события, которых следствия он мог предвидеть лучше торжествующей шляхты. И в Павлюково время носился уже слух, — что король сам воюет со шляхтою; что паны держат его в осаде; что король зовет казаков на выручку. Теперь Владислав действительно боролся с «доблестными поляками» Оссолинского на жизнь и на смерть; действительно, паны облегли его тесно и в Посольской Избе, и в Сенаторской; действительно, звал он казаков на помощь, под ночным покровом, в качестве заговорщика. Как первый клич Косинского к татарам получил наконец свою фатальную реальность; как первое воззвание Тараса Федоровича за веру сделалось в последствии кровавым девизом Хмельницкого; так и призыв к свободе со стороны государя, обращенный к единственным подданным, готовым за него идти в огонь и в воду, сделался теперь всепобеждающим двигателем бунта. «Скованных рабов можно утешать безопасно» (говорит об этом моменте с образцовым для нас беспристрастием современный нам польский историк), «можно увеличивать постепенно угнетение до последнего обессиления, но снять оковы и желать наложить их сызнова, этого без кровопролития сделать невозможно».
Сообразив такую невозможность, Хмельницкий начал действовать в пользу бунта; но как, с чего и когда именно начал, никакие точные свидетельства нам этого не открыли.
Лично ли ему принадлежал почин договора с татарами, или он воспользовался работой других, за которою следил, может быть, в качестве шпиона покойного своего пана, точных известий об этом также не сохранилось. Но если законодательная шляхта давала ему чувствовать свое кулачное право когда-либо, так это было теперь. Среди приближенных к коронному гетману войсковой писарь значил много и знал, из-за чего ему служит; но у гетманского наследника, официально чуждого Запорожскому войску, он был, естественно, человек лишний; а то, что приобрел по благосклонности к нему великого колонизатора малорусских пустынь, теперь возбуждало зависть у старостинских наместников, так называемых подстаростиев коронного хорунжего, Александра Конецпольского, и вообще дворян молодого магната.
Хутор Суботов, с его слободами, населенными смело над рекой Тясмином, в одной миле от Чигирина, в виду татарских кочевьев, показался Чигиринскому подстаростию, Данилу Чаплинскому, имением завидным по его пасекам, пастбищам, рыбным входам, составлявшим главные статьи полуномадного казацкого хозяйства, и даже по земледелию, которое процветало тогда в казацкой Украине только «под защитою воткнутой на меже сабли», под защитой не только от татар, но и от соперников-осадчих.
С другой стороны, надобно помнить, что подстаростием Чигиринским был, в свое время, отец Богдана Хмельницкого, Михайло, и что сыну тяжело было видеть насиженное отцом теплое место во власти какого-то заволоки ляха. Но, при других обстоятельствах, Богдан Хмельницкий мог бы провести век свой мирно, гоняя на украинские и заграничные ярмарки рогатый скот и лошадей, кочуя в пасеках, попивая с приятелями в свободное от сторожевой службы время и ходя в погоню за татарами на своем любимом сером коне, как проводили свой век многие хозяйливые и казакующие шляхтичи. Этому помешало торжество законодательной щляхты над королем отразившееся яростно и на орудии королевской власти, на казаках, во главе которых стоял наш Хмель.
По смерти коронного великого гетмана, сын его, коронный хорунжий, будучи озабочен содержанием в порядке громадного наследства после знаменитого малорусского и червоннорусского хозяина, должен был свои старостинские права передавать подстаростиям, то есть управителям королевщин, а те не находили ничего выгоднее и покойнее, как отдавать свою «державу» в аренду жидам. Уже и сам по себе жид, хлопотливый и беспощадный экономист, в роли арендатора, был ненавистен казаку, как он бывал ненавистен и заслуженному жолнеру. Но жиды, на свою беду, всегда были готовы к услугам сильного, там, где он притеснял слабого. Так случилось и в Чигирине.
По рассказу современного Хмельнитчине жида, Натана Ганновера, в этом старостинском городе держал аренду жид Захария Сабиленский, который, так же, как и другие заинтересованные в прижимке казаков, вооружал хорунжего Конецпольского против Хмельницкого, — хотя здесь тотчас надобно заметить, что арендатору подстаростия не приходилось иметь подобных сообщений с широко владетельным магнатом, и что скорее мог выслушивать его изветы разве подстаростий. Как бы оно ни было, только Ганновер повествует в своих воспоминаниях [19] так:
Однажды хорунжий спросил жида Захария наивным тоном: «Ведь ты владелец города: скажи-ка мне, кто именно богачи в нем?» Намерение же его было навести на них напраслину, дабы таким образом вымогать у них побольше денег. Захария назвал ему богачей, упомянув, между прочим, и о чрезвычайном богатстве Хмеля. Услышав о нем, хорунжий сказал: «Ведь отец мой завещал мне об этом зловредном человеке (слух позднейший)... да и в самом деле откуда у него взялось такое чрезмерное богатство? Без сомнения, он ограбил моих же подданных, живущих в моих же поместьях, следовательно все принадлежит мне».
Конецпольский (продолжает свою полусказку Ганновер) насильно отнял у Хмеля один хутор со всем скотом, до нескольких сот штук, что составляло около половины его имущества.
Далее Ганновер рассказывает, выдавая все слышанное им за несомненное, — что Хмельницкий, в отместку Конецпольскому, подговорил татар вторгнуться в его добра, а потом проговорился об этом на попойке с казаками, и что за это, по доносу жида арендатора, пан хорунжий бросил Хмеля скованного в тюрьму, намереваясь казнить его смертью, однакож освободил его, по уверению друзей узника в его невинности.
Для истории Хмельнитчины, свирепствовавшей, между прочим, и над жидами, во всем этом важна только характеристика жидоарендаторской деятельности в Малороссии, представленная жидом-мемуаристом.
Зависть к чужому куску хлеба, свойственная самим казакам не меньше шляхты, сделалась, в этой громадной катастрофе, причиною гибели как взаимных завистников, так и жидов, которые сообщали широкое движение сельскохозяйственной промышленности, не разбирая средств к наживе, и как это было в Чигирине, помогали шляхте притеснять казаков. Но к зависти, обычной спутнице и казацкого, и шляхетского хозяйства, присоединился еще и другой предмет жадного соискания в малолюдном и опасном крае — женщина.
Хмельницкий был вдовец и имел уже взрослых детей; но попавшая какими-то судьбами в казацкую Украину очаровательница степных сердец, полька, предпочла его своему коханку, пану подстаростию, Чаплинскому. Подняв обычную в самоуправной стране войну за свою Елену, шляхетский Менелай вторгнулся в казацкую Трою, Суботов, и вместе с похищением изменницы, похитил всю хозяйственную движимость Хмельницкого. Жаловаться на подстаростия войсковой писарь мог только пану старосте да верховнику казачества, коронному великому гетману. Суды градский, земский и трибунал существовали исключительно для шляхты. Но пан староста был потаковник своего наместника, а наместник его расставил по дороге к резиденции коронного гетмана засады на Хмельницкого, если тому правда, что потом писал Хмельницкий в «Реестре казацких кривд». Оставалось искать управы только у короля, и Хмельницкий, в сопровождении десятка казаков, отправился в Варшаву. Это могло случиться не раньше конца ноября 1647 года, потому что Хмельницкий участвовал в ноябрьском походе на татар, о чем упоминает он в том же «Реестре», а в декабре он был уже за Порогами. Как ни сильно терзала казака досада за наезд на хутор и за похищение любовницы, но для Хмельницкого всего важнее было новое свидание с королем. Ссора с Чаплинским, очевидно, послужила ему только предлогом для поездки в Варшаву.
Он появился перед королем в то время, когда король, основываясь на сеймовом постановлении об удержании на службе квартяного войска, готовился к новому способу войны с Турцией. Парижский рассказ Линажа со слов Радзеёвского о том, что Владислав утаил от Оссолинского сделанные казакам обещания, и что эту тайну Оссолинский узнал только теперь от Хмельницкого, ничем не подтверждается.
Оссолинскому надобно было играть роль незнающего королевских обещаний. Владислав принимал нашего Хмеля секретно у себя в комнате, и никто не знал, о чем они беседовали, но после секретной беседы, король велел написать Александру Конецпольскому увещание, по всей вероятности, только для прикрытия более важного дела. В этом увещании нет речи ни о Чаплинском, ни о возвращении Хмельницкому хутора, (Владислав должен был обойтись кротко с украинским магнатом), а говорится вообще о притеснении казаков старостинскими наместниками. Рассказ о драматической жалобе королю на Чаплинского, очевидно, был распространен везде сперва самим Хмельницким, а потом сделался достоянием стоустой молвы да тех историков, которых можно назвать «убогими собирателями чужих суждений и вестей».
Слушая мистификацию самого Хмеля и тех, кому он замыливал глаза, современники верили, что король произнес приводимые Грондским слова: «Ты воин, и если у Чаплинского есть приятели, то можешь и ты их иметь», или, как пересочинили эти слова наши историки: «Пора бы, кажется, всем вам вспомнить, что вы воины: у вас есть сабли: кто вам запрещает постоять за себя»? [20] Но странно предполагать, чтобы заговорщик-король впутывал заговорщика-казака в хуторскую драку, имея в виду господство над Востоком. Если бы Владислав и был так прост, как историки Хмельнитчины, то войсковой писарь надоумил бы его не хуже канцлера.
Убогие собиратели чужих суждений и вестей, повторяя болтуна Грондского и наших сплетников-летописцев, сочинили целую повесть о романе Хмельницкого, о его тяжбе с Чаплинским в местных судах, о его пребывании в Варшаве во время майского сейма, о возвратном путешествии нового Вильгельма Теля и соглашении к восстанию представителей русского элемента в Польском государстве. [21] Все эти известия, выдуманные приятелями и врагами его а posteriori, не соответствуют ни времени, ни положению дел в Речи Посполитой, ни положению самого Хмельницкого. Смешно воображать, чтоб у будущего Герострата панской республики было тогда на уме казако-татарское беспрепятственное шествие с мечем, пожогом и пленением от Корсуня до Львова и Замостья. Даже гениальных бунтовщиков, каков был, например, современник Хмельницкого, Кромвель, только непредвидимые случайности приводили к их широким планам. А Хмельницкий сам говорил послам Яна Казимира, что, будучи человеком ничтожным (lichym), сделал то, о чем и не думал. С чем отпустил его Владислав, не известно, как и все, что делали тайком заговорщики против панской республики, после майского сейма. Но, так как и сам Хмельницкий, во время своего успеха, ничего не высказывал о последних своих сделках с королем и канцлером, кроме выдумки, что король «велел казакам добывать свободы саблею», то видно, что его третировали не иначе, как слепое орудие тайного замысла, как палку в руке человека, по иезуитскому правилу. От этого предположения легче перейти логически к бегству Хмельницкого за Пороги и деятельному соглашению с татарами, чем от королевской интимности с казаком. Хмельницкий, очевидно, зондировал почву, на которой поставили его прежде, и, видя, что она колеблется, решил выбор между королем и ханом, чисто по-казацки.
Во время таинственного пребывания Оссолинского в Украине, король делал военные приготовления, но, умудренный опытом, покрывал их большею, чем прежде, тайною. В это время умер единственный сын его, ради которого не смел он сделаться героем и преобразователем Польши. Смерть малолетнего королевича Карла освободила его от малодушного взвешиванья великих дел pro и contra на весах домашней приваты, общей всем его приверженцам и противникам в Польше. Он горько сожалел теперь, что распустил войско, и выразил свое сожаление, как говорят, такими словами: «Так как Богу было угодно взять моего сына к себе, то я желал бы, чтоб Он взял его перед сеймом: не переменил бы я никогда моего намерения».
Владислав не мог уже делать новых вербовок, и потому старался обеспечить себе, на случай войны, помощь Франции и Швеции, отказываясь за это от всякого участия в готовившемся тогда Вестфальском мире. В это время Венеция начала сухопутную войну в Далмации, рассчитывая на восстание в Боснии. В Польшу прибыл посол от императора марокского и, как гласила молва, посланец константинопольского патриарха, заохочивая к Турецкой войне.
В ноябре 1647 года явился к королю, под великим секретом, посол, облеченный полномочием большей части Греции, с предложением ему болгарской короны и с ручательством, что вся Болгария взбунтуется и выставит 40.000 вооруженного народа, лишь бы только король принял болгар в подданство и выслал своего наместника, в качестве предводителя восстания. Этот посол, старик с большою бородою, посещал короля тайно, под видом чернокнижника, с которым будто бы король советовался.
Только королева и «два польские канцлера» были допущены к этой тайне.
Имя посла было Петр Парцевич. В венецианском архиве хранится интересная реляция посольства Парцевича.
«Еще в 1630 году» (пишет он) «послали было болгары, по соглашению с другими порабощенными турецкими народами, своих посланников к польскому королю Сигизмунду III и к императору Фердинанду II. Оба монарха приняли послов благосклонно и обещали свою помощь. Дальнейшие договоры прервало наступление Густава Адольфа на Германию. Когда начал султан войну с Венецией, между болгарами возобновилось движение. Начальники этого народа, как греческого, так и латинского обряда, видя слабость Турции, вошли в клятвенные договоры и предложили предводительство мультянскому воеводе, Матвею Бассарабе, обещая ему восточную корону. Господарь признал нужным отнестись об этом к королю Владиславу, которого геройские предначертания знал, и которого военное счастье наполняло турок страхом.
Созвав потом начальников договора, и между ними Петра Деодата, архиепископа Сардики (Св. Софии), Франциска Марканича, губернатора Болгарии, и других, советовал отправить посольство к польскому королю. Выбор пал на Петра Парцевича, миссионера (латинского), который, в сопутствии некоего францисканца, выехал, в начале 1647 года, в Польшу. Прибыв, по долгом и утомительном путешествии, в Варшаву, в турецкой одежде и под переменяемыми названиями, представили они королю просьбы болгар, объявили свои инструкции, планы и список союзников. Король тотчас написал к гетману, чтобы держал войско в готовности, и к господарю Матвею, именуя его главнокомандующим восточной армии (generalissimo di tutto l'Oriento), и удостоверяя, что в скором времени поспешит на помощь с другим войском. Посланникам наказал он, чтоб, оставив поездку в Венецию, возвращались в Болгарию и успокоили народ. Подарил им свой портрет, говоря: «Я у вас кажущийся и малеванный, пока приду живой и действительный (Habeatis me fictum et pictum, quodusque venero vivus et verus)», и дал им красное знамя, с крестом на одной стороне и с надписью: «Яви славу твою (Vindica gloriam tuam)» на другой. Вручил им и перстень, в знак обручения своего с Востоком, и священническую ризу, как знак христианской свободы. Королева присутствовала при прощальной аудиенции и говорила королю так: «Государь, доверши отважно начатое дело, а если у тебя не хватит денег, я сниму мои серьги, отдам мои браслеты, лишь бы дело не остановилось». Когда послы возвратились с ответом и королевским подарком, старый господарь помолодел от радости, увидев представителей союза, а они с восторгом показывали ему, как легко можно завоевать Восток и с какой стороны можно иметь наибольшую помощь. С того времени католики и православные жили в наилучшем согласии, исполненные надежд, а турки присмирели и говорили громко, что, когда придут поляки, то они вернутся к вере своих предков и сделаются католиками, так как царство Магометово уже кончилось.
Когда все это делалось в Варшаве, на Украине произошло событие, которое так соответствовало королевским планам, как будто Оссолинский имел там дело не с одними православниками да казаками, а подготовил к содействию королю и главных представителей малорусской колонизации. Коронный хорунжий, Александр Конецпольский, и воевода русский, князь Иеремия Вишневецкий, двинулись одновременно, в ноябре, на татар. Конецпольский с 4.000 войска, в составе которого был и Богдан Хмельницкий [22], достиг Очакова и, в отместку татарам за набег на чигиринское староство, захватил 3.000 лошадей, 1.500 волов, 2.000 коров, 2.000 овец и 50 пленников, а Вишневецкий, с 26.000 своих ополченцев, двинулся к Запорожью, а оттуда часть своего войска посылал к Перекопу.
Это были обыкновенные походы пограничных магнатов, для обуздания татарских казаков, которые своевольно, как и наши казаки, разбойничали и воровали в соседнем крае. Но Варшава боялась возмездия со стороны татар, и успокоилась только известием, что в Крыму вспыхнул бунт. Ширинские мурзы, соединенные с ногайцами и с сыновьями Салмаса-мурзы, давнишнего ханского мятежника, вторгнулись в Крым, вырезали 700 мурз, осадили хана, принудили к уступкам и к принятию визирем Сефер-Казы-аги, который возбудил этот бунт, а теперь сделался всемогущим министром хана.
Застигнутый бунтом Ислам-Гирей написал сперва жалобу к королю, и просил гетмана Потоцкого, чтобы не допускал своевольных походов со стороны панов; но потом созвал мурз на тайную раду. Рада постановила — вторгнуться весною в Польшу.
Отправили к султану просьбу о дозволении и тотчас начали чрезвычайные приготовления к набегу.
До сих пор Ислам-Гирей держал себя с нашими казаками гордо. Они заискивали его помощи окольными путями, через пограничных беев. Презираемые, как низшие твари, неверные наездники пригодились теперь ему, как орудия мести над панами.
Между тем по Украине начали носиться слухи, что Хмельницкий бунтует исподтишка казаков против коронного гетмана и украинской шляхты. Слухи эти доходили и до Потоцкого. Всего больше надобно их приписывать подстаростию Чаплинскому и его приятелям. В интересе каждого из них было — погубить человека, ими обиженного, известного королю и опасного своим значением в Запорожском войске. Весьма быть может, что его обвиняли и в призыве татар на староство Конецпольского. Могли даже войти и в соглашение с жидом-арендатором, показавшим, что Хмель, на пидпитку, проболтался казакам в отмщении пану старосте за хутор посредством татарского набега. Как бы то ни было, только дошло до того, что его схватили и едва не обезглавили. Тогда Хмельницкий решился бежать в пристанище обедневших, промотавшихся, угрожаемых преследованием закона и беззакония, — за Пороги.
Рассказы о приключениях Богдана Хмельницкого до бегства его за Пороги, равно как и кобзарские думы о куме Хмельницкого, Барабаше, прятавшем королевские листы «в глухом конце под воротами», интересны только, как характеристика казацкой и шляхетской публики времен Хмельнитчины. Ограничимся фактом его бегства, в сопровождении двух сыновей и нескольких приятелей.
Из Запорожья начал Хмельницкий вести переговоры с татарами. Но в это время загорелась в Крыму новая усобица, а султан между тем прислал хану запрещение вторгаться в Польшу, и потому товарищи Хмельницкого вернулись в Украину, чтобы зазвать к нему большее число казаков. Хмельницкий же, скрываясь на острове Буцком, правильнее Бутском, или Бутовском, иначе Товмаковском [23], управлял всем движением, которое прикрывал покорными жалобами своими королю, коронным гетманам и королевскому по казацким делам комиссару.
Происходившие в это время в Запорожском войске волнения напоминали начало Павлюковщины. Повод или предлог к ним был тот же самый. «Скарбовые люди» опять не заплатили за целые пять лет казацкого жолду, и казаки подозревали в утайке денег панов полковников. Недоверчивая всегда к своей старшине казацкая «чернь» сделалась теперь недоверчивее, чем когда-либо. Теперь в Запорожском войске старшиновали не избранники боевого народа, а панские креатуры, охранители землевладельческих интересов против казацких. Еще до побега Хмельницкого казаки, в задорных случаях, поговаривали о повторении над ними того суда, каким павлюковцы покарали «войсковых изменников». Самого комиссара по казацким делам, Шемберка, обвиняли они в стачке с полковниками и в утайке жолду.
Но всего больше возмущала казаков регуляция пропинационных доходов, пошлин и чиншей в тех королевских имениях, где им было дозволено иметь свою оседлость (обийстье), или где они занимались чумачеством и шинкарством. Эти доходы были главными хозяйственными статьями в украинных экономиях, но они требовали постоянного надзора, правильного учета, неутомимой хлопотливости. Ни к чему этому пограничная шляхта не была способна. Она свои винокурни (винници), пивоварни (бровары), «кабаки», шинки, корчмы, мыта, промыта и чинши «пускала в аренду», а на свой пай оставляла хозяйство, более приличное сословию господствующему: земледелие, скотоводство, пасеки, бобровые «гоны», рыбные «входы», селитряные «бурты» и поташные «буды». Арендаторами были почти везде жиды, если не армяне, которых промышленная деятельность, не чуждая подкупа сильных и прижимки слабых, местному простонародью, «гордившемуся украинскою вольностью своею», казалась порабощением. А когда «жид-рандар» запрещал казаку выкурить горилки, или сварить меду и пива к свадьбе, крестинам или храмовому празднику, казак называл это «зневагою» христианской веры, «наругою» над христианскою верою.
Все вместе возмущало казацкую чернь, тесно соединенную с людьми посполитыми и, под влиянием вечно крамольничавших низовцев, приготовляло умы гулящего и убогого народа (класс многочисленный и в нынешней Малороссии) к новому покушению против господства так называемых «панов ляхов».
Король был сильно встревожен бегством Хмельницкого, у которого, как у войскового писаря, хранились так называемые в кобзарских думах королевские листы.
Он тотчас поручил канцлеру выслать комиссию для исследования терпимых казаками притеснений, и велел выплатить казакам за пять лет жолд. Получив же известие, что хан готовится к войне и послал к султану за эмиром, велел, как уже сказано, коронному гетману быть наготове. К сенаторам и панам написал он, чтобы все вышли с дошним войском своим в поле и расположились на Черном Шляху между Белою Церковью и Винницею, а московских воевод велел просить, чтобы спешили с помощью согласно договору. Этим способом долженствовал начаться первый акт Турецкой войны.
В самом деле, отряды Орды Ногайской, Очаковской и Крымской приближались к польским границам. Но, слыша о великом войске, стоящем между Брацлавом и Винницею, немедленно вернулись в свои юрты; а гетман и сенаторы, узнав от волошского господаря, что султан отказал хану в эмирах, и что татары ни в каком случае не двинутся из Крыма, пока не нарастет трава, распустили 30.000 войска, и этим способом опять отсрочили королевские замыслы до весны. Деятелями этой отсрочки, оказавшейся гибельною, по исчислению Адама Киселя к путивльскому воеводе, кроме Николая Потоцкого, были: краковский воевода Любомирский, сендомирский воевода, князь на Остроге Заславский, киевский воевода Тишкович, русский — Вишневецкий, черниговский — Калиновский, староста калучский Замойский, староста львовский Сенявский, князь Корецкий, паны Немиричи и другие украинские землевладельцы.
Перечислив, сколько кто из них привел войска, комиссар пограничных с Москвою дел, Адам Свентольдович Кисель, писал с обычным своим красноречием:
«Яко исчезает дым, тако, Божою милостью, исчезли врази наши: с полей Черного Шляху в Крым повратили». Он уведомлял путивльского воеводу, князя Юрия Долгорукого, что «Венеты и Малтяне» победили многолюдное турецкое войско, и потому от султана пришли к хану «немеры жестокие, сиречь заказы», чтоб он не вторгался ни в Польшу, ни в Московское царство. Это было писано в феврале 1648 года. Имя Хмельницкого еще не произносилось, но Кисель уведомлял пограничного воеводу, что «войско квартянное зде в Украину притягнуло и положенное есть в черкаских казацких местах (городах), потому что казаки черкасци одного пулковника своего Чигиринского здрадили».
Летом 1647 года Адам Кисель ездил в Москву в качестве королевского посла для заключения с царем договора против татар, но, застав царских сановников уже в мирных переговорах с Ордою, мог постановить с ними только такие условия: 1) Оба монарха не будут задевать татар, и будут поступать с ними по-старому. 2) Если бы татары вторгнулись в Польшу, или в Московское царство, тогда оба монарха будут заодно, то есть будут помогать один другому, и уведомят об этом договоре хана. 3) Но если бы хан объявил Польше, или Москве, войну, в таком случае монархи обдумают, что будет наилучшим, и король созовет сейм.
С этого времени начались у Киселя приятельские с царскими людьми отношения, которыми он пользовался и в качестве комиссара пограничных с Москвою дел. Когда на Польшу поднималась из Запорожья непредвидимо грозная буря, у Киселя шла с царскими боярами деятельная переписка самого мирного свойства. Польша мостилась хозяйничать на русской земле, отторгнутой у царя в 1633 — 1634 году, с помощью казаков. Кисель, не довольствуясь королевскими пожалованиями в Черниговщине, выпросил у царя позволение — в трех местах Трубчевского уезда и в двух Недригайловского жечь золу для выделки поташа, или, как он писал, шмальцуги, «и на это дело рубить лес в черных диких местах оприч бортного дерева», в течение пяти лет.
С обеих сторон старались определить спорные земли по границе между двух государств и разобрать «обидные дела» на польскую и на московскую сторону.
Московские власти при этом «всех, до ково што по сыску и по уликам воровство дойдет, велели пытать по томуж, что с обе стороны людем, хто в какове деле от ково изобижен, управа в правду учинить, а вором, смотря по винам, наказанье бес понаровки дать, чтоб, на то смотря, иным не повадно было воровать». Напротив, судьи «с литовской стороны», по именам: Райский, Конопляный, Белка, Бурый, люди русские, сперва отказывали в суде своих преступников, говоря, что «шляхта их сама своих крестьян судит»; потом требовали, чтобы крестьянина, обвиненного в убийстве «за литовским рубежем», «казнить смертною казнью без сыску»; а когда им было доказано, по свидетельству духовника умершего литовца, что обвиняемый крестьянин за литовским рубежем покойного «не убивывал», то пан судья Райский с товарищи «и с суда усердясь пошли», объявив, что «вперед на рубеж для росправы никаких дел не будут».
Польские русичи, намеченные уже силою жизни к воссоединению с русичами московскими, в порубежных сделках соседних государств, при одной и той же вере, смотрели чужеземцами. (В этом — начало будущих смут по присоединении Малороссии).
Московские пограничные воеводы усердно досматривали, чтобы королевские люди, ни в каком деле, к воеводам и ни к кому иному не дерзали писать «непристойно», и чтобы в титулах обоих соседних государей не было «ни прибавки, ни умаленья»... «а есть ли хто в прописке тител объявится», то чтобы «всяк таков» был судим «и казнен по вине своей, как явный нарушитель миру». Ревностным защитникам прав своего царя, отвоеванных у Сигизмунда и Владислава с такими утратами и жертвами, было «в великое подивленье, какими обычаи князь Еремей Вишневетцкой, воевода руской, и канцлер корунный, Юрьи Осолинской, и хорунжей корунный, и иные старосты и державцы в листех своих писали, мимо вечного докончанья, неостерегательно, а по вечному докончанью королевскому величеству царем и великим князем и многих государств государем и обладателем не отписыватися и не именоватися»... «А люди они» (внушали царские бояре, как недорослям), «князь Еремей и канцлер, думные и сенаторы большие, и им бы обоих великих государей честь пригоже оберегать, больши иных простых людей; а на канцлера то дело наипаче и иных людей надлежит, что государская честь остерегать».
Точно как будто знали царские люди про отзыв Оссолинского перед папой о москалях, которые де одним именем христиане, а делом хуже последних варваров.
Теперь, накануне крушения польской силы и славы, московский боярин Алексей Трубецкой в простосердечной преданности интересам отечества, требовал, «чтобы королевское величество, по вечному докончанью, велел нарушителей докончанья казнити... чтоб от того меж обоими великими государи нашими нелюбья и ссоры не было».
Это достопамятное по своим повторениям внушение было писано 15 марта, а через два дня Адам Кисель сообщил московским пограничным воеводам первую весть о человеке, из которого польско-русская жизнь создала карателя шляхты за её многовековые злоупотребления личною свободой. В качестве руководителя пограничных разбирательств с польской стороны, писал он к путивльскому воеводе, который жаловался, что «буды отмежованное не уступают, пасек пщельных польские чиновники не зносять» с царской земли, «и поселили хаты за рубежем», а те с своей стороны жаловались, «будто его царского величества воеводы с Ахтыра, Олжаного и Бобрика у хрестян Гадяцкое волости вземше поклоны од пасек, их потом пасеки многие насильством забрали и колко тысечий пщелы побили, и самих хрестян многих порезали и порубили». Кисель не верил таким «зачепкам» в противность «вечному докончанью», говорил о братской любви обоих пресветлых государей и о дружелюбном соединении обоих великих государств, и только в конце письма упомянул о событии, которое занимало его больше всех пограничных ссор и драк:
«Еще же о том тебе весть даю, и ты к его царскому величеству писать будешь, что никая часть, тысеча, или мало того болш своеволников казаков черкасцов избегли на Запорожье; а старшим у них простий холоп, нарицаеться Хмельницкий; и думають донских казаков подбити на море... аще ли же збежить (Хмельницкий) з Запорожа на Дон, и там бы его не приймати, не щадити, ни на море пустити».
Деятельный охранитель Речи Посполитой Польской на другой день писал к воеводе севскому, Замятне Леонтьеву, благодарил за уведомление о Калмыцкой Орде и прибавил: «Толко того не разумею, што тая Орда в Крыму делами мает: чи сами з собою междуусобную брань учнут, или обоим великим господарством пресветлых господарей наших, совокупившися, вражду думають. — На сей стороне Днепра од Очакова» (уведомлял он, в свою очередь) «Орды нет, толко две албо три тысечи: вся на Крымской стороне», и опять занялся пасеками да будами, не предвидя, что скоро все польское хозяйство на русской почве пойдет прахом.
Вслед за тем Кисель уведомил путивльского воеводу, Никифора Плещеева, что хан ласкается, через своего посла, к гетману Потоцкому, к князю Вишневецкому, что тот посол теперь в Прилуке, «и до многих из нас (ласкается), со всеми нами братаючися и дружество хотя имети»; но твердил москалю поучительно, что татарское дружество с одним государством есть вражда против другого. Прошли уже (писал он) времена татарских опустошений то того, то другого из них. Теперь, если татары хотят быть с нами в дружбе, пускай будут в дружбе и с Московским государством. Заключил же свое послание словами: «Уже бо их приближаеться кончина, родов же христианских Божию милостю вознесение: Венетов и Малтан вознесл Господь».
Через три дня «каштелян енерал киевский, житомирский, овручский, староста носовский», как величали Киселя царские сановники, торопил бояр князя Алексея Трубецкого, Григория Пушкина и думного дьяка Григория Чистого к скорым ответам на его письма восклицая: «Толикое время само вопиет, какое бысть умедление! Впредь же сице да не будет между нами: дружбе убо и любве приятельской есть противно». По словам Киселя, ему, теперь уже брацлавскому воеводе, вместе с ясновельможным паном Краковским (Николаем Потоцким), было поручено разузнать, по какой причине некоторые казаки ушли на Запорожье, и «как будут крымцы думати, промышляти обо всем».
Тут же кстати («еда к тому пришло») уверял Кисель царских сановников, что он жадничает не буд, а славы московского царя: «Мне не буд жадно, но добродетели его царского величества: слава убо есть и будет в том его пресветлого величества, что надарил меня, его королевскою величества великого посла; честь же моя, што на мне просияет, величества есть добродетель».
Неизвестно, что думали себе в бороду царские сановники об уменье Адама Свентольдича льстить и выпрашивать, которое в Польше преподавалось, как наука жизни.
Буря между тем незримо приближалась. Лобызаясь письменно с московскими приятелями своими по случаю «всеславного воскресения Господа нашего, Иисуса Христа», Кисель был преисполнен радостных упований, и из «своего города Кобызчи», близкого к Киеву, отъехал в «дальний свой город Гощу, за Киев миль тридцать»; если же «Орда что задумает», намеревался снова прибыть в Украину, и беззаботно писал о Хмельницком, не предчувствуя, что он превратит в прах и пепел близкие и дальние панские города вместе с королевскими.
«Своевольного черкасца войско Запорожское само поднялося на Запорожу поймать, и крест на том целовали. Войско же наше коронное, скоро трава начнется, на Шляху Черном-лесу положенно будет, и сам ясневельможный пан Краковский и с ним пан воевода черниговский, польный гетман, будет, дондеже объявится, што Орда думает: аще убо и братаеться ган, посылаючи к нам веры не даем. Аще бы з Запорожа збежал Хмельницкий, казак своеволный, на Дон и хотел подвизати донцов на море, — по соузе обоих великих господарей наших, надобно зимать его как здрайцов обоих великих господарств».
В заключение, Кисель просил приятелей своих передать латинскую грамотку царскому доктору, который обещал сделать ему водку против его «скорби и болезни, подакгры».
Эта болезнь была весьма распространена между польскими панами, и потому имеет значение историческое. Привычка к пьяной жизни развилась у них в ужасающей степени еще в царствование Сигизмунда III. Владислав IV, как мы видели, страдал подагрой даже во время вторичного брака. Новый фельдмаршал его, Николай Потоцкий, был также подагрик. На подагру жаловался в своем бесценном дневнике и литовский канцлер, Альбрехт Радивил. Если бы шаловливая богиня Венера бросила яблоко в собрание Избы Земской, или Сенаторской, непременно попала бы в подагрика. «Старое венгерское» составляло в Польше столь важный предмет государственных попечений, что на последнем свободном сейме, лишь только панский ареопаг проглотил без зазрения совести вопрос о полутора миллионах, которые Речь Посполитая «задолжала жолнеру», тотчас его занял жизненный польский вопрос «о skladzie wina wegierskiego». Венгерское вино было, можно сказать, национальною честью и славою истинно-панского дома. По известной пословице, оно в Венгрии только рождалось, а воспитывалось и старилось в Польше (Hungariae natum, Poloniae educatum). Здесь его склады делались ежегодно, с рассчетом пировать, пока Польша будет стоять на своем вечном основании, на милой шляхетскому сердцу и уму неурядице. В самом деле, даже во времена последнего окончательного падения панской республики, поэт Мальчевский написал о поляках прекрасными стихами то, что они делали накануне Хмельнитчины:
Tloch panski jak serce zdawal sie otwarty. A stary wegrzyn plodzil nie bez duszy zarty [24].Царские вестовщики были пронырливее панских. В Бакчисарае выведали они от «полонянина» о казацкой стачке с татарами и донесли своему государю, а из Москвы бояре Трубецкой, Пушкин и думный дьяк Чистой, от 10 апреля, сообщили Адаму Киселю следующее:
«Марта де в 5 день приехали в Крым к царю з Днепра запорожских черкас четыре человека, а прислали де их черкасы крымскому царю бить челом, чтоб он, крымской царь, принял их в холопство; а они де стоят на Днепре, а в зборе их пять тысяч; и просили у крымского царя людей, чтоб им итти на королевского величества Полскую землю войною за свою черкаскую обиду; и как де они королевского величества с людьми управятца, и они де крымскому царю учнут служить вечным холопством, и всегда с ним на войну будут готовы. И крымской де царь тех черкас, четырех человек, дарил кафтанами и держал у себя в Бакчисараех неделю, и, дав им по лошади, отпустил их назад; а крымским людем и черным татаром приказал кормить лошеди и готовитьца на королевского величества землю; а в Перекоп к Тогаю, князю Ширинскому, писал, чтоб Нагайские люди на королевского величества землю в войну готовилися ж. Да и татаровя де и Русские полоняники говорят не втай, что царь приказал Крымским и Нагайским людем войною на королевского величества землю готовитьца. А в Крыме де голод болшой, и прошлого году хлеб не родился, а ныне скот, овцы и коровы вымерли, и черные татаровя войне ради, и без войны де нынешнего лета никаким обычаем пробыть им не уметь».
В заключение важного известия, оказавшегося вполне справедливым, царские сановники советовали и принять меры к тому, чтобы не «допустить тех черкас под владенье крымского царя». В этом совете заключалась не только христианская, но и русская мысль, хотя москали смотрели, в этом случае, на самих черкас исчужа, точно малоруссы времен Ярославовских — на торков и берендеев.
Недели две корреспонденты двух соседних держав молчали, словно чуяли с обеих сторон что-то грозное. Наконец, от 4 мая «римским числом» польско-русский сановник уведомил сановников москво-русских (из своего города Новосюлки, зде за Киевом миль пять) о начавшейся Хмельнитчине, в следующих выражениях:
«Никогда холопская рука, найпаче же зменников, невозможна есть подвизатися противо своим господином; и тот холоп наш, зменник черкаский, з дружиною своею, в сих днех аще не избежит в Крым, изменною головою своею запечатует: полем убо и Днепром на него пошло войско наше... Все войско черкаское Запорожское есть верно, точию еден зменник Хмельницкий, простых холопов прибравши к себе, на Запороже збежал; и все казаки черкаские верные, крест целовавши, пошли Днепром доставати зменника того».
От 10 римского мая князь Иеремия Вишневецкий уведомил путивльского воеводу, Плещеева, из Прилуки о слухах, которые приходят, беспрестанно повторяясь, что «неприятеле Креста Христова наготове собранных орд на урочище стоят у Княжих Байраков 40.000 подлинно их сказывают, а того еще не ведомо, в которые стороны; чего им, Боже, не помоги. Естли в панство его королевские милости Коруны Полские, албо в землю его царевого величества Московскую мысль им есть итти, все наготове и за таковыми вестями по обе стороны Днепра с войски корунными стоять, а я при здешних маетностях моих с людьми моими готов есм, ожидаю скорые вести, и повести, куды мне лучитца итти. И для того сею грамотою моею его царского величества и тебе знати даю, чтоб вы были наготове на большое остереганья от стороны неприятеля Креста Святаго».
Так плохо по-русски писал русин, переделанный львовскими иезуитами в поляка. Про казаков до него не дошел еще слух. Но в то же время княжеский староста [25] Малюшицкий, по письму малорусс, сообщил из Красного тому же Плещееву следующее:
«Пишет его милость пан гетман коронний сторони людей Кримских, с которими сполившися Хмельницкий своевольний в тисячах казаков чотирох з Ордою, и пана комисара осадили на вершинах Саксагану в четвер прошлий, и войско Запорозкое там посилкует противко татаров; але предся (однакож) гору береть Орда и под Чегирин обещаеться подходить рихло (вскоре); и пан полковник переяславский видел в Кучкасех по сей стороне, в полях, вшир и долго большой миле, Орда стоит и еще прибывает. И по напису сееи грамоти прибегли з листами от гетмана коронного, же (что) Орда скупилася с Хмельницким, где все войска обернулися противко их людей».
Наконец Адам Кисель, от 11 мая римским числом, уведомил Плещеева из Гощи о роковом событии на Желтых Водах, на вершинах Саксагана, — о первом поражении панского войска казаками:
«Нынеча же достиже мя весть о прелести ногайской татарской, што они, егда ясневельможный каштелян краковский, гетман великий коронный, послал полк оден войска коронного на зменников черкаских, они, собакове татары, крымци и нагайци, тот полк на полях, на урочищу Жолтые Воды, осадили; тридцать тысечи Орды на тот полк пришло, римским числом 2 мая. Они же, в Христа Господа веруючи, храбро и бодро ополчившися, бранятся; но по нынешнее время што се здеяло, Бог весть».
Кисель, конечно, знал, что казаки соединились уже все и, вместе с татарами, били панов; но не хотел сказать об этом Плещееву. Он вопиял о скорой помощи к воеводам путивльвскому, хотмыжскому и к воеводам севским, ссылаясь на договор короля с царем. Польская Русь, утратившая уже чистоту своего древнего языка и подражавшая речи московской, с примесью полонизмов, умоляла спасать ее от крымцев, а в сущности — от польской неурядицы, породившей руинную казатчину.
Как велика была эта неурядица, мы увидим, перенесясь на правую сторону Днепра, в лагерь коронных гетманов.
Когда Кисель писал к путивльскому воеводе, что «казаки черкасци одного пулковника своего, чигиринского, здрадили», это значило, что Хмельницкий, еще в феврале, прогнал из Запорожья стоявший там, в виде гарнизона, Чигиринский полк.
Известие об этом потрясло всю Украину, точно как будто Павлюк еще однажды сошел с эшафота. Страх обнял шляхту. Одни бежали в лагерь Потоцкого, другие бросились к обоим коронным гетманам с мольбой о снабжении Украины гарнизонами. Потоцкий двинулся с квартяным войском в глубину казацкой Украины, обеспечил гарнизонами замки и города, велел свозить пушки с безоборонных мест, убеждал «гродскими универсалами» местных помещиков — не оставаться в их домах, а присоединяться с надворными дружинами к коронному войску, разослал воззвания к магнатам, чтобы спешили к нему на помощь, уговорил всех землевладельцев обезоружить мужиков, и наконец — опубликовал грозный универсал, воспрещавший всякое сообщение с Хмельницким, бежавшим же к нему для своевольства угрожал смертью оставленных ими семейств и уничтожением собственности. Словом, в запылавшую казацким бунтом Украину подложил горючего материала.
Нельзя сказать, чтоб он делал «много шуму из ничего». Он, провозившийся с казацкими бунтами столько времени, еще в декабре 1647 года заявил, что не может быть в отечестве опасности, более чреватой бедствиями (wiecej prognans periculum). Он понимал положение страны и выражал, можно сказать геройски, недоумение, как «с такою малою горстью квартяного войска» отражать татар, которые и без казаков были весьма опасны; но тем не менее шел на борьбу с ними.
Король, однакож, был крайне недоволен мерами своего фельдмаршала. Король повелел Потоцкому немедленно пустить казаков на Черное море, и не подвигаться с войском в глубину Украины.
Коронный гетман оправдывал свои действия тем, что двинулся спасать Украину по общей просьбе и по всестороннем обсуждении дела; что не было такого села, такого города, где бы не призывали к своевольству и не умышляли на жизнь и имущество панов и державцев, где бы не домогались вознаграждения своих заслуг и не подавали беспрестанно жалоб на несправедливости и притеснения. О вере, которую наши летописцы и историки делают первою и главною причиною бунта, предводитель его усмирителей не упомянул в своем оправдании перед королем ни единым словом.
Зачинщиков бунта он видел только в недовольных экономическими порядками да материальными потерями.
«По-видимому, не велика беда 500 взбунтовавшихся казаков» (писал он); «но кто вникнет, с какими упованиями и надеждами поднят бунт, каждый должен признать, что было из-за чего мне двинуться в Украину: ибо эти 500 человек подняли бунт в заговоре со всеми казацкими полками и со всей (мужицкой) Украиной. Когдаб я не поспешил, запылал бы в Украине такой огонь, который не скоро был бы, или же великими силами, погашен... Один князь воевода русский (Вишневецкий) отобрал у своих подданных несколько тысяч самопалов, а сколько же другие! Все это огнестрельное оружие, вместе с людьми, принадлежало бы бунту Хмельницкого. Если бы не были предупреждены приготовления к бунту, если бы не были забраны пушки в разных местах, которыми своевольные люди (swawola) намеревались овладеть, то какова была бы сила их, и что делали бы они во владении вашей королевской милости, можете представить. Впрочем я вовсе не с тем двинулся в Украину, чтобы пролить христианскую кровь, которая в свое время будет необходима для Речи Посполитой, но с тем, чтобы, не обнажая сабли, одним только страхом кончить войну. До сих пор казаки не потеряли ни одной капли крови и не потеряют, если успокоятся. Но вижу, что этот безрассудный человек, Хмельницкий, не преклонится перед милостью. Не раз уже я посылал к нему, чтоб он оставил Запорожье, обещая ему помилование, отпущение преступлений. Ничто на него не действует. Послов моих задержал. Наконец послал я и пана Хмельницкого, ротмистра вашей королевской милости, человека расторопного и хорошо знающего казацкие гуморы, с увещанием, ручаясь моим словом, что волос не упадет с его головы. Но не тронутый и этой благосклонностью, отправил ко мне моих послов с требованием, чтобы коронное войско вышло из Украины; чтобы паны полковники, со всею их ассистенцией, были из полков удалены; чтобы правительственная ординация относительно казаков была уничтожена».
Далее Потоцкий доносил королю, что Хмельницкий зовет к себе на помощь татар, которые хоть и вернулись главною массою в свои кочевья, но все еще чего-то ждут у Днепра. Несколько сот крымцев переправил он даже на сю сторону, с тем чтоб они сгоняли польские сторожи, поставленные на разных пунктах для удержания своевольных людей от побегов на Запорожье. Слышно было, что у Хмельницкого уже 3.000 казаков. В этом Потоцкий видел доказательство, что он давно уже думал о том, как начать свой бунт.
«Сохрани Бог» (продолжал коронный гетман), «еслиб он с этим войском вступил в Украину! Тысячи обратились бы вдруг во сто тысяч, и было бы нам, что делать с этими своевольниками. Теперь он готовит и укрепляет себе на Буцке город (horod), и решился сильно в нем обороняться. Высоки доводы вашей королевской милости, которые благоволите высказывать по предмету отвращения этого несчастья: чтобы дозволить своевольникам идти на море, еслиб того пожелали. Не того ему хочется, чтоб идти на море, а того, чтобы жить в стародавнем своевольстве и чтобы ниспровергнуть священные постановления Речи Посполитой, стоившие стольких трудов и шляхетской крови. Согласен я, что для общественного блага следовало бы пустить казаков на море, именно в интересах самой Речи Посполитой, чтоб эта милиция не залегала поля и не забывала давнишнего способа войны, который может в последствии понадобиться. Но в такое скользкое время нельзя этого сделать потому, что одни челны еще не готовы, а другие хоть и готовы, но не так снаряжены, чтобы годились для морской битвы. Поэтому неготовые приказал я кончить при себе, а на место сделанных кой-как будут присланы другие. Но хоть и будут изготовлены, для этого необходимо, чтобы казаки были успокоены и в надлежащем порядке отправлены, если то укажет надобность Речи Посполитий и воля вашей королевской милости. Ибо, сохрани Боже, чтобы неуспокоенные вышли они на море и, вернувшись, подняли неугашенный бунт: тогда удержать их в указанной ординации Речи Посполитий значило бы воевать и с казаками, и с турками, и с татарами. Вот почему надобно, по моему мнению, постараться, как я и стараюсь, угасить сперва нынешние бунты. Но во всем этом я желаю повиноваться воле и повелениям вашей королевской милости».
Было это писано, вероятно, в то время, когда султан запретил татарам вторгаться в Польшу. Паны были этим обрадованы, и фельдмаршал окончил свое покорно-оппозиционное оправдание горькою для короля лестью:
«Рад бы я был видеть в эту зиму победы вашей королевской милости над неприятелем Св. Креста и новые лавры, украшающие ваше славное имя; но так как задуманные предначертания (вражеские) отменены, что видно из прилагаемых при сем писем господаря, то униженно прошу принять от меня венец служения отечеству».
Таково было положение измечтанной королем Турецкой войны и действительного бунта Хмельницкого в конце марта 1648 года, когда Потоцкий, обеспеченный дружественным письмом Ислам-Гирея, решился послать против Хмельницкого войско и подавить бунтовщиков, пока они не усилились приливом своевольных людей из Украины. Между тем Хмельницкий, в начале марта, заключил договор с татарами, отдал хану в залог сына своего, Тимофея, а сам вернулся на Запорожье сзывать к себе казаков.
Войско, находившееся в распоряжении Николая Потоцкого и его товарища по гетманству, Мартина Калиновского, долго стояло в бездействии между Брацлавом, Винницею и Белою Церковью, в предупреждение татарского набега. От Белой Церкви до Канева оборонять Поросье должны были польские торки и берендеи, казаки, а за Днепром Посулие защищали многолюдные дружины удельного, можно сказать, князя Речи Посполитой, Иеремии Вишневецкого. В виду быстро закипающего бунта, Потоцкий не дождался королевского универсала для наступления на казаков, как бывало до сих пор, и поспешил на театр своих подвигов 1637 и 1638 годов.
Теперь уж Николай Потоцкий был не тот, что в оные прославленные им годы, когда шляхетский народ восторжествовал над народом казацким и, как панам казалось, навеки подчинил его своей законодательной власти. Болел Потоцкий панскою болезнью, подагрою, и в Агамемноновском своем походе на Сулу. Десятилетие, проведенное среди «хлебоядцев» и винопийцев гостеприимного дома Потоцких, сделало польского защитника Поросья и Посулия неспособным сесть на коня. Он ездил по полкам в карете и во время битвы. Но в отяжелевшем теле носил Потоцкий энергический дух своих предков, русичей: ибо не напрасно волочилась Польша за нашими буйтурами, вовлекая их в свою национальность: она ловила в Малороссии таланты, которыми была скудна, и этими талантами прославилась в католическом свете. Потоцкий веровал, подобно православному ляху Киселю, что «никогда хлопская рука не возможна есть подвизатися противо своим господином».
Если бы сенаторы и вельможные паны, исчисленные в риторическом письме Киселя к путивльскому воеводе; предвидели, что новый казацкий царь Наливай всего больше рассчитывает на соединение казаков с ордынцами, — не повернули б они своих ополчений восвояси до тех пор, пока не сделали бы невозможным столь давно намеченное слияние польско-русской орды с татарскою. Но гордые победами своего Потоцкого над казаками и своего Конецпольского над татарами, они смотрели спокойно на то, что одна орда раздражена неуплатою жолду, а другая — отказом в гараче: они забыли, что оба скопища хищников задеты за живое и с других сторон. Победители Косинского и всех казацких бунтовщиков упустили из виду, что Конецпольский преследовал Жмайла в непроходимые трущобы Медвежьих Лоз единственно из-за его попытки вызвать крымцев на опустошение колонизуемой им Украины, — попытки, повторяемой упорно казаками в каждом бунте своем и, что Потоцкий совладал с христианскими ордынцами под Кумейками и на Старце только благодаря их тогдашней вражде с мусульманскими.
Владислав IV был одарен умом вовсе не строительным; но паны, вырвавшие у него из рук всю власть, оказались теперь несостоятельнее своего развенчанного монарха в государственном строительстве и в сохранении за собой края, без которого Польша, по выражению одного простолюдина, была все равно, что рукав без жупана. Сравнительно с этими пигмеями царственности, он был велик уже тем, что мог бы, так, или иначе, двинуть в поход громадные войска и в том числе 30.000 их собственного контингента.
Но, низложив титулярного короля своего, фактические короли польские, легкомысленно играли с огнем, о котором еще отцы и деды их говорили, что его надобно гасить в искрах. Благоразумно, или нет воспротивились они войне своего избранника с неприятелями Св. Креста, — это могло бы оказаться только в непредвидимой комбинации разнообразных человеческих интересов; но совершившиеся факты говорят нам, что паны не понимали значения царственности, и либеральною борьбой с Владиславом сделали то, что теперь Св. Крест несли против них самих татары руками Хмельницкого, с тем, чтобы под этим знаменем «землю, текущую молоком и медом», превратить в безлюдную пустыню.
Что касается Потоцкого, то, не поддержанный умом и предусмотрительностью сенаторов, которые самоуверенно вернулись домой с парада на Черном Шляху, он взял подавление украинского бунта на свою нравственную ответственность, и должен был еще оправдывать свое геройское предприятие перед уничиженным королем, приправляя правду ложью.
Положение талантливого полководца было рискованным и десять лет назад, по милости правительственной неурядицы. В роковом 1648 году оно сделалось крайне затруднительным, и потом — таким отчаянным, как последний поход незабвенного русина-католика, Жовковского. Недавно видел он перед собой в движении всю соседню-азиатчину, командуя шеститысячным квартяным войском, которому авангардом служили еще непошатнувшиеся шесть тысяч реестровиков, а в арьергарде стояло 30.000 панских дружин. По словам Киселя, враги христианства и цивилизации исчезли пред лицом этой грозной силы, как исчезает дым. Теперь главнокомандующий оною грозною силою очутился против той же азиатчины в виду всего анти-шляхетного населения Украины, взбунтованного казаками, — очутился с такими силами, которых едва было достаточно для одних рекогносцировок.
Но Потоцкому долго не верилось, чтобы хан Ислам-Гирей, считавший свой род старше султанского, низошел с высоты своей кипчакской царственности до панибратства с бродягами, которых предшественники его отвергли, как «безголовое тело». Он лично знал Ислам-Гирея во время его пребывания у отца нынешнего его сподвижника, Сенявского, и, может быть, заодно с королем расположил приятеля к тому великодушию, с которым он возвратил своему пленнику свободу. Потоцкий до сих пор не мог подозревать, что дружеские письма хана были только усыпительным для панов напитком лести... Но его успокаивало своевременное занятие главных седалищ украинской казатчины. Сам Потоцкий расположился в Черкассах; полевой гетман, Калиновский, в Корсуни; прочие полки стояли там же, по реке Роси. Утвердясь на стратегических точках опоры против степного варварства, защитник польской цивилизации ждал наступления мятежников, которые, по его мнению, могли бы увеличить свое число только тогда, когда бы появились невозбранно среди казацкой Украины.
Между тем побеги на Запорожье продолжались. По Украине шлялись из села в село хмельничане, переодетые — то нищими, то богомольцами, и подготовляли убогую чернь к нападению на людей шляхетных и зажиточных, которых вообще называли они ляхами, а если не ляхами, то недоляшками то есть не достигшими еще полного ляшества, по-казацки лядства, но у которых с ляхами «один дух». В течение полустолетней оппозиции всякому присуду (юрисдикции) и всякой власти в Украине, казаки выработали о себе в гулящем простонародье такое мнение, что только в казацких сердцах осталась на свете правда, которой нет уже ни у панов, ни у каких-либо властителей. И в наше время, упорядоченное и счастливое несравненно больше того бедственного века, кобзари твердят в своих песнях категорически:
Уже тепер правда стоить у порога, А тая неправда — в панив кинець стола. Уже тепер правда седить у темници, А тая неправда — с панами в свитлици...Вообразим тогдашних кобзарей, что они пели, и с какими чувствами их слушали!
Для низших классов украинского населения, образовавшихся путем постоянного перекочевыванья с места на место, казак, по простонародной песне душа правдивая в своем убожестве, сделался идеалом удальства, счастья и вольной воли, до того, что украинские девические баллады и романсы называют своих героев казаченьками вместо других ласкательных имен, а женские и материнские украинские песни-плачи переполнены выражениями тоски о казацких пригодах, то есть бедственных случайностях, не говоря уже о тех песнях мужских, которые, по своему содержанию, не отличаются от великорусских песен, именуемых разбойничьими, и предают проклятию самих мастеров, строивших темницы даже для таких преступников, как губители девиц, вдов и мужних жен. Тогдашняя запорожская пропаганда оправдывала все преступления и обвиняла всех представителей общественной юрисдикции. Она сулила черни золотой век безнаказанности, всяческой свободы и незаслуженного трудом богатства. Это была пропаганда крайне опасная и для правительства, и для той массы, которую поднимала против правительственных органов порядка.
Украина, занятая теперь коронным войском, еще недавно состояла из одних казацких кочевьев. Шляхетская хозяйственность пришла сюда с обычаями, выработанными обществом, сравнительно культурным, и градация этой хозяйственности начиналась тогда с промысла первобытного — с выжигания лесов для поташной золы, которую немцы-выходцы научили нас называть шмальцугою. К этому варварскому промыслу всего больше был склонен местный мужик, глядевший вообще волком на земледельца-ратая и на его служебников. Заложивши в лесу буду, то есть поташной костер, он оставался свободен и празден в своей трущобе во всю охоту дикаря к спанью и звероловству. К работникам этого рода, называвшимся будниками, ближе всего стояли пасечники, посекавшие леса, сторожившие «бортные ухожаи» в них и сидевшие пасеками в таких «нетрах» (неторенных местах), в которые хищников ордынцев не вели широкие татарские Шляхи. За пасечниками следовали чабаны, кочевавшие в «катрягах» при стаде овец, рогатого скота или лошадей, люди, также свободные от надзора в своих занятиях и досужие во времени. За ними рабочую силу хозяйственной жизни составляли могильники, насыпавшие сторожевые могилы и земляные под именем «могил» памятники, селитряные бурты, а в городах и селах валы, без которых не уцелел бы тогда пограничный поселок и одного года. Далее шли уже чернорабочие, более или менее стесненные в своих занятиях присутствием людей культурных, но зато разгульные в своих привычках, — люди, которых называли «роскишными». Это были винники, броварники, лазники, отбывавшие условленную между осадчим (колонизатором) и осадником (колонистом) панщину, или служившие по винокурням, пивоварням и лазням, то есть баням, в селах и городах.
Всего труднее было приучить и приохотить украинского мужика к земледелию, которое особенно не нравилось попробовавшим казатчины, как занятие, требовавшее сиденья на одном месте. Ратаи, или пахари пользовались особенными преимуществами перед панскими подданными, и составляли как бы средний класс между землевладельцами и тою смешанною массою, которая селилась и кочевала в их имениях. Эта хаотическая масса сидела по своим местам только тогда, когда голод и холод смирял ее до готовности трудиться изо дня в день. И ремесленники, и хлеборобы заимствовали из неё рабочие руки для своего производства. Но лишь только наступала весна, каждый нетяга норовил уйти в безлюдную глушь на независимый промысел, хотя бы для этого пришлось ему «забирать в торбу детей».
Из таких-то нетяг, работающих за кусок хлеба мещанам, ратаям и землевладельцам, низовые казаки составляли свои ополчения, тогда как люди оседлые старались удержать их дома секвестром их движимости, нажитой, по условию с хозяином, на его земле и в его заведениях. Удачный морской набег, удачный грабеж татарского, волошского купеческого или панского добра — давали новым гайдамакам средства для вербовки украинской голоты, которая обыкновенно собиралась в казацкие купы с дрекольем, а «полатавши свои злыдни», вооружалась списами (рогатинами), саблями и пищалями. Кобзари писали с натуры, изображая Хмельнитчину такими, например, словами:
Которий козак шаблі булатної, Пищалі семипядної Не має, Той киї на плечі забирає, У військо до Хмельницького поспішає.Наслушался Потоцкий рассказов об этом еще в Павлюковщину. Теперь он видел собственными глазами, как украинская голота перебегает из становища хозяйственности в становище добычного промысла. Вотще звал он к себе на помощь вернувшихся восвояси вельможных землевладельцев: они величаво почивали на лаврах своего степного парада. Напрасно представлял королю, что казатчина должна быть подавлена окончательно, каких бы жертв это ни стоило Польше, если Польша хочет владеть своими займищами: король был глух к его представлениям.
Король видал казаков только в своих походах. Он ценил опустошительные подвиги варваров, помогших ему восторжествовать над Москвою. Он был готов жертвовать разорением украинских королевщин в виду возможного завоевания Турции, которое неотступно занимало его мысли, и потому продолжал высказывать убеждение, что дружелюбным обращением с казаками всего лучше укротить завзятых; что дозволением ходить на море казаки были бы совершенно примирены с начальством; а если есть в Украине какие-нибудь вспышки, то сеймовой комиссии надобно нарядить строгое следствие и предать суду тех, которые своими несправедливостями подали к ним повод. Члены этой комиссии, как люди, непричастные интересам обидчиков и обиженных, — по мнению короля, всего больше могли содействовать Потоцкому в умиротворении пограничного края.
Если бы (замечу кстати) была хотя тень догадки у короля, что на казаков досадуют католики и униаты, — это высказалось бы теперь в его наказах. Если бы Хмельницкий жаловался ему на Чаплинского, — это имя хоть мелькнуло бы в его сношениях с главнокомандующим. Факты за фактами сыплются обильно зернами исторической правды в современной переписке, которой перед нами горы, а все вымышленное отсутствует в ней, на горе сочинителям детских сказок о казаках.
Оставалась одна надежда на сенаторов и вельможных панов, которые так поспешно увели свои дружины. Но паны всегда собирались в поход медленно; а теперь их тормозила королевская партия, настроенная миролюбиво насчет казаков и воинственно насчет турок.
Между тем, в начале апреля, Днепр выступил из берегов; воду в реках и речках, как говорится, пустило. Казаковатого украинца весенняя вода располагала к бродячей жизни. Дивчата пели своим возлюбленным:
Ой весна красна, ой весна красна, Та й із стріх вода капле: Ой уже ж тобі, мій козаченьку, Та й мандрівочка пахне.А влюбленные молодцы обещали своим «кралям» серебро-золото без счету, дорогие ткани без меры. Густые купы голоты, тянувшиеся в страну мечтаний о китайчатых онучах, за Пороги, оправдывали слова кобзарской думы:
А як прийде весна красна; Буде вся наша голота рясна.Подобно весенней воде в Днепре, ежедневно и ежечасно прибывали на Низу казаки. Напротив, силы Потоцкого увеличивались панскими контингентами мало. Паны, не получая крупных известий об украинских бунтах, считали дело не стоящим особенных забот. Одна молодежь панская, желая составить себе рыцарскую репутацию, выезжала в Украину на челе своих блестящих почтов.
О Хмельницком ничего верного не знали, а вести, приходившие с низовьев Днепра, считали обыкновенными в тревожных случаях россказнями. Не открывая в Украине новых признаков готовящегося бунта, коронные гетманы оставались по-прежнему в положении выжидательном.
В это время кто-то из приближенных к Потоцкому писал к кому-то, 2 римского апреля, из Черкасс о том, как ему представлялось дело.
«Трудна эта несчастная казацкая война. Хмельницкий лежит на днепровском острове, называющемся Буцким, от нашего берега в двух милях, а от крымского на выстрел из доброй пушки. Но пушек там у нас нет. Посылал туда пан Краковский пана Хмелецкого, да Хмельницкий на то не смотрит. Он отделывается только готовностью к услугам и бьет челом, говоря: что выйдет на влость, [26] пускай только его милость пан Краковский удалится с войском и отзовет панов полковников; один комиссар пускай останется: он значит у них много.
«Прибыла от его милости короля комиссия» (продолжает неизвестный); «но не знаю, что сделают они без денег, а казакам надобно дать 300.000 (trzy kroc sto tysiecy), да отдать под суд полковников и самого комиссара. Этого пива наварили они. Не мало обвиняют и пана коронного хорунжего (Конецпольского). Не так-то легко успокоить то, что предстоит.
Лежим покамест по Заднеприю. Полк его милости пана Краковского в Черкассах; пана полевого гетмана в Корсуни и в Миргородчине, по всем наследственным имениям пана коронного хорунжего; полк пана Чернеховского (каштеляна черниговского Яна Одривольского), в Каневе, в Богуславе. После святок тотчас идет на Запорожье сухим путем, а казацкое войско — Днепром на челнах. Гультаев же на этом острове не меньше 1.500: ибо у них всюду отнимали пашу, чтоб не собирались в одну купу».
Кто бы ни был писавший это, но его мнение было выражением общего суда усмирителей казацкого бунта. Дело началось всё-таки с недоплаты жолду, как и первые казацкие бунты. Приучив казаков к своеволию, которое прощали шляхте, паны хотели обуздать их поляками-полковниками. Это для казаков было и в нравственном и экономическом отношении бременем тяжелым; потому-то Хмельницкий и настаивал на отозвании полковников со всею их ассистенциею. Казаки павлюковцы, как мы помним, и собственных избранников обвиняли в заедании жолду: тем более казаки хмельничане должны были подозревать в этом навязанных им полковников-ляхов и комиссара-немца; а жолдовой недоимки накопилось так много, что сеймовые паны проходили ее молчанием и помнили только о полумиллионе жолнерской. Не меньше полковников и «скарбовых людей» виновным в бунте оказывался и Александр Конецпольский, позволявший себе поступать с Хмельницким так в XVII столетии, как предок Мартина Калиновского поступил с отцом Наливайка в XVI.
При этом замечательно, что полевой гетман прикрыл собственным полком все вотчинные имения Конецпольского. Это показывает, что на них были намерены наступить казаки Хмельницкого, как на Острожчину наступили казаки Косинского.
Хмельнитчина, как видим, имела в начале характер частной ссоры, какою была Косинщина, и король, без сомнения, смотрел на нее не иначе, как на ссоры своих королят за взаимный захват имений.
Одновременно с приведенной выше реляцией младший Чернецкий привез в Бар известие, — что у Хмельницкого людей набралось уже 2.500, в том числе 500 татар, и что Хмельницкий заявил требование — чтобы ни один лях не был старшим над Запорожским войском: «Вот чего наделала жадность полковников и тиранское обращение с казаками»! писал об этом подольский судья Мясковский, и повторял предсказание Чарнецкого, что с казаками будет долгая и трудная «голландская война». Но о вере, коньке наших историков, никто ни слова!
Что касается татар, то казаки, не смотря на соглашения с ними со времен Косинского, не все одобряли договор с ханом как это было и в то время, когда Самуил Зборовский принял название ханского сына. Сохранилась речь одного казака, записанная кем-то из поляков по-малорусски раньше прибытия татарской помощи:
«Пане отамане и панове молодци!» (говорил казацкий оратор), «вильно вам волю гетьманську и свою чинити, та не знаю, чи буде воно гаразд, щоб нам поганцив за опекунив соби брати. Дасть Бог, наше вийсько може й само те справити, що мы хочемо через тих поганцив од ляхив оборонитись и в короля, пана нашего, кривды нашои доходити».
Слушатели закричали на это: «Гаразд! Бог ме [27], гаразд»!
Но вместе с татарскою помощью пришел к Хмельницкому и террор, а террором уже и царь Наливай завещал ему подавлять казацкое разномыслие.
Долго скрывал Хмельницкий свои силы и свои намерения (в этом он превзошел всех своих предшественников). Наконец какой-то казак-чатовник принес панам известие, что бунтовщик вышел из урочища Микитин Рог (в котором стоял кошем и Павлюк), и идет берегом Днепра, чтобы стать в куте, образуемом Днепром и рекой Тясмином (подобие тех вил на Суле, в которых с таким успехом оборонялся Гуня). Так как верный казак не мог добыть более обстоятельных сведений, то было решено послать в Дикие Поля сильный отряд, который бы отыскал неприятеля и привез от него к гетманам пленников. Только от них можно было выведать, сколько у Хмельницкого войска и каковы его намерения.
Отряд был снаряжен в таком составе, чтоб он мог не только открыть, но в случае удачи, даже истребить неприятеля. Он заключал в себе 1.200 отборных воинов с 12 пушками и множеством походных возов, которые, вместе с артиллерией, представляли подвижной замок, способный выдержать атаку многочисленной толпы азиатцев, как этому был не один пример со времен славного и набожного предводителя подольской шляхты, Мелецкого. Еслиб этому отряду не удалось разогнать христиано-магометанской орды, то, отступая в порядке и раздражая степных наездников рыцарскими горцами, он должен был привести неприятеля в такое место, где главное войско воспользуется своим превосходством в стратегии и тактике. Так было поступлено с павлюковцами под Кумейками. Так, очевидно, вознамерился Потоцкий поступить и с хмельничанами.
Предводителем посылаемого в печенежскую степь отряда был назначен сын коронного великого гетмана, Степан Потоцкий, под руководством опытного и ученого ротмистра Шемберка, состоявшего в должности казацкого комиссара. Множество знатных «панят» вызвалось разделить с молодым Потоцким опасности, труды и лавры степного похода. Под знаменем дома Потоцких собрался цвет польско-русского рыцарства. Лучшие кони, лучшие снаряды, лучшие польские и русские боевые люди ручались главнокомандующему за успех предприятия.
Но предприятие было всё-таки рискованное. Силы завзятого бунтовщика были неведомы, а между тем из-за Днепра пришло известие, что десятки тысяч голодных крымцев «висят» над Ворсклом и у Кременчуга. Страшно было старому гетману отпускать сына в таинственную, степь, с которою казак и его конь, по выражению молодого, слишком рано угасшего польского поэта, составляли одну дикую душу:
I przez puste bezdroza krol pustyni rusza, A step, kon, kozak, ciemnosc — jedna dzika dusza. [28]Призвал он к себе лучших представителей реестрового казачества и, забывая, что Хмельницкий еще недавно был таким же, как они, орудием законной власти, забывая даже собственное уверение, что бунтовщик действует в заговоре со всеми полками, — просил их поддержать достойным образом сухопутное войско, спускаясь в постоянном сообщении с ним, по Днепру. При этом Потоцкий старался внушить реестровикам отвращение к татарскому быту запорожских гультаев, неверному в материальном отношении и позорному в нравственном.
Основою внушения служила ему мысль, — что казаки живут в Украине так же привольно, как и шляхта; что роптать на свое положение могут одни выписчики, эти баниты и инфамисы казачества; что паны, как землевладельцы и высокие сановники, не только не теснили казаков, напротив нуждались в добром с ними согласии для защиты от татар и домашних разбойников; что и хлеборобы украинские жили, «во всем изобильно, в лебах, в стадах в пасеках», и что одни крамольники вооружали худших из них — то против панских урядников, то против жидов-арендаторов.
Не сомневался Потоцкий, что люди оседлые и домовитые подорожат своими достатками, своим почетным положением, и не станут якшаться с одичалыми лугарями, которые ведут в Украину врагов Св. Креста. Что же касается запорожской мстительности, которою мятежники обыкновенно стращали людей неподатливых, то от неё, по его убеждению, реестровики были достаточно охранены присутствием в Украине коронного войска.
В ответ на речь пана Краковского реестровики уверили его в неизменной преданности своей, поклялись изловить Хмельницкого, как некогда Сулиму, и он отправил их на челнах вниз по Днепру, в тех видах, что сын его будет иметь в них, на всякий случай, готовую поддержку.
Поход молодого Потоцкого был обеспечен... Не даром казаки потом, в своих революционных рапсодиях, приписывали старому гетману женский разум (розум жіноцький): он в самом деле показал легковерие женское, для которого, в известных случаях, не существуют и тысячелетия примеров.
Искусному усмирителю казацких бунтов оставалось, по-видимому, только выбрать место, подобное Кумейкам, на которое бы, в случае невозможности поразить нового Павлюка в Диких Полях, Стефан Потоцкий навел его фальшивым бегством. Такое место, по предварительным разведкам, находилось в глубине приднепровских пустынь, за Чигирином. Туда он и двинулся по следам сына. Все было принято им в соображение, кроме одного — что «step kon, kozak, ciemnosc — jedna dzika dusza.»
Глава XV. Битва на Желтых Водах. — Битва под Корсунем. — Строительные действия Москвы в виду Польского разорения. — Казаки между Польшей и Москвой. — Гибель польских трудов на русской почве. — Пощада исконных врагов со стороны московского царя. — Бунт в Вишневетчине.
Хмельницкий принимал все меры для того, чтобы степь оставалась для панов немою. Он знал, что против него идет сильный отряд; знал и о том, что по Днепру спускаются реестровики. Он вышел в Дикие Поля из-за Порогов с восемью тысячами сбродной казатчины, и всю надежду возлагал на татарскую помощь. Направляясь к устью Тясмина и к Цыбульнику, памятному по войне 1625 года, последователи Жмайла и Павлюка остановились при потоке Желтые Воды, на вершинах степной речки Саксагана, по-казацки — «на Саксані». [29] За Хмельницким издали следовал ширинский князь Тогай, иначе Тогай-бей.
Этот знаменитый у татар полководец, тому назад четыре года, был на Желтых Водах с 20.000 отборного войска, которое вскоре Конецпольский, вместе с Вишневецким, разбил наголову под Охматовым. Теперь он жаждал битвы с панами, и ждал их приближения нетерпеливо.
Скоро появился отряд Стефана Потоцкого. Солнце склонялось к западу. Никто не решался начать битву. Молодой Потоцкий поджидал казацкой флотилии.
Но чаты, или разъезды, Хмельницкого вошли уже в сношения с реестровиками. Узнав, что Хмельницкий ведет за собой 40.000 татар, реестровые казаки не устояли против страха запорожской мести над их семьями, над их имуществом и против соблазна быстрого обогащения на счет панов. Верные правительству полковники были перебиты, и Хмельницкий привез к себе днепровских аргонавтов на татарских лошадях.
Весть об этом из неведомых панам Диких Полей долетела к литовскому канцлеру Радивилу в таком виде:
«Гетманы отправили против Хмельницкого 4.000 казаков с их полковниками (Ильяшом) Вадовским, Гурским и Кричевским. Они напали на построенную Хмельницким небольшую крепость, и прогнали оттуда казаков, которых было 50. Между тем казаки (на Днепре), сделавши заговор с Хмельницким, произвели между собою бунт, схватили королевские хоругви и буздыганы, [30] перерезали всех верных королю казаков, и послали несколько хоругвей за Кричевским и Барабашом. Когда они были приведены, их обезглавили мечом, равно как и Гурского, Вадовского Ильяша, которого я лично знал, Колиняку (Kolenake), Олексу, Гайдученка, Нестеренка и других знатных казаков; потом избрали вождем Джеджалу (Dzialatycza) и соединились с татарами».
Известие об измене реестровиков смутило коронное войско, окруженное многочисленным неприятелем. Но в отряде молодого Потоцкого находился знаменитый в последствии воин, — Чарнецкий, — очевидно, потомок русина Чернецкого. Он ободрил других вождей. Послали вестника к коронным гетманам; решились противопоставить военное искусство европейское азиатской тактике, и, зная, что у Хмельницкого всего пять пушек, да и то плохих, надеялись отсидеться до прихода выручки.
Эту надежду разрушила новая измена. В отряде Стефана Потоцкого было всего 300 шляхтичей. Остальное войско состояло из драгун пана Сенявского (опять имя русское), навербованных в малорусских провинциях, да из надворных панских казаков, в которые поступали большею частью казацкие выписчики. Драгуны сомневались в возможности отсидеться в степи, имея 50 человек против одного, и последовали примеру реестровиков, а надворные казаки, в свою очередь, доказали, что не у одного старика Потоцкого был доверчивый «розум жіноцький», не соображавший того, что простонародная Русь не была еще полонизована подобно Потоцким, Чернецким, Сопигам (по-польски Sapieha) и другим потомкам тех, которые, во времена оны, бились недалеко от Желтых Вод на реке Калке.
Но ум умом, а боевое мужество мужеством. Триста шляхтичей были тоже почти исключительно русичи, только по вере, по языку и обычаю назывались, как и сыновья князя Василия, поляками. В настоящем случае три сотни польско-русских, или русско-польских, шляхетных витязей не уступали в стойкости и решимости Фермопильским грекам. Они замкнулись в четвероугольнике, построенном из походных возов и, отступая в виде подвижного замка, два дня отпугивали казако-татарские полчища. Но хлынул дождь, быть может, вызванный из сотрясенного воздуха их же пальбою; отсырел порох; измученные чрезвычайными усилиями воины едва двигались.
Между тем казаки отняли у них воду, и Хмельницкий прислал к Стефану Потоцкому его письмо к отцу, перехваченное казацкими чатовниками. Бунтовщик предложил героям панской республики условия капитуляции. «Мы не можем трактовать с вами о наших делах» (говорил он), «потому что между вами нет ни сенатора, ни уполномоченного, которому бы мы могли объяснить, что заставило нас взяться за оружие. Отдайте нам ваши пушки, и ступайте себе с миром домой».
Потоцкий потребовал от казаков присяги, точно как будто присяга была делом надежным не только в казацком народе, но и в шляхетском. Казаки присягнули по-иезуитски, тая в сердце иное намерение. Пушки были отвезены в табор Хмельницкого.
«Это кстати казакам»! восклицает казацкий историк сочувственно, рассказывая, как Хмельницкий обратил полученные вероломством пушки против трехсот воинов, и забывая, что казаки, через десяток лет, поступали еще вероломнее с московскими ратями.
Но и под выстрелами собственной артиллерии шляхетные рыцари продолжали еще бороться с казако-татарскою ордою. Они шли в сомкнутом четвероугольнике до тех пор, пока казаки, заскакавши вперед, не завалили им дорогу срубленными деревьями на дне степной западины, носившей имя Княжих Байраков, может быть, еще со времен варяго-русских князей. Тогда Хмельницкий разбил пушками подвижную крепость в щепья, и бросился с татарами на недобитков.
Стефан Потоцкий, весь покрытый ранами, был взят почти мертвый в плен. За ним и остальные положили оружие. Голову комиссара Шемберка Хмельницкий приказал носить на жерди перед своим победоносным воинством. Чернецкого и Сопигу оставил у себя в плену; остальных увели в неволю татары.
В каком бы отношении ни была замечательна Желтоводская битва, для нас, малоруссов, она незабвенна тем, что, в числе пленников, достался здесь Хмельницкому шляхтич православного исповедания, Иван Выговский, известный в истории, как его ближайший друг, его alter ego, его преемник в коварстве и предательстве. [31]
Итак новый казацкий против польско-русских панов бунт заявил о себе кровопролитием. Из-за чего же взбунтовались казаки?
Украинские кобзари певали нам, будто они встали за «христианскую веру»; малорусские летописцы, устами даже лучшего из них, твердили нам, будто бы «початок и причина войны Хмельницкого есть едино от ляхов на православие гонение и козаком отягощения»; казацкие историки, вместе с почтенными археографами, уверяли нас, будто бы казаки «восстали за жестокие утеснения жителей Малоросийской Украины, претерпенные ими от поляков в вере, чести, имуществе и самой жизни»; наконец, сами казаки представляли себя московскому царю «помирающими за старожитную греческую веру и за свои вольности, заслуженные кровью».
Но в первой манифестации желтоводских героев чести и веры нет и помину о вере, хотя свою рыцарскую честь обнаружили они весьма выразительно. Эта манифестация, известная под именем «Реестра казацких кривд», писана самим Хмельницким, и заключает в себе почти исключительно его личные обиды. Так как очевидно, что перед королем Владиславом и его правительством нельзя было говорить небывальщину, которою в последствии казаки прожужжали уши царю Алексею Михайловичу, то этот документ следует иметь постоянно в виду при дальнейшем повествовании, затрудненном сказками историков, «для истины тупых и равнодушных». Он гласит следующее:
«1. Его милость пан Чаплинский, урядник Чигиринский, выпросил у покойного пана Краковского себе хутор, собственный наследственный Хмельницкого, королевское пожалование, утвержденное нынешним его милостью королем; куда наехавши пан Чаплинский на заселенные слободы с голодным народом, захватил все гумно, то есть 400 коп хлеба, и ограбил хозяйство.
2. Тот же пан Чаплинский, злобствуя на Хмельницкого за преследование его судом за его насилия, сына Хмельницкого, десятилетнего мальчика, велел так избить канчуками среди рынка, что его принесли еле жива, и он вскоре умер.
3. Пан Коморовский, зять этого Чаплинского, клялся несколько раз перед казаками, что если не совладают с Хмельницким, то непременно велят его убить.
4. Его милость пан хорунжий коронный, идучи теперь, после поражения татар, из Запорожья, велел взять Хмельницкого под стражу и снять ему голову. Когда Хмельницкий хотел жаловаться на это пану Краковскому, то по дорогам были засады.
5. В 1646 году, когда Хмельницкий, добыв двух татар, представил их пану Краковскому, — в его отсутствие, взяли у него поволовщину и в конюшне серого коня, на котором он хаживал в Дикие Поля.
6. Что понравится панам урядникам украинским в казацком доме, берут насильно. Казацкая жена, казацкая дочка должны тогда плясать, когда им заиграют.
7. О таковых обидах его милость пан Краковский писал несколько раз к урядникам и державцам с выговором; но это не помогло нимало.
Теперь Хмельницкий, когда ехал со своим полковником, в прошлом году, против татар, которые набежали было на Чигирин, — некто пан Дашевский, как его называют, лях, подученный кем-то из старшины, заехав сзади, ударил его по голове так, что спасла его только мисюрка, а то бы рассек голову. Когда Хмельницкий спросил его: чтоб это значило? он отвечал: «Я думав, братику, що ты татарин» .
Эту обиду Хмельницкий считает наибольшею, тем более, что его некто Пешта, хам, казак, оболгал (sinistre tradukowal) перед его милостью паном хорунжим, якобы он думал выпроводить армату на море. За это его милость пан хорунжий, при других относительно Чаплинского претензиях, прогневался и велел наступить на жизнь Хмельницкого, и тогда Хмельницкий, не зная уже, к кому обратиться, отправился на Низ к другим подобно ему обиженным, которых немало живет по тамошним низовым краям и по морским островам, и они избрали Хмельницкого своим вождем (ducem sobie obrali)».
Кого обиженные низовцы избрали своим вождем, тому надобно было хвататься за все, чем интересовались беспокойные люди всякого звания и состояния. Для украинского населения, для малорусских городов и даже для наших панов, которые говорили уже, писали и думали по-польски, вера была важнее казацких обид, которыми войсковой писарь возбудил мятежный запорожский дух, — и однакож он умолчал о вере. Она, как ему самому, так и всем участникам его бунта пришла в голову только тогда, когда бунт вовсе неожиданно перешел за пределы интересов казацких.
После своей победы на Желтых Водах, двинулись казаки из Диких Полей к так называемым Городам, иначе к Городовой Украине, и расположились у самого крайнего города, Крылова, над речкою Цыбульником. Многие из них помнили 1625 год; многие стояли здесь под пушками Станислава Конецпольского. Весьма быть может, что те самые пушки везли они теперь против его наследника, которого добра прикрывал жолнерами полевой гетман Калиновский, зная, на кого из магнатов злится Хмельницкий, как злился в свое время Косинский на князя Острожского: ибо в таком виде представлялся тогда бунт войскового писаря. Сам Александр Конецпольский находился в это время в своих червоннорусских Подгорцах. Там он получил из Украины известие, что и князь Вишневецкий «от своей Руси в великом страхе и опасности». Коронный хорунжий спешил в новые осады, и взял сюда с собой из старых 10 пушек.
В Подгорцах о движении казаков знали уже 21 (11) мая, но ничего не ведали в лагере гетмана Потоцкого: так искусно был он окружен казаками и татарскими чатами.
Хмельницкий пресек всякое сообщение между атакованным отрядом и главным войском. Сколько ни посылал Николай Потоцкий так называемых подъездов для добывания вестей, его жолнеры, даже из татар и волохов, попадали в руки хмельничанам, или же привозили известия неопределенные. О положении передового полка он только и узнал, что «слышна издали сильная пальба в Княжих Байраках».
Между тем от короля было получено новое внушение. Король писал, через коронного канцлера, что намерен сам ехать в Украину и своим присутствием привести Хмельницкого к покорности, а потому повелевал коронным гетманам выйти из Украины: ибо «они рискуют войском в стране, которая известна им очень мало, а казакам — очень хорошо».
Справедливость этих слов была поразительна. Потоцкий видел, что, добиваясь напрасно вестей о Хмельницком, он только открывает ему свое положение. Незримые для жолнеров среди своих пустынь, казаки сторожили все их движения, и ловили «языков» для своего гетмана. Но Николай Потоцкий был зол на Хмельницкого за покушения сорвать с него лавры, а этими лаврами он, по словам великого Конецпольского, проложил себе дорогу к бессмертной славе, которая (писал Конецпольский к Владиславу IV), не умолкнет до тех пор, пока будет существовать Речь Посполитая. Кумейский победитель загнался в Дикие Поля для того, чтоб уничтожить в самом начале дерзостное покушение.
Теперь, боясь быть отрезанным от городовой Украины в стране печенегов и торков, коронный великий гетман двинулся обратно в страну варяго-руссов, как это делали бывало его русские предки, чтобы поставить себя под защиту «крепленных городов».
Когда предводимое им войско достигло древнерусского Поросия и миновало Ярославовский Корсунь, восстановленный Баторием, Хмельницкий, в сопровождении татар, настиг его, окружил со всех сторон и принудил к битве, которая повернула круто судьбу Королевской Республики. Поворотное событие произошло 26 (16) мая, между Корсунем и Стебловым, на левом берегу Роси.
По донесению участника битвы, шляхтича-слуги Криштофа Любомирского, Раецкого, писавшего от 28 (18) мая из Полонного, дело происходило таким образом:
Хмельницкий с 40.000 татар подошел в панскому войску 25 (15) мая. Казаки захватили лагерь Потоцкого в весьма неудобном месте, так что надобно было окружить его шанцами. Сделав это, паны вышли в поле, и провели остаток дня в гарцах. Когда войско сошло с поля, Потоцкий велел готовиться на утро к походу табором. Внутри поместил он лошадей, а все войско, окружив табор, шло пешком в боевом порядке. В передней части табора находился коронный великий гетман, а в задней — полевой.
О распоряжении Потоцкого татары и казаки знали уже ночью, не смотря на то, что приказ был протрублен тихо «сквозь мундштук». Они отправили всю свою пехоту вперед, с пушками. Лишь только панский табор двинулся, орда наступила на него сильно со всех сторон. Но от пушечной и ружейной пальбы густо падал татарский и казацкий труп. Татары отступили, и вместе с казаками провожали табор издали, пока не навели его на лесную засеку. Здесь густая перестрелка шла с утра до полуночи.
Пользуясь густотой заросли и сузившеюся дорогой, орда снова начала напирать сильно со всех сторон. В обозе падало много лошадей. Неприятель оторвал едва не третью часть панского табора, но артиллерия была еще цела.
Так панское войско (по рассказу Раецкого) прошло около мили в сильной перестрелке, наконец и в рукопашном бою. На самом выходе из леса находились два глубокие оврага (werteby), один против другого, а за ними — пасека, поросшая высокими деревьями. В этом месте были поставлены в неприметной засаде, на дороге, пушки и с боков и впереди. Когда панское войско вступило с табором в эту западню, грянула густая пальба. Правое крыло очутилось перед неприятелем. Впереди у него был вырытый казаками ров, с одной стороны — табор, а с другой — засека и такой же ров. Между тем как жолнеры были заняты боем, впереди табора татары и казаки овладели артиллерией. То же самое произошло и сзади табора. Тогда татары пошли напролом через табор, взяли в плен обоих коронных гетманов, черниговского каштеляна, Яна Одривольского, и богатого магната, львовского старосту Сенявского.
Не знали еще этого серединные хоругви, боровшиеся на крыльях. Пользуясь зарослями, эти хоругви обстреливали табор, который начал уже опрокидываться в яры. Между тем челядь, сидевшая на господских лошадях, слыша, что гетманы в плену, бросилась вон из табора. Часть орды пустилась в догонку, другая часть, вместе с пешими казаками, наступила на защитников табора. Панское войско было разорвано на части. Одни легли трупом; других перехватали живьем. Ушли только те, которые оборонною рукой добрались до лошадей. В бегстве спасло их только то, что орда сперва гналась за беглецами, а потом в тумане не распознавала и собственных ездоков. Кроме того, множество татар и казаков увлеклось грабежом панского обоза. За бегущими гнались по две, по три, по четыре мили и многих настигли.
Сам Раецкий, первый историк достопамятной битвы, спасся, по его словам, чудом Божиим. Он был ранен казацкой пулей выше глаза и татарской стрелою в ногу. В это время татарин оглушил его, ударив кистенем (kiscieniem) по шишаку. Когда он очнулся в кусте и ждал уже смерти, подоспел к нему товарищ и, обстреливая, дал ему коня-подъездка, который и вынес его из побоища.
Конные беглецы обгоняли множество пеших, но пеших (рассказывал Раецкий) мужики избивали по дорогам.
Расспрошенный вслед за тем кем-то беглый мушкатер дополнил, сколько позволяла ему тревога, сказание панского слуги следующими подробностями:
На помощь тому табору, который был у Желтых Вод, паны гетманы шли, не имея больше пяти тысяч войска. Квартяных было 3.000, волонтеров 2.000. Полковников было два: черниговский каштелян, Одривольский, и «оберстер» Денгоф; ротмистров квартяных гусарских только два: Сенявский и Болобан (по-польски Balaban), а казацких (легко вооруженных) три: Коморовский, Гдешинский, Олдаховский; капитанов четыре: Бегановский, Гордон, Лакестуди, Флик; волонтеров-полковников три: один — Сенявского, другой — князя Вишневецкого, третий — Замойского.
Было это войско уже за Чигирином, только в 16 милях от Желтых Вод. Уже были готовы и хорошие шанцы, а когда пришло известие о великой силе неприятеля, хотели окопать и табор. Потом, неизвестно почему, 13 (3) мая, перенес пан Краковский обоз на полмили по сю сторону Чигирина. Единственное известие об уничтожении желтоводского войска, какое можно было добыть во все время похода, состояло в том, что панские разведчики слышали издали пальбу в Княжих Байраках.
Отступая, панское войско стояло два дня над Днепром под Боровицею, памятною Потоцкому по выдаче Павлюка с товарищами. Теперь, может быть, он и пожалел, зачем было раздражать казаков нарушением данной им Адамом Киселем присяги, что жизнь их будет пощажена!
Неприятель взял такие меры относительно разведчиков, что из четверых ездоков, осмелившихся чатовать за большую плату «для языка», двое попали сами в языки казакам, а из двоих, спасшихся бегством, продавшийся панам татарин (Tatarzyn Przedajczyk) прискакал лежа у коня на крестце, тяжело раненный саблею в зашей.
Хмельницкий достигал своей цели: в неизвестности о судьбе сына, Потоцкий простоял еще и под Черкассами два дня, тогда как ему, с 5.000 воинов, надобно было убираться за добра ума в городовую Украину, за Рось. Только 19 (9) мая узнал он о поражении своего драгоценного во всех отношениях отряда, но подробно ли узнал, неизвестно. Наконец, миновав уже Корсунь, знали паны, что татары переправляются через Тясмин, у местечка Тясмина. [32] Потоцкий стал окапываться, а Корсунь отдал жолнерам на разграбление, чтоб не достался неприятелю.
Рано утром 25 (15) мая видать было в зрительную трубу неприятельское войско в белых сермягах. Догадались, что это казаки (казаки-беляки, как называет их кобзарская дума, в отличие от старшины). Но едва солнце начало всходить, как появился татарский полк на другом берегу Роси, с противоположной стороны Корсуня, потом и другой, и третий. Одни переправлялись ниже Корсуня, другие — через Корсунь (придерживаюсь точных слов реляции). Потоцкий велел зажечь город. Все сгорело, кроме замочка и церкви в стороне.
В виду неприятеля панское войско стояло целый день в поле, занимаясь герцами. В прощальной стычке на ночь захватили паны девятерых татар и казацкого бута, то есть переводчика. На пытках они показали, что татар 47.000, что в тот же день к Хмельницкому пришло более 15.000 казаков, и что у хана еще больше силы в Диких Полях. «После этой исповеди» (говорил мушкатер) «им отсекли головы».
Калиновский (продолжает реляция) весь этот день настаивал на том, чтобы дать битву; но Потоцкий боялся подвергать опасности Посполитую Речь, и говорил, что понедельник всегда был для него в бою днем несчастным. Наконец решился отступать.
Отдан был приказ готовиться в поход, оставить все тяжелые возы, взять одни легкие, для таборованья. Двинулись по Корсунской дороге к Богуславу.
Когда дошли до «несчастной дубровки под Гороховым» (рассказывал мушкатер), начался неприятельский натиск; возы опрокидывались; табор наткнулся на поперечные рвы, которыми казаки перекопали дорогу...
Это было то пагубное дело Хмельницкого и тот важный недосмотр панов полководцев, о котором кобзарские думы сохранили память в следующем обращении казацкого гетмана к своим затяжцам:
Гей, друзі молодці, Браття козаки запорозці! Добре дбайте, барзо гадайте, Від села Ситників до города Корсуня Шлях канавою перекопайте, Потоцького піймайте, Мені в руки подайте.Гибельная местность, по летописному известию, называлась Крутою Балкою. Паны (рассказывал мушкатер) оборонялись в ней четыре часа. Был слух, что легло у них на месте 500 бойцов; остальные, кроме разбежавшихся, взяты в плен.
«Страшное превращение наступило в нашем отечестве!» (писал к примасу Адам Кисель от 31 (21) мая). «Непобедимое для турецкого императора и стольких монархов, оно побеждено одним изменником казаком... Теперь уже рабы господствуют над нами... Откуда мы черпали всяческую силу отечества, все украинные провинции взяли они у нас, как свои, саблею... Киевское, Врацлавское, Черниговское воеводства называют они своими; грозят Волыни, Подолии (червонно-русским землям). Так внезапно, так тяжко этот неприятель растоптал польскую славу и драгоценное отечество наше»!
Оплакав таким образом то, что было неизбежно в силу переделки шляхетной Руси в ляхву и, в силу польской неурядицы, — то, чем судьба грозила Польше издавна, — Кисель обращается к причинам гибельного бунта. «Я видел» (пишет он), «что казаков угнетали и беспощадно убивали больше, нежели простых хлопов (Widzialem kozakow plus, quam prostych chlopow oppressos i pessime trucidatos)». Но замечательно, что, будучи присяжным православником, не упоминает он здесь вовсе о церкви и вере; а к кому бы, если не к примасу, да еще к такому, который чуждался унии, мог он обратиться теперь с православными сетованиями на религиозную нетерпимость католиков, когда бы она вооружила казаков и сделалась причиною общего несчастья поляко-руссов!
Через четыре дня после Киселя писал львовский синдик одному из придворных: «Кончено с нами, мы погибли! (actum est de nobis, periimus!)» — и это было чувство верное... Корсунские недобитки рассказывали во Львове, что Николай Потоцкий, в течение 20 дней, не мог добыть никакой вести о судьбе сына, несмотря на великие награды разведчикам своим, что Шемберку сперва отсекли руки (его подозревали в утайке казацкого жолда), а потом будто бы Хмельницкий собственноручно снял ему голову; [33] что татарская орда представляла уже не рассыпчатую толпу, как прежде, а стройную милицию; что неприятель наступал на панское войско свирепо и с уверенностью в успехе, а паны предавались панике и предчувствовали поражение; что украинская чернь предана Хмельницкому и называет его своим освободителем, а сам он титулует себя русским князем. По словам синдика, во Львове был сильный всполох, точно как бы казаки могли появиться в городе ежедневно и еженочно. Были отворены одни только ворота, загроможденные стечением народа с его пожитками. «Воины среди рынка, воины в ратуше, воины на стенах», писал синдик. Боялись тайных козней со стороны греческой веры. Каждого пугал слух, что Хмельницкий разослал 70 казаков по всей Польше для поджога городов...
Еще больший всполох произошел в Варшаве. Литовский канцлер записал в своем дневнике о казаках, что, «когда бы их не приудержала Божия сила, то наверное могли бы они пройти до самого Кракова и Варшавы без всякого отпора. Ибо такой страх овладел всеми, что больше думали о бегстве, нежели о защите, и хотя подобное бедствие постигло Королевство в 1620 году, когда гетманы были разбиты, один убит, а другой взят в плен, однакож это произошло не в Королевстве и не без короля, пред наступлением зимы и во время внутреннего спокойствия, а теперь — в самих внутренностях Королевства, в самую весну, от вероломных подданных: ибо не только казаки подняли бунт, но и все подданные наши на Руси пристали к ним, «и увеличили казакам войско до 70.000, да и больше еще прибывало к ним русских хлопов, только Хмельницкий отсылал их к покинутому плугу».
Когда литовский канцлер записывал такие страхи в своем дневнике, канцлер коронный получил от Жовковского-Глуха изо Львова следующее донесение:
«Только что прибежал из подъезда, ходившего к Дубну. Пишу, что видел. Его милость пан Сенявский прибыл перед тем в Межибож в сермяге и длинной сорочке. (Только в мужичьей одежде мог он добраться до своих имений). Пан Яскульский (слуга Николая Потоцкого) с ним. Должен (Сенявский) заплатить за себя 20.000 червонных злотых Тогай-бею... Двоих (пленных) татар отдали пану краковскому воеводе (Любомирскому), третий в Острополе. Этот был в раде, когда казаки прощались с татарами и обещали платить им ежегодно дань, а татары должны приходить по уведомлению со всею ордою. Поэтому не пойдут в Крым, а тут отдыхают в Полях с этой стороны Днепра в кутах (na budziakach). Другое условие: чтобы не брали (в ясыр) людей греческой религии, а только ляхов. В самом деле, стоя под Бердичевом, не взяли ничего у пана киевского воеводы (Тишковича), который находится в Заславе, где собирается наше войско, только всюду пьянствовали татары позорно. Если кого из них взяли (в плен), то очень пьяного: ибо у одного пана киевского воеводы (в имениях) выпили 20 бочек вина. В Быстрике не взяли ни малейшей вещи; иногда тайно держали русина... Но когда татары, отдохнув, возвратятся, то будут брать (ясыр) и бить (негодных для ясыра)... Их 120.000. Казаков стоит под Белой Церковью 30.000, и Хмельницкий велел всей Украине быть наготове. Каждый хлоп или убил своего пана, или выгнал в одной одежде с душою и детьми. Города переполнены ксендзами, шляхтою. Хмельницкий разослал шпионов, чтобы доносили ему о наших приготовлениях, о числе нашего войска в поле, и где будут его стягивать. Пан Радецкий схватил одного под Дубном, а другого под Константиновым. Все сказали тотчас, согласно с татарами. В пятницу одного посадили на кол в Константинове, а другой еще жив».
Сводя в одно все высказавшиеся в панском обществе мнения о Корсунской катастрофе, историк останавливается на том, что высказал прибежавший домой в сермяге и мужицкой сорочке потомок знаменитого исследователя татарских Шляхов. У его отца находился в плену Тогай-бей, и пан Сенявский не только возвратил ему свободу, но еще дал в провожатые 60 всадников. Помня благодеяния, татарин показал, что и он не хуже казаков — пиратов, которые по рассказу киевского русича, Песочинского, являя купцам грекам opus misericordiae, захватывали у них деньги да товары. Тогай-беево opus misericordiae состояло в том, что он за свободу молодого Сенявского назначил 20.000 червонцев и отпустил его на честное слово. Но пленный коронный великий гетман поручился за него. И однакож, Сенявский положительно высказывался, что Потоцкий под Корсунем потерял бодрость духа. По словам Сенявского, он окопался было на удобной позиции, имел в обозе аммуниции и съестных припасов на два или на три месяца, и мог бы дать отпор неприятелю; но не послушался совета опытных воинов, и согласился с мнением людей неизвестных.
Робость его сообщилась и другим, несмотря на мужество и опытность. Так рассказывал львовский староста Сенявский, и весьма правдоподобно. Потеря сына и самая неизвестность о его судьбе и судьбе отряда, составлявшего цвет панского войска (flos militiae nostrae), должны были истомить душу панского фельдмаршала, а старость и болезненность довершили нравственное изнеможение. Ревнитель благочестия, Ерлич, не пощадивший в своих записках и Петра Могилы, полонизованного одинаково с ним борца за веру, изобразил престарелого борца за дорогую и ему самому Шляхетчину в отвратительном виде [34]. Не таким воителям следовало вверять судьбу отечества, да видно такова была Польша на растленных высотах своих.
Кто знает, какие мысли и чувства томили расслабленного духом и телом фельдмаршала под Корсунем? Может быть, он вспоминал не одну Боровицу, где он коварно, иезуитски коварно подставил казакам единоверца Киселя. Может быть, памятны были ему и «десять сотен» искорчившихся на кольях мертвецов на Заднеприи, которые долженствовали обеспечить за его домом славу спасения отечества, «доколе будет существовать Польша». Он знал по опыту, что казаки, уступая панам в военном искусстве, не уступали им нисколько в наследованной от варяго-руссов талантливости. Глядя на обступивших его хмельничан, он, без сомнения, вспоминал изумительного воина, Дмитрия Гуню, достойного гомеровских песнословий, — и старое сердце его упало...
Из своего сиденья в неволе Потоцкий прислал двоих слуг-шляхтичей, из которых один, Яскульский, войсковой стражник, должен был представить королю реляцию о погроме войска. Не найдя короля в живых, слуги Потоцкого представили реляцию (от 9 июня, 30 мая) подканцлеру Лещинскому. Прежде всего они в ней объяснили, что заставило коронного гетмана отступить от Корсуня, где он хотел было сидеть в осаде. По их словам, казаки, в одной миле от Корсуня, у Стеблева, стали отводить воду, так что река Рось вдруг начала мелеть. Об этом записал в дневнике своем и литовский канцлер. «Казаки и татары» (говорит он), «облегши наше войско и воду куда-то спустивши, привели наших к решимости отступать». Но казаки не облегли еще панов, и панам рано было приступать к таким чрезвычайным действиям. Казаки могли пустить между ляхов только молву о своей гидравлике, чтобы маскировать свое пионерство в Крутой Балке.
По рассказу войскового стражника, у Хмельницкого было 12.000 казаков, у Тогай-бея 40.000 татар; в том числе астраханских, никогда не бывавших в Польше 4.000, ногайцев 12,000, белгородских и буджацких 20.000. Неприятелю достались и те деньги, которые привез Потоцкому Будзынский для уплаты Запорожскому войску, — более 70.000. Недоставало все-таки 230.000.
Орда (писали слуги Потоцкого) расположилась у Белой Церкви. С одной стороны татары, с другой — казаки. У татар набралось уже более 200.000 ясыру, но они продолжают еще брать. Тогай-бей хвалился перед своим знаменитым пленником, что теперь они заключили с казаками договор на сто лет; что теперь им не страшно воевать не только с польским королем, но и с турецким султаном, и что не выйдут из пределов Польши до тех пор, пока им не доплатят гарач, а казакам — жолд, итого 800.000 злотых.
Интереснее всего рассказ шляхтича Собеского, которого казаки схватили на пути из Кодака и привели к Хмельницкому. Не знал еще тогда Хмель о смерти короля, и отпустил Собеского под условием, чтоб он объявил панам «некоторые puncta». Собеский рассказывал на конвокационном сейме официально, что Хмельницкий желает мира и просит помилования, с тем чтоб его оставили при его правах. Он говорил Собескому, что на челны дал ему деньги король, а на вопрос: зачем вы (казаки) так поступили с Речью Посполитою? отвечал: «Я, с моим товариством, был очень огорчен, притеснен и обижен (utrapiony, ucisniony и ukrzywdzony), а правосудия найти не мог. Набрался б (у нас) прошений к его королевской милости огромный короб, да король его милость хоть бы и хотел явить правосудие, никто его у вас не слушает (nikt go и was nie slucha): поэтому он велел нам добывать свободы саблею».
Собеский находился в плену у Хмельницкого пять дней и слышал между казаками, что он сперва держал с есаулами своими тайную раду, а потом объявил пленникам, что «вы, бедняки, называющиеся теперь шляхтою (wy, chudzi pacholcy, со sie teraz slachta chrzcicie), будете боярами, а только паны ваши будут шляхтою, а король единою главою, которого одного будем слушать и вы и все мы».
Но Собеский не все еще высказал: остальное сохранил для более секретного заседания (ad secretiorem sessionem), и до нас не дошла его тайна.
Так отразилось в центре Королевской Республики событие, повернувшее круто судьбою Польши. Герой этого события, Хмельницкий, долго не двигался от Белой Церкви. Неизвестно, с каким чувством смотрел он на беззащитную родину, кругом пылавшую пожарами, кругом представлявшую сцены пленения, насилия, убийства. Но она была беззащитна до такой степени, что татары открыли в ней повсеместно базары, на которых смелые купцы, и в особенности налетевшие из Московского царства, вели с ними и с их друзьями, казаками, обширную и разнообразную торговлю. Добытые без труда изделия фабрик, ремесел и продукты сельского хозяйства продавались добычниками за бесценок; а забираемые в ясыр люди вздешевели до такой степени, что за одного коня татарин давал шляхтича, или несколько мужиков. Окрестности Махновки, Бердичева, Белополья, Глинска и Прилуки над Собом первые испытали разницу между панским и казацким присудом.
Зато другая половина Русского света, во главе которой стояла Москва, начинала уже возмещать грабежи, сделанные в ней, со времен оных, шляхетною и казацкою Русью, натравляемою поляками, — возмещать, покамест, руками только своих торговых людей, — так что и сокровища царской казны, и раки московских чудотворцев обещали вернуться, если не в прежнем, то в превращенном виде на север, где столько времени хозяйничала казако-шляхетская орда, устремляемая к сердцу нашего расторгнутого отечества римскою политикою Польши. Сама судьба, по-видимому, благоприятствовала восполнению ущерба, причиненного поляко-руссами москво-руссам. В казацкой Украине, как и в Крыму, был тогда голод, и царь Алексей Михайлович повелел вывозить в единоверную страну хлеб, соль и всякие товары. Таким образом москво-русские драгоценности возвращались теперь домой за москво-русские продукты первой необходимости.
Когда скончался потаковник беспощадной Самозванщины, Сигизмунд III, поляки нарядили его в «привезенную из Москвы тяжеловесную корону», слишком тяжеловесную, по слову поэта, даже и для такой головы, которая основала было в Москве новую династию; а кто может сказать, из чего делались драгоценные панские ржонды [35], которыми щеголяли ренегаты русского элемента Потоцкие, Сенявские, Собеские? Теперь добыча кровавого меча и жадных рук начала возвращаться вспять, между тем как татаро-казак «так внезапно, так тяжко растоптал польскую славу и польское отечество». Два народа, простиравшие виды на господство между морей и океанов, вступили в новый период соперничества.
В то время, когда на татарских пограничьях польско-русского государства происходили действия разрушительные, общественный организм государства москво-русского устремлял все еще свежие силы свои к целям строительным.
В Польше, как мы знаем, проповедовалось так называемыми даже и в наше время народными пророками, — что «это дикие звери, которые живут только ночью» [36], и такое определение относилось не столько к москалям чернорабочим, торгующим, воинствующим, сколько к правоправящим. Они со своим царем во главе, со своими архиереями, боярами, думными дьяками и всею нисходящею светскою и духовною иерархиею, по словам польских просветителей, представляли «фурию, вечно стремящуюся в Польшу». [37] С своей стороны и те, которые формировали мнения общества московского, не щадили мрачных красок для изображения Польши, с её панами, с её светскими и духовными властями в самом ужасном виде, как это делает и современная нам велико- и малорусская беллетристика.
Но из областей, доставшихся Владиславу IV по Поляновскому миру, беспрестанно бегали в зверскую Московию не только хлопы, но и шляхтичи, а из-за нового московского рубежа уходило под власть «бесчеловечных панов» такое множество крестьян, что царское правительство нашлось вынужденным объявлять в пограничных торговых местах, что тем боярским людям, которые вернутся на «старые печища», дана будет «воля», то есть они, с потомством их, будут жить не за боярами, а за государем. Существует в архивах обширная переписка, относящаяся к удерживанью барских мужиков от переселения в панские именья и вызова их обратно из польской Руси в московскую.
Выходит, что не таковы были московские порядки, какими их описывали польские «народные пророки» да наши казаки, и не таковы были паны ляхи и поляко-руссы, какими их изображают у нас историки да беллетристы.
Сами по себе это предметы мелкие, не удостоиваемые названия явлений исторических. Но побега крестьян с обеих сторон и сношения по поводу этих побегов между королевскими, крайне распущенными, и царскими, крайне исполнительными властями, привели два соседние общества к мысли, которая осуществилась путем войны, но могла бы осуществиться и без человеко-истребления, путем необходимости.
Королевские шляхтичи, в борьбе с можновладством и продуктом его — разбойным элементом, развившимся во всех сословиях и состояниях, завидовали обитателям царства Московского, которое наши монахи называли страною тихою, и в особенности стали завидовать в то время, когда на престоле, поколебленном Иваном Грозным, Борисом Годуновым и Василием Шуйским, воссел Алексей Михайлович Романов, получивший от своих подданных прекрасное название Тишайшего Государя.
Хотя Владислав IV был очень популярен и не пренебрегал, во время вечной охоты своей, гостить даже в хлопских избах; но польские «королята» (krolewieta), со всеми партиями и беспрестанными ссорами, не давали покоя мелким землевладельцам, а шляхетные слуги их, их жолнеры казаки, — были, можно сказать, ордою, постоянно буйствовавшею, как выражались они, в недрах государства (in visceribus regni).
Обижало мелкопоместную шляхту и то, что магнаты, при известной сноровке, отхватывали на свой пай громадные вотчины и королевщины (krolewszczyzny), которые должны были быть общим достоянием заслуженного шляхетства. Обижало и то, что великие паны, получив за свои заслуги и без всяких заслуг, по десяти и более староств, пускали в аренду жидам не только села, но и пограничные замки, которые, в жидовских руках, обращались в развалины, тогда как «рыцарская шляхта» могла бы здесь быть на своем месте и, зарабатывая кусок хлеба, охранять край от набегов и разбоев. Но всего больше жаловались мелкопоместники в Королевской земле — на её бессудность.
В ответ на эти сетования и жалобы царские, должностные люди говорили им: «Наш великий государь достоин содержати (кроме Московского) и множайшие царства и власти. Наш государь его царьское величество зело к ратным людям милостив. Даролюбивый у нас государь: жалует он имения и власти по достоинству. Суд у него прав и непоколебим. Наш великий государь, царь и многих земель обладатель, имеет мерило праведное, и многих скиптродержавных властодержателей (они были начитаны в церковной письменности, и выражались в подобных случаях витиевато) его царьское величество премудростью и храбростью превосходит».
«Вот если бы нас привел Господь под царскую высокую руку!» (говорили царским людям люди королевские по смерти Владислава IV). «Слышно у нас, что многие хотят на польский престол звать вашего царя, как в старину призывали великого князя литовского».
«Что же?» (отвечали царские люди). «По Божию дарованию, государю нашему вольно и на вас милостивые свои щедроты излияти, яко же и на прочих от Бога данных ему людей под его царскую высокую руку».
В самом деле вся шляхта и мещане в Новегороде Северском и в Новгородском повете, а равно так называемые белорусцы, иначе литовские люди, в Киеве, Чернигове и других малорусских городах — о том только и говорили, «чтобы Господь Бог по их желанию исполнил и учинил великого государя царем над обоими государствы, на Московском и на Польском, и чтобы великое государство Московское и Польское были заодно».
Донося об этом царю с привычною точностью, без каких-либо суждений, пограничные воеводы передавали ходячий слух, будто бы даже «коснер (канцлер) корунный, Юрьи Осолинской, в листах своих писал из Польши к новгородскому полковнику, Понентовскому: Посполитая де Речь, государь, хотят быти под твоею царьского величества высокою рукою и тебя, великого государя, царем иметь, и Московскому Государству с Польским Государством заодно быть».
Как бы ни думали в Москве о письменных сношениях «корунного коснера» с пограничным офицером по такому важному предмету, но донесение царских людей было принято, как дело серьезное. На обороте подлинника читаем помету: «156 (1648) года июня в 13-й день. Государь слушал и бояре. Указал государь послать свою государеву грамоту в Севск к воеводам: велеть за рубеж послати нарочно, кого пригожь, и велеть проведать подлинно о всяких вестях против сее отписки; а проведывать велет тайным обычаем».
Трудно вообразить контраст больше того, какой представляли два соперничавшие государства. Одно стояло на поблажливости и снисходительности к преступлениям; другое — на строгости и грозе. Однакож, в поблажливом государстве люди томились бессудьем, и сама шляхта, орган законодательной власти, мечтала издавна о переходе под строгое и грозное правление. Теперь, когда её желания, неведомо для неё, приближались к исполнению, дух польской государственности высказывался, под пером Адама Киселя, в такой форме:
«В нашем вольном народе» (писал он к царским боярам в апреле 1648 года) «ни приказом, ни суровством, ни наказанием, ни смертию, точию разумом, вся лучшее промышляюще во всем чине поставляются и утверждаются».
Но прославляемая поляками национальная и общественная людкость (слово прекрасное) до того подрывала основы государственности, что москаль, якобы порабощенный царским деспотизмом, с высоты своего превосходства читал следующее наставление «вольному народу», в лице его пограничного представителя, смоленского подвоеводия, который остановил было его в посольстве из-за домогательства взятки от ехавшего с ним купца.
«Если бы мне купец и брат родной был, и я бы великого государя нашего дел и на кровного своего, да и всего света на богатство не променял. То всех нас царского величества подданных повинность, что дел его царских остерегать паче голов своих, а не токмо что для своей корысти и пожитку государственным делам помешку делать, как ныне подвоеводье делает для своей корысти и пожитку с таким великим государственным делом».
И действительно, царское посольство, приостановленное смоленским подвоеводием, долженствовало разрешить в Москве вопрос: спасать ли Польшу на краю гибели, или же оставить ее падать в такую яму, какую она рыла некогда под ногами Москвы?
Между тем по путивльским, чугуевским и белгородским «сакмам», или сторожевым пунктам, где стояли стрельцы и заставные головы, меняясь одни с другими «доезжими памятями», — с самого начала бунта Хмельницкого, казацкие забронники, или, как их называли царские люди, воры черкасы, и производили грабежи и разбои, подкрадывались по-татарски к московским сторожам и к пограничным селам, в числе пяти, двадцати и до двух сот человек, «нарядным делом», то есть в полном вооружении; побивали сторожевых стрельцов, отнимали станичных лошадей, ружья и всякую рухлядь. Иногда воры черкасы появлялись одни, иногда — вместе с татарами, и это повторялось так часто, что по реке Северному Донцу и по соседней степи не было за ними проезда. Даже те казаки, которые сидели пасеками с польской стороны по речкам Мже, Удам, Комольше, стали разбойничать на Донце и под Чугуевым. Воры черкасы, по зову Хмельницкого, вооружались на счет единоверных и единоплеменных пограничников за веру, честь и прочая, как проповедует малорусская историография [38].
Все своевольное и беспутное почуяло, что с Низу Днепра веет ветер, благоприятный для диких инстинктов и привычек. Во всех «корчмах-княгинях», во всех разгульных «кабаках» и «шинках», где от казацкого хмелю валились печи и «за сажей не видать было Божия свету», как это воспевается в кобзарской думе, у всех «степных шинкарок», этих «Настей кабашных», где казак за свои «воровские» деньги живился грубыми наслаждениями жизни, на всех базарах и ярмарках — распевали тогда песни, которых полузаглушенные временем звуки донеслись и до нас:
Ой із Низу Дніпра тихий вітер віє-повіває, Військо козацьке запорозьке у похід виступає. Тілько Бог святий знає, Що Хмельницький думає-гадає...В самом деле, мудрено было угадать мысли человека, который, по словам крымских «полоняников», обещал «служить хану вечным холопством», не предвидя, что у него будет в руках не хутор с тясминскими слободами да пасеками, а целое государство.
Испугался ли он своего успеха, боялся ли врезаться глубже в Королевскую землю, чтоб Орда в самом деле не взяла казачество в свое вечное холопство вместе с опустошенною Украиною, или же ему страшно было поднять на себя шляхту, сгущенную бегством во внутренних областях?..
Неизвестно, почему он остановился у самого входа в область городских и сельских промыслов, на Ярославской колонизационной границе, на «Рси». Этот его поступок до того был загадочен, что литовский канцлер приписывал его Божеской силе.
Хмельницкий, вероятно, и сам не знал, что ему делать, — ему, который хотел помститься над можновладником Конецпольским за обычные в Украине обиды, и, точно во сне, увидел себя победителем коронных гетманов. Новость и опасность его положения между татар и Руси, между бродяг и землевладельцев, между безхатников казаков и обладателей вооруженных замков, между православных и папистов, наконец между Крыма, Москвы и Польши, озадачивала его, надобно думать, так сильно, что он больше прежнего начал поддаваться казацкой привычке к беспробудному пьянству, которое привело его к смерти задолго до периода старческой немочи.
Он окружал себя — то странствующими монахами, то колдуньями и ворожеями. Лишь только занял он Белую Церковь, к нему хлынули чернецы и черницы за милостынею, теперь, очевидно, не такою скудною, какую получал от жмайловцев и тарасовцев голодный киевский митрополит. Но это была монастырская чернь, имевшая теперь так мало общего с «духовными старшими», как мужики с панами. Напротив то духовенство, которое скиталец Филипович называл Могилянами бежало из Киева вместе с латинскими ксендзами, униатами, шляхтою, жидами, армянами и всем зажиточным народом. Адам Кисель уведомлял об этом примаса из своей Гощи, от 31 (21) мая, среди важных сообщений и политических соображений, в таких словах:
«Хмельницкий объявил Киев своею столицей, и хотя все первенствующие люди, как духовные, так и светские всех религий (unicujusque religionis) бежали, он приказал оставшейся черни готовиться к его приезду».
Наши историки, не стесняясь характером тогдашней церковной иерархии, пишут, будто бы замысел Хмельницкого благословляли даже такие люди, как Петр Могила. Но Хмельницкому стоило немалого труда остановить бегство духовных старших насильством и обещаниями. Это бегство грозило уничтожить пущенную в народ молву, что казаки поднялись на ляхов за веру. Хмельницкий был настолько сметлив, чтобы сохранить кажущееся согласие между церковью и казатчиной. Он озаботился устроить при митрополите стражу, которая бы охраняла его спокойствие среди революционного движения, но которая в сущности держала его под надзором казацкой полиции.
Обезопасив себя с этой стороны, победитель коронного и панского войска послал в Варшаву четверых старшин с оправдательным письмом к королю, как бы не зная еще о его смерти.
Он жаловался на украинских старост и землевладельцев, которые де вот уже столько лет отнимают у казаков хутора, луга, сенокосы, ставы, млины, взимают десятину с казацких пчел, хоть бы и в королевских имениях; кому что у казаков понравится, тотчас берут силою, а самих обдирают, бьют, тиранят, сажают в тюрьмы, и наделали много раненых и окалеченных в нашем товариществе; а казацкие полковники, будучи их рукодайными слугами, не только не обороняют нас от таких угнетений, но еще помогают им в этом, и даже жиды, надеясь на старост, чинят над казаками великое самоуправство (wielkie zbytki), «так что и в турецкой неволе» (писал Хмельницкий) «невероятно, чтобы христианство переносило такие беды, какие причиняются нам, подножкам вашей королевской милости».
Но в чем состояло самоуправство, от которого страдало христианство в Украине, Хмельницкий промолчал, и обратился снова к обидам, не касающимся религии.
«Мы знаем» (продолжал он), «что это самоуправство чинили они над нами в противность вашей королевской милости. Всё бывало приговаривают: «Вот вам король! Ну, что? поможет вам король, сякие-такие сыны»? Поэтому, будучи не в силах больше терпеть такие притеснения и безвинное мучение, не могли мы уже от своих великих бед усидеть и в домах своих, а, покинувши жен, деток и всю убогую худобу свою, были принуждены мы, часть нашего войска уносить из великой неволи куда можно головы свои только с душами, и некуда больше, как на обычные места наши, на Запорожье, откуда предки наши с давних веков привыкли Польской Короне и вашей королевской милости, нашему милостивому пану, отдавать верное подданство свое и услуги».
Это письмо напоминает воззвание Павлюка к реестровым казакам самим тоном и складом своим. Хмельницкий пел павлюковскую песню, которую, по всей вероятности, он же, в звании войскового писаря, сочинял и для предыдущего бунта.
«Но и тут на Запорожье (продолжал он, очевидно, списывая написанное за Порогами) «не давая нам покоя, и не обращая внимания ни на какие привилегии, которые мы имеем от вашей королевской милости, нашего милостивого пана, наши войсковые вольности и самих нас обратили в ничто. В том сам Господь Бог нам свидетель, что мы, будучи в верном послушании вашей королевской милости, не учинили никакого своевольства и не заслужили никакой кары (ani na nic zlego nie zarobili). Но его милость, пан Краковский, о котором не думаю, чтоб он был добрым приятелем вашей королевской милости, нашего милостивого пана и, вероятно, с его позволения делались над нами такие тиранства, — наступил и туда на нас на Запорожье с войском своим, а Украину опустошил, с намерением, как видно, искоренить и наше казацкое имя, или прогнать и с земли. Но мы не желаем, пока живы, отрешиться от благоволения вашей королевской мплости. Мы по неволе, видя, что, против воли и повеления вашей королевской милости, нашего милостивого пана, наступили на нашу жизнь с великими войсками, должны были воспользоваться помощью крымского хана, который помог нам в этом случае, помня, что мы им также несколько раз помогали в таких несчастьях и спасали от неприятелей. Так должно было случиться по Божию Провидению, что при сухих дровах и сырым досталось. Кто тому причиною, пускай сам Господь Бог судит. А мы, как до сих пор были верными подданными вашей королевской милости, так и теперь не преминем и готовы на всякой службе Речи Посполитой против каждого неприятеля жертвовать жизнию своею за достоинство вашей королевской милости, нашего милостивого пана. И Крымская Орда до сих пор, заключив с нами договор, ни под каким видом не вторгается в государство вашей королевской милости. Посему униженно просим вашу королевскую милость, нашего милостивого пана, чтобы, явив над нами, нижайшими подножками своими, отеческое милосердие и невольный сей грех нам отпустив, благоволили повелеть — оставить нас при давнишних наших правах и вольностях, якобы сами священною особою своею, и мы бы, нижайшие слуги вашей королевской милости, не терпели больше этой неволи. Мы же снова при верном подданстве нашем, с униженными служебниками, под ноги маестата вашей королевской милости, нашего милостивого пана, нижайше и покорнейше отдаемся». [39]
В виду того, что предшествовало этой манифестации и что за нею последовало, стоит вникнуть в смиренное и покорное оправдание казака, наступившего панам на горло. Она была подписана так:
«Вашей королевской милости, нашего милостивого пана, нижайшие подножки и верные подданные. Богдан Хмельницкий на это время старший Запорожского войска вашей королевской милости».
Вместе с оправдательным письмом послы Хмельницкого представили панам и свою инструкцию. Она сохранилась и в кратком, и в более пространном изложении. В ней частью повторяется сказанное в самом письме. Но следует обратить внимание на то, что оправдательное письмо было писано 12 (2) июня и подано примасу, как видно из пометы, die 7 Julii, тогда как «Пункты Инструкции», в кратком изложении, помечены 9-м июля, а в более пространном не помечены вовсе. Дело в том, что важнейший и самый тяжкий для панов пункт о религии помещен в самом конце инструкции, тогда как об этом важном предмете вовсе не упомянуто в петиции к королю. Читателя, наслушавшегося от историков сказок о казацкой борьбе за церковь и веру, поражает в этом пункте посольской инструкции то, что казаки умалчивают о «Казацкой Украине», и хлопочут о тех провинциях, где казачество вовсе не существовало. Вот этот пункт:
«Касательно же нашего духовенства стародавней греческой религии усердно просим, чтобы она была ненарушима, и те святые церкви, которые насильственно взяты под унию, как в Люблине, в Красном Ставе, в Саноке и в других местах приневолены, чтобы оставались при давнишних вольностях».
Посольством к несуществующему королю Хмельницкий давал панам понять, что нет им надобности принимать меры обороны от казаков, и что казаки удовлетворятся только возвращением к тому положению, в каком находились до сеймового постановления о них 1638 года. Раздельность панских интересов подавала Хмельницкому надежду, что те из магнатов, которые владеют в Малороссии вотчинными и ранговыми имениями, перессорятся с теми, которые не участвовали в колонизации малорусских пустынь, но завидовали колонизаторам и сваливали вину казацкого бунта на их жадность к обогащению. В то же самое время всевал он рознь между католиков и православных, между католиков и униатов (вспомним, как Лев Сопига обвинял ревнителей унии), а протестантам намекал, что, с помощью казацкого войска, они могут поставить свою церковь наравне с католическою, как пытались это сделать в 1632 году. Деля таким образом панское общество на части, Хмельницкий надеялся, что не вся Речь Посполитая встанет против него и, в своей раздельности, даст казакам возможность овладеть Украиной.
Может быть, на эту мысль навели его письма, найденные в бумагах Потоцкого. К числу магнатов, отстаивавших казаков против Потоцкого, принадлежал и краковский воевода, Станислав Любомирский, человек весьма влиятельный между панами. Дней через пять после Корсунского погрома, Хмельницкий выразил свою благодарность за его покровительство в письме к его белоцерковскому подстаростию, Черному, предостерегая подстаростия, что «во множестве войска есть и злые люди», так чтобы он стягивал подданных пана своего из сел, ближайших к городу, а в более далеких, чтобы народ соединялся в большие купы с своею худобою. «Мы бы с радостью вернулись отсюда» (писал он, вполне уверенный, что письмо полетит к пану воеводе), «но узнали, что еще множество таких неприятелей идет против нас, каков был его милость, пан Краковский: поневоле должны мы к ним спешить. Да будет воля Божия»!
Спустя дней десять, написал Хмельницкий такое же тормозящее письмо и к князю Доминику Заславскому, богатейшему из польско-русских панов, о притеснениях и тиранствах, претерпеваемых казаками в течение последних десяти лет. В этом письме он говорит о Потоцком так: «Его милость пан Краковский, наступивши с великими войсками на наши дома, опустошив почти весь край наш и обративши в ничто имущества наши, погнался было за душами нашими и на Запорожье».
В письмах к панам он смиренно называет себя старшим Запорожского войска, не давая себе права титуловаться гетманом, подобно Косинскому и Наливайку, которые, в виду поставленных правительством старших, подписывались гетманами в письмах к королю и коронному канцлеру. Что касается инструкции казацких послов, то она говорила о таких предметах, которые могли возбуждать в панах только национально-польскую людскость и тем самым делить их на умеренных и жадных, на добрых и злых. Она интересна для нас в том отношении, что характеризует быт казака и его социальное значение. Прочтем ее в более полном виде:
«1. Жалуются (казаки) на их милостей панов державцев и урядников украинных, что, имея нас уже в своей воле, поступают с нами не так, как следовало бы с рыцарскими людьми и слугами его королевской милости, но еще хуже, нежели с невольниками своими: такие чинят самоуправства и нестерпимые обиды, что мы не свободны не только в наших имуществах, но и в самих себе.
2. Хутора, сенокосы, луги, нивы, пахать, ставы, млины, что бы только которому пану ни понравилось, отнимают у казаков силою; сажают в тюрьмы, убивают нас до смерти за наши добра, и наделали раненных, искалеченных в нашем товариществе множество.
3. Десятинные, пчельное и поголовщину, хотя живут (казаки) и в добрах его королевской милости, берут у некоторых, наравне с мещанами, что есть лучшего.
4. Казацким сыновьям не дозволено держать при себе их старых матерей и родных отцов. Прогонять же старых родителей не следует. Казак должен и перед паном за них отвечать (i grzech musi za nich Panu kozak czynic), и всякую войсковую повинность отбывать.
5. Женам казацким, не то чтобы до трех лет, но и одного года, как бы стара ни была, не дозволяется посидеть (на грунте) без мужа, хотя бы у них были и сыновья на службе. Тотчас поворачивают их, наравне с мещанами, в панские налоги.
6. Полковники наши обходятся с нами не по своему обещанию и присяге. Не только не обороняют нас в каких-либо обидах от них милостей панов урядов, но, еще помогая им обижать нас, что бы которому у нас ни понравилось, добрый ли конь, или оружие, или другое что, — надели ему под видом покупки, а не наделил, размышляй тогда о себе, бедняга казак!
7. Вола или яловицу не запирай в особом месте. Сено в стогах, хлеб в скирдах и на нивах жатый жолнерская челядь берет силою.
8. Когда зайдем на Запорожье не установленною стражею (nie zwyczajna zaloga), и там на Днепре паны полковники в свободном пользовании нашем делают нам великую неволю. Как же теперь, не имея возможности бывать в морских добычах, может вызволиться казак своим трудом? Кто промышляет зверем, кто рыбою, считайся и с этим. Кто ловит лисиц, у тех берут по лисице от головы каждого казака, хоть бы было и 500; а не поймает лисицы, то отбирают самопалы от казаков. Кто бы ловил рыбу, давай подводу и на пана полковника. Если нет коня для доставки, доставляй по воде своими плечами, или плати.
9. В полевой же добыче, когда сам Господь Бог пошлет счастье, что возьмешь в ясыр не то старых татар, но и малых татарят, которые принадлежали нам Войску, чем бы убогий казак приоделся, — и то все поотнимали у нас, так что не для чего и трудиться. Иногда также случится заяц, стадо, кони, овцы, скот, — со всего этого паны полковники вместе с панами жолнерами наберут себе что будет лучшего, сколько им надобно, а нам, бедным казакам, и по одному не достанется, и то — что есть горшего из браку. Рискует (казак) жизнью ни за что.
10. Найдя какую-нибудь прицепку к казаку, чтоб содрать с него, что увидят, тотчас его в тюрьму. Искупай же, бедняга казак, свою душу! Ко всему этому, трудно даже исчислить все другие нестерпимые обиды, как нас гонят на работы и в подводы.
11. А что была воля его королевской милости, нашего милостивого пана, когда повелел было нам всемилостивейше, чтобы мы шли на море, — для чего мы получили на челны деньги, и назначено было приписать к нашему Запорожскому войску еще 6.000, то мы, имея наших старших иссреды себя, обещаем и клянемся совестью своею, что не будем принимать сверх того ни одного, так как не в 6.000 войска привыкли мы служить столь великие службы его королевской милости и всей Речи Посполитой, а разве большею купою.
12. Просим также униженно, чтобы заслуженный жолд, которого не видим уже пять лет, дошел до нас вполне, при комиссии».
После того следует приведенная выше просьба о вере, написанная без той реальности, с какой хоть и не совсем складно, изложены 12 пунктов.
«Обо всем этом» (заключают свою посольскую инструкцию казаки) «послы наши, упавши к милостивым ногам его королевской милости, нашего милостивого пана, будут просить от нас как нельзя прилежнее и покорнее, чтобы мы вполне и ненарушимо могли оставаться при всяческих наших войсковых вольностях, как от бывших святой памяти польских королей дарованных и привилегиями утвержденных, так и от его королевской милости, счастливо над нами царствующего короля».
Отвлекая таким образом внимание «королят» от военных приготовлений, Хмельницкий зорко следил за сношениями Польши с Москвою, которая, по мирному договору, заключенному с нею стараниями Адама Киселя, была обязана помогать полякам против татар, как и Польша — Москве. Одно из писем Адама Киселя, относящихся к этому предмету, попало в руки Хмельницкого. Зная сношения царя со шведами о том, как «поотомстить полякам за тот вред, который они причинили земле его и народу»; зная, что и в предыдущие бунты побитые за Росью и над Сулою казаки были приняты царем на московскую почву; зная, сверх того, что вся Северщина, Киевская земля и Белоруссия проникнуты мыслью о соединении Польши с Москвой под одной короною, — Хмельницкий написал к царю письмо, в котором относительно соединения государств повторял то, о чем доносили в Москву пограничане воеводы, представил казаков «помирающими за старожитную греческую веру от безбожных ариан», извещал царя о своих победах и предлагал ему свои услуги в войне против ляхов.
Когда на это письмо ответа не последовало, а перехваченные казаками письма царских людей к панам дали понять казацкому бунтовщику, что царь остается верен оборонительному договору с Польшею, — он дерзко высказал свою досаду путивльскому воеводе: «Дай же, Боже, чтоб и всякий неприятель нашего войска Запорожского так же шеи уламал и потехи не относил, как ныне ляхов Бог помогл нам надсломити»!
Все пограничные воеводы получили из Москвы наказ посылать за рубеж расторопных людей для проведыванья, что делается в Польше, и за что у черкас учинилась война с ляхами. Сохранилось множество донесений, основанных на словах разведчиков, которыми были обыкновенно люди торговые, как наиболее заинтересованные в такой миссии, наиболее бывалые, а главное — наименее в глазах панов и казаков подозрительные. Они приносили к пограничным воеводам, вместе с точными вестями, много неверных слухов, какими пробавлялись тогдашние рынки, постоялые дворы, священнические дома и монастыри.
Несколько раз было, например, донесено в Mоскву, что король Владислав умер в марте, а не в мае. Доносили также, будто бы короля убил князь Вишневецкий; будто бы сына Потоцкого казаки расстреляли; будто бы его посадили на кол под Киевом, и тому подобные небылицы. Получались в Москве известия и такого рода:
«Сын Николая Потоцкого учился в одной школе с сыном Богдана Хмельницкого, и побранясь де Богданов сын Хмельницкого с Николаем сыном Потоцкого, погрозил ему, что за насильство Потоцкого над его сыном он, сын Хмельницкого, только де даст Бог взмужает, и он ему, Потоцкого сыну, то отомстит. И Потоцкого де сын то сказал отцу своему, и Николай де Потоцкой велел Богданова сына Хмельницково, как он ехал из Киева к отцу своему, на дороге изымать и его у себя во дворе убить, обсекши руки и ноги, весне 156 (1648) году, а жену Богдана Хмельницково с дочерью взял Потоцкой к себе. И за то де Богдан Хмельницкой собрал войско черкаское и призвал к себе крымских татар, и все войско королевское черкасы побили, и гетмана Николая Потоцкого и польного, и Николаева сына Потоцкого, Петра, и многих знатных людей поймали; и Петра Николаева сына Потоцкого Хмельницкой казнил на поле перед отцом ево за своего сына».
Подобные вести варьировались бесконечно, давая материал современным летописцам и кобзарям для изображения того, чего даже не могло и быть. Но вместе с ними отовсюду, начиная с Белой Церкви и оканчивая Смоленском и Дорогобужем, приходил столь же нелепый слух, что казаки бьются с ляхами за веру. Даже такие люди, как дорогобужский мытник, жид Давид, даже заезжие немецкие приказчики, наконец, и сами «ляхи» в Белоруссии — твердили в один голос: что «война с казаками учинилась за веру»; что «казаки с ляхами завоевались за веру»; что «бьются казаки с ляхами за веру».
Бегство монахов за московский рубеж продолжалось. Местные власти, от имени оставшихся игуменов, просили пограничных воевод вернуть их, как воров, похитивших церковное серебро, книги и даже одежду братий своих. Но беглецов препровождали в Москву и царская дума выслушивала от них (не выражая ни в каких наказах собственного воззрения на казацкий бунт): что «поляки на них похваляются: как де они с казаками запорожскими управятся и они де христианскую веру греческого закона искоренят, и церкви христианские разорят, а их, чернцов, побьют всех, чтоб от них, чернцов, впредь бунтов не было».
Эти последние слова вовсе не выражают, чтобы малорусские монахи принимали непосредственное участие в казацких мятежах, хотя казацкие историки рассказывают, на основании современных выдумок, будто бы львовский владыка посылал порох и свинец казакам Хмельницкого, а луцкий — даже пушки, называвшиеся гаковницами. (Об этом будет у меня речь в своем месте). Но вопли попов и монахов, изгоняемых из церковных имуществ для водворения в них тех, которые отвергли «схизму» во имя единения церквей, или тех, которых сместили, по Филиповичу, могиляне, — эти вопли и жалобы, плач и озлобленные речи против ляхов, под которыми разумелись вообще паны, и способные, и неспособные защищать веру предков своих, — сделали глубокое впечатление на ту массу, для которой ни государственное, ни общественное право не существовало; а к этой-то массе и обратились казаки. За веру! за веру! раздавался всюду клич, где из панских жилищ голодная сволочь таскала хлеб, где пылали панские дома вместе с экономическими заведениями, а панское добро делалось достоянием поджигателей.
Но это был клич героев самозванщины, героев Московского Разорения, изобревших только новый девиз для своего истребительного промысла. Ни один епископ, ни игумен, ни даже протопоп, к чести полуразрушенной малорусской церкви, не выступил вместе с запорожцами Хмельницкого в роли возмутителя украинского простонародья. Даже нерадивые, подобные Филиповичу, даже и они притаились в своих скитах и монастырях.
В ужасное лихолетье Хмельнитчины, заставившее нас припомнить позабытую Батыевщину, игуменствовал в Почаевском монастыре почти столетний уже старец, преподобный Иов Железо. Родившись в 1551 году, он прожил в иноческих подвигах и времена протестантского легкомыслия малорусских панов, и времена продажного отступничества малорусских архиереев. Его чествовал князь Василий, обратясь от униатских мечтаний к православницкой борьбе с папистами. С ним Иов Борецкий, в «великой» печерской церкви предавал проклятию апологию Смотрицкого. Его репутация, как мужа святого, была такова, что одному появлению его вне монастырских стен приписывали испуг и бегство татар, набежавших «великою Ордою». Если кто-либо, так именно этот самоотверженный аскет мог бы теперь играть роль Петра Пустынника проповеданием войны за древнее русское благочестие, за поруганное панами отступниками православие. Но, состоя в постоянном общении с печерскими застолпниками и с афонскими «преподобными мужами россами, житием и богословием цветущими», Иов Железо не имел ничего общего с наливайковцами, жмайловцами, тарасовцами, павлюковцами и, наконец, хмельничанами.
Казацкие историки, ловя современные слухи с легковерием пограничных московских разведчиков, заставляют каких-то безымянных представителей нашего духовенства взывать к народу во время Хмельнитчины: «Приспел час, желанный час! Время возвратить свободу и честь нашей веры», и т. д. [40] Между тем преподобный Иов Почаевский, сидя в своей подземной келье, из которой братии святого человека виделся исходящий сверхъестественный свет, произносил скорбным голосом одни только слова:
«Господи, помилуй! Господи, помилуй!» И эти слова, в своем согласии с апостольскою программою «Советования о Благочестии», были соответственнее духу православной церкви, нежели все, что прославители казатчины могли узнать о нашем духовенстве от католиков и протестантов.
Видя в казацких похождениях нечто достойное сочувствия и уважения, казакоманы посвящают целые томы на повторение всяческих сказаний о том, как разлились по арене древне-русской культуры казаки в сопровождении своих единомышленников татар; как они вызывали на свой кровавый пир безумных, бесстыдных и жестокосердых людей всех племен, всех наречий и состояний; как дикие полчища их прошли вдоль и поперек всю Киевщину, Черниговщину, Подолию, Волынь, Червонную и Белую Русь, точно сплошной пожар, гонимый дующим из Запорожья ветром; как не давали казаки пощады ни старцам, ни женщинам, ни грудным младенцам, не отличали благочестивых от злочестивых, православных от кривоверных, ругались всячески над женской чистотою, находили симпатичную для зверской толпы забаву в том, чтоб, изнасиловав девицу шляхетского звания, наградить ее красною лентою из кожи, содранной с её же шеи и бюста, разоряли церковные усыпальницы, выбрасывали тела покойников на улицу, одевались в их одежду без отвращения, без ужаса, без угрызения совести и пр. и пр. и пр.
Возведя казацкие разбои в идею народной самозащиты, в сознание своих исконных прав и национальности, в чувство русской чести и веры, они находят интерес углубляться во все подробности убийств и мучительств, вдохновляются новым и новым красноречием по мере того, как разливаемые казаками реки крови делаются шире и этому позору имени русского, этому поруганию исторического характера православной веры придают санкцию со стороны её верховников. Если бы верховники нашей малорусской церкви в эпоху Хмельницкого и были способны, по своей природе, к тому, что им приписывают; то не в казацкую сторону глядели они по своему образованию, по своим общественным связям, по своим нравственным интересам.
Сами же казацкие панегиристы пером своего вожака, Костомарова, пишут, что преемник Петра Могилы по митрополии, Сильвестр Косов, «совсем не разделял православно-русских идей независимости, которые (будто бы) одушевляли его предшественника». Но, нетопырствуя в потемках баснословия, не обращают внимания на поразительное обстоятельство, что, от начала и до конца казацких бунтов против панов, правительство Речи Посполитой не подвергло суду и следствию ни одного попа и монаха за участие в этих бунтах, а исполнительная власть этого правительства, в лице племянника и наместника Николая Потоцкого, в 1638 году освободила от ареста нежинского приходского дьячка на основании собственной его присяги в непричастности к бунту. Хмельницкий, пожалуй, писал к московским воеводам, что ляхи, умоляя его о мире, сажают на кол православных священников; но его слова заслуживают еще меньше веры, нежели сказания малорусских летописцев о медных волах, мурованных столбах, поголовном избиении руси за то, что она русь, и ляшеском свирепстве над казаками, над их женами и детьми среди Варшавы, в присутствии сенаторов и земских послов. Помраченный своими страстями и злодействами бунтовщик должен был прибегать ко всем ухищрениям самозванщины, чтобы с высоты воителя за веру, не спуститься до того уровня, на котором стояли татары, призванные им на добычный промысел.
Что касается Москвы, то она, глядя издали на пожар, уничтожавший польские труды на русской почве, держала себя выжидательно. Ни киевский митрополит, воспитанник Петра Могилы, ни кто-либо из тех владык, которые, по словам легковерных историков, снабжали казаков порохом и гаковницами, ни даже такой энтузиаст, как известный на Москве Афанасий Филипович, не присылали к царю послов и не являлись, подобно Исакию Борисковичу, с просьбами принять казаков под свою высокую руку, как это бывало в те времена, когда казаки не вводили еще татар в христианскую землю. О Хмельницком ходили не меж одними польско-русскими панами слухи, что он, бывши долго после Цецорского поражения в плену, отуречился, что отсюда завязалась у него дружба с мусульманами и что он, в случае неудачи в войне с панами, отдаст Украину турецкому султану. Да и сам Хмельницкий много раз хвастался, что отдаст султану всю Польшу. Ходатайствовать перед московским царем в пользу такого патриота, стремившегося к Великой Руси «всеми силами души», не могли ни те, которые, по почину Петра Могилы, вели малорусское общество к соединению церквей путем школьной науки и польской общественности, ни даже те, которые, устами Филиповича, вопияли: «Vae maledictis et infidelibus!» Москву, надобно думать, смущало отчуждение от неё малорусской церкви в такой критический момент, когда силы её исконного супостата были поколеблены и когда русская почва тряслась под его ногами, дымилась как вулкан, извергала пламя вместе с потоками крови. Теперь бы, именно теперь, следовало казакам соединиться с церковными властями и обратиться в царю с общею просьбою о покровительстве, как это было сделано 23 года тому назад. Но малорусский народ, в лице своего духовенства, дворянства, купечества и мещанства, держался в стороне от казаков.
Между тем бунт Хмельницкого сделал громадные успехи. Огни, истреблявшие панские хозяйства и дома, пылали уже на Волыни. Счастливый в возбуждении низких инстинктов разбойник мечтал о завоевании себе удельного княжества. Выжидательное положение Москвы раздражало его и он посылал к пограничным царским воеводам сердитые письма.
Правительство Тишайшего Государя знало, что между казаками Хмельницкого находится множество донцов. Знало оно, что к запорожским черкасам примкнули не одни татары, но и калмыки. Казацкая ватага, мечтавшая еще в XVI веке о разрушении Кракова, могла, в случае чего, покуситься, подобно косолаповцам, на Москву, которая, по пословице антигосударников, «стояла на крови», то есть подавила удельных князей, каким задумал сделаться наш Хмель и уничтожила драчливые веча, воскресавшие в казатчине. Нельзя было оставлять польского Косолапа без внимания, с его громадными полчищами и с его решимостью действовать по казацкой пословице: «або пан, або пропав»!
Хотмыжский воевода, князь Болговской, на вопрос: как отвечать Хмельницкому против его грозящего письма? получил из Москвы проект ответа. Он отписал к запорожскому гетману, — что царские ратные люди стоят с ним (князем Болговским) «на Украйне и в других украинных городах и у крепостей воеводы и многие ратные люди есть, как и прежде сего бывали. А стоим де с теми ратными людьми для обереганья его царского величества украинных городов и места от приходу крымских и ногайских татар. А что будто на вас хотят стоять, и то нехто вместил вам неприятель, христианские веры, хотя тем в православной христианской вере ссору учинить. И вы бы и вперед от нас того не мыслили и опасенья никакова не имели. И от вас никакова дурна не чаем и опасенья не имеем, потому что вы с нами одное православные христианские веры».
Это было писано в июле 1648 года. В конце русского июля Хмельницкий благодарил князя Болговского за его дружеский ответ, и приглашал Москву нападать на Польшу. Но перед тем он писал к путивльскому воеводе, Никифору Плещееву: «Уж то третьего посла вашего имаем, что вы, утаясь нас, ссылаетесь с ляхами нас воевать... Естли себе того будете желати, чтобы есте на нас, на свою веру православную христианскую, имели мечь подняти, а мы будем Богу молитися, что также потехи не отнесете, как и хто иной. Легче нам, колько бившися меж собою, помиритися, а помирився, на вас поворотиться, что за измену вашу Бог вас погубит».
В своих письмах к царским людям счастливый разбойник титуловал себя «Божиею милостию гетман», чего, конечно, не оставила Москва без внимания, — хоть однажды он, с пьяна, заключил свое письмо к Путивльскому воеводе (от 11 русского июля) словами: «Вашему величеству всего добра желаю приятно», а подписался без Божией милости.
Москва была поставлена в положение затруднительное, опасное и вместе с тем неловкое. В августе путивльский воевода получил указ о том, как написать ответное письмо к Богдану Хмельницкому, и при указе — образец самого письма, по поводу задержания Хмельницким московского посланца к Иеремии Вишневецкому. Плещееву было наказано: «к Вишневецкому и к Адаму Киселю, и к иным ни к кому, без царского указу, ни о каких делах листов от себя не писать и с ними не ссылаться».
В «образцовом письме», которое Плещеев должен был «написать на листе слово в слово», всего замечательнее то, что в титуле: «Богдану Хмельницкому, гетману Войска его королевской милости Запорожского», слова: его королевской милости, написанные в черновом отпуске, были (без сомнения, думной редакцией) зачеркнуты. Может быть, здесь имелось в виду бескоролевье, а, может быть, и что иное. В образцовом письме, посланном белгородскому воеводе, князю Пронскому, от 27 февраля 1649 года, по избрании на королевство Яна Казимира, означенные слова не были восстановлены, как и никогда после.
Сочиненное в Москве письмо Плещеева к Хмельницкому было буквальным повторением уверений, сочиненных для князя Болговского; прибавлены только слова:
«Писал ко мне князь Еремей Вишневетцкой, воевода руской, что крымские татаровя в собранье на урочище у Княжих Буераков 40.000 стоят наготове, а хотят идти царского величества на украины войною. И против того ево письма яз, царского величества путивльской воевода, к нему ко князю Еремею Вишневетцкому писал, хотя от него прямые вести ведать, куды тех крымских татар впрям походу чаять, для опасенья царского величества украинных городов. А то дело не новое, что о татарех на обе стороны ведомо чинить и от их безвестного воинского приходу береженье держать».
Наконец, в начале 1649 года получено в Москве из Смоленска тарабарское письмо от царского гонца, думного дьяка Григория Кунакова. Это был человек в посольских делах опытный и вообще сметливый. Ему было поручено «доведаться подлинно, за что учинилась у панов (не сказано у поляков) ссора с черкасами», и он, донося обо всем, что ему рассказывали русские зарубежники, написал следующее:
«Богдан Хмельницкий хотел отомстить Потоцкому за свои обиды домашние, и собрал черкаское войско, даючи причину, будто для того, что меж королевств устоять о вере, чтоб им под уне его не быть».
Эти слова согласовались с известной уже нам отпиской путивльского воеводы 1638 года, в которой он, со слов строителя Густынского монастыря с братиею, доносил, что поляки побивают черкас за самовольство, за избиение по городам урядников, за грабежи над жидами и ляхами, за поджиганье костелов и святотатство, а не за веру. И видно было для чего писать «вести в Смоленску доведаны есь» тарабарским письмом, иначе письмом по литоре, которого ни Кунаков, ни другие вестовщики в последствии не употребляли.
Это был великий государственный секрет: Москва наконец знала, в чем дело и как ей быть.
Всё, однакоже, польские труды на русской почве уничтожались, как бы неисповедимым судом Божиим, через посредство казацких и всяческих разбойных рук.
Новая орда грозила вырасти на древнем пепелище варяго-руссов, засыпанном костьми тех русичей, которые забыли, что «их предки веры от папы не принимали». Эта орда (так должна была размышлять Москва) будет необходимо подначальна крымской Орде, а крымская Орда пошла от той, которая испепелила первопрестольную столицу Руси, и таким образом снова готова встать уничтоженное Москвой и Литвой владычество Чингисхановичей над широким займищем Рюриковичей. Что станется тогда с Великой Русью? Ее совсем отрежут от христианских народов, и, может быть, на местах древних киевских святынь, Ярославовской Софии, Золотоверхого Михаила, Царствующей Печерской Лавры, появятся магометанские мечети. Если же так не станется; если казаки будут «сильны татарам» и удержат под своей властью священные и славные высоты киевские, тогда донцы соединятся с запорожцами, тогда и вся казатчина царских украин примкнет к днепровским наездникам, — и настанет новое царство, хуже Литовского, царство казацкое, воровское. Уже и то было слыхать, что Хмельницкий, «гетман Божиею милостию», объявил своей столицей Киев, а в Смоленске Кунаков доведался, что казаки не пустили киевского митрополита на сейм и «приставили к нему варту по сту человек: знай де свою келью и в такие дела не вступайся».
Правда, Кунаков доносил, что Хмельницкий домогается от нового короля, чтобы он «церкви благочестивые христианские веры в Киеве и во всей Белой Руси все от унеи учинил свободны, и костелов бы и унеи в Киеве и во всей Белой Руси отнюдь не было»; но тут же писал своею государственной тарабарщиной, что казаки требуют от короля — отдать «киевское и всей Белой Руси правленье на их гетманскую волю, а сам бы король в Киев и во все белорусские города, ни в росправу, ни в што не вступался, и на том бы де король и паны рады присягли и записьми укрепились».
Это было бы не больше и не меньше, как воскресение великого князя литовского Гедимина в особе казацкого гетмана Богдана. Случись это на самом деле, — и Москва была бы стеснена казацкой вольницей гораздо больше, чем во времена оны новгородским и псковским вечами. Москве тогда угрожал бы переворот еще более тяжкий, чем под владычеством навязанного ей в Смутное Время Владислава Жигимонтовича. Устроенное в ней веками должно было расстроиться, и утвержденное великими заботами да крепкими думами царских сановников было бы поколеблено. Москва не могла допустить у себя под боком, на древнерусской почве, безбоярщины и безгосударщины. Как ни противна ей была вольница шляхетская, но вольница казацкая противоречила всем её симпатиям и государственным преданиям. Притом же, что бы там ни делали латинцы римляне из-под руки у короля во вред малорусско-белорусскому православию, но ей, как державе самоуважающей, не подобало наседать на соседнюю, тоже почтенную державу в её несчастных обстоятельствах. Уж если судом Божиим пришло такое время, что Польша должна поплатиться за все свои грехи, содеянные в угожденье беззаконному Риму, так надобно выждать, чтобы фиал гнева Господня излился на нее сам собой до конца:
Так должна была рассуждать и так действительно поступала Москва, эта фурия польских «народных пророков», постоянно стремившаяся в Польшу для её разрушения, — эта робеющая перед «сильным могуществом Польского государства» держава наших казакоманов, игравшая роль друга и поляков и казаков. В предыдущем, не-тарабарском письме своем Кунаков доносил царю:
«В Дорогобуже, государь, говорил со мною, холопом твоим, в розговорах бурмистр Хриштоф Красовский, удивляяся и похваляя твою государскую милость, что ты, великий государь, в такое их безглавное время и в великом упадку и в разоренье, в которое они время ни откуды посилку себе не чаяли, показал над ними свою государскую милость, в вечные роды удивленью и хвале достойную: не изволил на них послати своей государевой рати; а мочно де, государь, было тебе, государю, все свое изволенье учинить и городы отыскать и небольшим собраньем».
В самом деле, Тишайший Государь был расположен благоволить евангельски даже исконным врагам своего царства, полякам и их побратимам, литво-руссам. Но его думные бояре и дьяки должны были оглядываться на польскую воинственность, усиленную с одной стороны богатырями русичами, а с другой — «хороброю Литвою». Поляко-литво-руссы — надобно было признаться — с малыми боевыми силами торжествовали над многолюдными московскими ратями. Правда, теперь лучшие польско-русские ротмистры были побиты; весь походный наряд пропал, и даже арсенал Речи Посполитой, Бар, не сегодня, так завтра, мог очутиться в руках у казаков. Притом же, в польских войнах с Москвою, казаки были бурным ветром, предшествовавшим грозе; они были крыльями громоносных орлов; они были пламенем, превращавшим заселенные области в немые пепелища. Теперь этот «дух бурен», этот «поядающий огнь» обращен волей Всевышнего на царских супостатов и, судя по началу Хмельнитчины, не устоит против неё ни Краков, ни Варшава. Но Москва знала по себе, как может быть сильна земля против опустошителей. Запасы боевой силы в стране Мечиславов, Болеславов, Казимиров, Сигизмундов и Владиславов не исчерпывались ни выбывшими из польских ополчений казаками, ни погибшими коронными и панскими жолнерами. Польско-русский и литво-русский шляхтич оказывался весьма часто на войне трусом, а в мирное время разорителем беззащитной братии своей, но в случае крайности он являлся героем. Он вел свое происхождение, если не от тех, которые повыщербили свои мечи на Золотых Воротах в Киеве, то от тех, которые приковали свои щиты к воротам цареградским, да от тех, которые с своими Гедиминами и Ольгердами прогнали кипчакскую Орду с днестро-днепровского Черноморья. Надобно было, кроме того, помнить еще, что сзади Польши стоял Рим с послушными ему государствами. Дорожа своим передовым редутом, римский папа, чего доброго, поднимет на его защиту все Католичество, которое целые тридцать лет билось, в угоду Вечному Городу, с немецкими да свейскими люторами, и которое как раз теперь, после Вестфальского мира, удосужилось. Наконец, в Польше, какова она ни есть сама по себе, могут явиться свои Ляпуновы, свои Скопины Шуйские, Минины, Пожарские, которые остановят казацкое всегубительство, как было остановлено Московское Разорение подвигами героев Смутного Времени, и Польша, помышляющая теперь об отступлении за Вислу, двинется яростно к Днепру, а потом и к Москве-реке.
Такие соображения, естественно, могли занимать советников Тишайшего Государя, и политика их не была ни ошибочна, ни чересчур осторожна.
Среди всеобщего страха и уныния польско-русских панов, геройский дух шляхетского народа проявился в боевых подвигах князя Иеремии Корибута Вишневецкого.
Князь Иеремия объявил себя католиком незадолго до того времени, когда двоюродный брат его матери, Петр Могила, сделался киевским митрополитом.
Известно трогательное заклинание гонимого Могилою Копинского, обращенное к отступнику. Ничего подобного, да и вовсе таки ничего, не предпринял дядя малорусского магната, чтоб удержать его в православии; а кому, казалось бы, спасать молодого человека от католичества и ополячения, как не тому, о православно-русских деяниях которого печатают ныне грузные томы в тысячу страниц?
Дом Вишневецких, как дом князей Острожских и самих Могил, представлял один из тех подмытых римским прибоем устоев православия, которые паписты уничтожали последовательно, начавши с древних домов Радивилов, Сопиг, Замойских, Потоцких, Збаражских, Чорторыйских (по польски Czartoryzkich), Сангушек, Ходковичей, Пузин, Тишковичей. Но, приняв господствовавшее в Польше вероисповедание, князь Иеремия не трогал монастырей, основанных под патронатом его матери. Подобно всем аристократам, воспитанным латинскою наукою, он презирал малорусских монахов, как жалких сектантов. Он был уверен, что, с распространением тех знаний; которыми снабжали наше малорусское общество наставники могилинских школ, монастыри Исаии Копинского сами собою оценят и примут благодеяния церковного единства, с которым, в уме римских политиков, была тесно связана мысль о единстве общественном и национальном. Он ограничивался только тем, что, в виду обскурантов и пьяниц, наполнявших наши монастыри, водворял в своих имениях представителей священства и монашества католического, отличавшихся бытом просвещенным и трезвым. С целью уничтожить полуязыческие молельни, какими ему, воспитаннику львовских иезуитов, представлялись наши храмы, и привлечь симпатии лучших людей к религии облагороженной, Князь Иеремия, построил доминиканский, а это значит — проповеднический, монастырь в Прилуке, в нашей полтавской Прилуке, и костелы в Лубнах, Ромне, Лохвице. Этими сооружениями, как явствует ныне, воспитатели Байдича метили в самый центр малорусской народности. Как тьма исчезает от света, так, по их воззрению, должны были исчезнуть малорусские попы и монахи от влияния образованного по европейски духовенства на общество. (Мужики в рассчет не принимались).
Сам Вишневецкий отличался среди панов трезвою и порядочною жизнью, необыкновенною деятельностью по всем частям колонизационного хозяйства и тем удельно-княжеским или можновладским патриотизмом, который был основан на возвышении собственного дома. Он смотрел на себя, как на самодержавного монарха. В нем ожил литво-русский дух предка его, Корыбута-Дмитрия Ольгердовича, под внешним видом польского магната. На все стороны расширил он свои владения с помощью мелкой, так называемой низшей шляхты, этих дружинников можновладства, отдававшихся под панский щит с беззаветною преданностью, этих протопластов казатчины, послуживших ей так или иначе кадрами. Он, как мы видели, был «силен» каждому соседнему магнату и стращал необузданностью духа самого короля Владислава. Не только у людей вялых и бездейственных, но и у таких, как Станислав Конецпольский, краса польского племени, слава древних сарматов, оспаривал он поприще колонизации малорусских пустынь, на котором не имел и не терпел соперников. К этим жестким и, пожалуй, отталкивающим чертам характера Князя Иеремии необходимо прибавить такие, которые делают из него симпатичного рыцаря. Не взирая на то, что великий Конецпольский тягался с ним до самой смерти за сорок спорных осад в Украине, Вишневецкий всегда был готов помогать ему, как и всякому другому пану, в борьбе с врагами колонизаторских трудов и помог Конецпольскому одержать славную победу над татарами под Охматовым.
Подругу своей кипучей и воинственной жизни нашел он себе в доме гуманного, разносторонне просвещенного Фомы Замойского, известную своею красотою Гризельду, в которую был влюблен до конца недолгого своего века, как подобает истинному паладину без страха и упрека.
Основав с 1634 года свою резиденцию в Лубнах, Вишневецкий отнюдь не дозволял московским пограничникам переходить за черту его владений у Недригайлова, под Путивлем, а крымская Орда, вторгавшаяся беспрестанно в Западную Украину, через древнее Поросие, в имения таких казаковатых помещиков, каковы были князья Корецкие и Рожинские, — не смела с востока перейти Ворскло и Псел, чтобы ясырничать на Посулии. Корибут Вишневецкий служил шляхетскому народу щитом на весьма важной линии от своих местечек Баровицы и Мошен на правой стороне Днепра до московской, так называемой польской (полевой, степной) украйны — на левой, колонизуя здесь новую Вишневетчину в подспорье к старой, которой центральным пунктом был Вишневец на Горыни, — и это важное обстоятельство придавало князю Иеремии характер удельного князя больше, нежели кому-либо из польско-русских магнатов, так что и сам Хмельницкий, в письмах к нему, называл его заднепровские владения государством (panstwo). Чем был в XV и XVI столетиях, на тогдашнем пограничье Речи Посполитой дом князей Острожских, тем в XVII-м, на пограничье новом, сделался дом Корибутов Вишневецких. И как дом Острожских оборонял свои владения преемниками торков и берендеев казаками, так точно поступал, в магнатской самозащите от татар да соседей-панов, и дом князей Вишневецких. Казаки были искони то друзьями и хлебоедцами, то врагами и опустошителями этих маркграфов Речи Посполитой. Один из предков Иеремии Вишневецкого, князь Дмитрий, по прозвищу Байда, водил их за собой даже на службу к Сулейману Великолепному, потом к Ивану Грозному, далее осаждал низовых казаков, со своими казаками-городовиками, у Днепра, в устье Сулы (сколько это известно по воспоминанию старожилов Павлюковщины), и наконец попал, с казацкою дружиною своею, в ловушку, устроенную для него в Волощине политикою Сулеймана. Казаки воспели его, под именем Байды, как борца за христианскую веру, погибшего от магометан мучительною смертью на железных крючьях.
Соединяя с развитием казатчины идею веры и путаясь в ней, как мухи в паутине, наши историки делают из казни, постигшей «казака Байду» за измену султану, то же самое не любо не слушай, которое они проводят в своих писаниях от Косинского до Хмельницкого. [41] Но вера и для самого Иеремии Вишневецкого не была главной заботой жизни. Подобно своим предкам и подобно множеству разноверных магнатов своего времени, он, как говорится по-украински, кохавсь у казаках, и его наследственная страсть к полудиким наездникам соприкасалась так же мало с его религиозными воззрениями, как и страсть к степным кречетам-рарогам, которых для него искали даже за московским рубежом. Казаки были ему нужны, как хищные птицы, натравливаемые, то его слугами-шляхтичами, то им самим, на таких же хищников. И как Острожскому не снилось даже во сне защищать православие с помощью Наливайка, так Вишневецкий не мог вообразить, чтобы между ним и таким бунтовщиком, как Хмельницкий, стояла религия.
Во времена князя Василия лугари, кочевавшие в виду татар, селились, под его прикрытием от закона, в переяславской пустыне. Во время князя Яремы (как называли его, сперва любя, а потом ненавидя, казаки) отатарившиеся вновь беглецы культурного общества ютились под его широкою полой в таких местах, которых до него никто не имел права, силы и смелости обратить в населенные. Нарушители закона и отверженцы прочно оседлых корпораций, защищенные от всякого преследования одним именем Корибута Вишневецкого, нового казака Байды, были его подданными больше в смысле военном, чем экономическом. Они были его вассалы, его дружинники, и под его знаменем собиралось их, в виде охочих казаков, тысяч по двадцати. Но своенравное, хищное, разбойное Запорожье мало-помалу возымело на них приманками и угрозами то самое влияние, какому подчинились казаки, так или иначе зависевшие от Острожского. Добычники по ремеслу и образу жизни, принятые новым Байдою под его широкий щит, в видах охранения занимаемой ими земли от степной кочующей и оседлой граничащейся дичи, захотели жить на счет панского хозяйства, и стали смотреть на своего князя, как вольные «служебники», а не как «подданные сутужники», — стали так смотреть, как в свое время архиказак Байда смотрел на Сулеймана Великолепного и на Ивана Грозного. Негодуя на его экономические порядки, они, со времени Павлюковщины, стали оборачивать свои пищали, как против него самого, как пана и «душмана», так и против тех своих товарищей, которые больше веровали в добычу плуга и мирного труда, нежели в добычу меча и хищения.
Князь Вишневецкий карал коронных и своих собственных бунтовщиков заодно с Потоцким, которому, как и Конецпольскому, служил правой рукой. Он думал властвовать над воинственными номадами по примеру предков своих, которые, меняя в отношении к ним гнев на милость и милость на гнев, умели делать их ручными, как диких степных лошадей. Но взаимная вражда казаков и панов росла в силу внутренних недугов Речи Посполитой, которые, по замечанию краковского воеводы, Любомирского, «чем вреднее, тем более скрыты», [42] а презираемые Вишневецким иноки, с умыслом и без умысла, давали казацкой ненависти к окатоличенному потомку знаменитого Байды санкцию веры. Указывая на отступничество князя Вишневецкого и распространяя тревожные слухи даже насчет его дяди, киевского митрополита, они, без всяких политических замыслов, делили резче и резче украинское население на панов и людей посполитых, на злочестивую ляхву и благочестивую русь. К панам причисляли они, в понятии черни, всех жолнеров, состоявших большею частью из православного простонародья, а к ляхам — всех землевладельцев и их шляхетных слуг, не взирая на то, что многие из великих домов сохраняли еще веру русских предков своих, а служилая шляхта, подобно самому Хмельницкому и его отцу, не находила никакой выгоды в том, чтобы менять православного попа на католического ксендза, или на униата.
Общая нужда в защите имуществ и семейств подавляла тогда в Малороссии все прочие житейские интересы. Не только казаки забывали свои досады на панов и на их служилую шляхту, но даже такие люди, которые, по-видимому, не нуждались в помощи магнатов-соседей, такие, которые граничились между собой из года в год и тягались в трибуналах за взаимные захваты, — прекращали старые счеты и вооружались вместе против постоянного врага колонизации — татарина. Так в 1643 году казацкий комиссар, Николай Зацвилиховский, подначальный Станиславу Конецпольскому, как великому коронному гетману, водил казаков на помощь князю Иеремии Вишневецкому против 4.000-й Орды слепого Умерли-аги и отбил у неё над Сулою, между Ревцем и Пслом, ясыр с добычею, а в 1644-м, Князь Иеремия с 3.000 своего войска ходил на помощь Станиславу Конецпольскому против Тогай-бея и действовал так энергически, как и с Потоцким против казаков Остряницы и Гуни. То же самое вспомним здесь и о другом поземельном соседе князя Иеремии, Адаме Киселе, интриговавшем в последствии между правительственною шляхтою против его геройских предприятий.
По фамильным бумагам Ростишевских, владельцев Линового в Киевщине, эти два одинаково деятельные соседа граничились по-казацки за свои осады и слободы, но против казаков действовали, кто во что был горазд, как против общих неприятелей.
Так дело шло у малорусских колонизаторов до 1648 года. При первых признаках нового бунта Корибут Вишневецкий понял опасность своего колонизаторского поста на окраине государства, в стране дикой, и принял решительные меры для предупреждения катастрофы. Несколько десятков тысяч самопалов, оборонявших его колонии от хищников и панов соседей, было отобрано им у своенравных подданных и сложено в лубенском арсенале до поры до времени. Но не предвидел он, что татары будут призваны казаками в товарищи добычного промысла и впущены в городовую Украину именно теми, которые не менее землевладельческой шляхты были заинтересованы в её обороне. Не могло прийти никому в голову, чтобы перекопский царь, два поколения тому назад сгонявший казаков с Днепра по договору с князем Острожским для обоюдного спокойствия мусульман и христиан, чтобы потомок Чингисхана, гордившийся старшинством рода своего перед цареградским повелителем правоверных, чтобы тот, кто еще так недавно являл себя царем в своих обычаях, — унизился до панибратства с бунтовщиком, кроющимся среди воров и горьких пьяниц в днепровских камышах и плавнях. Сам же он, этот Ислам-Гирей, писал к нему, князю Вишневецкому, недавно, уверяя его в своей дружбе и поступая царски относительно царственных соседей. Вдруг все перевернулось к верху дном. Запруда, сдерживавшая напор азиатской дичи на христианскую землю, уничтожена вероломным слугой знаменитейших панских домов, Жовковских, Даниловичей, Конецпольских. Цветущая сельским хозяйством и промыслами половина королевства предана разбойникам.
Завоевания шляхетского меча и плуга достались бессмысленным и беспощадным руинникам.
Но Вишневецкий держался крепко на своем пограничном посту, и в глубине Речи Посполитой на него смотрели как на спасительный устой отечества. Может быть, он удержался бы на своем важном стратегическом пункте и до конца. Он требовал подкрепления вовремя. Но вовремя шляхетская республика не делала ничего. По замечанию Адама Киселя, её медлительность в подобных случаях с каждым годом увеличивалась. Считая этот порок своей правительственной братии неисправимым, Адам Кисель, уже десять лет тому назад, предлагал свой проект правительственных мероприятий, которыми была бы предотвращена и самая возможность повторения Павлюковщины. Напрасная предусмотрительность! Быстрый разлив казако-татарского нашествия по Киевщине, Подолии и Волыни, отрезал Вишневецкого от тех панских владений, в которых все стояло еще на своих местах.
Хмельницкий между тем доказывал справедливость распространившегося уже в Польше мнения о талантливости коварного казака, которою паны могли бы, да не умели воспользоваться. Коронный подчаший Остророг писал к Оссолинскому о нашем Хмеле: «Великих способностей человек и воин по самой природе (dowcipu wielki ego i z natury zolnierz)». Читая такое донесение одного из ученейших полководцев своих, поляки должны были с горечью вспоминать слова геральдика Папроцкого, которыми он так разогорчил их отцов и дедов: [43] «Кто в наше время в чем бы то ни было превзошел русака? Пошлете вы его в посольство, — он исполнит посольство лучше, нежели вы ему прикажете. Между русаками ищите полководца и доброго воина. С досадой слышит он совещания о мире». [44]
Казацкий гетман отправил на татарскую сторону Днепра (по милости Вишневецкого, сделавшуюся, как и правая сторона, русскою) одного из своих полковников, Кривоноса, по песням — Перебийноса, бунтовать Вишневетчину и в выборе своем показал тот же dowcip, который восхвалял Остророг. Это была одна из тех личностей, симпатичных для пьяной и свирепой толпы, которым украинские разбойничьи песни принесли полную дань своих диких восторгов.
Вишневетчина была готова к бунту со времен Павлюка. Но хозяйственность князя Яремы сдерживала зверские инстинкты тех забродников, которые, воруя, грабя, убивая, скитались в виде гонимых всюду волков, прошли широкое поприще панской колонизации из конца в конец, и не бежали далее от новых обязательств и новых преступлений только потому, что далее бежать было некуда. За Ворсклом и Пслом голодного скитальца подстерегал с арканом и лыками татарин, а Запорожье прогоняло забродников в городовую Украину тем же самым голодом, который заставлял их делаться винниками, броварниками, будниками, могильниками, фигурирующими в Илиаде казацких разбоев. Среди народа работящего и в городах и в селах, так называемые гультаи, гайдары, нетяги чувствовали себя в самом неприятном положении: они были способны только плиндрувати, руйновати, в пень рубати.
Теперь пришел черед силе опустошающей выступить против силы производящей, во всеоружии того беспутства, которого начала кроются в беспутстве шляхетского народа, бредившего вольностью в своей зависимости от каждого сильного и дерзостного. Винники, броварники, лазники, будники, могильники, чабаны, пасечники и те, которых королевские комиссии, с 1617 года, требовали исключить из казачества под непонятными уже для нас названиями канкаюков, былачеев, балакезев, кафанников, вместе с ремесленною своевольною молодежью и промотавшеюся или обобранною своими ксендзами да монахами шляхтою, — отделялись от общества людей порядочных, или, как говорилось тогда, статечных. Внимая дерзкому призыву Кривоноса к истреблению всех ляхов и жидов, причем имелась в виду не вера и национальность, а зажиточность, гультаи принялись кривоносничать всюду, где пахло поживою, горилкою, безнаказанностью, и наводили ужас на тех, чьи выгоды были в каком-либо отношении общими с панскими.
Не доверяя обезоруженным подданным, которых недавно еще собиралось вокруг него до 26.000 для демонстрации перед Крымом, Вишневецкий окружил себя только служилою шляхтою и разгонял гайдамацкие загоны Перебийноса на пространстве от Ворскла до Трубежа, а пойманных на горячем учинке перебийносцев казнил тут же, как делал Николай Потоцкий в 1638 году. Но он, в свою очередь, не принял во внимание важного обстоятельства, что в руках у него был меч католический, и что самое безупречное право суда с его стороны, как охранителя чести, собственности и личной безопасности граждан, было только новым ударом «ляха» по малорусскому сердцу.
Церковная реторта таинственно, точно в келье алхимика, переделывала польские добродетели в пороки, а малорусские пороки — в добродетели. Страх казни за бунт, за грабежи, насилия, разбой — уничтожался диким криком за веру! слышным от Чигирина и Корсуня до Путивля и Севска, от Путивля и Севска до Смоленска и Дорогобужа, от Смоленска и Дорогобужа до самой Москвы. По малорусской пословице: «у своїй хаті й кутки помагають», пренебреженному панами православию помогали, на его родной почве, даже те люди, которые не знали, в чем состоит оно, — те, которые были гораздо ближе к исламу, нежели к евангелию, — те, которые из моралиста-протестанта делали «Святого Рея», [45] — те, которых, по словам самих защитников православия, чаще видали в кабаке, нежели в церкви. [46] Чем энергичнее действовал Вишневецкий, чем усерднее подвигался он по камертону польского центра Варшавы, тем больше весы таинственной судьбы склонялись в сторону центра русского — Москвы. Бесстрашный охранитель польской границы, врезавшейся в московскую землю, он собственным мечем указывал нашему народу дорогу в Москву. Вишневецкий был похож на великана, пытающегося погасить вспыхнувший пожар бурным дуновением; но пожар, не «погашенный в искрах», превзошел наконец великанскую силу: бурный дух восточного маркграфа польского раздувал пламень международной вражды до бешенства. Такою представляется историку деятельность полонизованного Байдича в конечном результате своем.
Каждый удар его геройской руки и все блестящее поприще воинской славы его в эту гибельную для Польши усобицу — были не что иное по своим последствиям, как мимовольная служба русскому элементу, пренебреженному им ради польского.
Положение князя Вишневецкого было еще трагичнее, чем оных героев отпора антикультурной татарщине, о которых знаменитый геральдик XVI века писал, что они стояли на границе христианского мира, как мужественные львы, и жаждали одной кровавой беседы с неверными. Те пролагали колонизаторам-панам дорогу в обетованную землю, которой сами не увидели; а он создал целое царство, текущее молоком и медом в виду голодной Скифии, — и люди, призванные им к участию в благах привольной жизни предпочли превратить его богатое хозяйством княжество в такую же голую и голодную Скифию, как та, которая лежала за Ворсклом с одной стороны и за Тясмином — с другой.
Оказаченные Хмельницкими да Перебийносами поселяне действовали на его колонизационную ассоциацию сильно прельщением, но еще сильнее — террором.
Попасть в число их жертв было страшно и бесстрашному. Недаром ходили всюду рассказы о том, как сулиминцы казнили коменданта кодацкой крепости, а хмельничане — казацкого комиссара, Шемберка. Недаром и о самом Хмельницком шла молва, что он собственноручно снял голову с этого «нашайника». Не было той жестокости, которою бы не насладилось тогда беспощадное казацкое сердце. Если старожил нашего времени изобразил нам, в своих воспоминаниях, гайдамаку Железняка и Гонты, подавшего крестьянской благотворительнице дитя её на своем казацком списе (копье) [47], что делали в XVII столетии хмельничане? И чего должен был ждать от кривоносовцев приверженец Князя Яремы? Имущество верного Байдичу человека обрекалось расхищению и пожару, его семья — позору и всевозможной тирании, а его жизнь, как, «панського підлизи» и «недоляшка», могла быть обеспечена — или отчаянною защитою в малочисленном ополчении шляхтичей, или, гораздо вернее, участием в кровавой оргии казатчины. Попав между двух лагерей и слыша о баснословных успехах бунта Хмельницкого, не только простолюдины, но и шляхтичи, преданные дотоле Вишневецкому, оставляли «своего князя», и если не переходили под бунчук Перебийноса, то прятались в северских трущобах до решения страшилищного спора между казаками и панами.
Разгоняя гайдамацкие шайки и карая своих изменников с той же завзятостью, которой отличались казаки, Вишневецкий дошел до Переяслава. Но усмиренный Конецпольским, а через семь лет Потоцким, Переяслав кипел уже бунтом. В нем сидел достойный преемник изолганного полудикою малорусскою письменностью Тараса Трясила [48], Перебийнос, и готовился выйти навстречу князю Яреме, которого шляхетное ополчение таяло по мере приближения к старому гнезду казатчины.
Вишневецкий очутился в положении крайне опасном. Отрезанный от Киевщины и Волыни, он смотрел подозрительно на своих пограничных вассалов, на своих испытанных дружинников, и должен был опасаться всего худшего. Не желая пасть в бесславном бою, или сделаться жертвою казацкой тираннии, все еще страшный для Перебийноса князь Ярема отступил к своим Лубнам и стал готовиться к бегству в другую Вишневетчину, колонизованную предками его, — на Горынь. Надобно было сперва обеспечить от казацкой свирепости обожаемую любовницу-жену, красавицу Гризельду, и тогда уже ринуться на бой с чудовищем неслыханного бунта, очертя голову.
В Лубнах принесли ему письмо Хмельницкого. Истребитель панского войска принял за правило, подобно коварному Ислам-Гирею, рассылать во все стороны миролюбивые письма, в которых не писался милостию Божиею, как в сношениях с московскими воеводами: раболепствуя перед магнатами, смиренно называл он себя старшим Запорожского войска и хлопотал о помиловании, а между тем занимал под казацкий присуд города, разорял панские имения, вооружал новые десятки тысяч черни и вел войну такими варварскими средствами, что его называли Тамерланом.
Многие из магнатов поддались его хитрости, надеялись войти с униженным ласкателем своим в компромисс, не принимали крайних мер к защите имений, и этим убеждали чернь в своем бессилии: того и желал Хмельницкий, на то и рассчитывал. Он хотел убаюкать и Вишневецкого; но тот, не показывая вида, что потерял надежду устоять против Перебийноса, маскировал свое бегство военными приготовлениями и, взявши с собой лишь несколько походных возов да 15 рукодайных слуг, оставил свое заднепровское княжество, в которое не суждено уже было вернуться ни ему самому, ни его потомкам. Он объехал обнятое бунтом Заднеприе московскими сакмами, переправился на правый берег Днепра в Любече и отправил свою Гризельду с сыном Михаилом, будущим польским королем, через Полесье, в Вишневец. В Любаре присоединилась к нему украинская шляхта, бежавшая из своих имений.
Описывая бегство Вишневецкого, известный уже нам Натан Ганновер дает понять, почему Хмель и вообще казаки больше всего злились на коронного хорунжего, Александра Конецпольского, и на русского воеводу, Иеремию Вишневецкого: тот и другой вели сельскохозяйственные промыслы с участием жидов. Не принимали казаки во внимание, что неспособность туземцев к торговле и промышленности искони была причиною извлечения в нашу Русь иноземных выходцев, среди которых жиды и армяне оставляли позади себя даже немцев. Эти две народности внушали казакам особенную к себе злобу, так что в изображениях Страшного Суда казацкие маляры на свитке, исходящем из уст Судии судей, писали слова: «жиди и вірмене! идіте в муку вічну від мене». Напротив хозяйственное жидолюбие Вишневецкого Натан Ганновер изображает следующими словами:
«В это смутное время находился князь Вишневецкий, — да будет память о нем благословенна! — со своим войском там за Днепром. Он чрезвычайно любил жидов, отличался бесподобными военными доблестями, но и он убежал со своим ополчением, по направлению к Литве. С ним же убежало около пяти тысяч домовладельцев жидов с своими семействами. Вишневецкий оказывал им бдительную охрану, пока не привел их к желанному месту, например: когда бежавшим угрожала опасность сзади, он приказывал жидам идти впереди всех; если же чуяли опасность впереди, то жидам велел идти за войском, дабы оно служило им защитою».
Глава XVI. Геройский дух шляхетского народа в лице ополяченного русича. — Бессознательная работа отступников русского элемента в пользу России. Православный миротворец между панами сенаторами. — Отсутствие патриотизма. — Безнравственный контингент казатчины. — Соперничество магнатов-доматоров с колонизаторами. — Каптуровый сейм. — Триумвират. — Вопрос о вере. — Шляхетская Украина. — Обманувшиеся в своих надеждах миротворцы.
Не прошло тогда еще и месяца после погрома панского войска, а казако-татарские загоны достигали уже Горынь и Случи. «Знай, ляше, по Случь наше»! кричали казаки, забывая, что наше значило казако-татарское. Но Житомир, опора киевского Полесья, еще держался. Он был переполнен сбежавшеюся отовсюду шляхтою, оплакивавшею свои великие утраты. Вишневецкий появился в её среде, как ангел отмщения за казацкие злодейства. В упадшем духе местного общества произошла реакция. Нашлись и деньги для сбора войска, явились и предприимчивые люди. Покамест, и сам князь дал заимообразно несколько тысяч злотых на ополчение. В качестве русского воеводы, Вишневецкий послал призывные универсалы во Львов, извещая, что татары скоро придут в Польшу великою ордою, под предводительством самого хана. Он требовал от соотечественников усилий чрезвычайных. Он умолял понять великость угрожающей опасности.
Но это был глас вопиющего в пустыне. Правители шляхетского народа находились в нравственном оцепенении. По словам знаменитого краковского воеводы, который пел уже свою лебединую песню, шляхте казалось, что целость отечества зависит от усмотрения неприятеля (na szczerej dyskrecyej nieprzyiacielskiej zda sie zostawac incolumitas patriae). Вместо того, чтобы приготовлениями к войне достигнуть мира, шляхта искала его в миролюбивых сношениях, со стороны Хмельницкого коварных.
Главным представителем партии миротворцев явился брацлавский воевода Адам Кисель. Письмом от 12 (2) июня он обратился к страшному бунтовщику от имени общего отечества, которому де в вольностях и свободах нет равного в свете. «В нашем свободном государстве» (писал он) «легче домогаться того, что у кого болит, а потеряв его, не найти уже другого такого ни в Христианстве, ни в Поганстве. Всюду неволя; одна только Корона Польская славится вольностями».
И тут же этот жалкий объедок иезуитства говорит, что из всего польско-русского народа он один сенаторствует в Польской Короне, «держа на своих плечах наши древности святой церкви». Столь же некстати вспомянул он при этом и о кровопролитных Кумейках, где он «не обагрил де никогда рук своих христианскою кровью казацкою». То и другое, по его мнению, должно было внушить Запорожскому войску полное к нему доверие. Он дружески советовал Хмельницкому отправить татар, а это значило — обезоружить себя в виду раздраженных землевладельцев, и брался примирить его с предержащею властью, как сановник, без которого де «не может быть постановлено ни войны, ни мира».
Хмельницкий отписал ему на другой же день из Белой Церкви, будто бы велел Орде вернуться (куда, не сказано), «униженно» просил предстательствовать о возвращении казакам старых войсковых вольностей, и, «если мы в самом деле» (писал он) «осиротели все по смерти его королевской милости, нашего милостивого пана», удостоить его (Хмельницкого) своим посещением, чтобы он мог переговорить с паном воеводой обо всем устно, воспользоваться его мудрым советом и узнать, кого Речь Посполитая желает иметь своим королем.
Это значило, что казаку хотелось только допросить велеречивого сенатора обо всем ему нужном, а, пожалуй, задержать у себя человека, доставлявшего панам сведения о казацких делах. Но Киселю, по пословице, «показались и козы в золоте». Он хвалился примасу, что Pan Bog через него, нижайшего из сынов отечества, устранил кровавую радугу и остановил междоусобную брань (internuum bellum), а в заключение красноречивого письма просил его отеческой и всех панов братий милости, чтобы никто «не отнимал у него этой верной службы», и чтоб она не осталась «без памятника любви к отечеству (absque monumento pietatis ku ojczyznie)».
Когда князь Вишневецкий появился на правой стороне Днепра, православный патриот Польши хвалился и ему, что убедил Хмельницкого к примирению, причем послал ему копию своей переписки с примасом и коронным канцлером о том, как бы что называется по-малорусски укоськать бунтовщика.
Но патриотизм окатоличенного русина был совсем иного рода. Вишневецкий отвечал Киселю так:
«Я, напротив, должен плакать (ingemiscere) о том, что не мог раньше ополчиться с квартяным войском на истребление этих ядовитых чудовищ, которых изменники и бунтовщики извергли теперь на Речь Посполитую. Глядя на горестное положение республики, в которой господствуют рабы, и невольники плебеев (servi et mancipia plebejorum), с изумлением болею сердцем и о том, что, обогатясь на счет братий наших и причинив ей такое поругание, эти чудовища, за то, что растерзали утробу государства, еще мечтают о награде и удовлетворении. О, лучше было бы умирать, нежели дожить до такого времени, когда слава наших великих народов так страшно искажена, — дожить до такой невозвратимой утраты в нашей Короне! Не могу хвалить принимаемых по этому предмету мер: могу верно судить лишь о том, как наилучше воспользоваться временем. Но чтобы вести с ними переговоры о примирении, не вижу никакого основания, — разве хотите, чтобы вкоренившаяся в этих рабских сердцах отвага не покинула их до нового бунта, и чтобы их притязания возрастали с каждым разом больше и больше. Если Речь Посполитая покроет вечным забвением громадные, беспримерные в прошедшем раны, нанесенные этими изменниками, то ничего не может ожидать в будущем, как только крайних несчастий и гибели. Кто бы мог поступить более враждебно с отечеством, как поступили те, которые продают его язычникам, которые шляхетскую кровь разливают, как воду, и уничтожают стражей коронных границ? Вы хлопочете с таким жаром о том, чтобы вознаградить нас за пролитую кровь наших братий и восстановить честь отечества: в этом я уверен. Но достойны ли такие люди пользоваться его благодеяниями? Если после истребления коронного войска и плененья его гетманов Хмельницкий будет вознагражден и останется с этим гультайством при старых вольностях, я не хочу жить в этом отечестве, и лучше нам умереть, нежели допустить, чтобы язычники и гультаи господствовали над нами».
Прошло недели две. Хмельницкий, отписав немедленно Киселю, задержал у себя его посланца, а посланцем Киселя был старец состоящего под его патронатом монастыря в Гоще, отец Патроний Ляшко, которого он, в письме к примасу, называл своим конфидентом и шляхтичем добрым.
Добрым шляхтичем, как это мы помним, называли паны и того монаха, который, в Павлюковщину, сослужил им службу соглядатая. Человека, прикосновенного так или иначе к панским интересам, казакам следовало задержать.
Две недели загадочного отсутствия конфидента охладили Киселевскую любовь к отечеству и мечты о памятнике панскому пиетизму. В письме к примасу от 30 (20) июня Кисель является перед нами печальным историком кровавого момента.
Из этого письма мы узнаём, что паны, так сильно повлиявшие на поступки коронного гетмана в противность повелениям короля, до тех пор совещались между собой о контингентах, пока 60.000, или даже более, неприятельского войска не захватили его с малочисленной армией. Потом узнаём, что в день Корсунского погрома подошли к Потоцкому люди князя Любомирского да самого Киселя. «Орда ехала на них до самой Белой Церкви», пишет он. Таким образом паны происхождения русского, Вишневецкий, Любомирский, Кисель, оказались единственными слугами польского отечества в его крайности.
Далее Кисель наш повествует о виденном и слышанном так:
«Лишь только разнесся слух, что войска и гетманов уже нет, а Орды идет при казацком таборе 60.000, тотчас вся Украина, Киевское и Брацлавское воеводства, бежали перед таким гвалтом и силою неприятельскою, бросая дома свои и дорогие залоги любви (cara pignora); а неприятель, войдя в недра (in viscera) государства, распустил все свои загоны. Города опустели. Полонное, Заслав, Корец, Гоща сделались Украиною (Ukraina zostaly); а некоторые помещики, не опершись и здесь, разбежались в Олыку, Дубно, Замостье. Ни один шляхтич не остался. Осталась только чернь. Одна часть её пошла к этому Хмельницкому, и несколько тысяч войска его обратила в несколько десятков тысяч, а другая часть, будучи уверена (freta), что с нею ничего не случится, осталась беззаботно по домам. Но и этим Орда, когда они выходили из местечек приветствовать ее, сделала такой привет, что во многих местах высекла в пень. Только тогда начали бежать ото всего добра и хлопы. Таким образом татары возвращались к своему кошу и к табору Хмельницкого под Белую Церковь, обремененные добычею. А что дальше будет, слушаем только да выглядываем. Различных добываем языков: одни пойманные из тех загонов татары говорят, что присягли друг другу оставаться до зимы; а другие, что, кончив это посещение (odprawiwszy goscine), татары хотят идти в Волощину, а казаки — к Днепру. Теперь уже не можем иметь никакой помощи из Киевщины, Подолии, Брацлавщины; только из Волыни взываем к остающейся в тылу братии. Но и тех трибунал задержал до сих пор несчастными судами, не обращая внимания на огонь, который охватил уже большую часть Республики (magnam Reipublicae partem). Таким образом не остается никакой надежды устоять против неприятеля, находящагося в (её) недрах (in visceribus): сила его возросла до 200.000 Орды и казаков».
Сидя начеку в своей Гоще, вспоминал Кисель и о Кумейках, которыми с притворною наивностью закрывался от казацкой мести. Теперь писал он к временному главе государства — примасу:
«Что сделает мое увещание, и как обойдутся с моим конфидентом, жду между надеждой и страхом. Хоть я всегда старался снискать у казаков доверие на случай беды, но боюсь, чтоб они не припомнили мне кумейского предприятия; они там поддались по моей присяге, которою уверил я их, что жизнь их вождей будет пощажена, но этого (в Варшаве) не исполнили».
И всё-таки веровал он в силу своего хитроумия; всё еще надеялся, что укоськал своим посольством бунтовщика и размягчил его, как воск (albo uczyni reflexya ten rebellis ta moja legacya liquefactus i uglaskany, albo, strzez Boze procedet ultra).
В том же письме к примасу сенатор, без которого «не могло быть постановлено ни войны, ни мира», ознаменовал себя мудрым советом — избрать главнокомандующим будущего панского войска богатейшего, неспособнейшего и трусливейшего из польско-русских панов, сендомирского воеводу, князя Доминика Заславского, наследника богатств и нравственной несостоятельности нашего «святопамятнаго» князя Константина-Василия Острожского.
Сеймики в покинутых воеводствах находил он невозможными, потому (писал он), что «воевода киевский (Тишкович) находится в Дубне; я в Винницу не могу ехать (в такое время), когда помещики разбежались и неприятель преградил путь. Сам князь Вишневецкий отступил к Драгину. Одни хлопы сеймикуют, или лучше — бунтуют в покинутых провинциях».
В заключение письма, Кисель называл себя нищим и сетовал, что «теперь мало кто думает об отечестве».
Это было писано 30 (20) июня. Через 17 дней литовский канцлер писал в своем дневнике о грозном положении дел в отечестве, о котором теперь мало кто думает, — о том, что и в Литве собралось уже 12.000 хлопов, которые сожгли, разграбили, вырезали несколько сел, местечек, городов, потом — о свирепых подвигах Перебийноса в Виннице, о приближении казацкой орды к Волыни, и наконец заметил, как и Кисель: «однакож все это не произвело у нас движения: все дела шли медленно».
Не мудрено было Хмельницкому прослыть человеком wielkiego dowcipu и военным гением в таком государстве, где каждый думал только о себе и в годину страшной опасности хлопотал, чтобы его любовь к отечеству «не осталась без памятника».
Пока паны сносились между собой да готовились вяло к отражению татаро-казаков, князь Вишневецкий соединил вокруг себя раздраженную казацкими злодействами шляхту, вооружил наскоро преданных ему подданных, — тех подданных, которых отцы и деды ходили с Байдою в Туретчину, Московщину, в Волощину, — и ринулся на казацкие загоны, свирепствовавшие в шляхетских добрах. Ожесточение шляхты взяло тогда самый дикий аккорд с казацким «зверством», — и вышел адский концерт взаимных убийств и терзаний.
Малорусские историки в особенности налегают на жестокосердие князя Вишневецкого в этом случае. Но то, что делали казаки с панами, ксендзами, жидами, с женщинами и детьми, было чудовищно до невероятности. Например, Ганновер, в своих воспоминаниях, рассказывает вот какие ужасы:
«Жители множества жидовских городов за Днепром — Переяслава, Борисовки, Пырятина, Борисполя, Лубен, Лохвицы, не имевшие возможности бежать, были умерщвлены за веру разными жестокими видами смерти. С некоторых содрали кожу заживо, а тело бросили собакам; некоторым отрубили руки и ноги, и бросили на дороге, потом ехали по ним возами; некоторым нанесли множество несмертельных ран и бросили на площади, дабы они мучились в предсмертной агонии, пока не испустят дух; многих закопали живыми в землю; резали детей на лоне матерей; множество детей разорвали в куски; беременным женщинам распарывали живот, вынимали недоношенный плод и бросали им же в лицо, а некоторым, распоровши живот, впускали туда живую кошку, и живот зашивали, а им рубили пальцы, дабы не могли вынуть кошку; некоторых детей привязывали к сосцам матерей; некоторых насаживали на вертел, жарили на огне, а потом заставляли матерей есть их. Иногда брали жидовских детей, мостили ими улицы и ездили по ним... На подобие сказанного они делали везде, куда только достигали, и даже с поляками, а преимущественно с ксендзами», и пр. и пр.
Другой современный жид-мемуарист, Егоша, сын Львовского раввина, в книге своей «Бедствия Времен» [49], описал тиранию, претерпенную жидами от казаков в 1648 и 1649 годах, еще в более, если возможно, ужасном виде. По его рассказу, казаки, допытываясь у жидов, где они спрятали клады, сдирали с живых кожу; бросали жиденят в ямы, откуда несколько дней были слышны их крики и стоны. В Баре кололи младенцев, варили, жарили и съедали их в присутствии матерей. В Полонном избили столько жидов, что кровь лилась через окна. Убивая при этом жиденят, казаки предварительно ощупывали их, жирны ли они, а потом насмешливо осматривали их внутренности (как делают раввины при убиении животных), разрезывали найденного коширным жиденка на куски, продавали, как говядину, и пр. и пр. и пр.
Известный в кобзарской Илиаде под именем Перебийноса гайдамака Кривонос, выпустив Князя Ярему из заднепровских колоний, взял на себя задачу — доехать его в старых панских осадах. Но здесь народ был устойчивее. Не все здесь бросились на кровавый пир. Казацкий террор действовал на мужиков и на мещан почти так же слабо, как и в Наливайщину. Притом же столпившаяся вокруг Вишневецкого шляхта потеряла характер помещиков-беглецов. Она напоминала тех жолнеров, которые вместе с ним ломились в табор Гуни на Суле и стояли в ночной битве против Филоненка на Старце Днепре. Казак Аякс не смел напасть на магната Гектора в открытом поле. Он следил за движениями яростной шляхты из лесных да болотных зарослей и «залегал» на нее в местах, подобных Княжим Байракам да Крутой Балке. Но все его казацкие залеганья и полученные от Хмеля уроки были напрасны. Вишневецкий стряхивал с себя рои наседавших на него гайдамак и, гоня перед собой дикие ватаги, прошел невредимо до Немирова.
Это был родовой город Вишневецких, основанный еще в те времена, когда колонизаторы малорусских пустынь смотрели на мир с неверными гордо и жаждали только «кровавой с ними беседы». Теперь он был во власти хмельничан, как Пиков да Брацлав у наливайцев, и не впустил своего князя в укрепления, которыми прикрыли его от Орды предки Байдича. Вишневецкий взял непокорный город приступом, рассеял казаков, беспощадно казнил многих мещан своих, обеспечил, как ему казалось, их покорность и, оставив среди них, шляхетский гарнизон, двинулся далее. Но едва немировцы оплакали своих мертвых, как снова к ним нахлынули казаки, и снова подданные Вишневецкого сделались хмельничанами.
Узнав об этом, Князь Ярема вернулся на свои следы, чтобы показать пример казни необыкновенной. Но угрожаемые казаками его союзники просили его спасать Махновку. Едва он выбил казацкую орду из Махновки, как напал на него с тылу Кривонос. Не успел он отразить Кривоноса, как прибежала к нему толпа волынской шляхты с мольбой о защите Полонного. На этот новый подвиг не хватило сил у Вишневецкого. Пока он занимался новой вербовкою, Кривонос вломился в Полонное и произвел страшную бойню над укрывшимися там шляхетскими и жидовскими семьями. Князь Ярема спешил уже с обновленными силами на защиту Полонного и, может быть, уменьшил бы громкую доныне в слепой Украине славу Перебийноса; но под Старым Константиновым загородил ему дорогу Остап Половьян, присланный в помощь Перебийносу от Хмельницкого. Битва была упорная. Половьян стоял крепко, но наконец был сломлен и взят в плен. Поздно было тогда спасать женщин и детей в Полонном. В виду победителей Половьяна появился завоеватель Полонного, Кривонос. Вишневецкий сделал искусное движение к Случи и на переправе через Случь разбил Кривоноса наголову.
Но успехи не радовали его. На пытке Половьян показал, — что Хмельницкий наступает, следом за своими предтечами, с громадным войском; что он ведет за собой стотысячную Орду; что казаки хотят идти с татарами за Белую Реку, то есть за Вислу.
Не решился Вишневецкий ждать Хмельницкого над Случью с отважным, но малочисленным ополчением своим. Он удалился в крепкий и надежный город Збараж. Оставленные на свободе, передовые полчища Хмельницкого опустошили Корец и Межирич. Местечко Межибожье, принадлежавшее Сенявскому, сопротивлялось казакам упорно, но наконец сдалось и, к удивлению шляхты, было пощажено: сделка Тогай-бея с Сенявским спасла его местечко от разорения.
Покрыв себя незабвенною славою кровопролития в Полонном, Кривонос двинулся к Подольскому Каменцу. Но там ему не посчастливилось. Он ограничился опустошением окрестностей, густо заселенных мелкопоместною шляхтою. Подольские землевладельцы, привычные к отражению татар собственными средствами, оборонялись мужественно и в одной схватке взяли в плен несколько казаков.
Оказалось, что это были не казаки, а карпатские опришки, или разбойники. Слух об удачном бунте Хмельницкого привлекал отовсюду в казацкие купы людей одного и того же сорта.
Прочим руинникам, подобным Кривоносу, на сей раз посчастливилось больше. Они овладели городами Луцком, Кременцом, Клеванью, Тайкурами, Владимиром, Кобрином, Заславлем, повторяя всюду кровавые и гнусные сцены своего господства.
Разорили казаки и местечко сенатора православника, Гощу, наравне с местечками и городами других православных панов. Не пощадили они и знаменитого города Острога, на который столько лет были обращены взоры теснимого папистами малорусского духовенства с отрадными упованиями; не пощадили и Литовского Бреста, иначе Береста, которого мещане и попы стали в упор церковной унии и сделались первыми жертвами правосудия восторжествовавших папистов.
Далее Береста разбой казацкий не проникнул в Белоруссию. Там было мало людей кочевых, бродячих, бессемейных, а потому было мало и пособников казацкой пропаганды. Возмущение черни действовало там слабо; самозащита шляхты проявлялась энергично. Ибо общую черту успехов Хмельнитчины составляло то обстоятельство, что города и села предавали казакам их соумышленники. Не войты, не бурмистры, не райцы и лавники, не церковные и цеховые братчики, не оседлые и статейные люди какого-либо сословия, звания и вероисповедания являлись казацкими соумышленниками до Хмельницкого и при Хмельницком, а те, которых современные письмена просто-напросто называют пьяницами, повесами и негодяями. Этот многочисленный класс польско-русского населения Малороссии, известный под именем гультаёв, вырабатывался из простолюдинов и шляхтичей, которых от сельских общин и сельских хозяев увлекали к себе городские забавы и буйства. Спившиеся с круга, запутанные в долги, в тяжбы, в уголовные дела, разорив свои семьи и сделавшись врагами тех, кого жизнь и природа давали им в друзья, в помощники, в руководители, они сперва делались агентами запорожских соблазнов среди своего общества и его молодежи, а потом — предателями своих сограждан. И вот каким путем наши мещане входили в широко разлившийся поток разбоя и разврата, известный нам от наших историков под именем борьбы казаков за православную веру и русскую народность!
Но это горестное явление вытекало не из общественного беспутства русских людей, оставленных историческими причинами за пределами гражданственного влияния Москвы. Конечно, в нем отразилась наследственная дикость разоренного и порабощенного Батыем края, в которой малоруссы были способны воспринять и от кочевых, и от гражданственных соседей своих одно худшее; но, еще очевиднее, оно было продуктом общих грехов шляхетского народа, который выработал беспутное и беспощадное казачество в привилегированной среде своей еще в те времена, когда это слово не получило национально-русского значения.
В эпоху Хмельницкого деление всего населения малорусских (а это значит вообще русских) провинций Польши на казаков и не-казаков принимало всё более и более грозные размеры, как от малодушной уступчивости одних землевладельцев, во главе которых, в качестве примирителя, стоял православный русин, Адам Кисель, так и от великодушной решимости других, вождем которых сделался католик русин, Иеремия Вишневецкий. Успокоивая людей добрых, поблажливых, вялых и боязливых своими миролюбивыми, жалобными и льстивыми письмами, Хмельницкий казацкие разбои и необходимость быть в союзе с татарами оправдывал свирепыми, как он представлял, действиями князя Вишневецкого, а между тем собрал, как было слышно, до 200.000 войска, готового стереть с лица земли и самый след колонизационных панских трудов, причем волей и неволей позволил татарам увести в Крым столько же, если не больше, рабочего народа, не принимавшего участия в казако-татарских набегах.
Князь Иеремия понимал истребительную политику Хмельницкого яснее, нежели кто-либо из его правительственных товарищей, и ломал руки, глядя на крушение государства, составлявшего оплот Западной Европы от азиатского нашествия.
Напрасно слал он гонцов за гонцами к панам, которые могли бы еще остановить разлив кочевников, когда бы выдвинули против них ресурсы гражданственности. Его сенаторская и воинская репутация стояла высоко у одних; но зато другие в тайне радовались подрыву его могущества в Речи Посполитой и напирали на уступчивость в борьбе с казаками только для того, чтоб казаки доуменьшили прыть и ему, и другим колонизаторам юго-восточных пустынь. Старое соперничество привислянских доматоров с воинственными и предприимчивыми маркграфами продолжало развиваться на гибель Польши, не подчинявшейся никакому положительному правительству даже и в виду общего врага всех партий.
Так было и у нас во времена нашествия Батыева. Мы получили тогда хороший урок для строения той государственности, которою теперь гордимся в своем воссоединении с великоруссами. Но к Польше, вместе с нашей землей, перешел и тот своенравный, разъединительный дух наших малорусских предков, который сделался причиною достигшего их татарского Лихолетья. Еще задолго до повторения Наливайщины, в виде Жмайловщины, правительство Сигизмунда III называло казацкое своевольство, под именем swawoli Ukrainnej, страшным пожаром и убеждало панов гасить этот пожар совокупными средствами. Теперь он был в полном разгаре, и паны раздували его в двух противоположных направлениях.
Интересен за это время, как и всегда, дневник литовского канцлера. Почтенный предводитель католической партии, потомок православных князей Радивилов, сознается, что в июне 1648 года Польша «едва дышала от боязни». Сам он искал спасения от наступавшей грозы у чудотворного образа Przenajswietszej Matki, который славился чудесами в его селе Песочне, окрещенном в Пасечню. Целый месяц июнь, последовавший за Корсунской катастрофою, пройден у него молчанием о том, что делалось в земле, текущей молоком и медом. Он был — точно ребенок, зажмуривший глаза у груди матери, или, пожалуй, страус, воткнувший голову в песок. Июля 1 Альбрехту Станиславу Радивилу исполнилось 55 лет. Он усердно молился о своих грехах в костеле «своей благодетельницы», всё той же чудотворной иконы, а потом съездил в Пеплин, в монастырь Св. Бернарда, «особенного любимца Пресвятой Девы (osobliwego kochanka Najswietszej Panny), поручая его предстательству несчастное королевство».
Вот она, та беспомощность в трудных обстоятельствах, тот недостаток самодеятельности, которые были в польских панах, говоря о них вообще, результатом клерикального и иезуитского воспитания! Магнат Радивил умел заставить короля Владислава нарушать монаршее обещание, умел отказывать ему в приложении канцлерской печати, смел наставлять его, чтоб он, присягая словом, не присягал намерением, — и теперь, когда надобно было действовать, уподоблялся грудному ребенку, или глупому страусу! Что же сказать о других, не столь ученых, не столь способных и могущественных польско-русских панах?
В июле 1648 года созвали они так называемый каптуровый сейм, то есть такое национальное собрание, в котором, при несуществовании короля, все головы были покрыты шапками, по-старинному каптурами. До избрания нового короля королей шляхетской республики, место его занимал гнезненский архиепископ, в качестве примаса.
На каптуровом, иначе конвокационном, сейме прежде всего было решено выставить против казаков 36.000 войска: сила ничтожная по численности полчищ Хмельницкого; но в руках такого вождя, как Вишневецкий, она сделала бы с Хмельницким то, что сделала, вдохновляемая нашим Байдичем, горсть волонтеров с Половьяном у Старого Константинова и с Перебийносом на Случи. Только ему не вверили диктатуры. Паны боялись всякого сильного характера, всякого широкого в политике ума. Любовь к личной свободе ослепляла их до того, что им казалось опасным соединить под властью одного лица эти 36.000, которые они великодушно постановили набрать, но которых не позаботились хорошо вооружить и вывести на сцену действия в полном составе. Даже теперь, когда сосредоточенная в сильных руках власть могла бы спасти шляхетскую республику, на сеймиках, предшествовавших каптуровому сейму, налегали на то, «чтобы постоянная диктатура гетманская (perpetua dictatura hetmanska), которая появилась в Польше недавно, (как проповедовали ораторы), была уничтожена; так как это не только неудобно для Республики (Reipublicae incommodum); но и опасно (ale i periculosum)». Поэтому каптуровый сейм, вместо одного главнокомандующего, назначил троих «гетманов», под именем региментарей.
Первым из них был указанный примасу нашим Адамом Свентольдичем неспособный к военному делу сендомирский воевода, князь Доминик Заславский; вторым — коронный хорунжий, Александр Конецпольский, отличавшийся воинственным духом своего отца, но не его талантами; а третий — коронный подчаший Николай Остророг, славный классическою ученостью и дипломатическим искусством, но не рожденный быть полководцем. Басенные щука, лебедь и рак не могли бы действовать менее согласно в общем деле, как эти три героя в трудной казако-татарской войне; а явное отвержение того, кто один заграждал бунтовщикам путь, когда все помышляли только о бегстве, оскорбило партию почитателей его и внесло рознь между самых влиятельных членов республики.
Один из люблинских панов, в письме к приятелю, так отзывался в это время о правителях шляхетского государства: «Из Варшавы не пишут ничего доброго: все только kawy dla zabawy. Даже литовских панов не позаботились призвать для отвращения опасности [50]. Неизвестно, по чьему совету назначили этих триумвиров, чего и сами начинают уже стыдиться [51]. Печатари (канцлеры), в своем разъединении, должно быть, прочат царствование не кому-либо из королевской крови, а себе самим (sibi regnum sperant), чтобы каждому властвовать над покорными подданными (панами). Боже! смешай их советы, открой фальшь и измены (Boze, zamieszaj ich rady, odkryj falsz i zrady)! Но все это переменится, когда братья (шляхта) снесутся с теми панами, которые держат в руках сабли, а не молитвенники, да перья».
При таком помрачении общественного смысла, вопрос о том, что вызвало новый казацкий бунт и чем возможно подавить или успокоить мятежников, стал обсуждаться в пустой след после того, как против них были приняты нелепые меры. Теряясь в догадках и не зная на чем остановиться, вожди шляхетского народа обратились к послам народа казацкого, присланным под видом испрошения помилования Хмельницкому, а в сущности для того, чтобы выведать настроение панских мыслей и узнать о положении государственных дел.
Один из членов палаты депутатов советовал не тратить времени попусту. «Мы хочем знать причину пожара, не погасив его» (говорил он). «Это все равно, как если бы кто упал в колодец и кричал о спасении, а его бы сперва спрашивали, как он туда попал». Но сеймовые паны всё-таки допросили казаков о причинах их бунта.
Ответы казацких послов заключались в известной уже нам инструкции.
Не было лучшего времени и места для ревнителей малорусской народной веры и чести, чтобы не только выразить накипевшие у них на сердце оскорбления религиозной совести и национального достоинства, но и оправдать ужасы бунта. Здесь присутствовали князья Четвертинские, из которых один в последствии облекся в сан киевского митрополита. Здесь заседали Кисели и Древинские, ораторствовавшие на сеймах в пользу древней греческой веры. Здесь много было земских послов православного исповедания, непричастных не только римской политике, но и передаче интересов православия в руки могилинской, полупольской иерархии. Если бы казакам были нужны посредники католико-православного спора, поднявшегося с обнародования церковной унии, то вместе с панами католиками и панами православными заседали здесь и вожди польско-русских протестантов, с которыми наши православники были тесно соединены со времен Князя Василия.
Только киевского митрополита не было: его казаки не пустили на сейм, тогда как борцам православия следовало бы всячески побудить малорусского первосвященника к поездке в Варшаву для свидетельствования о той вере, за которую они «помирали», как уверял Хмельницкий царя Алексея Михайловича. Но то, что было приписано в конце инструкции казацким послам, оставалось только на бумаге. Послы — или не хотели, или даже не умели заговорить о делах церкви и веры, как это случилось и в Медвежьих Лозах с казацкими уполномоченными.
Литовский канцлер, в числе прочих первенствующих панов, получил от казаков, через их посольство, просительное, alias туманящее, письмо. Он присутствовал при многократных аудиенциях, данных на сейме казацким послам. Послов допрашивали о королевских листах, о поощрении Запорожского войска к задиранью Турции. Дневник Радивила следил за казацким вопросом обстоятельно. Радивил отметил даже, как послы бледнели и дрожали (разумеется, при мысли о казацком терроре, в случае несоответственных показаний). Но ни слова не записал он о том, чтобы казаки стояли за свою стародавнюю греческую религию, тогда как тут же писал о протестантах, что они домогались уступок в пользу своей новой веры, и что коронный канцлер сказал им:
«Хоть бы не только Хмельницкий, но и весь ад восстал против нашего отечества, не дозволим вам больше того, чем вы пользовались». [52]
Интересно сравнить эту часть Радивилова дневника с тою, где он описывает домогательства протестантских вождей в 1632 году.
В то время протестанты (пишет Радивил), «под видом этих схизматиков, заявили все свои требования, угрожая помешать избранию короля, в случае неисполнения их».
4-й пункт требований гласит: «Кто бы учинил какое-либо насилие русским церквам или зборам диссидентов, публичным актам, богослужению, того чтобы карали в трибунале, яко нарушителя общественного спокойствия», и пр.
5-й пункт: «Чтобы русская митрополия подчинялась константинопольскому патриарху; чтобы владыки, архимандриты и другие получали посвящение от того же патриарха; чтобы униаты, отказавшись от этих достоинств, отдали семинарии, типографии и другие места дизунитам», и пр.
6-й пункт: «Где бы ныне ни были монастыри, церкви, семинарии, основанные издавна, а равно синагоги и зборы диссидентов, по какому бы то ни было праву существующие, чтобы потом были сохраняемы со всеми принадлежащими к ним имуществами», и пр.
8-й пункт: «Чтобы дизуниты и диссиденты какого бы то ни было состояния и достоинства имели право чинить записи, завещания и фундации, актиковать их в гродах и извлекать из них публичные акты, привилегии и декреты».
9-й пункт: «Чтобы дела дизунитов и диссидентов с духовными, со студентами, были разбираемы в Короне смешанным судом, а в Литве — в суде светском трибунальском», и пр.
10-й пункт: «Чтобы в коронных и литовских городах дизуниты и диссиденты имели право занимать городские должности в магистрате, а кто из них был из магистрата исключен, те чтобы возвратились».
11-й пункт: «Чтобы дизунитская шляхта, по своим заслугам, пользовалась правом на все дигнитарства и уряды, прерогативы и доходы с имений Речи Посполитой, и чтобы в королевскую присягу были включены слова: без различия религий», и пр.
Это извлечение из дневника литво-русского канцлера представлено мною в сокращении. Не преминул бы он и теперь внести в дневник такой важный факт, как домогательство о церкви и вере со стороны казаков, стоящих во всеоружии грозного бунта. Но послы Хмельницкого не сказали о религии ни одного слова.
С другой стороны, протестанты поднимали теперь вопрос о своей новой вере в отдельности от веры старогреческой, титулуемой древним русским благочестием. Это доказывает, что православники, вписывавшие в казацкие петиции жалобы свои, только и держались протестантами и что не казаки интересовались верою даже в лице таких людей, как Сагайдачный, а казакующая шляхта, за которую хватались и не принадлежавшие к казачеству православники. Теперь наша малорусская шляхта ни из Украины и Волыни, ни из Червонной и Белой Руси не смела домогаться по прежнему того, что позволяли себе, для политической демонстрации, вписывать в посольскую инструкцию казаки. Раза два поднимала она, в своей отдельности от казаков, вопрос о рассмотрении терпимых ею экзорбитанций в деле веры; но ей отвечали, что не за что покровительствовать религии, которая всегда была крайне враждебна римской (inimicissima Romanae), а ныне являет ужасное свирепство, подобное татарскому (saevissima, eaque tartarica prosequitur rabie). Ни Адам Кисель со стороны православников, ни сын Перуна, Радивил, со стороны протестантов не ораторствовали больше в пользу вероисповедания, столь вредоносного, и не соединяли в одну фалангу, как прежде, своих разноверных борцов.
Хмельницкий, освобождая из плена некоторых панов, членов нынешнего каптурового сейма, твердил им, что будто бы сам король велел казакам добывать себе свободу саблею; но и он не находил возможным говорить им о войне за оскорбление религиозного чувства, которой верили только в Москве, и то не все, как это мы видели по донесениям Плещеева и Кунакова. Казацкий гетман домогался права неподсудности и произвола, принадлежавших de facto каждому магнату, начиная с Вишневецкого, хотя de jure каждый из магнатов находился в зависимости от своей шляхетской братии. Это право, право открытой силы, господствовавшее в Речи Посполитой под видом конституции, одни из членов национального собрания признавали за казаками молча, но другие позволяли себе высказываться решительно в пользу бунтовщиков, и, под влиянием старого соперничества с маркграфами панами, «преувеличивали» притеснения, которые казаки терпели от украинских землевладельцев, урядников и жолнеров.
В среде сеймующих панов даже духовные сенаторы требовали, во-первых, амнистии казакам, во-вторых, восстановления казацких вольностей и, в-третьих, устранения ненавистного казакам князя Вишневецкого от предводительства коронным войском. Правда, некоторые из этих сенаторов настаивали на строгой каре казаков за поругание католических святилищ; зато другие соглашались с надворным коронным маршалом, известным любимцем покойного короля, Казановским, который оправдывал казаков даже в том, что они заключили договор с татарами. «Они были готовы обратиться к самому аду» (говорил Казановский), «лишь бы освободиться от такого рабства и притеснения, которые бедняги, как видим, терпели. Хороша была, нечего сказать, ординация Речи Посполитой для обуздания будущего их своевольства!» (продолжал он). «Казацкий комиссар был поляк, полковники — поляки, гарнизоны на Запорожье состояли постоянно из поляков. Можно бы и ординацию сделать, и суд установить на тех, которые хотели бы обижать и притеснять казаков. Чего тогда не сделали, я, по званию моему, советую, чтобы казаки были во всем удовлетворены. Пускай казакам, живущим под шляхетской юрисдикцией, дано будет право жаловаться на обидчика шляхтича в гродском суде, в земском суде, в трибунале. Это-то и заставит их сделать между собой перебор, так что только старинных будут они принимать в свои вольности».
Речь Казановского, без сомнения, была направлена против князя Вишневецкого, который, в борьбе с ним за Ромен, унизил его даже во мнении короля. Но члены каптурового сейма вообще относились к вопросу о казацком бунте без той злости и фанатизма, на которой выезжает малорусская историография. «Общим собором» (пишет литовский канцлер) «просили брацлавского воеводу (Киселя) дать ясное понятие об этой войне».
И по отношению к могущественным панам протестантам и по отношению к могущественным теперь более прежнего казакам, Кисель мог бы и должен был бы засвидетельствовать, что причиною страшной войны — притеснение веры в казацкой Украине. Радивил говорит, что он «широко изложил информации войны», но что «сумма информации была такая: Хмельницкий часто упрашивал Потоцкого не преследовать его, но тот не унимался и хотел уничтожить его в самых начатках (бунта). Поэтому Хмельницкий обратился к татарам, и хотя брацлавский воевода убеждал Потоцкого не делать этого, и послал письмо к королю, чтоб отвлек его от этого предприятия, но пока письмо пришло, наше войско было уже разбито, гетманы взяты в плен», и т. д.
Общею чертою панских совещаний о том, как поступить с бунтовщиками, было непонимание всей грозы бунта. Раздробленное на множество панских царств и мещанских республик Польское Королевство оказывалось мелочным в своих мероприятиях. Нам, и самым мелким, и самым крупным органам консолидированных народных русских сил, почти невероятно то, что рассказывает литовский канцлер о советах Оссолинского и других высших сановников. Советовали, например, послать к Хмельницкому полученное от хана письмо, в котором хан говорил, что казаки хотели идти к самой резиденции короля, но хан не согласился на это ради пактов Польши с турецким султаном; а так как в том же письме хан прибавлял, что вторжение свое сделал по турецкому велению, то послать письмо и к визирю. Сам Радивил советовал поскорее отправить казацких послов, чтобы их задержкою не раздражить еще больше казатчину, «а причиною бури» (пишет он) «представил я наши грехи да угнетение убогих», — и только!
Вслед за этим глубокомысленным и патриотическим представлением прочитано было государственному собранию письмо достойнейшего, по мнению Киселя, из прозелитов польщизны, князя Доминика Заславского, «который» (пишет Радивил) «не советовал давать амнистию казакам: ибо это», говорил он, «не представляет нам ни пользы, ни чести, а лучше все нести с отвагою».
В письме своем Заславский рассказывал, между прочим, что казаки в иезуитском костеле, в Виннице, пили священными чашами горилку, нарядившись в ксендзовские орнаты; капланов жестокосердно замучили, выбрасывали трупы из гробов и, рассекши на куски, бросали собакам, а пленных шляхтичей, для большего поругания, продавали татарам по нескольку грошей.
Далее Кисель представил сочиненный им универсал от сената к казакам. Только-что хотели было послать этот универсал в Посольскую Избу, как она прислала собственный, в котором исчислила все казацкие злодейства: как соединились казаки с погаными татарами, как разбойничали и опустошили столько провинций, как уведено было в татарскую неволю множество христиан, как вырезано несколько воеводств, как попирали казаки ногами священную евхаристию, как святыми чашами пили горилку. «Однакож» (сказано было в универсале), «если искренно раскаются, если удовлетворят Речь Посполитую, поелику покорно просят о помиловании, то можно все им простить, только чтобы спокойно ждали комиссаров, бунты усмирили, зачинщиков на руки комиссарам выдали, пленников отпустили, в прочих же пунктах ждали повелений Речи Посполитой через комиссаров».
Крыловская басня «Кот и Повар» представлена была здесь в лицах.
«Понравился этот проект (podobal sie ten koncept)», пишет наивно литовский канцлер, и рассказывает, как назначили 18 особ из представителей всех вероисповеданий в комиссию с казаками, а казацкие послы были отпущены с одним универсалом от Сенаторской Избы и от Посольской за подписью примаса и посольского маршала».
Никто не смеялся при этом; но громко смеялись, когда Адам Кисель и писарь Великого Княжества Литовского, Пац, излагали подробно, как они были в посольстве «у москаля». С антиславянской точки зрения, усвоенной даже и православными панами ляхами, московские порядки казались им нелепыми. Если бы такие представители русского элемента в Польше, какими являлись Кисели да Древинские, не были теми же поляками, не потешали бы они польских законодателей карикатурою московской дипломатии, и остановили бы столь несвоевременный смех малорусским замечанием: «Коли б вам, пани ляхи, та не сміятись на кутні»! Впрочем, в конце одного заседания, маршал Посольской Избы напрямик сказал своим избирателям, что кого хочет Бог наказать, у того отнимает разум, и попрекнул их королем Владиславом, назвав его головою, «от которой зависело существование шляхетского сословия».
Для полной характеристики каптурового или конвокационного сейма следует упомянуть о зловещей сцене в церковно-религиозном духе. В число депутатов транзакции с казаками надеялся попасть и киевский подкоморий, арианин Немирич; но маршал Посольской Избы исключил арианина из списка, а прочие ревнители католичества высказали ему, — что люди, не признающие Св. Троицы, не пользуются общественным правом, и что сеймовые паны должны остерегаться таких людей, как морового поветрия. При этом освецимский (т. е. осветимский) староста, Адам Корыцинский (т. е. Корытинский) объявил, что лучше ему разлить свою кровь и лишиться жизни, нежели единиться с подобными еретиками; а Мазовецкое воеводство не дозволяло, по своим правам (juxta jura sua), ни под каким видом терпеть никакого диссидента. У них де и жидам их древние законы не дозволяют нигде жить под смертною казнью (sub poena colli). Вслед за Мазурами и представители Киевского воеводства, земляки Немирича, заявили, что желают сохранить ненарушимым право, по которому допускаются у них только две религии, римская и греческая.
Избранники панского большинства, Заславский, Конецпольский и Остророг, изъявили согласие на то, чтобы во главе комиссаров стоял миротворец Адам Свентольдич Кисель. Представитель панского меньшинства, князь Вишневецкий, устранился с негодованием от совещаний польских царей и, подобно гневному сыну Пелея, обращал в уме своем грозные мысли, проникнутые глубокою скорбью. То он готовился (по дошедшему до Кунакова характеризующему Речь Посполитую слуху) «наварить полякам пива горше Хмельницкого», то решался предоставить их погибельной их участи, то намеревался совсем уехать из безалаберного и неблагодарного отечества.
Правоправящая панская республика, в борьбе с революционной республикой казацкой, все еще мерила взаимные свои отношения мерилом прошлых своих успехов и своего торжества над нею. Депутованные на казацкую комиссию предполагали, что, для транзакции с казаками, всего лучше было бы избрать место, недалекое от Киева, где бы можно было покупать съестные припасы для своей ассистенции, а коронное войско, чтобы стягивалось между тем к Константинову. Ассистенция же комиссаров (совещались паны) не должна быть ни слишком многочисленна, чтобы не испугала казаков, ни слишком мала, чтобы казаки не пренебрегали её. Казаки хотят 12.000-ного реестра (размышляли депутованные). Пожалуй, можно согласиться на одну-другую тысячу. Казаки просят об уплате жолду. Но ведь приготовленные для них деньги (с дефицитом в 230.000) взяты вместе с обозом, да притом же из-за этого жолду наделано столько шкод и татарами, и самими казаками... Но всего забавнее в совещаниях представителей Польского государства, что они придумывали меры к тому, как бы казаки не показались перед шляхетским народом предписывающими ему условия.
Это происходило 24 (14) июля, — и тут же Варшава получала известия о хлопских разбоях в «Литве и в Руси», о беспощадных нападениях Перебийноса на шляхетские жилища.
На другой день депутованные заседали у примаса. Тот спрашивал, как о предметах равнозначащих: что делать с диссидентами, которые хотят отменить сеймовой декрет об уничтожении в Вильне протестантского збора, и что делать с новонавербованными жолнерами, угнетающими духовные добра своими стациями?.. Депутованные важно решили: сопротивляться диссидентам, а жолнерские угнетения переносить в это плачевное время терпеливо.
С той же важностью постановили, 26 (16) июля, — чтобы комиссия началась 23 римского августа в Киеве, а кончилась 6 сентября, чтоб от казаков потребовать освобождения пленников и выдачи пушек. Пускай де казаки разорвут лигу с татарами, беспокойных людей выдадут, верность Республике возобновят; уплаты жолда пускай не надеются по причине наделанных ими шкод; королевские листы возвратят; вольностью довольствуются такою, какая дарована им комиссиею Кумейскою, а maximum — Куруковскою, и т. п.
Как бы в ответ на эти несообразности Варшава получила вести, что Кривонос овладел Полонным, местечком краковского воеводы Любомирского (к которому так ластился Хмельницкий после Корсунского погрома) и произвел в нем неслыханные убийства над беззащитными людьми, как об этом было говорено уже выше. Зато сторонники князя Вишневецкого уведомляли раздраженных варшавян, что он, командуя только 6-ю тысячами жолнеров, три раза бился с 60-ю тысячами казаков и положил их 10.000 трупом.
Непосредственно за этими вестями в дневнике Радивила записано, без всякой иронии, следующее: «Мы, депутованные, целый день провели в споре с диссидентами», а в Дневнике Варшавской Конвокации читаем, — что едва не все воеводства объявили свою решимость — отделиться от диссидентов с протестациею против них (cum protestatione contra dissidentes).
Всё-таки кровопролитие, произведенное Перебийносом в Полонном, заставило панов немедленно отправить полномочную комиссию к казакам под начальством брацлавского воеводы, и казалось им, что они сделали весьма важное дело.
Между тем из разных мест получались донесения о признаниях, вымученных пытками у пленных казаков и казацких шпионов, бродивших под видом попрошаек.
Одни из них рассказывали, будто бы московские послы были у Хмельницкого (шляхта всего больше боялась его сношений с Москвою) и объявили ему, что царь просит казаков уступить ему землю по Днепр, а он за то поможет казакам прогнать поляков за Вислу и сядет на Польском королевстве. Другие показывали, будто бы малорусские владыки снабжали казаков порохом, пулями и гаковницами. От третьих судебная инквизиция узнавала такие важные вещи, — что какой-то чернец говорил: «Кто лучший, тому, Господи, помоги», или такие, — что в Новом Константинове есть мещанин Харко, который сносится с казаками, и еще: что в таком-то местечке есть у казаков приятели — Харко, Иван, Мартан, Иванко, Лесь, Павлюк: или, наконец, — что в Володарке есть трое таких, у которых не допытаются ничего и десять катов: такое де знают зелье. Эта исповедь, раздражавшая попусту чернь против «панов ляхов», стоила споров с диссидентами. Умы, как видим, были в тумане.
С своей стороны продолжал туманить правителей безгосударного государства Хмельницкий своими письмами, и распускал о нашем духовенстве и его пастве разные слухи соответственно своим целям.
Не советовавший прощать казаков наследник Острожского вопиял теперь, в письме к примасу, что дела находятся в отчаянном положении, и боялся уже, чтоб «не упала высокая Троя (i boje sie, zeby nie upadla alto a culmine Troja)». Он отправил одного из своих приближенных, какого-то Колонтая, послом к Хмельницкому, — к «предателю Хмелю», как называл его перед панами.
По этому случаю почтил его своим письмом предтеча предателя Хмеля, Кривонос.
Знаменитый истребитель жидов, стариков, женщин и детей уверял князя Заславского, что казаки не хотели опустошать Польской земли, но заелся де с ними князь Ярема, тиранил, посекал, сажал на кол невинных людей, в каждом городе становил среди рынка виселицу, а потом буравил глаза. «Мы тоже» (писал человеколюбивый разбойник), «обороняя свою веру и жизнь, были принуждены стоять за свою обиду. Вот и о наших послах не имеем никакой вести. Видно, уже спят, что не проснулись до сих пор. А жидов» (закончил письмо кровавый лыцар) «направляйте к самой Висле. Вся беда началась от жидов: ибо они свели с ума и вас».
Это было написано перед резнею в Полонном, которая (говорит Радивил) произошла от того, что казаки поверили распущенным хлопами слухам, будто их послов посадили в Варшаве на колье: легковерие, достойное казацких потомков, малорусских историков и беллетристов.
Чем ничтожнее был, по своей природе, князь Доминик, тем больше дорожил его влиянием на миротворцев Киселей казацкий батько, Хмель. Отпуская Колонтая из Паволочи, он вручил ему универсал к нескольким городам, чтоб его не задерживали ни хмельничане, ни татары, то есть, чтоб успокоительный ответ на посольство дошел по адресу.
Хмельницкий свидетельствовался Богом перед «ясноосвещенным» князем Заславским, что, будучи неизменными слугами Речи Посполитой, казаки желали мира от всего сердца; но наступил де на них князь Вишневецкий, которого они отпустили из-за Днепра, хотя держали, можно сказать, уже в руках, и поэтому казаки должны были двинуться войском. В удостоверение своих слов, посылал ясноосвещенному князю для прочтения универсалы его милости князя Вишневецкого и письма из Москвы. Хмельницкий ждал только своих послов из Варшавы, чтобы вернуться со всем войском и с Ордою в Украину: «пускай де не бродят больше в христианской крови»... «Да и то» (продолжал он) «я постоянно удерживаю своих от чат и грабежа не чем иным, как только мечем, и именно потому, что ваша княжеская милость благоволите являть столь великую милость к нам, нижайшим слугам своим, еще с предков своих. Будучи этим чрезвычайно обрадованы» (лебезила далее старая лисица перед старой вороной) «и возблагодарив за это сперва Господа Бога, мы готовы исполнить всякое повеление вашей княжеской милости, в таком упадке Польской Короны. Только сердечно и униженно просим, благоволите сноситься с нами, своими нижайшими слугами, обо всем. По желанию его милости пана Колонтая, велел я выдать строгий универсал к нескольким городам, чтоб имения вашей княжеской милости для войска нашего были неприкосновенными и мы прилагаем всяческое попечение, чтобы никто не делал ни малейшей кривды ни вотчинам вашей княжеской милости, ни вашей княжеской милости слугам».
В заключение раболепного письма своего, Хмельницкий, не без тайной иронии, выразил желание отдать первенствующему магнату поклон лично со всем Запорожским войском. Мы увидим, как обрадовался католический потомок нашего Изяслава возможности такого поклона под Пилявцами. Он и теперь умолял уже примаса не полагаться на поветовые ополчения (praesidia) и обратиться к посполитому рушению да к панским собственным силам. В то же самое время послал он свою пехоту, в числе 2.500 человек, для обороны своих имений, под начальством Осинского, носившего звание обозного Великого Княжества Литовского, а сам занялся тем, чтобы своими переменчивыми приказами сводить его с ума. Опытный в военном деле Осинский мог бы погибнуть ни за что, но его спас Вишневецкий, подоспев к нему для совместных подвигов. С горстью мужественных людей, они успешно воевали против Кривоноса и отбили у него знамена корсунских квартяных, фамильное знамя Калиновских, четыре пушки и какие-то органки.
Казацкие ревучие гарматы действовали против панов так плохо, что не причиняли им никакого вреда, а от их мелкой стрельбы поле покрывалось казацкими свитками, «точно белым сукном». По реляции Осинского, Кривонос бежал от Случи «бесстыдно».
Но у смелых бойцов за боязливую братию было мало хлеба и фуража, а боевые силы их убывали с каждым боем. Князь Вишневецкий послал в сенат, от 30 (20) июля, коллективное письмо, подписанное главными его соратниками. То были: киевский воевода Януш Тишкович, коронный стражник Самуил Лащ, обозный Великого Княжества Литовского Самуил Осинский и брацлавский подсудок Криштоф Тишкович.
Читателя поразит странное обстоятельство, что знаменитый банит Лащ Тучапский попал в число представителей польского патриотизма... «Так наша піч пече», могли бы сказать малорусскою пословицей поляки. По смерти Станислава Конецпольского, пан Лащ, правая рука его в борьбе с соседями, без которой не обходилась панская колонизация, а также — в отражении татар и в обуздании казаков, должен был бежать от киевской шляхты, окружившей его дом с приговорами трибунала в руках, и скрывался в магнатских домах от преследования закона, то есть от своих врагов. На сейме 1646 года о Лаще ходатайствовали в Посольской Избе, по обычной снисходительности панов к подобным преступникам. Бунт Хмельницкого вызвал его на боевую арену, под защитой военного экземпта, и тот же Януш Тишкович, который, в качестве киевского воеводы, послал на него местную шляхту, подвизался наряду с ним в борьбе с казаками. Между колонизаторами Малороссии случалось много раз, что недавние враги сражались плечо с плечем против азиатской дичи и родственной с нею дичи казацкой. Сам Вишневецкий ненавидел разбойника Лаща за многое, но в борьбе с казаками и казацкими побратимами, он, подобно Тишковичу, не делал различия между Осинским и Лащем Тучапским. Таким образом подпись Лаща красовалась рядом с подписью нашего Байдича.
Это было уже второе представление польских воителей польским доматорам, членам каптурового сейма и конвокации. Они доносили о несчастнейшем положении Республики (statum Reipublicae afflictissimum). Они видели всё большую и большую руину (ruinam) всего отечества. Они недоумевали, почему к ним, в их отважных боях с многочисленным неприятелем, не приходят ниоткуда вспоможения: потому ли, что паны братья сами по себе беззаботны, или же потому, что они отуманены напрасною надеждою на мир (spe traktatow ubespeczeni et vana nube armisticii obumbrati). «Предостерегаем вас опять» (писали воители), «что неприятель, под покровом обещанного мира, всё более и более увеличивает свои жестокости, всё шире и шире растекается и усиливается, так что в каждом хлопе надобно видеть врага, в каждом городе и селе — толпу неприятелей (catervas hostium). И неудивительно: из нашей беспечности чернь заключает, что все ей позволительно (omnia sibi licet in omnes). Отсюда происходит, что никто не сопротивляется, все разбежались, все подавлены страхом (wszyscy terrore pressi zostaja)».
После такого увещания, изолированные защитники польской чести и славы умоляли сенат не вести переговоров без Марса, чтобы не подпасть под власть неприятеля. Напрасные мольбы! Конвокационисты были только поражены (perculsi) новыми известиями, — больше ничего. С ужасом узнавали они, что силы Вишневецкого истощились потерями в битвах; что долее не может он сдерживать «импета» неприятеля; что отступает с обозом под Константинов; что Полонное осаждено (писавшие не знали еще, что Кривонос в него вломился); что Чорторыя и Черкин вырезаны... Но, вместо того чтобы послать своему защитнику помощь, они держали в Сенаторской Избе тайную раду, из которой велели выйти даже королевским секретарям, и целый день совещались — не о том, как отразить неприятеля, а о том, как поступить с самоотверженным героем. Надежды на мир до того сбивали их с толку, что Вишневецкий казался им опасным революционером, вроде самого Хмельницкого.
Письма казацкого батька к вельможным панам и распускаемые им, по старинному обычаю, выдумки, подействовали на панское общество так, как это было ему нужно.
Отособив талантливого полководца и от лучших, и от худших сограждан его, хитрый казак маскировал свои приготовления к борьбе с панами кривоносовскими набегами, которые разгоняли местную шляхту, обезоруживали панские замки и открывали ему свободный путь в глубину давнишней Украины — Волыни, Украины не казацкой, а шляхетской. Но путь к нему самому, в его украинские трущобы, оказался непроходимым для правительственных комиссаров.
Красноречивый и глубокомысленный Адам Кисель был одурачен им больше всех тех, которые в национальном собрании внимали ему, как оракулу. Предпринятая Киселем экспедиция превышала его вещественные и нравственные средства. Он и его трое товарищей, Сельский, Дубравский и Обухович (все наши соплеменники, избранные из среды депутованных, отправились под прикрытием полка в 2.000 человек, то есть такой ассистенции, «чтобы не испугать казаков», как совещались государственные люди; но эта ассистенция оказывалась ничтожною силою среди бушевавшей на Волыни казатчины. Загоны свирепого Перебийноса не хотели знать никаких мирных переговоров, и беспрестанно покушались побить комиссаров с их жолнерами; а Хмельницкий, «удерживавший своих от чат и грабежа ничем иным, как только мечом», не отвечал на приятельские письма Киселя, умолявшего его о защите от гайдамаков. Хмельницкий делал вид, будто ничего не знает о панском посольстве.
Казаки взяли и опустошили Полонное, Корец, местечко самого Киселя, Гощу, ограбили Геблиев, Тучин и все панские имения по Горыни. Не решаясь «идти в глаза» бушующим гультаям, Кисель остановился в безопасном еще от них Луцке и послал к Хмельницкому посланцов, жалуясь на прерванное таким ужасным способом перемирие, и прося обезопасить ему дорогу в Украину. Но, прождав напрасно две недели возвращения посланцов, пустился на Горынь в свои «пустки», и по дороге посылал в разные стороны подъезды, разгоняя разбойничьи купы. Победа над ними обходилась ему не дешево: он терял лучших людей своих и в конце концов не знал, как выпутаться из миротворной миссии.
Шляхетская Украина, Волынь, успокоившаяся от домашних разбоев со времен Косинского и Наливайка, не только была заражена казатчиною, но отрыгала и старую жвачку разбойной шляхетчины, так как эта некогда украинная область, со времен незапамятных, была тем, чем сделалась теперь собственно так называемая казацкая Украина. Самое имя её своим грамматическим складом показывает, что здесь волынь была таким же обычным явлением, как в хорошей избе — теплынь. Во времена варяжские в её лесистых и болотистых пустынях наездничала и гнездилась вольная воля, самоправная удаль. В литвопольском периоде нашей истории Волынь оставалась верною своему варяго-русскому прозвищу. Право открытой силы преобладало здесь над законом и обычаем больше, нежели, например, в Холмской земле, где, как мы знаем из автобиографии Иосифа Верещинского, шляхтич, не помеченный рубцами в имущественных столкновениях с «панами братьями», был замечательным исключением.
В земле Волынской власть и богатство представляли почти такую же грубую ассоциацию с рабочей силою, как и в собственно так называемой Украине, отодвигавшейся все далее и далее к востоку. Эта первобытная, чуждая строгой регламентации союзность повелительности с подчиненностью, работала здесь по закону тяжкой необходимости, и выработала общество, отличавшееся от варяго-русской толкотни только примесью польского языка и обычая к элементу русскому. Ни в одной из литво-русских и польско-русских областей не было столько богатых и убогих шляхтичей, титуловавшихся князьями, и нигде между служилыми и чернорабочими людьми не встречалось такое множество бояр. Сокрушенная Батыем варяго-русская система засыпала своими осколками Волынь густо. Когда Киевская земля опустела и Литва да ляхва захватили в свои руки остатки недобитой монголами Руси, — между Припетью и Днестром засели представители древнего русского самоправства, не хотевшие подчиниться новым порядкам.
В эпоху Наливайка были уже забыты кровавые смуты, которые пришлось пережить коренным литвинам и полякам для водворения на Волыни этого шаткого государственного права, которое делало польско-русское общество сборищем недоступных для закона преступников. Памятны были правительству только услуги князей Острожских, Заславских, Четвертинских, Сангушков, Чарторыйских, Корецких, Збаражских, Вишневецких, чуждавшихся уже верховодства в политических усобицах и помышлявших всего больше об интересах экономических. Эти потомки древней княжеско-боярской вольницы сделались тузами среди прочих князей и спустившихся до служилого звания бояр, благодаря силе, отваге и искусству властвовать: качества, бывшие в оно время естественною заменою нынешнего общественного права. По невозможности подавить своевольство этих можновладных дук, правительство старалось их задобрить пожалованиями и привилегиями, предоставляя им ту власть над городами и тянувшими к городам землями, которой не могло удержать за собою.
Купленные великими уступками со стороны польской верховной власти, наши русские дуки, из неугомонных бунтовщиков, сделались орудиями правительства для усмирения других демагогов. Так, по наказу Батория, князь Василий, с помощью крымского хана, усмирял низовцев, как об этом была у меня речь в своем месте. Но когда король пытался урегулировать свои доходы с Волынских городов и замков, эти гордые покорники верховной власти давали королю чувствовать свое революционное происхождение, и не удостоивали сановитых ревизоров даже такого внимания, чтобы предъявить документы на свое полноправство. В течение многих лет на владениях князя Василия накопилась весьма значительная сумма недоимки подымного налога. Озлясь на него за противодействия церковной унии, Сигизмунд III потребовал от него недоимки весьма строго; но строгое требование осталось мертвою буквою.
Повелевая Волынью на бумаге, короли на деле должны были терпеть удельную независимость волынских князей, окруженных служилыми, князьями, панами, боярами, вольными людьми, и грозивших удесятерить свою гвардию. В лице своих магнатов, Волынь долго противилась окончательному соединению Великого Княжества Литовского с Польской Короною, но и после Люблинской политической унии тамошние князья фактически оставались независимыми владыками своего края, то есть владели им не по польскому праву, а по старорусскому обычаю. Правда, воинственность потомства Олегов, Святославов, Изяславов уступила место заботам имущественным, но она сохранилась в той шляхто-боярской и бояро-мещанской массе, которая служила прежде панам-дукам в их борьбе с ополчениями королевскими, а потом нападала на них самих под бунчуками Косинского и Наливайка. По старой памяти, имена крупных волынских князей всё еще могли сделаться кличем для вооруженной оппозиции правительству, и правительство боялось их по-прежнему.
Скрепляя связь между разноплеменными частями Польши, короли «попускали попуск» вельможным дукам до такой степени, что их владения увеличивались во много крат на счет государственных, церковных, шляхетских и мещанских имуществ различными путями, а местная власть их над волынянами получала характер власти монархической.
Но эти буйтуры Королевской земли были обязаны своим богатством и значением не столько знатности своего рода, не столько своему влиянию на короля и потачкам верховной власти со стороны панских экзорбитанций, сколько уменью править разбойным элементом, образовавшимся на Волыни издревле в среде низшей шляхты, бояр, мещан и так называемых официально и в силу привычки вольных людей, начинавших уже принимать повсюду имя казаков, по самому промыслу своему вольных.
Под покровительством можновладников, на Волыни совершались всевозможные насилия панов над панами, мещан над мещанами, попов над попами, монахов над монахами, при помощи готового ко всяким услугам казачества, и происходившая отсюда неурядица не только не вредила их экономическим интересам, напротив, увеличивала богатства их с быстротой прогрессивною.
Грубость века и неопределенность понятий о праве сильного над слабым давали волынским князьям и великим панам возможность уклоняться от нравственной и юридической ответственности за творимые вокруг них беззакония. Короли относились к некоторым из них с особенным уважением, если не страхом, так что они оставались не только без суда, но даже и без упрека, в таких случаях, когда другие были лишаемы чести и покровительства законов. Наши волынские демагоги-князья были подсудны королям юридически, но фактически не были.
Что касается самого общества, то волынские дуки, не смотря на все свои магнатские экзорбитанции, вовсе не представлялись ему притеснителями. Они часто слыли даже благотворительными вельможами, покровителями науки и древней русской веры. Обиженные вопияли громко против своих тиранов и грабителей, из которых многие были приближенными лицами этих баронов. Но голоса, обвинявшие на Волыни сильных земли, заглушались хором бесчисленных сообщников их в пользовании «нетруженным хлебом». Да и не было в те времена панов, которые могли бы служить первенствующим волынским магнатам живым укором в их самоправстве. От своих собратий отличались они только загребистою лапой в дележе общей панской добычи.
Все другие паны действовали в том же духе, каждый по мере своего гражданского бессовестия, по мере своей магнатской безнаказанности, хитрости, корыстолюбия. И этим то способом поддерживалась на Волыни та вольная воля, от которой Волынская земля получила свое название. Богатство и убожество, свобода и порабощение, веселое буйство и мрачное уныние были здесь перемешаны резко, точно в турецкой азиатчине.
Это была зловещая помесь: от неё произошли те смуты, которые начались на Волыни при бессовестнейшем из Острожских, прозванном у сплетников было святопамятным, и через полстолетия покрыли большую часть польско-русской территории кровавыми развалинами. Но, с притуплением чувства справедливости у высшего и у низших сословий, вернее сказать — состояний, притуплялось в Королевской земле и чувство опасности от повсеместной порчи нравов. Между тем она-то, а не Кресы, как думает польская историография, была «Ахиллесовой пятою» в составе Речи Посполитой.
Даже такие православники, как Адам Кисель при всей своей заботливости о судьбе Польши смотрели на князя Василия и подобных ему обладателей шляхетской Украины Волыни, прежде всего, как на защитников Христианской земли от разлива мусульманщины. В виду больших расходов на постоянную борьбу с татарами и великих опасностей украинного быта, им казались извинительными панские экзорбитанции; а во что были способны превратиться орудия панских экзорбитанций, низшая шляхта, бояре, мещане и казаки вместе с попами, не уступавшими в грубом эгоизме ни одному сословию, и полудикими, готовыми на все пагубное мужиками, — предвидеть это было тогда рано. Это увидели только в то время, когда пособить беде было уже невозможно.
Магнатские завистники и недоброжелатели, мелкопоместные и безземельные шляхтичи, не только не хотели помогать своим патронам в отражении казацких набегов, но еще и сами нападали по-казацки на панские отряды, занятые партизанскою войною с кривоносовцами. Кисель собственными глазами видел толпы волынских шляхтичей, и притом «sluzatych», которые ходили заодно с казаками на разбойный промысел, под предводительством своего же брата, шляхтича, и от которых ему приходилось оборонять свои возы. «Они даже бились не так, как бьются казаки» (писал он к Оссолинскому). «Те обыкновенно стреляют из самопалов, а эти нападали на наши отряды в поле рукопашным боем». Для несчастного панского общества вернулись времена Косинского и Наливайка. Вернулись для него и те Баториевские времена, когда не только украинская шляхта, но и паны старосты делали казакам «разные adminicula». Оно видело в страшном развитии зло, нарожденное собственным бесправием, и не знало, чем и как помочь себе.
Вот в каком водовороте, или черторые очутился Кисель с отважным, но сравнительно ничтожным полком своим. Добравшись кой-как до своей Гощи, нашел он в гощинских «пустках» несколько сот бражничавших опустошителей. Гультаи приветствовали хозяина стрельбой из самопалов, и не обратили никакого внимания на объявление, что это пришли комиссары с мирными предложениями. Напротив, напали на Киселевых жолнеров с такой завзятостью, что пришлось положить почти всех пьяниц трупом, при чём с панской стороны убит храбрый воин, шляхтич Люля из-под хоругви Александра Конецпольского, еще один шляхтич Березинский (оба малорусса) и несколько человек челяди.
В Гощу пришли к Киселю измышленные вести, что когда Кривонос, он же и Перебийнос, вернулся в Украину, Хмельницкий приковал его цепью за шею к пушке, заполоненную Кривоносом шляхту выпустил на волю, и более сотни его «разбойников» приказал своим татарам обезглавить. Кисель всему этому верил, и хвалился коронному канцлеру, очевидно, понимавшему казаков не лучше его самого.
Он верил и тому, что хан остановил свои полки и дожидается его прибытия. Хвалясь всем этим Оссолинскому, он усердно просил панов удерживать свои войска от всяких подъездов, чтоб они не раздражали Хмельницкого.
Миролюбивым панам, после этого, только и оставалось, что держать тайные рады против полководца, который один был способен отстоять их панованье.
В позднейшем письме к Оссолинскому Кисель опять просил «не портить его переговоров такими подъездами», и окончил письмо уверением, что Кривонос был прикован к пушке, но потом де, при Отце Ляшке, [53] его отпустили за порукою. Но Хмельницкий не мог, хоть и хотел бы, приковать к пушке полковника, создавшего 60-тысячный корпус головорезов, а комедии, вроде подставных лиц, он строил и не перед такими людьми, как монашествующий конфидент великого дипломата. Ему было нужно, чтобы паны, по просьбе Киселя, «не портили переговоров никакими подъездами».
Не дождавшись в Гоще ответа на свою просьбу, Кисель опять начал прокладывать себе дорогу к Тамерлану, как называл он Хмельницкого. Когда, в своем фантастическом походе, приблизился он к знаменитому городу Острогу, резиденция «начальника православия», этого «столба и утверждения веры», была уже занята казаками, которые «день и ночь пили вино и мальвазию». Пьяницы выбежали за ворота и хотели здороваться с ним тем же способом, как и Гощинские незванные гости. Но Кисель построил свое войско в боевой порядок и отправил к ним посла. Насилу взяли они в толк, что это миротворный, а не наступательный поход. Кисель показал полученное в дороге письмо от Хмельницкого и отдавался со всем полком, чтоб они вели его к своему гетману. Казаки видели, что это немаловажный приз, и были готовы конвоировать панов, но потребовали от них восемь заложников. Кисель на это согласился, если казаки дадут столько же своих.
Но едва обменялись они заложниками, к Острогу приблизился отправленный Осинским, соратником Вишневецкого, подъезд, под начальством отважного партизана, пана Сокола, с тем, чтобы выбить казаков из города, принадлежащего князю Доминику, достойному наследнику князя Василия. Казаки завели с неприятелем гарцы, а в городе между тем поднялся крик, что Кисель разом «и трактует и штурмует».
Пятеро из панов заложников очутились без голов; троих спрятала от пьяной черни старшина. Во время гарцев, казаки добыли у пана Сокола языка и узнали, что Кисель был тут ни при чем; но не захотели уже его конвоировать и не дозволили ему даже провести свой полк через город. Комиссары, удержав у себя казацких заложников, повернули к Ляховцам. Тем и кончилось премудрое путешествие панского миротворца к Тамерлану-казаку.
Из Ляховцев Кисель отправил одно письмо к Хмельницкому, жалуясь в нем, между прочим, на профанацию со стороны казаков не только польских, но и русских алтарей «Божиих», а другое — к своему давнишнему приятелю, киевскому митрополиту, которого просил ехать к Хмельницкому с просьбой о пропуске к нему панского посольства. Вместе с тем уведомил он правительствующих панов, что теперь, увы! «ближе к войне, нежели к миру». Все-таки польский патриот русин приписывал себе важную услугу отечеству тем, что своим путешествием и своими посланиями приостановил настолько времени неприятельское нашествие, намекая весьма ясно, что не желает видеть своей pietatis ku ojczyznie без памятника.
Недавно миновало 16 (6) июля, условленное время трактата Сильвестром Косом и Адамом Киселем о соединении церквей. «Не то было бы в Украине, когда бы слушались его (Киселя) с самого начала»! Так, без сомнения, думал он, отправляя письмо к питомцу Петра Могилы. — «Не то было бы со мною, когда бы нам удалось осуществить план, покрытый велжою тайною»! Так, без сомнения, помышлял наперсник Адама Свентольдича, читая письмо его, которое, видно, сжег, потому что оно до нас не дошло. Можно себе представить воздыхания стрегомого казаками архипастыря, когда он ехал к свирепому гетману, сокрушителю драгоценнейших его надежд и той славы в польском потомстве, которой не удалось и его воспитателю стяжать себе на киевской митрополии.
Но Хмельницкий не дал ему ничего сделать и для досточтимого им Свентольдича, которого память ублажают и в наше время тупые сплетники былого [54]. Хмель задержал у себя Коса на несколько дней под тем же почетным караулом, который не дозволял ему сноситься с ляхами да с недоляшками, проводил время в каких-то «беседах» с ним и в каких то «спорах», уверял, что готов помириться с панами, но что ему не позволяет казацкая рада.
А Свентольдич узнал между тем окольными путями, что на панов идет вся казацкая сила, и поспешил обратно в свою Гощу. «Все-таки я сделал много и после первого соглашения с Хмельницким и нынешним посольством своим»! Так думалось ему, судя по его дальнейшим письмам.
Киселя, в самом деле, превозносили паны за то, что он своими мирными, «весьма искусными», переговорами удержал казака Тамерлана от наступления на беззащитное государство после гибели коронного и панского войска на Желтых Водах и в Крутой Балке под Корсунем. Примас, в пропозиции своей на конвокационном сейме, объявил, что он за это достоин вечной памяти и благодарности в потомстве, а законодательное собрание выразило ему свою признательность публичною речью.
Естественно, что Кисель полюбил роль миротворца; а панам доматорам было приятно исполнять его просьбы, чтобы воинственные люди никакими подъездами не раздражали Хмельницкого и не портили мирных переговоров. Подвиги Вишневецкого были досадным перекором их чувствам, их надеждам, и сам Кисель, в одном из писем к Оссолинскому, давал понять, кто был причиною нарушенного казаками перемирия, следовательно — и всех несчастий миролюбивой шляхты. Два противоположные настроения общества колебали панов и в ту, и в другую сторону, ослабляя нравственную и физическую энергию шляхетского народа. Наконец, громадные размеры казацкого разбоя, гибель городов, истребление людей, повсеместное опустошение края, более обширного и богатого всеми дарами природы, чем Великая и Малая Польша вместе, заставили некоторых подозревать стачку самого Киселя, как русина, с Хмельницким [55].
Даже товарищи комиссары возмущались его уверенностью в мирном настроении казацкого гетмана, указывали своему презусу на потерю городов и крепостей, писали к нему, что их верность заподозрена у Речи Посполитой (fides nasza u Rpliej suspecta). Только тогда встревожился миротворец вестями о вооружении Хмельницкого и его движении против панов.
Глава XVII. Расстройство финансов. — Казаки морочат панов надеждой на мир. — Пышность панского лагеря под Пилявцами. — Борьба между собой трех русичей на гибель Польши. — Два триумвирата. — Удачная проба панского оружия под Пилявцами и перевес паники. — Бегство панов из-под Пилявцев. — Казаки осаждают Львов, потом Замостье, и принуждают панов к избранию указанного им короля.
Было чего тревожиться панам и дома. По докладу их министра финансов на конвокации, в коронном скарбе было у них всего-навсего 76.000 злотых. По всей Руси (доносил он), «главной» (относительно доходов) стране, таможни и мытницы (cla i komory) были уничтожены; торговля приостановилась, даже ярмарок не было; а в самой Короне, во время междуцарствия, доходы очень уменьшились. К явной досаде заинтересованных панов, коронный подскарбий объявил, что администрация в государственных имуществах весьма убыточна для Речи Посполитой, и что аренды несравненно выгоднее.
Этот доклад панского министра финансов, коронного подскарбия, служит ответом на вопрос, естественно представляющийся русскому читателю: почему бы не задобрить хищных татар и не менее хищных казаков своевременною уплатой одним за четыре года гарача, а другим за пять лет жолда, не дожидаясь, пока они примутся вознаграждать сами себя разбоем, как это делала много раз и служилая шляхта, составлявшая кадры жолнеров, как и самих казаков. Немец вернее всех обозначил причину падения Польши своею поговоркою: polnische Wirthschaft [56]. В этом смысле историку приходит на память упрек одного сеймового брошюриста, сделанный правительственным панам лет за десять до Косинщины. Он говорит, что паны держали казаков на татар, как собак на волков, но, побивши Орду, не платили им жолду, и тем приводили к новым бунтам [57]. То же самое можно сказать и о вознаграждении жолнеров за службу, вечно несвоевременном.
Едва кончилась в Варшаве конвокация, как получено было известие, что казаки взяли приступом опору панской колонизации, ранговый город коронных гетманов, «арсенал Речи Посполитой», Бар, по древнерусскому названию своему — Ров. После отчаянной и безуспешной защиты города и замка, воинственная подольская шляхта вопияла к варшавянам своим окатоличенным голосом: «Спасайте же хоть муры и костелы, если уж не нас, братьев»! Но варшавяне умели только полячить русских людей на их пагубу, а спасать и самих себя не умели.
Одновременно с жаждавшими войны Подолянами и миротворец Кисель жаловался Оссолинскому, что казаки опустошили больше прежнего ero Гощу, a Перебийнос (не смотря на сказочный приков к пушке) вырезал по своему обычаю Межибож.
Во время нового грабежа гостеприимной Гощи (повествовал горестно Свентольдич) казаки схватили юркого монаха, Отца Ляшка, и, не взирая на его православие, положили среди улицы, и до такой степени избили киями, что его благочестивый патрон сомневался, будет ли он жив. Казаки (продолжал Кисель) взяли у него все письма и какой-то «патент от примаса». (Видно, и Ляшко принадлежал к таким православникам, как сам Кисель и его приятель, митрополит). Три дня гостили хмельничане в Гоще, как во время оно Наливайцы в Яссах, распуская кругом загоны по имениям горынских помещиков Сопиг, Нарушевичей, Хребтовичей и многих других, носивших малорусские имена [58]. «Десятка полтора бочек вина» (писал Кисель, забывая, в своем новом горе, о том, что казаки, по его прежнему донесению, допивали остатки медов) «и несколько десятков бочек меду пили (у меня) день и ночь, потчивая моих же хлопцев, равно как и соседних, а что осталось, пораздавали мужикам».
Уведомив об окончании этой, как назвал он, трагедии, Кисель доносил, что, по словам посланных языков, Хмельницкий собрал уже 120.000 войска, сверх Кривоносова корпуса, и стоит под Янушполем, невдалеке от Любартова. «Видя» (писал разочарованный миротворец), «что мы не спешим собирать войско, что главные наши деятели» (следовательно Заславский, Конецпольский и Остророг) «бессильны, что все, в страхе, показывают неприятелю спину (terga dederunt omnes), «и никто не хочет заглянуть ему в глаза, — мужики делаются смелыми, и все пристают к этим войскам, или казацким, или мужицким, или разбойничьим».
Так наш Адам Свентольдович, сам того не замечая, повторял то, что давно проповедовал глас вопиявшего в панской пустыне Вишневецкого. Но ему было тяжело расстаться с великою своей надеждою на памятник любви к отчизне, и потому Хмельницкий представлялся ему (если не он представлял Хмельницкого) действующим вопреки собственной воле. Толпа черни (multitudo plebis), по его словам, не допускала казацкого гетмана до примирения с панами. Кисель даже предполагал, что эта multitudo plebis перебила послов Хмельницкого на обратном пути из Варшавы, поэтому де и его (Киселевы) письма не доходили до Хмельницкого (а о прикове Кривоноса к пушке перед глазами Ляшка молчал). Так умел казак морочить панскую голову Свентольдича.
В надежде на мировую, панские ополчения собирались вяло. Хмельницкий, в письмах своих к предводителям коронных сил, только и говорил, что о помиловании, о своих усилиях приостановить пролитие христианской крови да о страшном свирепстве князя Вишневецкого, который будто бы один и мешал ему привести казаков к миру с панами. Кроме панских ополчений, войско состояло из охочей шляхты. Шляхта известного повета записывалась в одну названную по имени повета хоругвь; из нескольких хоругвей составлялся полк, называвшийся по соответственному воеводству. Этак вся Польша имела в войске представителей своего шляхетского народа. По решению конвокационного сейма, входившие в состав ополчившейся шляхты паны, в числе 24, составляли род совета, которому дано было право принимать участие в походных распоряжениях.
Сборным пунктом ополчений, вооруженных для защиты отечества, было назначено местечко Глиняны, верстах в 30 к востоку от Львова. Вишневецкий колебался между негодованием на своих собратий и злобою к опустошителям края. Он выдвинулся с преданными ему людьми к Константинову. Лично на Доминика Заславского и его товарищей триумвиров не за что было ему гневаться. Князь Доминик не искал первенства: оно принадлежало ему в Речи Посполитой по обширности его владений, как императору между королями. Система обороны Польши была построена на том, чтобы великие паны, расходуя деньги и боевые средства на защиту края, одушевлялись мыслью о защите своих имений, и паны избрали Заславского первенствующим военачальником именно потому, что «большая половина казаков Хмельницкого состояла из его подданных». Что касается товарищей князя Доминика, то они были приданы к нему — один в виде дополнения скудных его познаний, а другой — для поддержки его трусливого духа. Вишневецкий это знал, и был доволен публичным уничижением диктатора.
Еще больше был он доволен, когда богатейший землевладелец, сознавая свое ничтожество, стал искать союза с ним, отверженцем польских законодателей. Эти два представителя широкого можновладства были соперники в любви. Оба они искали руки прекрасной Гризельды, и Гризельда предпочла самого воинственного пана самому богатому, несмотря на то, что, по понятиям общества, он был завидным по преимуществу женихом. Забывая оскорбление панской гордости в виду опасности для своего государства в государстве, князь Доминик смирялся перед обеднелым и уничиженным князем Иеремией.
Вишневецкий был богат преданностью лучших воинов польских и благороднейших польских умов. На поругание сеймового большинства, знаменитое нравственными преимуществами меньшинство возвышало Вишневецкого публичными демонстрациями. Многие, прибыв под Глиняны, не хотели повиноваться князю Доминику, и перешли под знамя князя Иеремии. Вообще люди независимого характера и положения поступали здесь относительно Вишневецкого и Заславского по малорусской пословице: «лучче з розумным згубити, ниж из дурным знайти». Даже младший из триумвиров, Александр Конецпольский, присоединился, с ополченцами своими к тому, которого доматоры провозглашали едва не вторым Хмельницким.
Так, из наследственного опасения панов, чтобы в шляхетском народе не явилась диктатура, образовалось два лагеря, из которых в одном недоставало предводителя, а в другом — предводимых. В Гомеровской Греции, в нашей федеративной Руси и в поглотившей было нас, малоруссов, феодальной Польше повторялись одни и те же явления антиобщественности, антигражданственности, антигосударственности. Желать гибели сподвижникам из-за оскорбленного самолюбия — не считалось делом бесчестным. Не мог князь Вишневецкий не предвидеть гибели войска, вверенного полководцу, которого он отказался бы взять к себе в ротмистры, и, в мрачном настроении духа, без сомнения, услаждал себя мыслью о тех бедствиях, которые должны были постигнуть презираемую им панскую толпу. Но в лучшие свои минуты был готов забывать личные обиды. Так, стоя гордо на передовом своем посту, написал он дружески к Остророгу, что, оставаясь под Глинянами, гетманы предоставляют в добычу неприятелям Волынь, Подолию и почти всю Червонную Русь. «Оттого упали» (писал он) «воеводства Брацлавское, Киевское, Черниговское, Волынское, Подольское, что хлопство, видя, что не в глаза им, а в глаз идут наши войска, встало отовсюду и, не имея никакого отпора, или по крайней мере острастки, делает столь великие злодейства. Чего не удалось бы самому могущественному иноземному неприятелю, то ныне свободно совершает плебейский осадок (flex plebejorum peragit libere). Так сделали казаки и теперь, когда взяли Бар и его замок, истребили гарнизон и овладели военными припасами, вместе с другой добычей. То же самое угрожает и Каменцу, когда не бросимся ему на помощь, когда по крайней мере не покажем оружия и какой-нибудь нашей готовности... Но где бы вы ни решили действовать против неприятеля» (заключает Вишневецкий свое письмо), «я не замедлю прибыть к вам вместе с теми, которые готовы, как и я, жертвовать жизнью для отечества. В это тяжелое время каждый из нас общее должен предпочитать своему частному (publica privatis anteponere powinien)».
Хмельницкий — было слышно — двинулся уже с белоцерковского своего кочевья и, послав старшего сына, Тимоша, в Крым звать Орду, приближался к Константинову. С ним были: Кривонос, иначе Перебийнос, Колодка, знаменитый, как и Наливайко, взятием в Белоруссии Слуцка, Лисенко, Гайчура, Нечай, Морозенко, Тиша, Носач, Ганджа, Джеджала, герои, прославленные в свое время казацкими кобзарями и прославляемые в наше время казацкими историками. К навербованным так или иначе малорусским простолюдинам, «борцам за веру», примешались у него молдоване, волохи, сербы, донские казаки. Но цвет этого христолюбивого воинства, розовый венок на головах «преславного Запорожского войска», находился еще в Крыму.
В виду страшного неприятеля, Заславский послушался наконец совета Вишневецкого: в половине римского сентября перенес он свой лагерь и расположил его вблизи лагеря князя Иеремии близ Константинова. В этом городе, составлявшем наследованную после Острожских собственность Заславского, побывали уже казаки, и, в качестве защитников православия, оставили следы свои на опустошенных и поруганных костелах. Мещане, как всегда, волей и неволей казаковали или делали для казаков то, что называлось adminicula. После того что, благодаря иезуитам, произошло в Польше между теми, которых наши называли благочестивыми, и теми, которые считались у них злочестивыми, мещанам было приятно, как и казакам, глумиться над католическою святынею. Но Заславский объявил своим константиновцам общее прощение, чтобы заохотить прочих казацких сообщников к повиновению. Его примеру последовали и другие паны. В это время панам столько было наделано мужиками огорчений, что каждый дышал отмщением. «Но кто же будет отбывать повинности»? говорили вздыхая землевладельцы, и всячески старались умиротворить вооруженную против них массу, о чем надобно было позаботиться целым столетием раньше.
Настроение шляхетского народа, собравшегося со всей Польши в этот поход, было «какое-то торжественное». Понеся столь внезапно тяжкие утраты в Диких Полях и под Корсунем, потеряв так много в городах и селах от казако-татарского нашествия, паны точно сговорились показать казацкому народу, будто бы он отнял у них сравнительно безделицу: чувство истинно польское, то самое чувство, которое, при других обстоятельствах, было обнаружено хвастовством Оссолинского в Риме.
В последние два царствования, паны так много поработали мечем внутри и вне государства, так много уложили в сырую землю дорогих сердцу составной нации представителей её силы, её чести, её воинских и гражданских доблестей, что и самым воинственным из них захотелось почить от блестящих и представляемых блестящими дел своих, — хотелось им, насладясь добычей польского меча, насладиться и добычей польского плуга. В истекшее десятилетие внутреннего и внешнего спокойствия, польско-русская колонизация сделала успехи громадные. Она так подняла и обеспечила сельское хозяйство, что даже на самих окраинах, по соседству с татарскими кочевьями, панские подданные «жили во всем изобильно, в хлебах, стадах, пасеках ». Тем изобильнее во всех прихотях успокоенного от казаков и татар сельского быта жила служилая и господствующая, низшая и высшая шляхта. Уже и в царствование Сигизмунда III, Ян Замойский в законодательном собрании, Петр Скарга в церкви, а Симон Старовольский в литературе — проповедовали об уменьшении излишеств в пище, напитках, одежде, выездах, указывая на желание каждого пана выдвинуться вперед выставностью, при невозможности нарушить сословное равенство титулами.
Блестящее победами и превозносимое выше всякой меры царствование Владислава IV наделало в шляхетском народе тысячи королей по тщеславной пышности, а благословения десятилетнего спокойствия вселили в нем убеждение в его непобедимости и в неистощимости средств к роскошному существованию.
Выставность, роскошь, соединение множества клиентов и всевозможных слуг вокруг щедрых и гостеприимных из рассчета и тщеславия патронов — казались панам силою и в походе, как они были силою на сеймиках и сеймах. В этом-то трагикомическом смысле представительница всех воеводств, крупная и мелкая шляхта, была построена в своем походе, по словам самих поляков, торжественно.
Совестно смеяться над несчастными; но поляки и — что еще досаднее — ополяченные малоруссы так нагло и так долго смеялись над всем русским и даже над спасительною для нас русскою царственностью, что нельзя, без некоторого самоуслаждения, изображать их общее беспутство. Впрочем, и новейшая литература польская представляет нам описание тогдашнего безголовья шляхетскаго народа в том смысле, какой заключается в словах пророка, оплакивавшего падение Израиля: «Горьким моим смехом посмеюся».
«Шляхта» (рассказывает поляк) «вступила в поход с такою пышностью, на какую только могла собираться после многолетнего мира. Добыли паны из скарбовень богатейшее оружие (а мы знаем, что у них бывали сабли ценою в 10.000 злотых), оделись в рыси и соболи, забрали пурпурные, раззолоченные рыдваны и полные дорогих одежд, серебра, золота, драгоценностей, обоев скарбовые возы, а было много таких товарищей (рядовых шляхтичей), которые, для того, чтобы сравняться с другими, продали последнее имущество. Так явилось под стенами Львова (на переходе из Глинян под Пилявцы) 40.000 шляхты, снарядившейся как бы на свадебное пиршество. Мигали в толпе протканные серебром шелки, бархаты, золотые пояса, серебряные панцири и шлемы; шумели на всадниках сокольи крылья, колыхались брильянтовые кисти, а пышные кони, в позолоченной упряжи, в шелковых сетках, выступали на серебряных подковах.
«Войско шло» (продолжает он) «в Украину, как бы на коронацию. Двести тысяч слуг, в легком вооружении, сопровождало бесчисленные панские возы и кареты.
Хотели показать взбунтованным хлопам, что это идут паны; а шляхта говорила громко, что будет воевать с хлопами не саблей, а нагайками».
Но чтобы панское беспутство явилось во всем ужасе будущности, к которой оно неизбежно вело Польшу, надобно прибавить, что вся эта кампания была непрерывным пиршеством, на котором сквозь панские горла пропущены громадные суммы, а между тем панское войско, промотав полученное вперед жалованье, добывало себе продовольствие по селам, сопровождая грабеж обычными жолнерскими бесчинствами.
Так было под Глинянами. Теперь настала очередь страдать от защитников Польши волынцам, и они вопияли, что шляхетские ополчения разоряют их еще больше, чем казаки. Естественно, что Вишневецкому, строгому воину и хорошему хозяину, было противно и мучительно смешать свои воздержные дружины с объедалами, пьяницами и мародерами. Он больше всех понимал опасность грозы, наступающей на панов со стороны Диких Полей, и готовился встретить ее так, чтобы не посрамить земли, которую называл, по старой памяти, Русскою.
Но правительственные паны успокоили себя высылкою в поле роскошного парада, и не обратили внимания на полученное сеймом предложение хана, который соглашался порвать лигу с казаками, если ему заплатят 700.000 злотых недоимочного гарача. Мы знаем, что князь Василий оставил после себя 20 миллионов своему Янушу. При таких запасах в скарбовнях частных лиц, можно бы, кажется, было спасти общее отечество, разъединив татар с казаками. Но паны были неспособны к пожертвованиям, а государство свое так эксплуатировали ловкой администрацией, вымогательствами и простой кражею денег, что, хотя многие из них располагали миллионами, а в коронном скарбе оставалось у них в десять раз меньше той суммы, какою могли бы они разлучить орду татарскую с ордой казацкою.
Ждали Хмельницкого. Было получено известие, что он ведет не меньше ста тысяч казаков. Татар на этот раз было у него мало. Но к нему должна была подойти многочисленная Орда из Крыма. Так доносили панам, и в то же время ходили между ними успокоительные слухи, что татары недовольны казаками. Татары де ропщут на казаков, что сами они захватили лучшую добычу, а им отдали пленников, которые у них перемерли. Остальных они должны были продавать дешево. Угнанные в Крым стада тоже пропали от бескормицы. По словам Яскульского, слуги пленного Потоцкого, множество лошадей у татар и их самих не мало «передохло». Но казаки (рассказывал Яскульский) склонили Орду к новому походу беспрестанными посольствами и обещанием «побусурманиться».
Гораздо больше успокаивало доматоров полученное в это время Киселем от Хмельницкого письмо. Оба корреспондента были верны — один своей глупости, не дававшей ему понять, с кем имеет дело, а другой — своему злобному уму, преследовавшему руинную цель с настойчивостью Сатаны.
Кисель писал к нему: «Неужели нет у тебя Бога на небе, который видит все? Чем же виновата перед тобой наша отчизна, воспитавшая тебя? Чем виноваты домы и алтари того Бога, который дал тебе жить на свете? Чем виновны мы, — одни, которые объявляли наши желания Запорожскому войску, а другие, которые вовсе ничем невиновны? Нет на свете человека без совести и без воздыхания к небу. Турки, и те имеют своего Бога; а вашей милости, который родился христианином, должно пронзить сердце и душу то, что сталось и что делается, и какой будет конец соединения такого множества черни на людскую кровь», и т. д.
Хмельницкий отвечал на это, — что несколько хоругвей войска князя Вишневецкого напали на несколько сот казаков, которые де шли мимоходом в Острог, без его (Хмельницкого) ведома, ради прокормления; а в городе Межириче невинных христиан вырубили в пень. «Разве это по христиански?» (проведывал Хмель в свою очередь). «Велите тех своевольных из обоза князя его милости Вишневецкого поунять», и т. д. Наконец, сделал комиссарам такое предложение: «Благоволите, ваши милости, ехать прямо под Константинов, а мы пришлем туда рассудительных людей, и обо всем, как бы могло быть наилучше, будем условливаться».
Это письмо, превращая подвиги Вишневецкого в государственные преступления, показывало в Хмельницком панам человека сговорчивого, и разъединяло их нравственные и вещественные средства гибельно. Общественное мнение между двух представителей жадно проглоченной Польшею, но плохо переваренной, Руси колебалось то в одну, то в другую сторону. Православник русин, Кисель, обвинял католика русина, Вишневецкого, в том, что усмиренный бунт возобновился (usmierzona recruduit hostilitas), и что рецидив больше наделал беды, нежели первый, хоть и ужасный, пароксизм (recydywa swoja wiecej zlego przyniosla, nizeli pierwszym lubo ciezkim paroxyzmem); а русин католик приписывал православному соплеменнику своему и его примирительной утопии падение городов, крепостей, замков, истребление беззащитного населения, и предсказывал новые ужасы войны, если из-за надежды на невозможное примирение паны будут ждать соединения чужих язычников с язычниками домашними (jezeli bedziem czekac ligi poganskiej swojemi domowemi pogany).
Если бы взглянуть на Польское государство a vol d'oiseau, то его гибельное междоусобие представилось бы борьбою трех русинов, из которых один ополячился, другой окатоличился, а третий отатарился. Каждый из них желал добра своим единомышленникам, по желанию каждого, по древней пословице, боги исполнили бы во гневе своем. Так, или иначе, только проглоченная Польшею жадно, но переваренная плохо, Русь должна была разрушить польский государственный организм. Три русина, точно три злые духа, представители общественных беззаконий, боролись на погибель Польши.
Во время письменных перемолвок Хмеля с Киселем о мире, казаки овладели Луцком, Клеванью и Олыкою, той Олыкою литовского канцлера, которую, по его мнению, спасали от них чудотворная икона в Пясечной да предстательство Св. Бернарда, osobliwszego kochanka Najswietszej Panny. Это известие потрясло панов не меньше, как и резня в Полонном, хотя подробности новых казацких завоеваний нам неизвестны; а о резне в Полонном сохранилось несколько представленных сенаторскому заседанию строк, которые врезываются в сердце, как нож. «Там» (доносили сеймующим панам официально) «казаки взяли добычи на четыре миллиона, и вырезали до 400 девиц-шляхтянок и маленьких детей в замке. Кровь запеклась в пол-колена». Это была такая страшная бойня, что казацкая Илиада приписала ее самому Хмельницкому. Казацкий батько (пели кобзари) сделал такое воззвание к осажденным:
Есть у мене одна пушка Сирота, — Одчиняцця ваші залізні широкі ворота.и продолжали набожным тоном:
Тогді ж то, як у святый день божественный четверток Хмельницький до сходу сонця уставав, Під город Поляное ближей прибував, Пушку Сироту у переду постановляв, У город Поляного гостынця подавав, и т. д.Вместо переписки с кровожадным Хмелем, Вишневецкий делал подъезды да рассылал всюду разведчиков, наконец уведомил примаса, от (30) 20 августа, что татары переправляются уже через Днепр. «Вот он, плод перемирия, fructus armistitii!» (восклицал он). «Казаки берут у нас города, а здесь нам велят молчать и вяжут Республике руки».
Раздражение против Киселя разделяло с Вишневецким едва ли не столько же польско-русских сердец, сколько с Киселем — злобу сторонников примирения против самого Вишневецкого. Но ни те, ни другие не смели высказаться открыто. Однакож, когда Кисель вернулся с полком своим к ополчению своих противников и поклонников, никто не вышел и не послал приветствовать его, а один из панов, Вольский Ржемик, увидевши в его обозе казаков-заложников, схватил их, как шпионов, перед собственной его палаткою и велел челяди обезглавить.
Хмельницкий, вместо того, чтобы послать под Константинов «рассудительных людей», двинулся к этому городу со всеми своими силами. Густая туча бунтовщиков надвигалась медленно, предшествуемая молниями пожаров, которыми они истребляли панские гумна и мельницы, чтоб отнять у неприятеля средства продовольствия.
В войске Заславского было тысяч тридцать с небольшим хорошо вооруженного народа, но видавшего бои мало. Остальную массу составляли толпы кой-как вооруженной челяди, которая, под нужду, помогала в битве панам, но больше смотрела за лошадьми, возами, кухнею, и занималась опустошительною фуражировкой.
В старину, когда подольские и подгорские паны хаживали за Днестр для борьбы с турками, всех плохих воинов и лишних людей отсылали бывало домой, находя их помощь вредною. С развитием богатства края, развились и прихоти походов, и десятилетие благоденствия панского усыпило в шляхетском народе воинственность, и заменило ее роскошной обстановкой. В этом упрекал шляхту еще Старовольский, говоря: «Наши отцы называли себя серою шляхтою (что соответствовало казацкой сероме) потому что не носили блестящих блаватов и пурпур. Довольствовались они сукном, выделанным дома, или в соседних местечках, а доблестью да искренностью сияли больше, нежели теперь златоглавыми да дорогими клейнодами. Не едали с кореньями, не знали вина, которое зарождает в нас подагры да скорбуты, не возили в лагерь серебра, ни золота: довольно было медного котелка да железного рожна. Не издерживались на рысьи да собольи воротники, или на сбрую, украшенную драгоценными каменьями. У них были в цене ремень да железо. Не знали ни тигровых, ни леопардовых шкур, а только кирасы да панцири. Теперь серебряные сервизы, теперь собольи киреи, подшитые золотыми табинами; теперь вышитые чапраки, кисти с запонами, а сердце заячье, глаза хорьковые, ноги оленьи. Погибла смелость, погибло мужество, а излишество наслаждений, к которым привыкли мы дома, поделало нас бабеями.
Но чем больше теряла шляхта смелость и мужество, тем больше привыкла она к излишествам наслаждений, тем больше развивалась в ней беспощадность к беззащитным и убогим людям во время её походов. Вот и теперь львовский арцыбискуп жаловался приятелю: «Хоругви идут беспрестанно из Перемышльского и Сендомирского поветов. Волонтеров также много. Уже шляхетские и королевские села обращаются в ничто; из моих мужики бегут, бросая дома. Господь Бог знает, что с нами будет».
Все это было хорошо известно Хмельницкому. Знал он и триумвиров панских, из которых Заславского прозвал, в своем казацком обществе, пуховиком, по-малорусски периною, Конецпольского — ребенком, или детиною, а Остророга схоластиком, или латиною. Ему был страшен один Вишневецкий, этот потомок буйтура Байды, сохранивший все крупные черты знаменитого предка. Но в панских радах господствовала унаследованная сарматами от варяго-руссов рознь, и на нее рассчитывал Хмельницкий больше, нежели на свои добытые у панов гарматы и гаковницы, на свои громадные пушки Сироты, на свои кованные и босые возы и на подпаиваемых перед битвой казаков. Рассчитывал он на эту рознь больше, нежели даже на татарскую помощь.
Выиграть время и перессорить панов, эти две задачи выполнял он с таким старанием, с каким Кисель хлопотал об умиротворении казаков. «Ни сын в деле отцовском» (писал Кисель к Хмельницкому), «ни слуга — в панском не мог принимать столь горячего участия, какое принимал я в этой несчастной кровавой усобице Запорожского войска с Речью Посполитою. И сколько за это вытерпел колкостей и презрительных толков, это знают не только в Польше, но и в чужих краях».
Действительно об его разномыслии с князем Вишневецким вырос уже такой чудовищный слух: будто бы Вишневецкий требовал от него объяснения в трех пунктах, именно: 1) Кисель де публично объявил, что казаки обещали отдать в его распоряжение 15 000 своего комонника; 2) каждый казак обязался уплатить ему по талеру; 3) казаки наняли 8.000 татар, которые помогут ему овладеть польским престолом.
Это писал (вероятно, к «шведскому королю» Яну Казимиру) будущий проповедник его, доминиканец Цеклинский. Умоисступление разноверцев дошло до того, что рассказывали, будто сам Хмельницкий желал примирения, но Кисель умышленными проволочками довел до войны.
Ученейший, хотя вовсе не мужественнейший, из панов, коронный подчаший, а ныне и региментарь, Николай Остророг, выразил свое разномыслие с партией миротворцев, и поддержал самого воинственного можновладника, князя Вишневецкого. Он писал к подканцлеру Лещинскому от 3 римского сентября: «Что касается переговоров Хмельницкого, то в них тайну составляет то, о чем Кисель говорит вслух, что даже на самых невыгодных условиях (etiam iniquissimns conditionibus) надобно помириться: в противном случае Речь Посполитая погибнет. Я же думаю так, что мир здесь невозможен, не только честный, но и бесчестный. Никогда это хлопство не держало данного слова (fidem datam), а теперь, надменные победою, тем меньше будет его держать. Лишь только исчезнет эта общая готовность к войне, они опять взбунтуются, и тогда последняя будут горша первых (beda posteriora pejora prioribus)».
Но чем решительнее поддерживали паны русина-католика, видевшего спасение Польши в ожесточенной войне, тем упорнее стояли другие за русина-православника, готового на самый постыдный мир, лишь бы сохранить её целость. Панское царство разделилось на ся, и, по евангельскому суду, должно было погибнуть.
Приближаясь к разъединенному панскому становищу, лицемер казак продолжал петь все ту же песню, которою выманил уже время у премудрого Киселя и у почитателей его красноречия, его политического глубокомыслия. Ненавистного казакам князя Ярему не мог он ни обмануть, ни убаюкать. Он подрывал только его советы, уничижал его высокие доблести. Он манил панов готовностью к примирению, и вооружал против энергического полководца польских гуманистов, как против единственной причины остервенения казаков. От 29 августа писал он к Адаму Киселю и его товарищам:
«...Помня о своей христианской крови, чтобы не лилась уже больше, и чтобы неприятель не радовался со стороны» (намек на Москву), «мы и сами возвратились было вспять, как и татары. Но князь его милость Вишневецкий нерассудительно порывался на нас, и не только производил над нашим христианским народом, над невинными душами тиранство и жестокости не по-христиански и не по-рыцарски, но и духовных наших велел посажать на колья. Не дивно нам, когда б это делал какой-нибудь простак, вроде Кривоноса, с нашей стороны, которому мы не позволяли никакого грабежа и не давали позволения на разрушение городов и поджоги, — пускай бы он не умел с этим совладать; но мы видим перед собой в них обоих не одинаковых людей».
Далее Хмельницкий хвалился милосердием к пленникам и предлагал открыть мирные переговоры для Божией хвалы немедленно, так чтобы войска стояли в это время вдалеке одно от другого, подобно тому, как и в прежние времена отправлялась комиссия, сопровождаемая великими почтами.
Против этого восставали те, которые полагали, что «при обнаженной сабле быстрее идут переговоры», присовокупляя тут же, что Кисель был такою же Божией карой для шляхетского народа, как и сам Хмельницкий. «Кто знает» (раздавались голоса), «не изрекает ли он уже нашей отчизне неминуемую погибель (certum periodum)»?
Между тем «czlowiek wielkiego dowcipu» расположил свой табор у местечка Пилявцы, занял пилявецкий замочек, который шляхта называла курятником, и первым его делом было — обратиться с глубоко почтительным письмом к Заславскому, как к единственному вельможе, от богатства, могущества и разума которого зависело умиротворение казаков. Старая лисица доносила старой вороне смиренно, что казаки совсем не желают вести междоусобную войну, что они готовы повиноваться и просят ясно освещенного князя рассудить их, уладить возникшее между Запорожским войском и Речью Посполитою несогласие, и что он постановит, они обещают исполнить его решение всепокорнейше.
Князь Доминик представлял верный снимок бесхарактерного своего дядюшки, князя Василия. В своей декларации на каптуровый сейм, как мы помним, советовал он не давать амнистии казакам, так как это, по его словам, не представляло панам ни пользы, ни чести; а теперь, когда Хмельницкий пришел «отдать ему поклон лично со всем Запорожским войском», он был миролюбивее самого Киселя. Так и «святопамятный» наших историков сперва грозил собрать пятнадцать, даже двадцать тысяч войска на защиту православия, а потом отдал «яровитому католику» в жертву грека Никифора, помирился с поборниками унии и советовал православникам «терпеть, терпеть и терпеть». Князь Доминик увлекся ролью примирителя двух противоположных стремлений, всё равно как тот мечтал о соединении двух несоединимых церквей. Воображая, что делает великое дело, князь Доминик дался в обман питомцу ярославских иезуитов, которого игра житейских столкновений перевела из панского лагеря в лагерь панских завистников. Католическому представителю знаменитого дома князей Острожских всего интереснее было — посредством пощады молящих о помиловании казаков, сохранить за католиками обширные владения свои, которых не умел сохранить за православными превозносимый нашими разумниками до небес начальник православия».
В этом особенно поддерживал его Кисель, присоединившийся к его войску после неудачных попыток повидаться с Хмельницким. Кисель потерял 100.000 злотых годового дохода и остался при 400.000 долга, которым он обременил себя, проталкиваясь между полумагнатов на правительственные высоты. Славный ораторским искусством, он в кругу царей можновладников занимал место Гомерова Нестора, или, вернее, Улисса. Для слуха панов-доматоров —
Речи сладчайшие меда из уст его вещих лилися,и всегда он предлагал свои услуги там, где надобно было действовать не столько силою, сколько хитростью, по собственным словам его, non vi, sed consilio. Теперь советовал панам воевать, но не сражаться с казаками. По его мнению, медлительною проволочкой времени можно было достигнуть вернейшей победы и прочнейшего мира.
«К чему отваживаться на опасности» (говорил он), «когда можно победить без кровопролития? Только безумный запирает быстрый источник, когда бег его можно отвести другим образом. Последуем лучше рассудку, нежели страсти. Воспоминания о Желтоводском и Корсунском поражениях, мне кажется, должны удерживать нас от стремления к новой беде, когда можно победить средствами мирными. Довольно будет показывать готовность к войне. Этим одним можно укротить волнение. Явим бунтовщикам милость, дадим им опомниться, — и они пожелают вернуться к прежнему долгу повиновения, так как будто содеянные ими преступления произошли против их воли. А если дерзость их будет так упорна, что они пренебрегут мирными нашими предложениями, то любовь к родным и врожденная человеку необходимость домашней жизни всё-таки заставят их войти в прежнее спокойное состояние».
Так проповедовал панский оратор, соединявший красноречие Нестора с хитроумием Улисса. К сожалению, речь его дошла до нас по книжному пересказу современников. Но всё-таки в ней виден Кисель с его риторическим остроумием и тупым взглядом на дело. Ответ на нее Вишневецкого, присутствовавшего на военном совете, также пересказан по-книжному, но в нем сохранились черты ума и героизма Байдича. Он возразил обольстителю доматорского слуха так:
«Я согласился бы с вами, господа, когда бы у казацкой сволочи было столько совести, сколько дара красноречия у тех, которые только что передо мною говорили.
Неужели бунтовщики удовлетворятся нашими несчастьями и нашею кровью? Это просто мечта, а не рассуждение. Начатое дело может кончиться только гибелью одного из противников. Нам советуют вести войну без битвы. А если неприятель сам нападет на нас? Уклоняться, говорят нам. Это значит: мужики будут теснить наше войско, преграждать нам путь, не пускать наших лошадей на пастбища, отнимать запасы, устраивать засады, а мы будем терпеть, сложа руки, и марать бумагу в мирных переговорах, а на Русской земле будет литься шляхетская кровь. Душа возмущается от бесчестной мысли: из-за украинских берлог согласны отдать на разорение средину королевства. Если хотите победить, то побеждайте смелостью. Надобно теперь ударить на казаков, пока Орда еще только переправляется через Днепр. От одной быстроты зависит спокойствие Речи Посполитой. Не давши битвы, и не думайте о мире.
Вспомните Переяслав, Кумейки, Старец. Там вы побеждали врагов смелостью и мужеством»... [59]
Панское общество было не в силах соединиться ни в том, ни в другом воззрении. Два русина тянули созданное поляками псевдогосударство один за левую, а другой за правую руку, в то самое время, когда третий русин метил ему в сердце: триумвират, импровизированный судьбою, в виду триумвирата, придуманного сеймом. Но представители шляхетского народа чуяли опасность раздельности своей в виду неприятеля, и старались по крайней мере соединить боевые силы свои в одном пункте. Киевский воевода Тишкович сделался посредником между двумя князьями. Вишневецкому не нравилась та роль, которую Заславский позволял играть в своем войске Самуилу Лащу. Он требовал, чтобы Заславский удалил от себя Лаща. Заславский выказал в этом случае строптивость, нападавшую иногда некстати и на его православного дядюшку. Вишневецкий отплатил ему тем же, когда к нему явилась депутация из гетманского лагеря. Наконец соединенные старания Тишковича, Остророга и Александра Конецпольского привели двух полякующих князей русичей к тому, что они расположили свои лагери один вблизи другого, над озером Човганским Камнем.
Здесь было получено известие, что неприятель овладел Константиновым. Оно заставило Вишневецкого прекратить все споры [60] с панским фельдмаршалом. Пригодился теперь и вихреватый Лащ: его послали в первом подъезде против казаков с 1.500 человек.
Сентября 13 (3) панский лагерь двинулся на Корчовские Поля и расположился в полумиле от комиссарского становища Киселя. Не доверяя «русину» и его «схизматикам», старались подставлять его под казацкую силу отдельно, — тем больше что он хвалился своим ученичеством в походах великого Жовковского и, проповедуя мир, выставлял себя воином неустрашимым.
Съестных припасов было у панов много [61]. Наилучший вол стоил 4 злотых, яловица — 2, баран — 16 грошей, вепрь — 12, гарнец пива — 6, меду — 16, кварта водки — 20.
Много было в распоряжении панов овса и стоячего и скошенного, и в копах, а в скирдах был большой запас даже трехлетнего хлеба. Но печеный хлеб составлял самый дорогой продукт, потому что железо было повынуто из мельниц, да и то привозили издалека «базарники».
Начало Пилявецкой войны (если можно ее назвать войною) не было ни пугающим по обстоятельствам, ни трусливым по расположению духа в панском войске. Оно могло бы пугать разве тех, которые собрали бы воедино а priori все элементы готовившейся паники, как это можно сделать нам а posteriori. Злая судьба даже польстила панам, и завлекла вперед успехами, если в этом не было военной хитрости со стороны казацкого гетмана.
В Константинове засело тысяч пять казаков. К городу было возможно приступить с одной только стороны. Панский отряд, человек до 5.000, с 6-ю пушками, думал, что казаки будут оборонять переправу через речку Пилявку в Россоловцах, в 2-х милях от Константинова. Но переправа оставалась незанятою. Предводителем отряда был Остророг, постоянный начальник авангарда: его-то, как Латину, и хотел, как видно, провести первым успехом Хмельницкий. Заняв переправу в Россоловцах, Остророг сбил казаков с других переправ, в Гирявке и Кузьмине, а потом пошел под Константинов, где уже начали бой с казаками отряды Конецпольского и Лаща. К нему присоединился и князь Вишневецкий. Охотников панов прибывало все больше и больше. Казаки дрались мужественно и, по-видимому, решились отстоять город. Но наступившая ночь прекратила «пробу», панского оружия.
Заинтересованный успехами своего авангарда, Заславский двинулся всем лагерем на сю сторону речки Пилявки. Огромность его табора и масса сопровождавшей панов челяди не дали ему перейти за Россоловскую переправу. Он провел ночь у Россоловцев. Но завзятые защитники Константинова, очевидно, маня панов на невыгодные для них становища, не дождались приступа, и 16 (6) сентября бежали из города. Кто не успел бежать, всех тех жолнеры вырубили до ноги, но много ли погибло казаков, неизвестно. «Страшное опустошение города и языческая профанация костелов» (пишет участник избиения отсталых) «не позволили никому щадить их. Не нашли мы ни одного целого распятия Christi Domini: все были исколоты, изрублены, прострелены. А люди, как будто с того света, полуживые, измученные тиранскими руками и голодом, встречали нас плачем, опираясь о стены. Это так раздражило войско, что оно было готово броситься в один час на этих язычников».
В таком раздражении, подъезд Конецпольского наскочил на 2.000 казацкого подъезда и ударил на него так стремительно, что только остаток спасся в зарослях, насколько вообще следует полагаться на реляции людей, заинтересованных в деле боя. Жолнеры взяли в плен казацкого писаря-шляхтича и человек 15 казаков. От них паны узнали, что Хмельницкий презирает (contemnit) панское войско, воображая, что оно состоит из 7.000 шляхты, остальные же люди в нем — жиды (то есть трусы). Так и должен был представлять казацкий батько своим детям панское ополчение. «Это казацкое гультайство» (писал пан пану из-под Константинова от 18 (8) сентября) «лежит всего в полуторе милях от нас на Пилявецких Полях, и надеется на Орду; но мы, даст Бог, предупредим ее завтра».
От 19 сентября писал кто-то из обоза за Константиновым: «Теперь только начнется у нас война. Завтра наступим на неприятеля, который приготовился принять нас под Пилявцами. Всюду у него леса, фортели (естественная защита) и тяжелые для нас переправы. Хотят (полководцы) всюду нами (конницею) затыкать дырья. Правда, конный народ у нас добрый, но пехоты мало, и навели всякого сброду: обманули (вербовщики) Речь Посполитую. Комиссаров у нас множество, рады мало; соперничество и приваты большие. Неприятель собирает у фортелей бесчисленное множество хлопства и ежечасно ждет великой Орды. Войны не намерен оканчивать, а протянуть надолго: такие и диспозиции делает. Наше довольно порядочное войско презирает, несмотря на его многочисленность. В поле выйти не хочет; мы должны на него наступать. Кисель нас обманул. Прежде мы не догадались, и время уходило. Хотел уйти от нас на Волынь с своим полком, но его задержали... Никто у нас не смотрит на вождей; каждый поступает по-своему. Некоторые хоругви только что пришли, а уже отказываются служить: спешат назад домой. Четверть истекла в переходе. Мы же, хоть и давно уже в обозе, и не все деньги получили, но хотим служить».
Под Константиновым продовольствие было уже не то, что у Човганского Камня. Отсюда писали в Варшаву, что хлеб и напитки достают жолнеры с трудом. Боченок пива стоит 20 злотых, но яловица — 1 или 2 злотых, а конь 3 злотых, потому что нечем кормить: «сена, овса parum». Хмельницкий, как видим, переманил «ясно освещенного князя» с его нелепым многолюдством в страну опустошенную, а фортели, которыми казаки всегда умели пользоваться, делали нападение на него опасным; ожидаемый же им «ежечасно» приход Орды не давал панскому фельдмаршалу времени осмотреться и расположиться.
Между тем блаженному миротворцу, Киселю, чудилось, что только чернь удерживает Хмельницкого от мировой с панами, и он писал к познанскому бискупу, Андрею Шолдрскому, что в казацком таборе доходило до кровопролития. Между панами ходил даже такой слух, что Хмельницкий убит в таборном замешательстве, а некоторые утверждали, что он бежал с 12 000 комонника.
Что в казацком таборе, при отсутствии Орды, могли возникнуть смуты в виду неожиданно громадной панской армии, это весьма вероятно; но до бегства Хмельницкого было еще далеко. Между тем у Киселя был на уме Остряница, покинувший казацкий табор на Суле, и сам Хмельницкий, бежавший перед его глазами, в составе комонника, из-под Кумеек.
Охотно верил Киселю почтенный бискуп. Еще охотнее верили в Замостье прилетевшей туда вести, будто бы przed Swietym Mateuszem (следовательно 21 (11) сентября) в битве с казаками паны положили их 20.000 на месте, а остаток преследует князь Вишневецкий комонником. Злая судьба Польши подсовывала ей радостные вести как раз накануне катастрофы, которая не имеет подобной в истории паники.
Дело в том, что, пытаясь выманить Хмельницкого на бой из фортелей, которыми он был окружен надежнее всяких редутов, злосчастные триумвиры расположили свое войско так неудобно, как только он один мог бы им посоветовать, — in loco quodam nostris iniquissimo (писал знаток дела). Панский обоз, то есть лагерь, занимал пространство в польскую милю в окружности, а пехоты хватало в нем едва на половину окружности. На этом протяжении были долины, озера и т. п., которых окопать не было возможности никоим образом, а неприятелю, при его природной способности (pro calliditate ejus naturae), представляли они много мест для вторжения.
Повелевали в панском войске три полководца, и каждый — по собственному усмотрению, а что хуже всего — каждым руководило или соперничество, или самомнение, как это естественно должно было быть при такой сложной власти, «а особливо» (замечает откровенно писавший) «в наших польских душах (а zwlaszcza u naszych polskich animuszach)... Не видели этого наши правоправящие, Ordines Regni», (продолжает он), «когда назначали этот фатальный триумвират... В мирное время мы говорили бы и писали их милости, но в общей беде каждому позволительно и чувствовать, что хочет, и говорить, что чувствует... Поветовые хоругви не хотели подчиняться власти региментарей; каждый полк обращался к своему полковнику, и потому в обозе не было ни правильной стражи, ни упорядочных подъездов».
По письму Остророга к Лещинскому от 18 (8) сентября, региментарей сильно беспокоило загадочное обстоятельство, что хотя неприятель «чуял над собой войско», однакож в тылу у них появлялось много бунтовщиков»... «Поэтому» (писал он) «пришлось нам десятка полтора сотен людей послать на Волынь и столько же назад к Трембовли, чтобы погромить эти купы и обезопасить Львов».
Двумя неделями раньше он же писал к Лещинскому, что у Хмельницкого, по слухам, 180.000 войска, в том числе 20.000 пехоты. «Это еще бы ничего» (заметил он); «лишь бы у нас немного прибавилось войска, а только (одно для нас важно): чтобы к ним не приходили татары».
Все это элементы готовившейся паники, и то еще не все.
Мы видели, как сильно напирал Вишневецкий, чтоб ударить на Хмельницкого до его соединения с татарами; а писавшие из лагеря к своим приятелям вояки только о том и молили Бога, чтобы дружным наступлением упредить Орду. Из того, что Хмельницкий забрался в такие фортели, видно, как он это предусматривал.
Первая проба счастья под Пилявцами открыла знатокам военного дела и то, что позиция Хмеля неприступная, и то, что он хочет затянуть войну надолго, а что всего важнее — они видели опасности собственной позиции, соединенные с лагерной неурядицей.
Всем и каждому в панском обозе было известно, что казаки ждут к себе татар ежеминутно. Видя непреодолимые фортели неприятеля и «боясь прихода Орды», некоторые из членов военной рады (а их официально было 24) советовали Заславскому остаться за речкою Пилявкою, и лучше «наводить неприятеля на свои, нежели нападать на его фортели». Но большинство решило двинуться вперед. Здесь тотчас началась борьба с казаками за воду. Одну греблю на Пилявке паны три раза брали приступом и теряли, пока наконец очистили берега конницей, переправя ее под неприятельским огнем. Это было во вторник 22 (12) сентября. Отступление казаков к табору подняло дух в панском войске. Но неудобная местность смущала знатоков дела, чего они, конечно, не скрывали от профанов. Каждый полковник становился, где хотел. Шанцы, стражи, пушки, походные возы теснили войско, не представляя обороны. В смутном предвидении беды, региментари стали советоваться в военной раде, куда бы перенести лагерь. В совещаниях и нерешимости застал панское воинство вечер... Перед закатом солнца пришли к Хмельницкому татары. То, чего «боялись» и что надеялись «упредить», совершилось, по милости мешкотного завтра.
Казаки приветствовали своих побратимов пушечной пальбою, — и настроение духа в панском войске переменилось. Представители Польши, собравшиеся под Пилявцами, подготовили себя к панике.
В среду 23 (13) сентября начались опять гарцы и стычки; но если до сих пор Заславский не решался — да и не сумел бы — наступить на Хмельницкого всеми своими силами, то теперь и того меньше. Паны, как и прежде, ограничивались только тем, что (как писал один из них же) «показывали неприятелю свое блестящее войско, построенное в боевой порядок, с намерением привести его страхом к покорности». По рассказу того же участника Пилявецкой кампании, в панском лагере еще в воскресенье был слух (которому верили и после бегства), будто бы казацкая чернь хотела уже выдавать старшину с мольбой о помиловании. От этого слуха паны расхрабрились до такой степени, что в понедельник намеревались дать залп из «сотни пушек» (столько у них и не было) и штурмовать казацкий табор вместе с его «курятником». Но не Заславскому с его регуляторами было вдохновить войско, как одну душу, решительным движением. Ни дикая отвага таких людей, как Лащ, ни воинственный энтузиазм таких, как Вишневецкий, не могли этого сделать под предводительством нравственно убогого и своекорыстного двойника князя Василия. Бой тянулся вяло, безтолково и привел войско к тому, что оно, еще до прихода Орды, почуяло неопределенную робость, а теперь, когда вместе с казаками гарцевали татары, панская робость получила свою определенность.
Пришли татары! Эти слова, передаваемые из уст в уста, значили: пришли истребители коронного войска в Диких Полях и над рекой Росью, — пришли те, которые повели в неволю победителя казаков под Кумейками и на Старце.
Но Орда пришла в незначительном числе. К Хмельницкому вернулся сын Тимош, и привел 4000 татар, под начальством Карач-бея. Тем не менее панское войско «упало духом (stracilo serce)». По рассказу Адама Киселя, который, надобно помнить, был не точен в реляции о своем гощинском погребе, региментари и полковники стали советоваться в поле на конях, «что делать далее». Когда дошла очередь до него, он, велеречивый и велемудрый всегда, предложил три совета: или «удариться всеми силами о неприятеля», но это, по его мнению, была опасная крайность; или стоять всю ночь в боевом порядке, а лагерь перенести под Константинов и, там окопавшись, бороться с неприятелем выносчивостью (pojsc na wytrwala z nieprzyjacielem); или же, «взявшись за руки», отступать табором, а не то (это Кисель спрятал в самом конце своей речи), бросивши возы (wozy porzuciwszy), брать что позначительнее на лошадей да (взять лучшее) из пехоты, и, так построившись в порядке, ударить на одну Орду, отделить ее от казаков и... здесь уклонился он от слова бежать, и заменил его хитроумно словами собраться с силами (resumere vires).
Так писал Кисель официально. По буквальному смыслу его слов, он бежать не советовал: он советовал только resumere vires, а «для красоты слога» прибавил ударить на Орду... Но в словах бросивши возы сказано было все... [62] «Последний совет (продолжал свою реляцию ученик великого Жовковского) понравился всем (mial applausum od wszystkich), и все должно было таким образом двинуться (а пехота-то?) до наступления дня. Но, когда наступила ночь, не ведаю, какой последовал совет, что их милости тотчас пустились комонником, бросивши всех и табор. Мне дали знать об этом только на рассвете. Тогда, не нежа моей подагры, бросился я на коня и пустился с моим полком той же дорогою... Вот как совершилась эта несчастная трагедия! Войско бежало врассыпную днем и ночью. До сих пор некоторые очутились над Вислою. В бою не погибло больше трехсот человек».
Николай Остророг весьма умно рассказывал, в письме к подканцлеру Лащинскому, что он советовал отступить табором на основании Цецорской традиции, переданной ему покойным коронным гетманом. Но дело в том, что триумвиры поддались панике первые и побежали из лагеря опрометью, а вслед за главными предводителями побежали воеводы, каштеляны, комиссары, полковники, «побежало все» (писал Остророг) «побросав знамена, артиллерию, табор и возы».
Уносимые безумием паники, жолнеры бросали о земь сабли, ружья, панцири.
Нечего было делать и самым воинственным людям. Князь Вишневецкий, генерал артиллерии Артишевский, предводитель королевской гвардии Осинский — должны были бежать за другими.
Такова панская реляция Пилявецкого бегства. Казацкой реляции верить не следует. Казаки не знали, как искренно признавались в своей трусости паны, и сочинили им трусость менее постыдную. Всего характеристичнее писал один из панов-беглецов, львовский подкоморий Войцех Мясковский: он уверял бензского воеводу, Криштофа Конецпольского, что неприятелю в этом случае послужили не столько грехи и несчастная фортуна панов, сколько неслыханные чары, которых очевидность доказывают верные знаки (czary nieslychane z wielkiej konjektury z widomych znakow posluzyly). «Ибо такой страх, такая констернация обняла наших» (объясняет почтенный воин), «что они летели во всю прыть, сколько хватило у лошадей силы, твердя, что за ними гонятся уже татары, от которых, по милости Божией, ничего внезапного не произошло».
Как именно началось незабвенное бегство, с кого именно началось оно, допрашивать никто не мог, и никому не было охоты признаваться. Довольно с нас того, что, по словам самих панов-беглецов, в стычках под Пилявцами пало не больше трехсот человек, и что Пилявецкая победа досталась казакам без боя. Это подтверждает и новейшая польская историография, тогда как нашей малорусской понадобилось дать казакам-героям кровопролитную работу под Пилявцами и в два предшествовавшие дни, и в день великого бегства [63].
Казацкие кобзари поступили еще лучше казацких историков: осеннее событие отнесли они к весеннему празднику Преполовения, называемому Правою Середою (29 апреля), и воспели: что будто бы
..... на Праву Середу Гнали козаки ляхів так, як би череду.Не в казацком обычае было гнать бегущего неприятеля, оставив нерасхватанною добычу. В противность пословице, советующей стлать ему золотой мост, он сам постлал золотой мост казакам в виде покинутого лагеря. На этом мосту казаки, как воины-дикари, позабыли, что Польша теперь стоит перед ними, как говорили сами ляхи, настежь (otworem), и пьянствовали так мертвецки несколько дней, что еслиб у беглецов хватило духу на них наступить, они были бы истреблены до ноги [64]. Вина было выпито ими в четыре дня и четыре ночи столько, что, по словам современника, его хватило бы на месяц при обыкновенном употреблении.
По современным известиям паны покинули в добычу казакам до ста двадцати тысяч возов с лошадьми, 80 пушек и на 10 миллионов примерно разных драгоценностей.
Уничтоженная паникою панская армия большею частью направлялась во Львов.
Князь Доминик Заславский, гонимый общим раздражением против него всех и каждого, проехал через город в закрытой карете, и поспешил спрятаться в своем замке Ржешове, польском замке даже по имени. В его лице, фамилия Острожских за совращение в католичество отплатила католикам вечным позором и невознаградимым Польским Разорением, превзошедшим Разорение Московское.
Вся Польша возопила против пилявецких беглецов. Шляхетский народ требовал казни виновникам неслыханной в народах измены долгу воина и гражданина. Но для казни стольких предателей отечества не хватало у неё палачей. Преступление осталось безнаказанным по своей громадности.
Попировав скотски в покинутом панами лагере, казаки двинулись к Збаражу, хорошо укрепленному городу и, не найдя в нем ни одной живой души, вспомнили, как иезуиты, руками прозелита Кунцевича, выбрасывали из могил тела, похороненные не-униатским священником. Один или два случая безумного фанатизма, оскорбив чувство человечности, свойственное и людям просвещенным, и самым темным дикарям, произвели широкую молву, которая проникла даже в землянки степняков, не видавших от роду церкви, и вызвала из этих землянок чудовищных отмстителей за чудовищное злоупотребление церковного права. Казаки Хмельницкого, осквернив и разорив збаражские костелы, повыбросили из усыпальниц останки католических панов и ксендзов, причем досталось и трупам православников, похороненным по-пански.
В числе поруганных ими усопших был и знаменитый примиритель Польши с Турцией, князь Криштоф Збаражский. По сказанию збаражского стихотворца, бежавшего из объятого ужасом города, сам Хмельницкий ругался над прахом князя Криштофа и его княгини, говоря, что и мертвому льву надобно вырвать бороду. Не предчувствовал он, что разогнанная им от плугов и токов шляхта хлынет опять на места своей колонизации, и что над ним самим, в его Суботове, повторится дикая расправа с мертвым львом.
Стоя в Збараже, Хмельницкий объявил своей казацкой раде, что намерен вернуться в Украину, послать на сейм уполномоченных от Запорожского войска и дожидаться избрания короля. К этой решимости привело его известие, полученное из Москвы.
Москва вовсе не была намерена содействовать опустошительному вторжению днепровской и крымской дичи в соседнее государство, хотя и на варшавской конвокации первым словом открывшего ее оратора было московское коварство (Moskiewska perfidia). Напротив, Запорожское войско получило от молодого царя внушение — приостановить разлив христианской крови и примириться с панами. Тишайший государь услаждал свои царственные заботы мыслью, что у него нет недруга во всем христианском свете, и не хотел сделать полякам «никакой неправды в их упадке и в безглавное тогдашнее время».
Мысли Хмельницкого обратились к польскому королю, которого избрание зависело теперь от него. Новый, обязанный ему престолом, король мог упрочить за ним его положение вернее, чем казако-татарская орда, которой переменчивость относительно его особы, драгоценнейшей для него всего на свете, свидетельствовал он своею пятитысячною гвардиею. Но разлакомившиеся казацким счастьем сподвижники Хмеля, не хотели знать ничего, кроме войны. Казацкая орда требовала, чтоб он шел кончати ляхив по идее предшественников его. Краков и Варшава должны быть разрушены! Все панское и ляшкое должно исчезнуть с лица земли! На место шляхетской Польши пускай будет мужицкая Русь, а господами этой Руси должны быть казаки! Таков был идеал дикой силы, вызванной бунтом Хмельницкого, — идеал, сочувственный доныне в Малороссии недоучкам, недоумкам и политическим утопистам.
Не захотели казаки идти обратно в Украину, и порывались к Белой Реке, для основания, по сю и по ту сторону мифической для них реки, какого-то кипчакского царства, с избирательными мурзами, членами законодательной рады. Хмельницкий не повел бы казаков за Белую Реку ни в каком случае, имея в тылу князя Вишневецкого, который один оспаривал у него полное торжество над шляхетским народом. Но теперь останавливали его и другие соображения. Союзники татары «делались казакам сильны», как выражались московские дипломаты. Загнавшись далеко вперед, он мог очутиться в руках у хана со всем преславным Запорожским войском и со всей казацкой Украиной. Чтобы дать, однакож, работу руинникам, готовым превратить все государства в подобие «украинских берлог», он разослал свои полки в разные стороны для очистки Христианской земли, от панской погани, как выражались казаки.
Ватаги пьяных варваров, сопровождаемые татарами, устремились к Дубну, Кременцу, Острогу, Луцку, истребляя все, что носило на себе печать усовершенствованной хозяйственности и печать культуры вообще. Только православные храмы да православные попы останавливали всепожирающий поток, но и то настолько, насколько казаки боялись раздражить своего батька, боявшегося, в свою очередь, вооружить против себя малорусское духовенство. Бывали случаи, что хмельничане допытывались денег у православного попа по примеру начинателя казацкой «войны за веру», войскового писаря Гренковича. Бывали случаи обдиранья серебряных шат с образов и расхищения найденных в церкви денег. В этом казаки Хмельницкого, не уступая казакам Гренковича, обнаруживали свое родство с католиками жолнерами, которые зачастую грабили католические костелы наравне с православными храмами. Что касается казацких побратимов, татар, то, среди широких пустынь, образовавшихся на поприще панской колонизации, казаки и сами попадали к ним в ясыр наравне с теми, кого они предприняли
c під ляцької кормиги слобонити [65].Освободясь от назойливости Перебийносов, Нечаев да Морозенков, которые, во главе яростной черни, рвались к Белой Реке, Хмельницкий направил путь свой по следам ненавистного князя Яремы, но все не спешило военными действиями, как бы в насмешку над премудрым Киселем, который советовал панам «воевать, но не сражаться». Теперь он, можно сказать, только держался на пенистом гребне девятой волны, чтоб она не залила самого его, увлекая все вперед и вперед, под бурным дыханием казацкого бунта. Не осмысленные никаким определенным стремлением, кроме порыва к истреблению ляхов до ноги, волны руинного разбоя ужасали наконец степного шляхтича, перенесенного из круга мелочных казацких интересов на широкое поприще интересов общественных, религиозных, национальных и государственных. В неожиданном, непривычном, губительном триумфе, он восседал на своей всепожигающей колеснице, держа с трудом туго натянутые бразды казацкой завзятости. Он, очевидно, давал панам время оправиться и положить хоть где-нибудь, хоть на сарматской Белой Реке преграду стихийной силе, пока её руинные деяния не привлекали на нее оружия соседних государей. Это была та сила, которая и под бунчуком соперника Сагайдачного, пьяницы Бородавки, хвалилась уже, что перед нею трепещет Польша, Турция и целый свет, — та вдохновенная чутьем своей будущности сила, которой, в её дикой стихийности, было суждено «обрушить» могущественную тогда Польшу, дабы взяла над нею перевес могущественная ныне Россия. Хмельницкому было чего пугаться, восседая на своей триумфальной колеснице.
Теперь он был окружен уже не одними грубыми противниками панского господства, но и такими людьми, которые могли бы служить советниками завоевателю, не чуждому гражданственных и экономических стремлений. Многие шляхтичи, гонимые бедствиями войны, или озлобленные подобно ему самому членами панского правительства, приняли на себя казацкий образ и соединили неверную судьбу свою с казацкою «щербатою долею». Но, под влиянием господствовавшего в казатчине настроения умов, главную роль между ними начал играть буквальный последователь греческой веры, взятый в плен на Желтых Водах, Выговский. Как человек глубоко религиозный в том, что относилось к формам древнего русского благочестия, и глубоко бесчестный в том, что относится к его духу, он сделался, так сказать, исповедником, духовным отцом Хмельницкого и вполне овладел этим диким умом, основанным на тех зыбких правилах долга и чести, которые характеризовали всех просвещенных иезуитами шляхтичей. Он-то, этот Выговский, доиграл относительно Тишайшего Государя ту роль, которую самому Хмельницкому не дала доиграть одна привычка к неумеренному пьянству. Без совета Выговского не делал Хмельницкий ни одного шага. Все, что у Хмеля было двумысленного в сношениях с поляками, Москвой, татарами, турками, волохами, венграми, немцами, принадлежало на добрую долю Выговскому. От него, без сомнения, научился Хмельницкий туманить и самих казаков, которые воображали, что правят своим гетманом, как шляхта правила королем, а между тем исполняли то, что было нужно ему.
Ни одной крепости и города не занял Хмельницкий по выходе из Пилявецкого «курятника». Города казакам, как и татарам, были не нужны. Через знаменитый будущею осадою Збараж и через Старый Константинов прошел он, забавляясь вырываньем бороды мертвым львам: эти города совсем опустели. В Бродах оставил он такую часть войска, которая была способна только опустошать окрестности, и лишь для виду наказал этому отряду овладеть замком, а с городом древнего русского князя Льва, как увидим, игрался, точно с мышью кот, пресыщенный уже ловитвою.
Там давно началась тревога. Ополяченный с XIV столетия Львов, эту столицу Руси и редут от внешнего неприятеля (Metropolim Russiae et propugnaculum ab internis hostibus), как величали его поляки, считали они гнездом тайных заговорщиков против польского отечества, и самый бунт Хмельницкого был у них «бунт Русский (rebellia Ruska)».
За неделю до Пилявецкого бегства, львовяне вопияли к королевичу Каролю о защите их от неприятеля. «Уже целых три месяца без остановки льется кровь днем и ночью» (писали они). «Русский бунт и соединившаяся с язычниками хлопская сволочь отправляют в Запорожье страшные массы награбленного добра, армату, пушки, порох, и священное, и мирское, отдают в языческую неволю столь многие тысячи людей. Ежедневно, ежечасно это бесчестное предательство подползает к нашей крови, идет сюда пожаром уже под самые львовские стены. Ничего неприкосновенного, ничего безопасного, ничего обеспеченного! Уже и в самом городе открываются явные измены и ежедневно — ночные заговоры. Глядя на это и видя дальнейшую опасность, здешние граждане и братья наши, бежавшие сюда из других воеводств, думают уходить отсюда, спасая жизнь, так как Речь Посполитая не озаботилась никаким спасением и обороной этого города, и у их милостей панов региментарей, прося покорнейше, не вымолила и одного десятка гарнизона».
Они умоляли королевича, чтоб он оставил у них для защиты свой полк, так как этот полк «или не пройдет к войску сквозь татар и своевольные купы, или придет после битвы, дай Боже счастливой».
Известие об этой ожидаемой с таким страхом битве вырвало у них из груди крик отчаянья: «Теперь мы совсем погибли (Zginelismy juz totaliter!)»... «Нет никакой надежды на правителей государства, nadziej zadnej in Principibus Regni nie mamy» (весьма верно писали они своим друзьям). «Разве особенный промысел Божий будет спасать нас чудесным способом».
«Еще 24 июня» (говорит автор письма) «предсказывал я, что будет из триумвирата коронных региментарей: теперь предсказание мое исполнилось»...
Во Львове до того были напуганы «Русскою ребеллией» и теми татаро-казацкими купами, которые могли не допустить королевичева полка в действующую армию, что из Торговой Горки один шляхтич писал к другому от 18 (8) августа, опережая события, будто мещане сами сожгли Краковское предместье, а также монастырь и костел босых кармелитов для безопаснейшей обороны.
Еще недавно жители Львова видели дивное по своей нарядности войско на пути его к Пилявцам. Теперь гетманы этого войска ушли ночью из своего лагеря, точно воры, застигнутые хозяином. По их следам пришли к столице древнерусской Владимерии перековерканной в Лодомерию, опустошители края, восстановленного после татарского Лихолетья беспримерными трудами и подвигами польско-русских колонизаторов. Многочисленные сермяжные и кожушные полчища их, в сопровождении потомков Батыевой Орды, появились под стенами Львова на смену блестящих культурников. Теперь им не было преграды в стремлении за Белую Реку.
Теперь нашему Хмелю оставалось только возвеселить завзятые души Криштофа Косинского и царя Наливая разрушением Кракова, который пощадил как-то и Батый, гостя в нем, как Болеслав Храбрый в Киеве. Но Хмельницкий не смел сделать того, на что дерзали оба начинателя казацких бунтов. Если он и не был умнее этих бессмысленных руинников, то его время поумнело. Не Львов остановил его, как это приятно думать польским патриотам города, в котором испарился патриотизм русский и, как болячка, притаился патриотизм казацкий. Город нашего славного князя Льва не был приготовлен к обороне иноземным правительством, обманувшим его надежды на «благоденственное и мирное житие»; а муниципальная республика львовская не имела ни денег, ни оружия, ни съестных припасов. Остановила казака Тамерлана политическая комбинация, перед которой «страшенна казацька сила» оказывалась весьма слабою.
Первые пилявецкие беглецы, прискакавшие к полякам, армянам и жидам, подавившим во Львове русских аборигенов, трагически терзали на себе в слезах одежу.
Они плакали о гибели отечества, которое для огромного большинства их заключалось в скарбовых возах да в раззолоченных каретах, да в утраченных майонтках. Они громко проклинали своих региментарей и кричали, что неприятель идет за ними «в копыто».
Отсталые в бегстве подтверждали слова самых быстрых, и спешили, подобно Князю Доминику, убраться подальше из опасного города. В домах и улицах поднялась неизобразимая суматоха. Хотели затворить ворота, чтобы не вторгнулся в них неприятель, — невозможно было этого сделать: так густо одни теснились в город, а другие рвались из города, ища безопасности каждый по-своему.
От Пилявцев до Львова считалось 40 миль. Это пространство пролетали паны-беглецы в 36 часов, тогда как в обыкновенных обстоятельствах (говорили насмешники) иной вельможный пан ехал бы сюда целые полгода. Изнуренные, голодные, не знавшие доселе никакой беды «панята» лишались голоса.
Одни из беглых панов приводили горожан в ярость; другие внушали участие. К числу последних принадлежал и князь Вишневецкий, который (говорили в толпе) «потерял все, что имел», и которому один армянин дал обед и постель.
Замечательно, что поляки не исключают ни князя Вишневецкого, ни Осинского из поддавшихся общей панике, и героя того времени изображают прискакавшим с Пилявецких Полей в одиночку. По их описанию все представители Польши единодушно струсили. Никто из тех, которые носили такие громкие имена, как Замойский, Жовковский, Конецпольский, не сказал, подобно нашим древним русичам:
«Мертвым не стыдно: лучше быть побитыми, нежели полоненными». Никто не решился лечь под Пилявцами костьми, чтобы не видеть срама польскому отечеству. На мольбы мещан, чтобы не оставляли города, его жителей и святынь без обороны, ученый Остророг, чтивший традиции великого Конецпольского, отвечал, что все потеряно, и что лучше отдаться на волю неприятеля, нежели отваживаться на невозможный отпор. Таково было могущество Хмельницкого. Поляки думали, что ему помогали «неслыханные чары»; но в Москве, как увидим далее, измеряли это могущество нравственным бессилием поляков.
Львовские торгаши оказались более мужественными, чем избранники шляхетского народа, триумвиры. Составив собственный военный совет, они послали к Остророгу другую депутацию с объявлением, что постановили спасать себя и спотыкнувшуюся (szwankujaca) Речь Посполитую кровью и имуществом своим; что сделают государству заем, дадут оружие и все, что будет нужно для обороны. Так пристыдили они шляхту и панов, которые исключили мещанство из государственных сословий своих. Так показали они, что сила общества заключается не в привилегиях, а в разумной хозяйственности.
Скитавшиеся по львовским предместьям жолнеры соглашались продолжать службу, но не хотели знать региментарей, которые уходят из войска, и требовали, чтобы главным вождем был назначен князь Вишневецкий. Этим они засвидетельствовали, что его никто не заподозрил в малодушном бегстве, и спасли его военную репутацию от пятна общей трусости.
Собралась в костеле Бернардинов генеральная рада. В состав этой рады вошли — и королевский агент по казацким делам, Радзеёвский, и вечный банит-инфамис, Лащ (о Конецпольском не было слышно). Кто и в какой степени был теперь инфамис, львовскому купечеству и местному шляхетству было не до того. Небывалая и неслыханная трусость представителей Польши понизила и в самой шляхте гордое сознание своего достоинства. Между тем неприятель всего зажиточного и оседлого мог, как думали, нагрянуть ежеминутно. Вместе с ротмистрами, их поручиками, то есть наместниками, и войсковыми товарищами, набралось всего в генеральной раде 3.000 голосов.
Остророг сидел среди собрания, как осужденный на смерть. Он и писал о себе, что самая реляция о Пилявецком бегстве равняется для него смертной казни. Между членами импровизированной рады были такие, которые делали ему в глаза жестокие упреки. Но как ни волновалась панская рада в своем раздражении, она все-таки была человечнее казацкой рады, которая на Старце подвергла дикому своему суду полковника Филоненка.
Главнокомандующим избрали единодушно Вишневецкого. Долго не соглашался на трудную и безнадежную в настоящем случае должность наш Байдич, наконец уступил критическому времени и страстным просьбам собрания, но гетманскую булаву принял он только под условием, чтобы товарищем его остался Остророг, — и собрание тотчас же приступило с просьбами к человеку, которого недавно готово было растерзать.
Остророг не хотел пользоваться великодушием князя, но его упросили остаться в своем звании, для сохранения достоинства Речи Посполитой, которая сделала его региментарем.
Честь владычествующего совсем не честно пола велит упомянуть, что почин прекрасного общественного дела принадлежал в этом случае женщине. Когда собралась рада, и её первенствующие члены затруднялись, в присутствии поруганного некоторыми Остророга, заговорить о перемене полководца, — в костел вошла смелая шляхтянка, Катерина Слонёвская. Она повергла к ногам Вишневецкого свое имущество и серебро от монахинь кармелиток, заклиная князя именем Бога, святых патронов края и всем, что есть драгоценнейшего в свете, стать во главе народного ополчения и спасать отечество. Энтузиазм её овладел всем собранием, и посрамленная бегством панская честь была восстановлена как выбором достойнейшего полководца, так и его благородным обращением к несчастному сподвижнику.
Немедленно были разосланы универсалы, сзывающие рассеянные войска под Львов. В виду казако-татарского нашествия, жители не боялись давать под простые расписки значительные суммы (например, какой-то Бруховецкий дал 14.000, а Грабянка 80.000 злотых [66]. Костелы жертвовали своими украшениями, женщины — драгоценностями. В несколько дней было собрано миллион злотых наличными деньгами и 800.000 дорогими вещами, то есть в 17 раз больше той суммы, какая оказалась в Коронном Скарбе во время конвокации. Снарядили 4.360 жолнеров, за невозможностью созвать больше. Остальные деньги раздали ротмистрам для вербовки.
Но в этот грозный момент Вишневецкий поступил так, как поступали древние московские государи в тяжкие времена нашествия татар на самую столицу их. Оставаться с небольшим гарнизоном во Львове значило бы только — пасть под его развалинами с оружием в руках. С него было мало такого подвига. Воспользовавшись непонятною тогда ни для кого медлительностью нашего Тамерлана, Вишневецкий занял сильную крепость Замостье, достойный Яна Замойского памятник, с целью преградить неприятелю путь к столице и создать новую армию. Во Львов прислал он своего ротмистра Цихоцкого с 50-ю драгунами, и Цихоцкий не уклонился от опасного поста. На Вишневецкого роптали во Львове; но для нас понятно, что он, приняв булаву от представителей «споткнувшегося» государства, должен был служить не одному только городу Львову.
Львовская мещанская республика не потерялась, однакож, от этой неожиданности, как ни сильно возмутила она сначала горожан, люди торговые вооружились лично и увеличили оставленный им ничтожный гарнизон, а во главе своего ополчения поставили ратмана Грозвайера. Вишневецкий поручил оборону Львова генералу артиллерии, Криштофу Артишевскому, ветерану голландской службы в Америке, завоевавшему Рио-Жанейро. Это был родственник старых колонизаторов киевского пограничья, владельцев местечка Липового, оставивший родину из религиозных несогласий. Но Артишевский не принял звания коменданта, видя недостаток в артиллеристах и съестных припасах. Он согласился только служить опытными своими советами воинственному городскому ратману, до прибытия ожидаемой помощи из Пруссии.
Тогдашний Львов заключал в себе всего 400 домов, и был окружен стеною, в виде четвероугольника, потом — рвом, далее — валом и наконец — другой стеною; укрепленною 17-ю башнями. Над городом возвышался древний, так называемый Верхний Замок, построенный из тесанного камня и кирпича в незапамятные времена, на высокой среди плоской местности горе. Кроме того, с юга город обороняли укрепленный монастырь, называвшийся Бернардины, с запада топкие болота, а с севера Нижний Замок, укрепленный сильнее прочих оборонных пунктов.
Но в военное время составляли важное неудобство два предместья, заключавшие в себе 1.500 домов и домиков. Между предместьев, на западной и восточной сторонах, были разбросаны сады, летние купеческие жилища, пасеки, виноградники и множество красивых домов, костелов, монастырей. Здесь красовалась на холме и знаменитая русинская церковь, «Святый Юр». Все это пространство было обведено, в приступных местах, валом, в пределах которого, вместе с городом, считалось 30.000 жителей.
Было очевидно, что оба предместья скоро перейдут в неприятельские руки, и предмещане должны будут уходить в город. Кроме голода, который, в таком случае, грозил уже издали городу, не меньшая опасность угрожала ему и со стороны Верхнего Замка, который находился в таком же запущенном состоянии, в каком были укрепления киевские, находились под воеводством богатейшего из малорусских панов, игравшего притом роль охранителя православных святынь. В нем поместили покамест только 50 присланных Вишневецким драгун, которые могли дать неприятелю только слабый отпор. Заняв столь важный пункт, неприятель мог обстреливать город своими полевыми пушками и принудить к сдаче. Это видели мещане хорошо, и однакож решились обороняться.
Скоро появились казаки, в сопровождении татар, к которым подошел и знаменитый Тогай-бей с своей Ордою. Они прорвались в предместья, сломив мещан, оборонявших вал и частоколы. Казакам помогали мужики, увеличивавшие массу панских врагов по мере её движения вперед. Предмещане с детьми и пожитками крылись в костелах, ютились у Кармелитов, Бернардинов, Доминикан, у Святого Юра, бежали в Верхний Замок и в город. У городских ворот столпились тысячи возов и народу, под защитой пушек, отпугивавших неприятеля.
Разъяренные сопротивлением и жадные добычи хмельничане бросились было уже на валы самого города, и ничто бы не остановило их подавляющей массы. Но Хмельницкому было не до занятия и даже не до разорения городов. К изумлению своих и чужих людей, он прекратил битву в решительный момент.
Непонятные никому действия опустошителя Польши и вместе с нею Руси внушали казацким кобзарям набожные стихи:
Тілько Бог святий знає, Що Хмельницький думае-гадае... Про те не знали ні джури козацькі, Ні мужі громадські: Тілько Бог святий знає, Що Хмельницький думає-гадає...Набожные не меньше кобзарей ксендзы из прекращения битвы в самую опасную минуту сделали чудо. Перед казаком Тамерланом явился в облаках молящийся на коленях бернардин, в котором они без труда узвали Swietego Jana z Dukli. Этому Св. Яну из Дукли, по удалении казаков и татар, воздвигли они коленопреклоненную статую, существующую и ныне.
Не столь были счастливы львовские схизматики, спрятавшиеся у Святого Юра своего, воображая, что казаки пощадят их не только внутри православного храма, но и в самой ограде его. Хмельницкий извинял «простака» Кривоноса, который не умел совладать с домашними татарами своими, но теперь сам оказался таким же простаком.
Казацкая орда сперва перебила или продала орде татарской тех несчастных, которые столпились вокруг Святоюрской церкви на цвинтаре [67]. Спрятавшиеся в самой церкви заперли двери надежными засовами. Но «борцы за православную веру и русскую народность», по Костомарову единственные борцы, продолбили в стенах отверстия и стреляли внутрь церкви, неважно, что, по их же кобзарским думам, считалось великим грехом — не снять шапки перед церковью, «домом Божиим» и не «положить на себя креста». Наконец запертые двери уступили казацким келепам [68].
Тогдашний львовский поэт, армянин Зиморович, певец полей и мирной сельской жизни, следовательно друг местной Руси, осветил перед нами в Святом Юре картину, напоминающую подвиги Гренковича в «Межигорском Спасе».
Казаки выволакивали побитых людей на паперть с криком: Галай! Галай! бре, гаур (прикидываясь татарами перед небесным патроном родной нашей Владимерии). Когда в алтаре «старый игумен» увещевал их прекратить разбой, эти ревнители древнего русского благочестия, эти единственные борцы за православную веру, допытывались у него, где спрятаны деньги, а для большего убеждения облили ему голову горилкою и подожгли свечками. «Гей, пробі [69] христиане! віра! віра!» кричал бедняга; но казаки отвечали с малорусским юмором своим, с тем самым юмором, с каким дарили изнасилованным шляхтянкам алые ленты, червоні стрічки:
«Батеньку, не треба нам твоєї віри, лише дідчих грошей». [70]
Так поступали освободители Русской земли и с другими единоверцами своими. Они считали милостью уже и то, что выворачивали только карманы святоюрцам. На вопли о единоверии они отвечали игриво:
«Так, так, да в тебе ляцькі гроші; носиш при собі найбільших наших ворогів: то мусимо тебе скарати».
Перебивши и обобравши в святоюрских стенах живых людей, принялись казаки и за мертвых: вскрывали и разбивали гробы львовских борцов за православие, борцов действительных, не таких, какими, на посрамление национального достоинства нашего, делают у нас хмельничан; выбрасывали полуистлевшие трупы; долбили стены, всюду искали спрятанных скарбов. Наконец добрались и до образа Св. Георгия. На нем была серебряная шата. Казаки сорвали ее, приговаривая с обычными своими жартами:
«Не здивуй нам, Святый Юру! прощай нам за се», и т. п. [71]
Между тем другие молодцы, оставшись без работы по непонятному повелению гетмана, заняли Шемберкову (ныне Вронёвского) гору, взобрались на кровли опустелых костелов и домов по близу городского вала, стреляли из окон, из-за углов, с кровель и домовых труб в город. Жители решились на отчаянную, хотя давно предвиденную, меру — сжечь предместья. Ночью был подложен огонь в ближайших строениях, и Львов запылал вокруг своего тесного четвероугольника. Неприятель оставил предместья, но зато дым душил осажденных, а раздуваемое ветром пламя угрожало пожаром и самому городу. Истребление Львова посредством огня не входило в соображение нового Батыя, так точно как и взятие приступом. Татары пришли к нему великой Ордою, и ему теперь надобно было отпустить их. Пилявское бегство переменило военный план его. Он привел сюда казацких соратников только для того, чтобы заплатить им польскими, жидовскими и русинскими деньгами, выжатыми из города, который широко слыл богатым.
На другой же день по сожжении предместий прискакал от него под городские укрепления гонец, держа высоко над головой шапку, чтобы по нем не стреляли, и оставил воткнутый в землю шест с письмом написанным по-русски. Хмельницкий требовал выдачи князя Вишневецкого, Конецпольского и всей беглой шляхты; в противном случае грозил приступом, а русинов увещевал, чтоб они в то время, когда город начнут грабить, заперлись в церквах.
Требование свое подкрепил он движением на приступ под предводительством знаменитого Перебийноса. Но приступ, очевидно, был фальшивый, и кончился тем, что казаки перерубили водопроводные трубы. Это Хмельницкому было нужнее истребления города. Мещане написали к нему, что ни требуемых панов, ни шляхты во Львове нет, и просили его не жаждать пролития христианской крови.
Вместо ответа на просьбу, Хмельницкий, на другой день, велел штурмовать Верхний Замок, теперь уже защищаемый несколькими тысячами львовян, под предводительством бургграфа Братковского. Бились они с казаками мужественно, и целый день отражали приступ. Зато казаки взяли монастырь Кармелитов, и вырезали в нем все живое, по казацкому выражению, до ноги.
Во время штурма было получено в городе и другое письмо от Хмельницкого, на польском уже языке, с требованием выдачи жидов, которые де были причиной этой войны: ибо давали деньги на вербовку жолнеров против казаков.
Наши историки сперва повторяли вымыслы кобзарей о жидовском глумлении над церквами и верою, а потом вооружались на них за аренды и откупы, которые кобзарские думы переносили даже на Самару и Саксаган. Но Хмельницкий своим письмом опроверг казацких панегиристов, указав совсем на иную причину жидоистребления. И попам, и ксендзам, и панам, и жидам казаки могли повторять искренно слова святоюрских героев своих: «Батеньку, не треба нам твоєї віри, лише дідчих грошей».
Мещане отвечали Хмельницкому, что жиды — те же подданные короля и Речи Посполитой, несущие все издержки и подвергающиеся всем опасностям вместе с городом.
На третий день Хмельницкий прислал грозное требование, чтобы город приготовил для татар 200.000 дукатов. Все, что до сих пор делал он с городом, и имело «только эту цель, и татарский побратим не ошибся в своем рассчете: сенат городской республики называл полученную им новость счастливою после всех претерпенных осажденными бедствий. Он просил у Хмельницкого глейта, или безопасного пропуска для своих послов. С этой просьбой отправился в казацкий табор ксендз Андрей Гункль Мокрский, регулярный каноник и экс-иезуит, бывший наставник Хмельницкого в ярославском иезуитском коллегиуме. [72]
Не напрасно иезуиты воспитывали юношество в явных добродетелях и в тайных пороках: такое воспитание приносило им в житейских делах бесценную пользу, как это было и в настоящем случае. Мокрский принес от Хмельницкого самый благоприятный ответ. Тогда немедленно были отправлены к нему городские уполномоченные, в числе которых представителем Русской улицы, единственно принадлежавшей Руси во Львове, явился Павел Лаврисевич [73].
Глейт изображали собою два гетманские есаула. Они провели уполномоченных послов к малому костелу Св. Петра. Влево от него стояла Орда, а вправо занимал войсковую квартиру Хмельницкий вместе с Тогай-беем, которого называл он перед королевскими послами, братом своим, душою своею, единым соколом на свете. Оттуда велели им ехать в Лисеницы, за милю от Львова, где жил пан гетман.
Хмельницкий принял их ласково и потчивал горилкою. Послы плакали, представляя победителю бедствия, постигшие город их, и молили его уменьшить окуп. Видя их слезы, воспитанник лицемеров по профессии заплакал вместе с ними, но не уступил ни одного дуката. Он произносил привычные случаю монологи, обвиняя в общих несчастьях Вишневецкого и Конецпольского. «Вы требуете от меня милосердия» (сказал он между прочим). «Я сам не испытывал его. Довольно вам с меня того, что я оставляю вас живыми». Это великое милосердие, и за него вы мне поспешите с двумя стами тысяч червоных злотых. Вот вам оставляю еще жидов, этих запачканных плюгавцев, и не домогаюсь их, лишь бы только вложили они довольно в эту сумму, накопивши столько скарбов из казачества на Украине».
Наконец, переговорив с Тогай-беем в открытом поле, созвал он в светлице у предводителя казацкого загона, полковника Остапа Павлюка, татаро-казацкую раду. Первые места заняли татары: Тогай-бей с Султан-калгою (первым из двух соправителей хана) и Пири-агою; после них сел Хмельницкий с полковниками. Казаки держали в руках по золотой булаве, украшенной драгоценными каменьями. Одна из них еще недавно принадлежала «ясноосвещенному князю», не дождавшемуся личного поклона от Хмельницкого и всего Запорожского войска под Пилявцами. Но рада была прервана известием, что верхний замок взял наконец Кривонос, он же и Перебийнос.
Действительно, бургграф Братковский, истощив запас пороха и пуль, отступил еще ночью в город, и казаки, вломившись в это пристанище смешанного народа, рубили с плеча, сколько было им любо [74], а остальных, обобрав до нага, гнали келепами на продажу татарам. Кровь из Верхнего Замка лилась ручьями в самый город, а замковый двор нашли потом заваленным телами побитых.
Эта весть напомнила львовским уполномоченным о Полонном и ускорила решение вопроса между лицедеем страшной сцены и его ужасавшимися зрителями.
Уполномоченные обещали выплатить окуп немедленно. Хмельницкий послал за получением денег полковника Головацкого, оказачившегося шляхтича, известного своею жадностью к добыче и развратною жизнью, а Тогай-бей, с своей стороны, послал Пири-агу, татарского обозного. Этих коммисаров сопровождал отряд мурз, есаулов, казацких и татарских писарей; и только тогда прекратились неприятельские действия с обеих сторон.
Мещане прежде всего задобрили обоих комиссаров, давши Головацкому 100 талеров, да оружие в дорогой оправе, всего на 1.500 злотых. Пири-ага получил всего на 990, его мурзам дали 2.100, казацким есаулам и писарям 1.000 злотых. Вся эта хищная ватага согласилась тогда на униженную просьбу мещан (припрятавших ценную собственность заблаговременно) засвидетельствовать перед вождями, что у них остались только расписки Вишневецкого в получении денег, что они наличной суммы не имеют, а предлагают окуп товарами и всем, что ни окажется в городе. Сделана была ревизия костелов, церквей, монастырей и городских домов. Татаро-казацкая комиссия всюду брала наличность и все товары с драгоценностями по нарицательной цене, полотно, одежду, шапки, сапоги, давая ручательство собственникам, что все это уплатит Речь Посполитая. Собранное таким образом добро препровождалось возами в табор победителей. Тогай-бей далеко превосходил в этом случае казаков точностью оценки и домогательством. Город был вынужден подарить и самому Хмельницкому богатых одежд и сбруи на 20.000 злотых. Ни один казацкий старшина не остался без соответственного приношения, а Кривонос, воображая себя не менее великим разбойником, как и Хмельницкий, выжал из мещан подарков тысяч на пять злотых.
Бесчестный во всех отношениях торг продолжался две недели. Между тем Орда распустила свои загоны во все стороны, — за Ярославль, Перемышль и далее по тому татарскому Шляху, который Кантемир-мурза прозвал Золотым; а Хмельницкий волей и неволей должен был оставаться под Львовом, как бы на привязи у своего «брата», не смея оставить его здесь, точно в огороде козла.
23 (13) октября Тогай-бей с Султан-калгой отступил к Каменцу. На другой день отступил к Замостью Хмельницкий, оставив на несколько дней во Львове своего двоюродного брата, Захария Хмельницкого, с несколькими есаулами и атаманами, как ручательство в безопасности города со стороны переходных казацких куп, которые сновали в окрестностях и все еще держали жителей как бы в блокаде.
Внутри города между тем чувствовался мучительный голод. Трудно было добыть хлеба, так как все гумна, до самого Люблина, были сожжены. Многие, обеднев и теснясь в нездоровых жилищах, умирали. Множество валяющихся в разных местах трупов и падали заражало воздух. Настала сильная смертность, так что в три следующие месяца было похоронено во Львове 7.000 душ.
Выворотив старательно польские, армянские, жидовские и русинские карманы во Львове, победоносные казаки шли к Замостью, воображая, что в самом деле прогонят ляхов за Вислу так далеко, что не возвратятся и через три года. Они пели приплясывая:
Нуте, козаки, у скоки! Поберімося у боки: Позаганяймо ляхів за Віслу, Щоб не вернулись і в три роки!Но Хмельницкий думал свою думу. С большими ли потерями, или с малыми, досталась бы ему знаменитая крепость Замойского, она завоевателю казаку была не нужна. Хмельницкий обманывал и её гарнизон, и своих сподвижников маневрами приступов, лишь бы сорвать взятку с панов, как сорвал ее с мещан, и угомонить своих Перебийносов, которые мечтали о разбойном равенстве с ним самим. Мысли его летали из Москвы на варшавский избирательный сейм и обратно. Он сознавал, что стоит между двух великих сил, из которых каждая может подавить его при известной политической комбинации. Он боялся своего положения уже и в Черкассах, откуда льстиво писал к московскому царю от 8 июня: «По смерти короля Владислава многие сделались королями в нашей земле, и мы желали бы себе самодержца государя такого в своей земли, как ваша царская велеможность, православный христианский царь, чтобы предвечное пророчество Христа Бога нашего исполнилося, что все в руках его святые милости»... Он, как бы извинялся перед царем, что «посередь дороги Запорожской» побил сына Потоцкого, и что потом коронные гетманы «под Корсунем городом попали оба в неволю»... «Мы их не имали» (писал он), «но те люди имали их, которые нам служили в той мере от царя Крымского». Слова татары он избегал перед «православным христианским царем»: оно было несовместимо с его уверением, что казаки «помирают за старожитную греческую веру». Он думал как думали поляки, что царь так и ухватится за его совет — поспешить наступлением «на то государство, а мы де со всем войском Запорожским услужить вашей царской велеможности готовы есмя».
Величавое молчание Алексея Михайловича, надобно думать, сделало на дерзкого Хмеля такое впечатление, как молчание Сигизмунда III на Севериню Наливая. Мысль о письме к московскому самодержцу, очевидно, пришла ему в голову только тогда, когда он очутился на загадочном распутье, точно сказочный удалец. С киевскими подвижниками, наметившими воссоединение Руси четверть столетия назад, не имел он ничего общего: иначе — он бы от них узнал, как следует величать московского самодержца, для которого титул имел значение историческое и политическое: не обратился бы к нему Хмель, точно к татарскому хану: «Наяснейший, вельможный и преславный царь Московской, а нам многомилостивый государь и добродей». Молчание царя раздражало его до такой степени, что, перехватывая письма к пограничным воеводам царским из Украины, он перешел к Наливаевской крайности: от 29 июля написал к ним: «за вашу измену Бог вас погубит», и подписался, по адресу православного царя, Божиею милостию.
В Москве, между тем, не могли смотреть на казаков-днепровцев иначе, как смотрели на них пограничные воеводы, из которых один доносил о них царю, от 7 июня, как о «новых безбожниках, которые на кровь христианскую саблю татарскую спровадили». Что касается призвания царя на польский престол, то эта мысль, как мы видели, давно существовала в шляхетских умах, и занимала их теперь весьма серьезно. Не все в Речи Посполитой вооружались против Оссолинского за его стремление превратить Польшу в абсолютную монархию: преступный, по мнению одних, замысел был, по мнению других, намерением благим. Это показывали самые толки о нем новгородсеверских урядников, Понентовского и Красовского, о которых была речь выше. Надобно думать, что польские баниты-инфамисты, составлявшие издавна кадры запорожской вольницы, жаждали перемены правления, которая бы вернула им почетное положение и освободила от казацкой гегемонии. Хмельницкий чуял, к чему клонятся события, и поневоле должен был идти за их течением. Оно привело его и под Замостье.
Теперь сила его над панами возросла до ужасающей степени, и если бы то, что писал он к «наяснейшсму, вельможному и преславному царю московскому» выражало его искреннее желание, то никогда не было более удобного момента для осуществления этого желания. Еще недавно, именно от 29 русского июля писал он к хотмыжскому воеводе, Семену Болховскому, благодарственное письмо, за то, что Москва помогать ляхам не хочет, подзадоривал православных москвичей известием, будто бы ляхи «попов и духовных наших на колье сажают», и выражал желание, «чтобы в таком времени православный царь о том панстве (т. е. государстве) Польском могл постаратися»... «Великий русский патриот» киевских мечтателей мог бы теперь заставить панов предложить польскую корону Алексею Михайловичу, как ополяченные Жовковские заставили бояр предложить Мономахову шапку Владиславу Жигимонтовичу, — и русское воссоединение совершилось бы без кровопролитного одоления противников его, Выговских, Юриев Хмельницких, Бруховецких, Дорошенков, Мазеп... Но кровавый идол казакоманов до конца не знал, что делает и что ему надобно делать, чтобы выбраться из омута вероломства, торжественных присяг и всяческих предательств. Его несла кипучая волна событий, и он вечно боялся, как бы она его не захлеснула. Доказательством служит, между прочим, и его пристрастие к ворожбам и ворожеям, которое управляло им во время осады Львова и во время стоянья под Замостьем.
Хмельницкий принадлежал к людям интеллигентным; но иезуитское воспитание на том и стояло, чтобы взнуздывать самые бойкие умы и сохранять над ними так или иначе власть. В случайной встрече казацкого бунтовщика с ксендзом Мокрским, по всей вероятности, скрывалась разгадка вопроса: что подавило и затмило ум его насчет царя, к которому могущественные события привели таки его наконец, через шесть лет резни, пожогов и всевозможных злодейств.
Много ли, или мало было у него таких знакомых, как Мокрский, только он возжелал теперь содействовать избранию на польский престол экс-иезуита и экс-кардинала, королевича Яна Казимира, которого, по разведкам царских людей, в начале казацкой войны желала выбрать одна Корона, а Литва и казаки не желали. Именно трубчевский воевода, Нащокин, доносил царю, от 8 июня, о словах почепского шляхтича, пана Яна Станкевича: «потому де у нас, лехов с черкасы война, что де Коруна Полская хочат на королевства королевича Казимера, а повет де Литовской с черкасы — на королевства королевича Казимера не хотят».
Для предварительных переговоров с будущим королем, Хмельницкий послал в Варшаву того же Мокрского. Ему вручил он и примирительное послание к сеймовым панам. В этом послании он уверял панов, что всему злу виною Александр Конецпольский да князь Вишневецкий. Один де был виновен тем, что всячески тиранил казаков и едва не запрягал в ярмо (о чем, однакож, не было сказано ни в кратком, ни в пространном реестре казацких обид), а другой тем, что нападал на них с войском своим, когда они, по разгроме коронных гетманов, хотели вернуться на обычное место свое, на Запорожье, и позволял себе мучить попадавших в его руки казаков и духовных людей самыми страшными муками. Хмельницкий плакался на свирепого князя, точно как будто казаки вели войну с одними жолнерами, табор против табора, как будто они не вторгались в дома мирных помещиков, не избивали одним и тем же махом прадедов и правнуков, не наполняли замков побитыми женщинами да детьми, не насиловали жен и дочерей в виду мужей и отцов, не дарили алых лент обесчещенным девицам и не совершали над храмами и их усыпальницами всяческого поругания, какое только могли придумать их сатанинские умы. Казак Тамерлан, издеваясь над бедствиями шляхетского народа, придавал его защитникам зверские черты народа казацкого.
Он по-прежнему свидетельствовался всемогущим Богом, что только крайняя беда и порабощение заставили казаков так оскорбить маестат Божий и их милостей вельможных панов; по-прежнему жаловался на грабительство Конецпольского и на наступление Вишневецкого. Казаки де уже было и вернулись на Запорожье, но князь Вишневецкий, по совету ли некоторых панов (стоявших за Вишневецкого на сейме), или собственным упорством, наступил на них с войсками своими; казаков и духовных они грабили, мучили, сажали на кол, буравом глаза пробуравливали (этого в обширной панской переписке, весьма прямодушной и даже враждебной Вишневецкому, нет) и иные неслыханные мучения делали. «Видя, что уже и за душами нашими гонятся» (писал Хмельницкий), «мы были принуждены двинуться (опять) и давать отпор нашим наступателям, и это потому, что тут нас успокаивают ласковыми письмами от их милостей панов комиссаров, посланных Речью Посполитою, а тут, сговорясь между собой, с войсками на нас наступают. Поэтому шли мы по следам князя Вишневецкого под Замостье, имея верные известия, что князь его милость Вишневецкий опять собирает войска, чтобы с нами воевать. Эти два пана были всему злу причиною. Они своею жадностью и завзятостью едва не в ничто обратили землю. Ведь и князь Вишневецкий за Днепром был точно как за пазухой у нас, а мы его выпустили живым, помня о давнишней приязни... Просим отпустить нам невольный грех» (напевал Хмельницкий с голоса Адама Киселя), «а этих панов, которые тому причиною, покрыть хулою (aby tym Panom... zganiono bylo).
Если же не будет нам помилования, и вы начнете против нас воевать, то мы это поймем так, что вы нас не желаете иметь своими слугами, и это было бы нам весьма горестно».
Хмельницкий, очевидно, домогался опалы Вишневецкому: только под этим условием готов был он пощадить панов, и в тоже время грозил московским подданством.
Сын князя Вишневецкого, Михаил, царствовал в Польше после Яна Казимира.
Вместо Яна Казимира, паны могли бы сделать королем Князя Иеремию, и тогда Хмельницкий достиг бы только того, чего достигли Наливайко, Сулима и Павлюк.
Никто не знал этого лучше его самого, и потому-то он заставлял безголовых панов приписывать их несчастья человеку, который один был способен взять их в крепкие руки и спасти политическую свободу шляхетского народа наперекор свободе личной, которою так несвоевременно величались паны.
Казацкий идеал общественности не возвышался над сочиненною нашими предками-варварами пословицей: «колиб хліб та одежа, то їв би козак лежа»; и Хмельницкий знал, что размножение казачества, праздно живущего продуктами чужого труда, вызовет новую войну с панами. Ему было необходимо, с одной стороны, обеспечить себе уступчивость короля, а с другой — разлучить его с теми людьми, которые были способны одушевить шляхетское общество боевым энтузиазмом. Во всяком случае, Польша была сподручнее Москвы для казацких каверз, — и он предпочел ослабление Польши бунтами усилению Москвы верноподданством. Сам ли он сочинил такой план действий, или же был им обязан интригану Выговскому, только в этом плане была начертана погибель Речи Посполитой — и как независимого государства, и как хозяйственного общества. Голодный и беспощадный гений Диких Полей, вдохновенный поэзией кипчакской орды, воплотился в орду казацкую, чтобы пустынное Посулье и Поросье, вместе с Запорожскою Тмутороканью, распространить до самой Вислы. Вся великая работа колонизации Батыевских кочевьев, запечатанная кровавыми жертвами и геройскими подвигами, вся многолетняя заслуга перед человечеством польско-русских рыцарей и вместе хозяев — долженствовали исчезнуть от «казацкого духа», опустошительного, как смертоносный самум-гаррур.
По общему мнению правительствующих панов, только новый король был способен отвести грозу казацкого бунта. Кисель внушал им, что казаки маестат Речи Посполитой ставят ни во что, и признают одну власть — королевскую. «Поэтому-то» (говорил доматорский оракул) «Хмельницкий не пишется иначе, как гетманом Войска его королевской милости Запорожского, невзирая, что Речь Посполитая титуловала его просто гетманом войска Запорожского. Король у казаков есть нечто божественное. Именем короля начался казацкий бунт, именем короля он и утихнет».
Слова Киселя были водою, падавшею на колеса Хмельницкого. Паны приступили немедленно к избранию и избрали не московского царя, который сохранил бы от гибели миллионы человеческих жизней, — избрали не отца будущего короля, который спас бы им миллиарды червонцев, заслуженные предками, — нет, они, вместо защитников их жизни, их имущества и чести, избрали такого государя, какой был нужен казаку Тамерлану.
Глава XVIII. Воспитание и характер короля, избранного по указанию казацкого гетмана. — Монах-расстрига на польском престоле. — Избирательный сейм.
Ян Казимир родился в 1609 году. В это время все добра князей Острожских перешли уже в католические руки. Младший сын Князя Василия, Константин, умер, в католическом самоистязании после распутной жизни, в 1600 году; средний, Александр, носивший только для виду «образ русского благочестия в 1603 году; а сам Князь Василий — в 1608-м. Наследникам «Острожчины», составлявшей, можно сказать, государство в государстве панов сравнительно с Острожскими мелкопоместных, сделался князь Януш Острожский, первородный сын Князя Василия, «католик с колыбели», крещенный и воспитанный знаменитым иезуитом, Петром Скаргою.
Это было важным для Римской Курии завоеванием. Но она имела тогда в виду несравненно больше: была надежда присоединить к Польше Московское царство, как некогда было присоединено Великое Княжество Литовское. Сигизмунд, по выражению малорусской летописи, «яровитый католик, который бы не попозорился привести под папу целый свет», повел в московские пределы 29.000 войска, чтобы воссесть на престоле великих собирателей Русской земли, и это дело казалось полякам возможным.
Вот при каких обстоятельствах родился будущий король, которому было суждено, получив корону из кровавых рук атамана запорожской вольницы, бороться во главе шляхетского народа с теми классами населения Польши, которые не принадлежали к государственным сословиям!
Иезуиты занялись воспитанием Яна Казимира, на всякий случай, весьма старательно. Слабое здоровье королевича не позволяло им вооружать его ум научными знаниями. Они работали почти исключительно над религиозностью бедного мальчика, так что в юном возрасте он уже обнаруживал «искусство в богословских тонкостях». О Сигизмунде III говорили, что он был иезуитским терциалом, то есть принадлежал к ордену, которого целью было истребление еретиков. Действительно, в его царствование иезуиты были в Польше силою, овладевшею не только должностями, но и всеми общественными делами, а королевские проповедники и духовники часто давали направление важнейшим государственным интересам. Видя всеобщее к ним почтение, малолетний королевич смотрел на них с богомольным благоговением, как на пророков.
Ян Казимир до такой степени был подавлен господствовавшею при королевском дворе святостью, что, будучи 23-летним юношею, не имел права беседовать с кем бы то ни было без свидетелей, а людей сторонних не допускали к нему вовсе, — и, однакож, в науке пользованья запретным плодом отнюдь не остался профаном. Сделавшись наконец господином своей воли, по смерти родителей, продолжал он вести праздную жизнь, на которую была осуждена юность его. Природа, наследованная им от беспокойных Норманнов Ваз, находила удовлетворение только в том, что ее возбуждало. Притворная и мертвенная святость осталась ни при чем: она у Яна Казимира сделалась только ширмами для всего скандального, как это водилось в иезуитской Польше сплошь да рядом.
Поляки, выплясывая под иезуитскую дудку перед Европой пляску политического величия и религиозного героизма, делали из Яна Казимира воина и патриота; но теперь, изучив закулисную сторону былого, выработали такое мнение о своем короле, возведенном на престол коварным казаком:
«Слабый умом и ленивый от природы, он, после целых месяцев бездействия и удаления от людей, посвящал недели на религиозные упражнения (cwiczenia religijne) в виде деятельности, и становился ко всему равнодушен, что занимало его в праздности, а потом делал такой шаг, которого никто бы от него не ожидал. Он был способен рисковать жизнью, короною, родом своим и даже верою, когда они ему надоедали».
Маленького роста, тщедушный и хилый, лицом Ян Казимир был безобразен. Нижняя челюсть выдавалась у него грубо вперед; губы неприятно были вздуты, цвет лица — смуглый, а следы оспы еще больше делали его безобразным. Но иезуиты научили своего питомца тому, что, под испанским названием grandezza, считалось важнее всего важного в человеке сановитом. Он строил царственную мину и, если хотел, то держал себя с театральным достоинством.
Поляков ненавидел Ян Казимир открыто, и этим — замечу мимоходом — свидетельствовал, что в их природе было много хорошего; вел себя надменно, точно какой-нибудь Вильгельм Завоеватель, проводил время с иностранцами и, по одежде, сам казался иностранцем.
Для того, чтобы поляки, не извращенные до конца иезуитством, отвечали своему королевичу ненавистью и презрением, было достаточно одного: Ян Казимир по целым дням забавлялся карликами, собаками, обезьянами и птицами, а потом предавался грубому разврату, но при этом всегда возил с собой пять-шесть иезуитов, а в передней у него ежедневно служили мессу, которой сам он никогда не слушал.
Все это рассказывает об избраннике нашего Хмеля современная нам польская историография.
Еще больше должен был внушить презрения людям достойным королевич, когда, арестованный во Франции, как испанский шпион, выдал правительству особу, которая пыталась освободить его из заключения, и написал к местному губернатору, что, в награду за это, ожидает смягчения тюремных строгостей, а потом, будучи на свободе, дозволил выпустить в свет книгу о своем аресте и тюремной жизни с пропечатанием в ней позорного письма к губернатору [75].
Почти двухлетнее пребывание в заточении и расстроенные финансы привели Яна Казимира к мысли о вступлении в орден иезуитов. Возненавидев поляков еще больше за их ненависть и скупость к нему, отправился он в Рим и сделался иезуитским послушником, отвергая все почести, с которыми принимали его в монастырь, валяясь в ногах у настоятеля и делая из себя в Риме всевозможные выставки религиозного уничижения.
Иезуиты торжествовали, что «принц, насчитывавший в своем роду более 50 королей, родственник первенствующих в христианстве монархов, родной брат могущественного польского короля, предполагаемый наследник двух корон, — что такой принц, во цвете лет, оставляет смело все радости и великости земные, чтобы обеспечить за собой царство небесное»; а смиренный послушник писал в Польшу, что «избранную им жизнь можно сравнить только с райскою, и ничто в свете, никакие багряницы и короны не в силах отвлечь его от этого предприятия».
Владислав IV принимал всевозможные меры, чтобы возвратить брата в мир. Иезуитский послушник отвечал ему, что «если бы он сделал такой недостойный шаг», то на всем их роду «тяготело бы позорное пятно», и по всему свету говорили бы, что «нашелся в их королевском родстве такой, на которого можно указывать пальцем и насмехаться итальянскою поговоркою беглый монах, расстрига (fratre frattato)».
Но монастырская комедия кончилась освобождением Яна Казимира из монастыря посредством выпрошенной им у папы кардинальской шляпы, а звание кардинала сложил он с себя для тайного искания себе невесты у тех дворов, которые давали больше приданого.
Несмотря на то, что, по польскому обычаю, его считали первым кандидатом на престол бездетного брата, с ним обходились в Польше крайне презрительно, как за то, что я представил здесь со слов самих поляков, для освещения лиц и событий истинным светом, так и за многое другое, о чем нет надобности распространяться. Но примирило с ним панов такое обстоятельство, которое не делает чести ни им самим, ни их избраннику.
Еще во время сиденья Яна Казимира во французской тюрьме, придворные Людовика XIII навязывали ему в невесты принцессу Марию Гонзага. Неизвестно, что в будущей супруге Владислава IV оттолкнуло королевича до такой степени, что он предпочел остаться узником в дымной и холодной камере, под грубым присмотром тюремщиков. Теперь правители Польши сообразили, что содержать разом двух королев было бы для них накладно, а Ян Казимир увидел, что дорога к престолу лежит ему только через спальню вдовы брата, — и постыдная для обеих сторон сделка состоялась.
Но несравненно больший стыд и срам покрыл олигархическую республику в том отношении, что на её весы, при взвешивании, быть или не быть иезуиту расстриге королем, бросил свой меч, вернее сказать — свой разбойничий нож, предводитель казако-татарской орды, и перевесил все мнения до такой степени в пользу расстриги, что литовский канцлер записал в своем дневнике: «По всеобщем одобрении, было принято избрание, и мы единым голосом и единым сердцем коленопреклоненно воспели Te Deum»; а сеймовой дневник, на память потомству, изобразил такое зрелище: «...Его милость ксендз примас, обнажив голову (detecto capite), что и все сделали, произнес: Согласно свободным голосам (liberis suffragiis) ваших милостей, я именую избранного короля Яна Казимира, да царствует многолетнейше и счастливейше (ut diutissime et felicissime vivat). После слова vivat все с невыразимою радостью кричали с полчаса или более vivat! vivat! vivat! В ответ на это грянули пушки, грянула армата выстроенных в поле войск.
Радостные восклицания прошибали небо. Между тем, по старинному обычаю, преклонив колени на снегу, с открытыми головами, пели: Тебе Бога хвалим. (Interim more antiquo ukleknawszy na sniegu, detectis capitibus Te Deum landamus spewali)».
Эта было возмездие русских судеб за того бродягу, называемого в свое время беглым расстригою монахом, которого польские паны признали истинным царевичем и довели Москву до постыдного хваления за него Бога «коленопреклоненно единым голосом и единым сердцем». В настоящем положении дел, факт избрания королем человека, в сравнении с которым даже московский Лжедмитрий был не совсем негодяем, — этот поразительный факт, подобно поднятому над Польшей факелу, вдруг осветил множество подлых лиц, которые, в полумраке истории, казались лицами честных людей.
Хмельницкий хвалился, что, если бы паны выбрали другого короля, тогда бы он пошел на Краков и дал бы корону тому, кому захотел. Первым его приветствием новоизбранному государю было адресованное еще к «шведскому королю» (как титуловали Яна Казимира) письмо, в котором он предлагал себя ему к услугам, если бы какой сторонний королек вздумал «спихнуть его с престола», а к письму была приложена просьба к сенаторам о помиловании и примирении; если бы же паны не пожелали мира, то Хмель объявлял, что будет искать его в Варшаве, в Кракове, в Познани, а, пожалуй, и в Данциге: просьба, напоминающая легендарного гайдамаку, который убивал одного попа после другого, за то что они не находили покуты на его страшные грехи.
Новый король прежде всего послал Хмельницкому так называемое повеление, а в сущности молящую просьбу — возвратиться в Украину.
Хмельницкий повиновался королевскому повелению безотлагательно. Не против короля, а посредством короля, желал он воевать, зная, что чем больше казаки станут поддерживать королевскую власть, тем невозвратнее разделится на ся панское государство, сложившееся в силу борьбы олигархического многоначалия — с одной стороны — с монархическим единоначалием, а с другой — с охлократическим безначалием.
Казацкие вожаки шляхтичи — и всех больше Хмельницкий — не без пользы для себя провели время в иезуитских школах и в том обществе, которое предоставило иезуитам заботу о народном просвещении. Иезуиты заставляли русских людей из развалин православной Руси созидать могущества католической Польши.
Оказачившиеся питомцы иезуитов заставляли природных и деланных поляков разрушать католическую Польшу, как бы в отместку за её подкопы под православную Русь. Видя, что паны как нельзя больше способствуют их замыслу, казаки в деле крушения, составлявшем их специальность, взяли на себя только самую дешевую роль, которую кобзари их выразили в следующих словах:
Гей, друзі молодці, Браття козаки запорозці! Добре дбайте, барзо гадайте, Із ляхами пиво варити зачинайте: Ляцький солод, козацька вода, Ляцькі дрова, козацькі труда.На королевское повеление Хмельницкий отвечал заискивающим и ласкательным письмом, — стлал мягко, чтобы панам было спать жестко. В ответ на это письмо, немедленно был отправлен по следам удаляющегося Тамерлана любезный ему ксендз Мокрский с благодарственным письмом, в котором царственность нового короля играла такую же несоответственную роль, как в письме удаляющегося Тамерлана — верноподданство. Ян Казимир обещал insignia, следующие Запорожскому войску, то есть булаву и знамя, на подтверждение старшинства, прислать вскоре, по примеру своих предшественников, не кому иному, а ему (Хмельницкому), точно как будто мог и смел наименовать казацким гетманом кого-нибудь другого. Все кровавое и ужасное в поступках Запорожского войска король обещал прикрыть милосердием своего маестата и принять Запорожское войско под непосредственную свою и Речи Посполитой власть, чтоб оно не имело над собой много панов. Относительно просьбы Хмельницкого об унии король давал обещание удовлетворить казаков надлежащими средствами (slusznemi srodkami), для чего в свое время пришлет комиссаров на известное место. От Хмельницкого требовал он, точно от кого путного, чтоб он отпустил татар, усмирил чернь и ожидал в Украине королевских комиссаров.
Эта транзакция побежденных с победителем дошла до царского гонца, Кунакова, в таком виде, что король послал Хмельницкому булаву и знамя без ведома Речи Посполитой, «и за то де паны рада и вся Речь Посполитая на короля приходили (с) шумом и говорили королю: им де от Богдана Хмельницкого и от Кривоноса и от черкас разоренье и шкоды и крови розлитье многое, чего не бывало, как и Польское королевство почалось быть, а король де их (черкас) шанует, что приятелей своих, таких леберизантов».
Долетая, в свою очередь, до Хмельницкого, такая молва ласкала его ухо приятно. В ложном слухе, волновавшем Шляхетчину, высказывалась рознь, всеянная казацкими каверзами между тех, которые воспели Te Deum единым голосом и единым сердцем, под давлением победителей.
В качестве королевского слуги и единомышленника, Хмельницкий издал универсал к волынским дворянам, в котором увещевал их не замышлять ничего против греческой веры и против своих подданных, пропагандируя таким образом слух, что казаки воюют за угнетение православных, а жить с ними в согласии и содержать их в своей милости.
В переводе на язык действительности, это значило, чтобы пастухи ладили с волками, чтобы собственники были благосклонны к хищникам. Мог ли казакующий мужик мирно работать в пользу землевладельца и довольствоваться установленною долею своего производства после того, когда все панское добро принадлежало ему от Цыбульника и Тясмина до Вислы и Западного Буга? Мог ли землевладелец содержать в милости мужиков, которые, по донесению Кунакова, «у панских жон у беременных брюха распарывали и многое ругательство делали»? Между тем не только кровавое мщение, но даже взыскание за новые злодейства и неистовства, по затверженной формуле казацкого бунта, неизбежно долженствовало явиться, в устах городской и сельской голоты, ляшским наступлением на христианскую веру и панским свирепством над подданными. Хмельницкий знал, что с обеих сторон поднимутся новые вопли, и заблаговременно объявлял себя сторонником голоты. «А если, сохрани, Боже», (писал он) «кто-нибудь упрямый и злой задумает проливать христианскую кровь и мучить убогих людей, то, как скоро весть об этом дойдет до нас, — виновный нарушитель мира и спокойствия, восстановленного его королевскою милостью, доведет Речь Посполитую до погибели».
Увещательным универсалом к землевладельцам Хмельницкий давал оказаченной черни программу дальнейших действий. Она была изображена в этом универсале безвинно страдающею, а шляхта — фанатически свирепствующею. Война, в виде разбоя, прекратилась только там, где пановал один мужик среди немых остатков панских домов и хозяйственных построек. Гонимый низовым ветром, пожар дымился только там, где уже нечему было гореть. Но край, не претерпевший еще полной руины, продолжал пылать пламенем и обливаться кровью. Подобному тому как, во время бедственного шествия Адама Киселя, с оливковой ветвью мира к Хмельницкому, свирепый хитрец делал вид, будто бы даже не знает о готовности безгосударного королевства к миру, — теперь он сочинил новый акт бесовской комедии перед новопоставленным им же самим королем, его бессмысленным оправдателем. Повторив над Белоруссией Наливайщину, Хмельницкий жаловался на белорусских панов, что они своими жестокостями не дают ему успокоить православный народ, унять кровопролитие, примирить обоюдную вражду, и грозил Речи Посполитой «погибелью».
После Пинска, Кобрина, Бреста, Быхов, Попова Гора, Мозыр, Стародуб, Мглин пылали один за другим под дыханием низового днепровского ветра, который запорожцы, играя с человеческим сердцем зверски, называли тихим:
Ой із низу Дніпра тихий вітер віє-повіває, Військо козацьке запорозьке в поход виступає. Тілько Бог святий знає, Що Хмельницький думає-гадає.Тихий ветер в дикой поэзии кобзарей был эмблемою подкрадыванья волка к его добыче, или поджигателя к панскому добру. Не прекращающиеся пожары были вестниками новых пожаров, нового человекоистребления. В виду казацкого верноподданства, король не знал, на которую ногу ступить; но на которую бы ни ступил он, только погибель Речи Посполитой, заповеданная казацкнм гетманом, могла кончить казацкие счеты с панами.
Тем не менее Ян Казимир должен был делать, что называется bonne mine в игре, для которой годился менее каждого из своих руководителей, — и в инструкции на сеймики перед коронационным сеймом разнеслись по государству звонкие слова сочинителя инструкции, Оссолинского, — что всемогущий Бог делает королей наместниками своей власти; что новоизбранный король приписывает свое возвышение, во первых, деснице Najwyzszego Pana, а потом — свободным и единодушным голосам избирателей, которые де оценили, как благодеяния и заслуги его королевского дома, так и собственные его любовь отечеству, труды и отважные подвиги.
Под отважными подвигами разумелось участие в походе под Смоленск. Король Владислав сделал тогда вечно праздного брата командиром пехотного полка, навербованного за деньги Речи Посполитой. Этот полк ограбил по пути пинское староство князя Альбрехта Радивила, литовского канцлера. Радивил жаловался королю.
Король выразил сочувствие горю могущественного магната; но королевич обнаружил такую отвагу, что на жалобу Ридивила отвечал сурово: «Это сделано по моему приказанию». — «Итак мы, взаимно раздраженные, расстались», записал в своем дневнике Радивил.
Больше никаких отважных подвигов не совершил Ян Казимир во внешних и внутренних войнах Речи Посполитой. Но такова была беспомощность шляхетского народа в борьбе с народом казацким, что теперь литовский канцлер, тот же самый князь Альбрехт Станислав Радивил, писал в своем дневнике: «Явное дело, что Божественное Провидение, по своему милосердию, дало нам этого короля». И потом далее: «Ян Казимир искренно признался мне, что всю свою надежду (относительно престола) полагал в Боге и в предстательстве Matki Przenajswietszej, которой чудотворный образ в Червенске часто навещал он, отдавая под её опеку судьбы своего избрания и своей жизни».
Наставник покойного короля в присяге словом, но не намерением, понимал Божие милосердие вовсе не так, как понимает его малорусс: «роби, небоже, до й Бог поможе», — понимал без всякой связи помощи Божией с заслугою, или с покаянием, сопровожденным «плодом, достойным покаяния»: религиозность пагубная!... Потомок литво-русских князей и предводитель католической партии в Польше, Радивил отличался состраданием к людям бедствующим. В драгоценном для историка дневнике своем он много раз высказался в пользу чернорабочего и вообще убогого класса, терпевшего от панских жолнеров и от самих панов. Никто не отнесся к Пилявецкому бегству с большим прямодушием, как он. По его словам, стоявшее под Пилявцами войско могло бы взять самый Константинополь; а к полководцам этого войска он применял пословицу: «войско оленей под начальством льва лучше войска львов под начальством оленя», — «Над ними» (говорит он) «исполнилось слово, что один гнал тысячу, а два — десяток тысяч. Но здесь бежали ни от кого: ибо гордость, распутство, угнетение и мучение убогих людей, вот те, которые нападали на них»! По его мнению, только милость Божия сохранила шляхетский народ от гибели, приудержав неприятеля. Он обвинял пилявецких беглецов не только в бессмысленной роскоши, но и в том, что они предавались всякого рода разврату, служа Венере и Бахусу, — обвинял не только в крайней беззаботности относительно добывания вестей, но и в том, что, замышляя бегство, таились перед войском со своими сборами. Наконец, в полном собрании сейма он объявил, что оставленные панами в казацких руках возы «были нагружены имуществом хлопским, а потому хлопам и достали». Тем не менее соглашался он с войсковыми послами, что и громадные войска, за свои грехи, подвергаются рассеянию: ибо Господь мешает советы их; но что не надобно терять надежды: покарав один раз (за грехи), в другой раз он подает милосердую руку помощи (за что, — не сказано).
В этой клерикальной доктрине, диаметрально противоположной русскому «на Бога надейся, а сам не плошай», таится неотвратимая причина падения польского общества, а с ним — и государства. «Убогие люди» могли плакать себе и «прошибать воплями небо» по-старому; по-старому панские жолнеры, с разрешения таких вождей, каким был Ян Казимир, могли опустошать родной край неприятельски; по-старому поклонники богатства и наследственной знатности, вроде Киселя, могли избирать оленей в предводители львам, а эти львы — предаваться, в виду неприятеля, Венере да Бахусу вместо служения Марсу... В таком положении дел пускай только «Иезусовы брацишки» да «особенные коханки Найсветшей Паны» непрестанным хвалением Бога во Святой Троице призовут на грешников Его милосердие, и всеблагий Господь, покарав грешников один раз, в другой раз тем же неисправимым грешникам подаст милосердно руку помощи.
Проникнутый насквозь такою доктриною, потомок литво-русских православных князей видел причину общих бедствий не в чем ином, как в разноверии края, подобно многим таким же набожным, таким же добрым и сострадательным людям. Он забывал, что край русских предков его был когда-то единоверный и единоплеменный, но в него обманом и насилием вошла чужая вера с чужой национальностью и назвала веру аборигенов схизмою, а поэтическую национальность — хлопством. Он забывал и не хотел знать, что, восставая против религиозных воззрений пришельцев, многое множество передовых русских людей искали света истины в немецком вероучении и пали с его мнимых высот в омут католичества, увеличивая собою массу прямых отступников древнего русского благочестия. Он смотрел клерикально на то, что и для поколебленных, но остававшихся еще при своей предковской вере, была изобретена ловушка в виде якобы спасительной унии.
Игнорируя в уме своем и в совести причины разноверия, государственный человек и своего рода мудрец горевал всей душой о его последствиях. В качестве ренегата предковщины своей, он смотрел на тех, которые оставались единоверцами предков своих, как на каких-то пришельцев, смешивал их интересы с кровавыми интересами людей, совершавших свои злодейства под знаменем веры, и терял голову от того, что в собственном роду его, в роду князей Радивилов, являлись такие же враги панов-католиков под знаменем протестантов, какими были казаки под знаменем православников. На одном и том же листке дневника своего он описывает неприятельские действия иноверных земляков своих, белорусских протестантов, и тут же изображает других земляков-иноверцев, украинских православников. Этот листок его дневника кратким своим рассказом проливает свет на всю историю римской политики, воспринятой Польшею.
«25 (15) ноября» (пишет Радивил) «выехал я из Варшавы в мое Гвевское староство. Наше литовское войско отвоевало у казаков, после 14-дневной борьбы, Пинск. Оно наделало много вреда и опустошения в старостве, под начальством своего потаковника-еретика, региментаря Мирского. Сожжены там иезуитский костел с коллегиумом и костел Св. Франциска; перебито 14.000 молодых и старых людей, лупы взяты великие. Но жолнерская вольница не удовлетворилась и этим: она стояла 10 недель в пинском местечке Мотоле и угнетала подданных по-неприятельски, не щадя ни людей, ни имущества; даже забирала женщин в неволю. Нельзя выразить, как обогатился жолнер, ограбив город и повет. А между тем (литовский) гетман лежал в Бресте, неизвестно чем хворая, и хоть я просил вывести оттуда войско, но ничего не выпросил; напротив, он расквартировал его и держал две недели в другом местечке, называющемся Нобель. Там бедные подданные страшно угнетены, а мой внук (литовский гетман) отписал мне, подшучивая надо мною, что жолнеру надобно зимой погреть руки, а на другое мое письмо не отвечал вовсе. Итак я, за мои грехи, и от казаков и от моего родного потерпел великую шкоду».
Вслед за тем добродетельный питомец иезуитов рассказывает как нельзя серьезнее, что, тому назад несколько лет, в Галицком Ярославле десятилетний ребенок необычайной набожности, умирая после причастия, произнес вдохновенный ему свыше латинский стих:
Quadragesimus octavus mirabilis annus [76],которым де предсказал неслыханное опустошение русско-польских провинций, причем (пишет Радивил) из Бреста литовского одному доминиканцу казаки вытянули язык сквозь затылок. «Словом» (продолжает он), «они были так жестокосерды, что попадавшие в их руки предпочитали быть отданными татарам, которые угнали в неволю множество народа. У одного меня взято 1.200 душ, а по другим местам погибло или уведено в рабство с миллион и больше людей».
Несовместимость противоположных вер под неуклонным римским режимом породила в том же русском обществе и забитых с младенчества католиков, и разнузданных до отрицания всех догматов христианства протестантов. Подобно тому, как в Белоруссии сетовал на земляков протестантов окатоличенный Радивил, в земле Киевской покрывал хулою земляков-ариан окатоличенный Тишкович, мужественный и добродетельный по-своему киевский воевода. Этот, как и литовский канцлер, игнорировал гибельные последствия римского апостольства на Руси, и среди сеймового собрания вычитывал киевскому подкоморию Немиричу, что Господь карает панскую республику за арианство, «осквернившее нашу землю до крайности».
Так вообще были несостоятельны в своих суждениях о том, что было, что есть и что неминуемо должно последовать, представители государства, которому казаки, в своих татарских инстинктах, завзялись причинить такое разорение, какое шляхта, с их участием, причинила Государству Московскому. Чтобы русский читатель пригляделся к ним поближе и понял яснее, с кем запорожские буй-туры имели дело, я возвращусь на избирательный сейм и представлю характеристические черты его по польским документам.
Когда любезный и вместе отвратительный для нас, честный по природе и подлый по воспитанию литовский канцлер ехал в Варшаву на избирательный сейм, его «проняло ужасом», как и всех варшавян, весть о Пилявецком бегстве. Ужас этот был тем сильнее, что он, как и вся свободолюбивая шляхетская братия, совершив над Владиславом IV в известном смысле цареубийство, вовсе не сознавали, что они сделали, и не были приготовлены к последовавшим от того Желтоводской, Корсунской и Пилявецкой катастрофам.
Маршалом Посольской Избы избран был теперь земляк наш Обухович, мозырский войский, о котором князь Радивил пишет, что это был муж великого ума и дивного дара слова, чего не написал он в своем дневнике про демагога Станкевича. Еслиб Обухович руководил земскими послами в роковые для Польши сеймы 1646 и 1647 годов, он мог бы сохранить за Владиславом королевское достоинство, и спасти панскую республику от политического разложения. Тогда бы ни иноверцы протестанты, ни иноверцы православные не губили народонаселения Польши десятками и сотнями тысяч, а имя ляхов и поляков, которое наши предки усвоили себе в лице панов и шляхты, не сделалось бы кличем ко всевозможному бесчеловечию.
Плохой король отстранил бы казако-татарское нашествие лучше всех земских послов и сенаторов.
Избирательный сейм, знаменитый не меньше цареубийственного, открылся 6 октября (27 сентября) 1648 года, в то время, когда Хмельницкий жарил в огне, душил в дыму и топил в крови уцелевший от Батыевского Лихолетья город нашего князя Льва.
Болеслав Лещинский, носивший титул великопольского генерала [77], в пышной речи припомнил цветущие времена древнего Рима, и признал превосходство над ним государства Польского. По особенной милости Божией (говорил оратор избранного народа) «Польше преимущественно перед всеми народами дана та привилегия, что цари царствуют здесь по нашей воле (per nos reges regnant)... Польша избирает себе государя беспримерно: в ней столько избирателей, сколько шляхты, столько суффрагий, сколько свободных голосов», и т. д.
Первым заявлением сеймиков было, чтобы военные люди, состоящие на службе Речи Посполитой, не участвовали в избрании; вторым — чтобы казнить смертью полководцев, если бы оказалось, что они были причиною Пилявецкого бегства. Это последнее заявление, повторенное в 4-м заседании, сопровождалось криком владычествующего народа (e dominantibus populus): «Не станем их выслушивать! Надобно было не уходить! Не слушать их, а судить, как дезертиров (jako desertores castrorum)»!
Коронный референдарий требовал, чтобы «панские полки» не стояли близ «конгресса», в избежание замешательств, и чтобы сеймовые паны в составе своей пехоты и конницы не держали «руссаков-вероломцев». Один из земских послов советовал, чтобы подскарбии тотчас отобрали у иностранцев и не шляхтичей, как духовные, так светские добра, и чтобы тотчас карали тех, которые были причиною казацкой войны. Литовский канцлер отвечал, что духовных имуществ нельзя отбирать, не подвергаясь экскоммуникации, а надлежало бы искать судом; о двигателях же казацкой войны надобно было бы сделать инквизицию, а потом экзекуцию.
В 4-м заседании (9 октября), один из сенаторов, участвовавших в Пилявецком походе, предложил «как средство к спасению отечества», утвердить князя Вишневецкого в звании гетмана, потому что его любят жолнеры (do ktorego zolnierz ma wielkie serce). Но владычествующему народу «не нравилось, что жолнеры избрали себе вождя»: он боялся диктатуры до такой степени, что даже на одну речь Киселя смотрел, как на голос повелительный и диктаторский (vocem imperiosam et dictatoriam). Тем не менее подканцлер Лещинский, в 5 заседании (10 октября) предложил избрать главнокомандующим князя Вишневецкого, но не в виде утверждения (non per approbationem), а в виде просьбы к нему, и к этому прибавил, что, так как он утратил почти все, то надобно ему помочь (ratowac go potrzeba). В том же заседании и мазовецкий воевода, Станислав Варшицкий, советовал вверить войско тем, которые счастливо служили доселе, именно воеводе русскому, князю Вишневецкому, и воеводе киевскому, Тишковичу. Но правительствующая шляхта — выражусь по-малорусски — якось не дочувала.
К чести сеймовых панов надо сказать, что между ними было много таких, которьте ценили таланты князя Вишневецкого и требовали, чтобы хоругви коронного ополчения стягивались к нему. Куявский бискуп, громоносный Гневош, сделался теперь почитателем покойного короля: на том основании, что Владислав с большими похвалами о воинских достоинствах белзского каштеляна, Андрея Фирлея, он советовал сделать его товарищем Вишневецкого по гетманству.
Но тут выступил на сцену единоверец наш, Адам Кисель, и запел усыпительную песню свою, как будто для того, чтобы Хмельницкий подкрался к безголовым панам под самый бок с ножом, а Вишневецкий, вместо решительной победы над разбойником, только дразнил его до бешенства. Не смутясь колкостями, которыми встретили его на сейме за бегство из-под Пилявцев, Кисель сделал себя почти героем дня своими уверениями, что бежал с полком своим последний. Тут начал он пугать панов страшною силою Хмельницкого, в его соединении с татарами. «Ни один монарх на свете не может устоять против него» (говорил Свентольдич). «Мы потеряли все, он приобрел все (Mysmy odpadli od wszystkiego, on przyszedl do wszystkiego). Когда выстрелит сотня наших немцев, они убьют одного. Когда выстрелит сотня казаков, они наверное попадут в 50 человек. Огнистый народ! Численность его велика: нам с ним не совладать. Легче было совладать, пока не повторилась победа. Теперь на наши силы нет больше надежды. Это такой тиран, которого надобно или терпеть, или прогнать, или умолить» (три тезиса, напоминающие гибельный совет панского Нестора и Улисса под Пилявцами). Приправляя польскую речь макаронизмами, которые ввели в моду среди поляков иезуиты, Кисель формулировал свои новые тезисы так: «Kazdy prawie tyran aut est implicite tollendus aut tolerandus; aut expugnandus, aut placandus». «Терпеть» (продолжал он), «это дело невыносимое и для Речи Посполитой постыдное. Чтобы прогнать неприятеля, на это нет сил у нас. А умилостивить его можно вот каким образом. Надобно как можно поскорее выбрать такого человека, который бы разведал: почему первая комиссия была недействительна? А тут казаки познают короля, которого всё-же боятся они, тогда как Речь Посполитую презирают и ставят ни во что.
Благоволите, господа, ведать, что для этих мужиков маестат Республики (majestat Reipublicae) не существует. А що воно Рич Посполита? говорят они. Мы и сами Рич Посполита, але король, ото в нас пан»!
Варшавский каштелян, человек, очевидно, умный, но по имени нам неизвестный, внушал несчастным сеймовикам, что Киселя скорее можно назвать шпионом Хмельницкого, нежели защитником отечества.
И в самом деле, без этого русина, которого справедливо считали орудием кары Господней, как и самого Хмельницкого, у поляков оказалось еще столько здравого смысла, чтобы в инструкции перед коронационным сеймом поставить себе три спасительные пункта: 1) уплатить жолнеру заслуженный жолд; 2) разлучить язычников с бунтовщиками; 3) заключить с Москвой оборонительный союз.
Но «человек, посредством которого покарал их Pan Bog», сделал эти меры не действительными заблаговременно. Литовский канцлер говорит, что Кисель ненавидел князя Вишневецкого. Он и должен был ненавидеть воина и патриота, в глазах которого его таланты были глупостью, его миротворные подвиги — трусливостью; а ненавидя, он всячески противодействовал фельдмаршальству того, кто его любовь к отечеству лишил бы вожделенного памятника. Гетманская булава очутилась на время в руках, её достойных, только тогда, когда Кисель, в своем, как он жаловался, «калечестве» (то есть подагре) бежал (по его словам), не зная куда, потерявши все свои худобы (владения) и не имея нигде угла, а в обозе лишась и последнего имущества. Теперь ему надобно было так или иначе «вырвать у Геркулеса палицу», — и Кисель, вопреки античной пословице, совершил этот подвиг, приспешив избрание короля и затормозив избрание гетмана. Неспособный же к своему делу король помог бессмысленному миротворцу, и доказал, как демонски умен был губитель шляхетского народа, бросая на сеймовые весы свой меч в пользу его избрания.
В 6 заседании (12 октября) опять был поднят вопрос о том, как собрать рассеянное войско, как создать артиллерию. По мнению некоторых, всего лучше было бы вверить это дело князю Вишневецкому, «чтоб орудовала всем одна голова». Но другие заняли внимание законодателей более важным для них предметом, чтобы не осуждали князя Заславского, не выслушав дела (zeby go nie kondemnowano inaudita causa).
Для спасения отечества, сеймующие паны делали разные пожертвования, кто деньгами, кто вооруженными людьми. Канцлер Оссолинский проповедовал весьма разумно, что кто желает подавать полезные советы в Республике (kto chce salubre dac consilia in Republica), тому необходимо знать настоящее положение Республики и положение неприятеля. После того исчислил он опаснейшие случаи в прошедшем и указал на 1621 год, когда, после Цецорской катастрофы, краковский воевода, Ян Тепчинский, пособил общей беде. Так и теперь советовал Оссолинский послать кого-нибудь из боевой шляхты с каким-нибудь полком для разведок о положении неприятеля. В состав полка предлагал он собственную ассистенцию в числе 600 жолнеров. «Но это были только слова» (заметил грустно в своем дневнике князь Радивил): «ничто не было приведено в исполнение».
Все надежды лучших людей (которых печальный удел составляет их всегдашнее меньшинство), людей, возбуждавших самодеятельность в обществе, на место малодушных упований да ожиданий, — все их надежды рушились избранием такого короля, какой был нужен Хмельницкому.
В том же заседании один из земских послов жаловался на Киселя, что на конвокации он обещал — или умиротворить неприятеля, или положить свою душу. «Ничего этого не видим» (говорил представитель здравого смысла общественного): «напротив, из совета умолять Хмельницкого мы видим, что он держит его сторону. Никогда мы этого не сделаем: только Бога мы должны молить о грехах наших».
Но Кисель опирался на мнения тех, которые подразумевались в речи одного из сеймовиков под словами: «все мы находимся в летаргическом сне», — на тех, кого разумел князь Радивил, когда писал в своем дневнике: «почти все намеревались бежать из Варшавы», да на тех, о которых написал он по окончании сейма: «Такая была констернация в Варшаве, что когда бы появился хоть один казацкий полк, то наверное все бы мы рассыпались». Кисель говорил так убедительно для своих слушателей, что в сеймовом дневнике записано: «Пан воевода брацлавсвий оправдал себя (dal о sobie justifikacya)».
В 7 заседании (13 октября) «великопольский генерал» объявил, что, судя по реляции комиссаров, он пришел к заключению (te biore z niej quintam essentiam), что Господь Бог не дал военачальникам ни ума, ни мужества (Pan Bog rady nie dal i serca).
Теперь приводило его в отчаяние то обстоятельство, что в Варшаве не знали о неприятеле ничего верного. А это значило (замечу от себя), что казаки превосходили шляхту и уменьем выведывать её тайны, и способностью скрывать свои собственные; что казацкие чаты были несравненно смелее и искуснее панских; что они театр свой разбойно-военных действий окружали непроходимою для панских подъездов цепью, как это было и на Желтых Водах, и после Желтоводского боя.
«Вы согласились вчера» (говорил панам Богуслав Лещинский, раскрывая перед нами всю несостоятельность панского правительства), — «вы согласились послать подъезд под неприятеля, да беда в том, что денег нет. Пан подскарбий уехал, не оставив никого в Скарбе, а на общественный кредит (ad fidem publicam) никто не дает. Уж не сложиться ли нам хоть по сотне злотых»?..
Это было знаменитое заседание в том отношении, что, не имея ни денег, ни кредита, сеймовые паны пришли к единодушному решению: «отдать булаву над войском князю Вишневецкому». Так записал в своем дневнике литовский канцлер; и в сеймовом дневнике читаем: «Его милость ксендз примас опубликовал Князя Иеремию гетманом».
То был великий момент в жизни шляхетского народа. Князь Вишневецкий, рожденный для диктатуры или для самодержавной власти, создал бы этому несчастному народу и кредит, и войско. Судьба народа казацкого была бы тогда другая, а с нею и судьба европейского севера, — другая в лучшем, или в худшем смысле, но только не было бы такого человекоистребления и такого зверства, с каким оно совершалось этими двумя оригинальными республиками в течение 120 последующих лет.
Спасение польско-русских культурников, каковы б они ни были, представлялось возможным, и многие благородные сердца трепетали радостными надеждами. Но Кисель (пишет литовский канцлер) ненавидел князя Вишневецкого, и хотел разрушить общее согласие, говоря: «Я, как сенатор, по долгу моей, присяги, обязан предостеречь Речь Посполитую, что его избрала гетманом только одна тысяча жолнеров. Если это избрание будет утверждено, то все будут очень обижены, (wielkie wszystkim stanie sie praejudicium). Притом же нам гораздо нужнее избрать короля, нежели гетмана, так как, при недостатке войска»... Но тут поднялся крик и заглушил его речь. Киселя забросали сарказмами (haniebnie szczypiac wojewode braclawskiego), и тем заседание кончилось.
На другой день, в заседании 8 (14 октября), было получено письмо князя Вишневецкого о том, что, не желая быть заткнутым во Львове, он отступил с горстью своего войска к Замостью, и намерен там собирать войско. Это произвело некоторое движение в среде польских законодателей; но, по словам сеймового дневника, время проходило в бесполезных толках, «материю клали на материю», и не приходили ни к какому концу. (В Варшаве не было другой Катерины Слонёвской, а она прославила бы свой пол несравненно больше первой). Наконец остановились на вопросе: которые хоругви преступнее: те ли, которые бежали с поля битвы, или те, которые до сих пор не двигались из своих леж и угнетают местных жителей? Но от этого предмета отвлек их крик, что паны грузят уже возы да шкуны, с тем чтоб уходить из Варшавы, предавши прочих на мясные лавки (na miesne jatki wydawszy). «Клянусь Богом» (кричал один из земских послов), «мы с братьей перебьем их за это»! Со стороны других послов раздались крики против ротмистров, которые, получив от Речи Посполитой деньги, не идут в войско, а люди их тут же, под Варшавой, грабят, дерут, разбойничают. «Не для того ли они стоят здесь» (говорили послы), «чтобы свободную шляхту лишить свободных голосов при избрании короля? Но сперва мы положим кого-нибудь трупом, или ляжем сами, нежели позволим отнять у себя драгоценное право».
Крик этот был прерван известием, что Хмельницкий прислал под Люблин татар, чтоб они, выжегши окрестности, держали город в блокаде, пока сам он придет с войском.
Заговорили о посполитом рушении. Некоторые исключали из него свои провинции, как подверженные великой опасности. Это заставило панов корить своих собратий стариною. «Тогда де было не так: тогда польский шляхтич одной рукой держался за плуг, а другой за саблю. Теперь шляхетское сословие занимается больше браками, нежели походами». Одни настаивали на посполитом рушении; другие предлагали уплатить соответственный налог. Мазуры требовали, чтобы все шли в поход одновременно: «а то вы сперва выгубите нас, людей убогих, да и заслонитесь нами (выставляя нас вперед) от неприятеля. Не позволим! не бывать этому»!
В 9 заседании (15 октября) читали универсал, повелевающий, чтоб и разбежавшиеся и не дошедшие еще до лагеря собрались к Вишневецкому в течение 14 дней, под смертною казнью (sub poena perduellionis et colli). Один из земских послов предложил написать универсал к мужикам, обещающий им безопасность, только бы они не приставали к казакам: ибо некоторые (говорил он) пошли в казаки из-за того, что жолнеры не только грабили их, но и стращали вырубить всех в пень, идучи назад.
Это напоминает нам давнишние стращанья малорусской черни с одной стороны от казаков, с другой — от жолнеров. Польская неурядица сама собой вела посполитый народ к казатчине. Население государства, стоявшего, по польской пословице, bezrzadem [78], само собою раскалывалось на казаков и не-казаков. Со времен великого и несчастного в своей великости Жовковского, не только мужики, угнетаемые жолнерами да казаками, умножали собой казатчину, но и жолнеры, не получив заслуженного жолду, «приставали в казаки».
Теперь готовился новый контингент казатчины: тысяч двадцать малорусской шляхты, оставшись безземельниками и не находя в польско-литовском обществе никакого вспоможения, угрожали присоединиться к казакам, как это делали давно уже землевладельцы всех вероисповеданий, вытесняемые из имений своих богатеющими ксендзами, да мнихами. Об этом, как увидим ниже, подумывал вслух на сейме и сам Кисель, а маршал Посольской Избы, Обухович, высказал его мысль (в заседании 21 октября), не обинуясь.
Разорение и распадение Польши объясняют у нас геройским стояньем полутатар и полуполяков за православную веру и русскую народность, а Польша разорялась и распадалась уже давно сама собою. Доказательством тому служит, между прочим, её постоянная боязнь перед собственными защитниками своими. Она боялась переходов своего платного, иначе грошевого (служившего за жолд) жолнера; еще больше боялась ciagnienia [79] своих посполитаков, а еще больше — столкновенья жолдовых воинов с посполитаками. Так и настоящий сейм не решался объявить посполитое рушение на казаков из опасения, чтоб окружавшие сеймующую Варшаву панские гвардейцы, иначе ассистенты, называвшиеся вообще панскими полками, на возвратном пути не сталкивались с отрядами посполитаков и не нападали на них по поводу фуражировки, да обычных польским воинам грабежей, или же не подвергались нападениям с их стороны.
Эта боязнь парализовала оборонительную самодеятельность шляхетского народа в то время, когда народ казацкий угрожал ему показать свою близость пожарными дымами да заревами. Смеясь «горьким смехом» над своей братьей, медлящей в мероприятиях, один из членов законодательного собрания говорил так:
«Не знаю, господа, кто бежал: наши, или казаки? Мне кажется, что казаки, потому что мы их не боимся. Это видно из того, что мы не думаем об их близости. Еслиб мы их боялись, то постановили бы — или посполитое рушение, или вербовку жолнера для обороны. Мы хотим одного, а вы, господа, другого: значит опасности нет».
Под шум бесплодных споров и пререканий, наш Адам Свентольдич хлопотал всего больше о том, как бы его любовь к отчизне не оставалась без памятника, или, как он выражался в письме к примасу (стоит повторить слова великого гражданина): «Te moje wierna przysluge aby mi nikt nie wydzieral, i zeby absque monumento pietatis ku ojczyznie nie zostawala». Допустить, чтобы князь Иеремия спас отечество — для него значило: остаться без награды за любовь к отечеству. Надобно было ссадить его с гетманства. Так как, по словам князя Радивила, за всякое посягательство на булаву Вишневецкого шляхта всячески позорила Киселя, то он молчал о ней и, вместо того, настаивал на скорейшем избрании короля, который мог отдать ее кому угодно.
Подобных Киселю патриотов развелось в свободном шляхетском народе без числа. В 10 заседании сейма (16 октября) некоторые из его членов обвиняли других в утайке денег, полученных на войско. Один из обвиняемых сенаторов, за неимением других доказательств панской честности, прибегнул к доказательствам железным (zelazne гасуе): «Никто цнотливый [80] не скажет мне так. У меня при боку шпага острая: я вспомню об этом в свое время». Но угроза храброго сенатора была сделана не менее храброму подсудку, и он отвечал: «У меня тоже острая сабля: даст она себя знать сенаторской глотке (ktora sie ujmie senatorskiej geby). На это пан сенатор признал благоразумным замолчать.
Вести о казаках, прилетевшие из Люблина, заставили даже миролюбивого Киселя подумать о войне. Он уверял, что неприятель стоит на месте табором, а воюет панов гультайство, распущенное загонами, и потому следовало бы послать против этих загонов «летучие отряды, squadrone volante, как говорят Итальянцы». Но это было pium desiderium. Шляхта продолжала ссориться даже и тогда, когда получила известие об опасности, угрожавшей Сокальскому монастырю-замку, в котором окрестные паны сложили свою драгоценную движимость. В сеймовом дневнике записано, что в течение целого дня не было решено ничего, и что заседание распущено в беспорядке и криках (w nierzadzie, halasie soluta est sessio).
В 11 заседании (17 октября) читали два новые универсала: один — к рассеянным жолнерам (do zolnierzow rozproszonych), а другой — к тем, которые еще не были в лагере, чтобы первые собрались к Вишневецкому в течение 4 недель, а другие — в течение двух, под смертною казнью. При этом литовский подканцлер, наш единоверец Гедеон Михаил Тризна, «никоим образом не согласился титуловать Вишневецкого и его товарища Фирлея гетманами, а только региментарями, для того, что когда литовский гетман придет к ним на помощь, то чтобы старшинство оставалось за ним: еще один предмет раздора!
Некто Мисвоский объявил государственным людям, с подобающею земскому послу важностью, что советы их затрудняют русские чары, не давая прийти ни к какому решению, и что лучшее средство против таких чар — братская искренняя любовь, без которой де паны, в дерзком своевольстве своем, должны погибнуть (bez tej bowiem nam per temerariam licentiam licet perire fato nostro).
Земляки наши, паны Огинские, приняли эти слова за камень, брошенный в их огород, и подняли было крик, а тот начал кричать против них и вдвое. Но один из ветеранов московских походов угомонил национальный антагонизм, рассказавши, что когда он был в осадном сиденье в московской столице, то москали хотели было посредством чар впускать своих в город небольшими партиями. «Заметив это» (говорил ветеран), «мы отправили против чар ксендза с кропилом, а сами выкосили москалей саблями».
Эту серьезную беседу прервал коронный канцлер Оссолинский. «Прекрасно вы сделали, господа» (сказал он), «что выбрали гетманов; но гетманы без войска ничего не значат, а войско у нас только на бумаге, на деле же у нас больше желания, нежели надежд (magis optandum, quam sperandum). Всякому понятно, что и эти беглецы (fugitivi) потеряли всё: как могут они быть обязаны к невозможному? Невозможно им служить за этот жолд, потому что за него нельзя снарядиться к походу как следует, а мы оттолкнем (odstraszymy) от себя этим случаем всех иностранцев, если будем их принуждать к такой панщине (gdy ich tak bedziemy angarejowac). Надобно разослать нам по воеводствам депутатов, чтоб узнали, сколько в каком воеводстве денег, и тогда назначили жолнерам жолд верный и соответственный».
При этом «великопольский генерал» заметил панам, что они избрали гетманов без войска, а войско хотят набрать без денег, и умолял, чтобы депутаты были назначены по всем предметам и прежде всего добыли денег.
Когда сеймовики углубились в мудреный вопрос, как выйти из безденежья, некто Бжозовский (очевидно, Березовский) прискакал верхом и предстал пред них в бандолетовой перевязи и в ладунке, с реляцией о поражении литовского войска и падении Бреста и Кобринта. Он донес, что пан Киевский (то есть киевский каштелян) отдал свои вещи на спрят монахам, и что поэтому казаки вырезали два города, а теперь идут к Бельску, и все мужики с ними. Брестские хлобы (говорил Бжозовский) также понасаживали себе косы.
«Это вызвало свист и смех» (сказано в сеймовом дневнике), «и никто не дал тому веры, хотя все была правда».
Среди помешанных на своей силе и власти сеймовиков, даже наш Адам Свентольдич явился мудрецом. Он произнес такую речь:
«Господа, вы повелеваете собраться войску в 14 дней; но и это долгий срок: ибо войны зависят от момента (bella momentis constant). Другим вы назначаете 4 недельный срок; но они не придут и в 10 недель. По воеводствам деньги неверны. О посполитом рушении ничего не решено, а оно-то и могло бы спасти нас. Поэтому, если Pan Bog не остановит неприятеля, то мы неизбежно погибнем (actum est, periimus)! А между тем где прикажете нам, убогим, приклонить голову? Невозможное дело, чтобы вы могли выкурить так скоро неприятеля из тамошних наших краев. Поэтому — или нас обеспечьте и дайте нам содержание, или велите нам промышлять о себе иначе (radzic о sobie). Помочь нам в нужде вы — или не хотите, или не можете. Если не хотите потому, что не заслуживаем того за нашу доблесть (non meruimus pro virtute nostra) у ваших милостей, — потому что соблюли верность, то чего же нам наконец надеяться? (quid tandem sperandum nobis)? Если не можете, то — мы погибнем. Сделайте же еще попытку: пошлите к Хмельницкому от имени королевичей: ибо, как нужда ломает закон и достоинство Республики, так и случаи творят законы (jako necessitas frangit legem et dignitatem Reipublicae, tak casus faciem leges): иначе — и самую элекцию, эту зеницу свободы (hanc pupillam libertatis), основание и фундамент нашей вольности (basim et fundamentum swobody naszej), погубите вы вместе с собою. Боюсь, чтобы те, которых силу подавляет убожество (ktorych moc premitur egestate), не вздумали, в своей беде, покуситься на что-нибудь горшее, чем Хмельницкий (czego gorszego nie chcieli, niz Chmielnicki). А потому — или сокращайте элекцию, чтобы вместе с королем явились и всякие способы и легче все пошло, или уж, опустивши руки, будем ожидать милосердия Божия, или же, наконец, побросав сады да фонтаны и взявшись за руки, давайте погибнем все разом!
Это лучше, нежели бежать в Данциг. Скажу вам откровенно, господа, что если вы хотите оставить себе только Привислянщину (Powisle) и нашею гибелью купить себе мир, то нам лучше убить себя с вами (tedy sie wolimy zabijac z w Mciami). И так — или выбирайте короля, или хлопочите о мире.
Неизвестно, какое впечатление произвела эта лукаво прямодушная речь; но в сеймовом дневнике записано следующее:
«Луцкий бискуп (Андрей Гембицкий), не желая дать 10.000 червоных злотых, плакал, и пан маршал, из сожаления к нему (zalujac biskupa straty swego), записал в реестре, эти деньги полученными. Пан Фредро (львовский каштелян, писатель-философ) корил панов, что в прежние вербовки, которые делались на притеснение наших вольностей, бросали золотую посуду на деньги, а теперь ваши милости, паны сенаторы, даете такие малые вспоможения погибающему отечеству, что весь сенат едва сложился на 1.000 человек. Клянусь Богом, я продаю последнее имущество; пускай только мне за него заплатят, не прикоснусь к деньгам, лишь бы спасти отечество. Вы, господа сенаторы, дадите строгий отчет Богу за то, что не спасаете отчизны. Вчера я предлагал набрать пехоту в городах, — никто не слушал меня. Просил их милостей панов печатарей, чтобы приватно, собственным авторитетом, убеждали королевичей мириться в соискании престола (aby sie godzili о panstwo), — и на это отвечали молчанием... Коронный канцлер говорил, что когда до нас доходят печальные вести, это нас так поражает, что мы тотчас все даем и все бьем; а когда выйдем из-под сеймового навеса (z szopy), тотчас позабываем обо всем и думаем только о добром здоровье вашмости. Первый разгром обоза так нас потряс и воодушевил, что только и кричали, что бей его! рази его! Я думал, что уж и Крым, и Константинополь возьмем чатою. Прошло несколько дней, — и наше одушевление исчезло без следа (az owa ochota zgasla w nas, ani jej slychac, cisnac w nas bylo). Теперь опять новая тревога разбудила в нас любовь к Речи Посполитой, а там за бокалами смотри — опять забудем все. Что же нас испортило? Мир, продолжительный мир, в котором научились мы, как сказал кто-то, по-немецки хозяйничать, по-итальянски фонтанничать, по-французски модничать и ароматничать. А нас и предков наших Господь Бог поставил, как редут и предостение всего Христианства (jako propugnaculum totius Christianitatis, jako antemurale wszystkiego Chrzescianstwa)».
В 12 заседании (19 октября) гродзкий писарь внес законопроект, чтобы никому из отцов отечества не дозволялось ни самому спускаться вниз по Висле в Данциг, ни скарбов и вещей не возить.
Кисель жаловался перед сеймом на крайнее убожество малорусских землевладельцев, разоренных казаками. «Здесь нас таких» (говорил он) «plus minus 20.000. Жить нам нечем, просить милостыни не у кого. Когда наши братья так туги на ухо (obdurate aures braterskie), то единственное средство — сохранить срок элекции да выбрать поскорее короля: тогда и отечество спасем, и положение шляхты восстановим. Если же ваши милости останетесь и впредь жестокосердыми к нам, то придется нам промышлять о самих себе»...
Но тут собрание вспомнило вчерашние слова оратора: «Боюсь, чтобы те, которые слабосильны только потому, что убоги, не покусились на что-нибудь горшее, чем Хмельницкий», — и закричали: «Это imperiosa vox et dictatoria»!
«Нет, господа!» (отвечал Кисель): «это не vox imperiosa, а vor lacrymosa [81]. У нас ничего не осталось, кроме имени да голоса титула. Если нельзя ничем помочь нам, то, спасаясь от гибели, мы будем принуждены каким бы то ни было способом возвратить себе древнюю свободу и прежние достатки (quibuscunque mediis antiquam libertatem i pierwsze достатки nasze vindicare)».
Видя, что никто ничего не делает и все только бесконечно говорят, спорят, взаимно грозят, «великопольский генерал» выразил опасение, чтобы сеймующие паны не рассеялись, подобно пилявецкому войску, при появлении неприятельской чаты. Предупредить подобную катастрофу находил он возможным только соединением сенаторских почтов под начальством «великих кавалеров», витебского воеводы, Павла Сопиги, и литовского обозного, Осинского. Без наших русичей, крещенных или еще некрещенных в римское католичество и в протестующую против него немецкую веру, Польша не видела себе спасения. Наши русичи, Острожские, Радивилы, Сопиги, Вишневецкие, Сангушки, Черторыйские и пр. и пр., обогатили ее своей обширной плодоносной землей. Наши русичи, Замойские, Жовковские, Сенявские, Мелецкие, Струси, Лжикоронские, Збаражские, Зборовские и пр. и пр. и пр. обороняли и прославляли ее. Наши русичи Бельские, Кохановские, Реи создали польскую литературу. Наши же русичи, поссорясь одни с другими удельно-вечевым обычаем, втоптали в грязь, облили кровью, растерзали в клочки соединительное польское знамя, и погубили Польшу, как неспособную к самобытности политическую систему... Дошло до того, что когда один из земских послов предложил — или заключить с казаками какой бы то ни было мир, пока паны соберутся с силами, или идти против них табором, — слушатели рассмеялись и засвистели. Но оратор объявил смеющимся свистунам, что местные гультаи собрались было уже поджечь Варшаву с криком Гала! Гала! как делали казаки представляя из себя татар. Свистуны ужаснулись.
Тогда другой оратор сказал: «Господа! это нас докончит, если нас будет пугать всякая весть. А коронный референдарий к вести о единоверных и единоплеменных поджигателях прибавил, что в субботу (17 октября) видел уже корнеты и зажженные фитили.
Чтобы не распространилась в обществе паника, подсказывавшая панским гультаям казацкие злодейства, гродский писарь предложил законопроект, — чтобы паны не посылали хлеба в Данциг, так как, под видом отправки хлеба, они вывозили свое имущество.
Не менее характеристичен и законопроект, предложенный тут же одним из земских послов: волонтеры должны быть известны гетману: «иначе де наши будут грабить больше, нежели неприятель».
От избрания короля классически воспитанные паны ждали таких результатов, какие последовали в древнем Риме за воцарением Августа, который де Квиритов усмирил одною своею славою (Quirites ipsa fama sedavit).
Тут некто пан Обрынский вспомнил о Павлюке, который де самозванно коронованный головой (ipso coronato capiti) грозил королю Владиславу опасностью, и чем же кончил? Сел на кол. То же было бы теперь и Хмельницкому, когда бы мы поспешили избрать короля.
Паны извращали даже недавнопрошедшее, так же как и порожденные панской неурядицей казаки. Павлюк был обезглавлен и потом четвертован, а корону ему навязала стоустая молва, затмившая и жизнь Хмельницкого, которую надобно изучать исторически в деяниях казатчины, а не биографически в пересказах современников о его словах и поступках.
В 13 заседании (20 октября) войсковые послы выразили свое неудовольствие на то, что в сеймовых универсалах князь Вишневецкий не назван absolute гетманом, а только региментарем. Сеймовики «извинялись» перед ними тем, что и прочих полководцев именовали только региментарями, а не гетманами. «Дело ясное» (говорили они), «что мы не можем этого права вырвать из рук у будущего короля: ибо наименование гетмана Речь Посполитая отдала ему в руки вместе с раздачею дигнитарств (cum justitia distributiva). Войсковые послы возразили на это, что заслуги князя Вишневецкого и его геройские доблести (heroicae virtutes) не допускают никаких сравнений. Но раз универсалы были разосланы, паны оправдывали себя невозможностью исправить ошибку, так как легче порицать ошибки, нежели исправить их (errores magis reprehendi, quam corrigi possunt), хотя в этом казусе видать было Киселя, как по хвосту видна лисица. Недавно еще он проповедовал, что necessitas frangit legem; теперь, когда другие говорили с его голоса, он молчал.
Были еще и другие поводы к раздорам. Паны подозревали один другого в подкупности. По поводу взаимных упреков, заседание было распущено.
В 14 заседании (21 октября) трактовали о том, чтобы города поставляли в войско пехоту, о чем давно хлопотал моралист Фредро. Депутаты поклялись совестью (sub conscientia) не давать потачки городам, что говорит само за себя. Мещане подляских городов должны были поставлять в пехоту «ляхов» или иностранцев, а не «русь», что также говорит само за себя.
Маршал Посольской Избы возлагал всю надежду на избрание короля. «Может быть, наш король» (говорил он) «так будет счастлив, как Помпей, который только ударил в землю, тотчас вышло из земли войско. В противном случае, помните, господа, до чего могут быть доведены наши братья: утративши все и не найдя в нас любви к себе, они наверное перейдут к неприятелю».
Теперь только дошла до варшавян весть, что Хмельницкий «взял» львовское предместье и распустил загоны под Сендомир. Земский посол, Ляховский, жаловался, что под Сендомиром пропало у него имущества на 500.000 злотых.
15 заседание (22 октября) описано в сеймовом дневнике так: «Целый Божий день провели в толках о сокращении элекции; наконец сократили, ее до 4 ноября, а она должна была кончиться ноября 6. Потом говорили об обеспечении города. Посылали к панам сенаторам просить об обещанном гарнизоне, но ничего не получили, кроме отсрочки да неверных обещаний, вроде груш на вербе. Набранившись досыта и ничего не сделавши, удовлетворились мы сокращением элекции, и пан маршал распустил нас рано».
О 16 заседании (октября 23) сеймовой дневник говорит, что, до чего ни касались, всюду было несогласие, вечные споры о пустяках (de lana caprina). «Так совещаются» (говорит дневник), «как будто в самое мирное время (in pacatissimo Reipublicae tempore), — совещаются для забавы (per passar il tempo). А неприятель находится сегодня уже только в 14 милях от Варшавы, со стороны Литовского Бреста, а со стороны Люблина — в 20 милях. Одни советовались, как бы идти навстречу неприятелю, другие — как бы оборонить переправу на Висле, третьи — как бы защищаться в Варшаве. Таковы были рассуждения, а самое дело стояло так, что все живое укладывало свои робы в сундуки; шнуровали тюки; отправляли готовые возы; снастили шкуны и ялики. По улицам ни о чем больше нет речи, как о том, что паны собираются в путь. Мы только смотрим, что далее будет. В сеймовом круге (w kole) раздаются клятвы, что будут сопротивляться до убоя (до gardl), а в действительности ни малейше не было на то похоже. Неужели же мы поделались жидами? Или уж от нас и сам Господь Бог отступился, и нам осталось только бежать, куда глядят глаза? [82] В таком несчастном положении, не имеем о неприятеле никакой вести, даже о Львове не знаем ничего (а писано это было в тот день, когда Тогай-бей отступил уже от Львова с окупом и многими тысячами ясыра). Знаем только, что в нем гарнизона 200 пехотинцев да мещан при Армишевском человек 15. В Замостье пан воевода русский велел разобрать русское предместье и расположился там лагерем под самыми стенами, запасаясь провиантом из окрестных мест и не щадя ничьих гумен. Своевольные купы бродят по разным местам. Нынешнее заседание потрачено все на неверные новости и различные вести, о чем срам и писать (о czem sromota i pisac)».
В 17 заседании (24 октября) «великопольский генерал» заявил, что и та горсть войска, которая находится под командой князя Вишвецкого, намерена разойтись, если жолнерам тотчас не уплатят жолду. Он советовал поступить и с Варшавой так, как поступлено со Львовом, где депутаты брали на кредит Речи Посполитой все, что находили в лавках и костелах. Это заседание было распущено потому, что один из молодых членов был пьян и не дал постановить никакого решения. Автор дневника изобразил возмутительное для нас сеймовое безобразие следующими словами:
«Tandem ktos mlody zagrzawszy glowy, ktorego znac foecundi calices fecere disertum, in murmure powstal, ze compellare licet minis, niz rationibus. Pan referendarz koronny: «troszeczke smiele»: zkad jedni w smiech, a drudzy sie turbowali».
В 18 заседании (26 октября) земские послы роптали на то, что универсал к беглецам (do rosproszencow) лежит неразосланный. В этом обвиняли сенаторов, которые де не желали, чтоб их дяденьки, племяннички и т. д. нюхали опять порох, от которого ушли.
«Этого только и недоставало к нашим бедствиям» (сказал Фредро). «Что сегодня постановляем, то завтра отменяем. Не знаю, что причиною задержки универсалов: injuria, или industria их милостей панов сенаторов. Но вижу, что мы действуем так, как повеет ветер (ze tylko vento ferimur). Когда нас что-нибудь постращает, мы желаем приспешить наши рады (videmur accelerare consilia nostra), а если весть убавит немного страху, мы ничего не говорим и не делаем. Ухватились было мы за пехоту с городов; теперь уж о ней и позабыли».
Отсюда произошли пререкания между светскими панами и духовными, которые де не хотят отягчать (onerare) своих городов пехотою, и медлят с рассылкой универсалов для того, чтобы, получив деньги, послать, в зачет этих денег, свою ассистенцию.
19 заседание (октября 27) было ознаменовано прибытием искательного посла от так называемого шведского короля, Яна Казимира. Просьба посла о назначении ему аудиенции была приправлена таким панегириком владычествующей шляхте: «Не только всему свету, но и самому небу объявляете вы свободу, избирая свободными голосами великих монархов». Все прочее в нем было еще нелепее.
В 20 заседании (29 октября) достойна замечания отметка дневника: «О Хмельницком, о Львове — ничего верного, как и о татарах».
В заседании 21 (октября 30) маршал Посольской Избы жаловался на медлительное решение самонужнейших дел. «О нашей обороне, о деньгах и людях» (сказал он) «мы говорим так, как будто неприятель находится от нас в 200 милях. Не только не знаем, что постановили сенаторы о депутатах в течение недель двух, но не знаем даже, заседали ли они».
Ответом на эту жалобу было донесение одного из депутатов, что сенаторы заседали только два раза, потому что не съехались. «Но и нас не за что хвалить» (прибавил он): «хотя нас депутовало двенадцать, но на этих заседаниях не было больше двух или трех».
Когда земские послы расходились из заседания, пришло известие, что Хмельницкий с 40 тысячами войска идет комонником (то есть без табора) прямо к Варшаве, и будет под Варшавой в среду или в четверг, то есть через пять-шесть дней. «Вот так новинка на сон грядущий»! трагически восклицает автор дневника.
Вместе с тем земские послы узнали, что князь Вишневецкий едет в Варшаву. Его приезд пророчил панам две крайности: или что-то злое, или доброе. Вспомнилось им то время, когда превосходивший всех поляков своевольством и завзятостью правнук полумифического Байды готов был показать над своим соперником по суду, что государство, религия, общественность, нравственность, сеймовое законодательство и самая царственность, ему подчиненная, бессильны для обуздания той личной свободы, которою Польша гордилась перед всем светом и перед самим небом. В этом отступнике древнего русского благочестия, усыновленном Польше иезуитскою школою, воскресло под иноземным знаменем все буйство наших буйтуров Всеволодов и все удальство Мстиславов Удалых. Он был одинаково способен и спасти Польшу в известных обстоятельствах, и погубить ее в других. Вот почему его любило до самозабвения героическое меньшинство и ненавидело до безумия противоположное большинство. Вот почему и сеймовой дневник писал о нем, что его приезд пророчил что-то крайнее (mysialby byc per extrema).
22 заседание (2 ноября) было занято решением вопроса: которому из двух братьев, польских королевичей, отдать корону. В старшем ценили то, что именем своим напоминал он Казимировские времена польской славы (обыкновенно преувеличиваемой донельзя). В младшем свободолюбивому шляхетскому народу нравились его обещания увеличить еще выторгованные им и вынужденные у королей вольности.
Нашлись влиятельные для панской толпы люди, которые в Яне Казимире видели не только ум, не склонный ни к каким порокам (umysl do zadnych wystepkow niesklonny), твердый рассудок (rozsadek utwierdzony) и талант полководца (ad militaria sposobnosc kawalerska), но и величественную наружность. Несмотря на то, что «внешность его, то есть красота (externa, to jest uroda)», как выражались панегиристы, была у всех перед глазами, о ней распространялись так: «Хотя это и второстепенное отличие, но когда его нет, маестат много от этого теряет, и часто это делает венценосца презренным (principem contemptibilem reddit), а презираемый властитель не есть властитель, и власть без достоинства существовать не может».
В заседании 23 (ноября 3) Посольская Изба оставалась в совершенной неизвестности относительно таинственного и в своих замыслах непроницаемого неприятеля. Она узнала только, что князь Вишневецкий на своем месте оставил под Замостьем маркграфа Мышковского. Наконец увидели сеймовики того, который, по милости Киселя и многочисленной толпы аристократической черни, подчинявшейся его внушениям, сделался своего рода камнем, его же небрегоша зиждущие.
На сей раз князь Иеремия не представил ничего крайнего. Пренебрегая достоинством, которым не хотели отличить его люди недостойные, он скромно заявил сейму, что прибыл не для беспокойства Речи Посполитой, а по праву свободных выборов; поблагодарил за предоставленную ему власть над войском и высказал, что войска надобно набрать не менее 60.000. Вишневецкий знал, какая борьба идет между теми, которые настаивали на спасении Польского государства посредством смелой войны, и теми, которые вели его к погибели путем выпрашиванья у неприятеля позорного мира. Он мог бы доложить правительствующему сейму, как сами казаки смеялись над этой мерой, говоря, что Господь Бог совсем оставил ляхов, так как у них нет иной надежды на свою оборону, кроме просьбы. Но это записал в своем дневнике князь Радивил; он же, который мог бы сделать из польского своего отечества государство героев, смотрел на него молча, как на государство трусов, управляемых глупцами.
Его презрения не уменьшила сцена, происшедшая на другой день в собрании сенаторов и земских послов. Среди собрания появился сендомирский воевода, князь Доминик Заславский. У наследника нашего «святопамятного» не хватило духу показаться во Львове, зато хватило бесстыдства оправдывать свое бегство из такого войска, «которое могло бы завоевать самый Константинополь». Оно, это бесстыдство, было его родовым достоянием, и проявилось в его дядюшке, когда он, ради округления своих владений, сделал из наследницы старшего брата сумасшедшую страдалицу; когда, храня в подземелье миллионы, выпрашивал у сеймового правительства пособие для починки укреплений своего воеводского города; когда допустил уморить своего гостя в мариенбургской тюрьме, а возлагавшим свои надежды на 15 и 20 тысяч готового у него ополчения проповедовал терпенье, терпенье и терпенье... В кратких, но ясных словах изобразил литовский канцлер сцену общественной безнравственности, которая совершилась при появлении на сейме двойника князя Василия, а именно вот в каких:
«Маршал Посольской Избы спросил: угодно ли собранию выслушать от сендомирского воеводы, по каким причинам войско так постыдно бежало? В это время произошла суматоха [83], сенаторы начали один за другим исчезать, и маршал отложил этот предмет до другого дня» (который никогда не наступил).
Почему не наступил он никогда, это лучше всего мог объяснить наш Адам Свеитольдич. Еще в 5 заседании он, по малорусской пословице: «поможи, Боже, и нашим, и вашим», оправдывал присоветованного панам фельдмаршала, а вместе с ним и весь триумвират, в таких выражениях:
«...Каждый пойдет с королем охотнее, хоть бы и я сам, потому что король будет свидетелем и награждателем подвигов наших (bo bedzie oculatus abo spectator et renumerator laborum). Да что? я выскажу вам свои чувства, как член свободной Республики: какое мы теперь получили вознаграждение за наши потери? Все вы, господа, нас браните, и еще слава Богу, что не бьете. Вот и бедняжки гетманы, — что им было делать? Более сотни наших хоругвей ударили мужественно; потеря в них оказалась великою. Битва, господа, была настоящая: труп с обеих сторон падал густо» (здесь Кисель забыл о собственной реляции, как и во втором донесении о своих медах). «Мы тогда, видя, что силы наши никоим образом не могли устоять против неприятеля, решили отступить (concluseramus relyrowac sio) к Константинову, а несчастная судьба Республики сделала то, что наше постановление повело к бегству (quod tandem Infelici fato Reipubticae accidit, ze to nasze postanowlenie w rozsypke poszlo)».
Умел Адам Свентольдич выпрашивать поташные буды у московского царя не для своей корысти, а единственно для его славы; умел заискивать милости и у польских королят; но всего больше умел он выражаться так, что само постановление панское бежало (poszlo w rozsypke), а не паны. Он заставил наконец общественное мнение в пилявецких региментарях видеть спасителей польской будущности, потому что, благодаря их бегству, уцелел цвет национальной знати (flos nobilitatis). В настоящем случае оправдание тех, которых люди нерассудительные готовы были казнить за их «экзорбитанции», завершил он, как бы выразился поляк, rubasznie, по-казацки:
«Если будете заниматься экзорбитанциями» (вместо избрания короля), «то и права наши будут у чёрта в зубах, и вольности у двух чертей, а наши затылки очутятся под острой саблей пана Богдана». Это была речь подобного к подобным.
В 25 заседании (5 ноября) земские послы потребовали от сенаторов, чтоб они продолжали свои совещания о депутации, или чтоб уж совсем ее бросили, так как и самое время исключает ее (juz czas jej sam excluditur).
По войсковым спискам, разбежавшегося войска оказывалось налицо 9.000. Прочие притаились в среде доматоров, не имея охоты нюхать казацкого пороху. Они шли не на войну под начальством Князя Доминика, а на выставку. Они хотели воевать с хлопами нагайками своей 200.000-ой челяди, а не своими драгоценными саблями. Естественно, что для таких кудреглавых Данаев Кисель был самым подходящим Нестором.
В 26 заседании (6 ноября) сеймующих панов заняла, как детей, исповедь (confessata) пленных казаков, представленная каптуровым судьею, присутствовавшим при их пытке. Вымученные у них признания заключались в 8 пунктах, а именно:
1. Михайло Дружченко, из Белой Церкви, показал, что был под Кумейками в составе реестровых казаков (которые, подобно пилявецким рыцарям, бежали без боя); что Барабашенко, Илляшенко и Хмель были у короля в ночной раде, в присутствии семи сенаторов; что король дал им привилегии на увеличение войска и на морской поход; что Хмель, напоивши Барабашенка, послал его пояс к его жене; что она, по этому знаку, выдала ему королевские листы, и что этими листами он взбунтовал чернь.
2. Надоело уже и самой черни воевать. Казаки кричат на Хмеля; но он, не доверяя им, держит при себе 6.000 жолдовых татар, которые отправляют и стражу, и спят у его палатки.
3. Приковал было Хмельницкий Кривоноса, но он окупился великими деньгами.
4. Киевский архимандрит (это значит митрополит), бывши у Хмеля, имел с ним тайные рады, и Хмельницкий отослал его с почетом, под охраною нескольких сотен коней.
5. Причиною бунта были притеснения казаков со стороны комиссаров, которые вымогали еженедельно у казаков — то лисицу, то по 3 злотых деньгами. Какую бы большую рыбу ни поймал казак, плотву отдавали ему, а главную — пану [84].
6. Другой казак говорил на пытке согласно с первым, только прибавил, что Хмельницкий послал войско под Замостье, и что, как только будет король, то и война и эти бунты тотчас прекратятся.
7. Третий показал, что под Пилявцами на другой день казаки хотели было уже бежать. Множество молодцов начало было уже расходиться; но Хмель расставил по дорогам сторожу, которая частью убивала беглецов, а частью приводила к Хмельницкому, и Хмель велит «завдавать» им разные муки: вешать, четвертовать etc., за то, что бегали.
8. В конфессатах из под Львова говорилось, что Львов окупился. Мурза, находившийся с татарами при Хмельницком, убеждал его не гнаться за ляхами. Как де их догнать, когда они бегут со страху? (bo ktoz sic za niemi nagoni od strachu)? Притом же татарам тяжело будет в такую колоть возвращаться с полоном: попортят своих бахматов. А когда де на тебя будут наступать с войском, тогда придет с Ордою Тогай-бей, и будет воевать с тобою ляхов. Еще сказал, что Хмельницкий злится на князя Вишневецкого, и когда б его добыл, то все польское войско считал бы ни за что (za cyfre nie wazyl), тогда бы первое чело имело Запорожское войско (ale pierwsze czolo miаlо by Wojsko Zaporozkie), а ляхи обратились бы в жидов.
Темное дело возведения на престол Яна Казимира и низведения с военного верховенства Иеремии Вишневецкого совершалось неуклонно, в силу «приваты», связанной с тем и другим актом. Ноября 7, в 27 заседании, Кисель красноречивой орацией своею (disertissima oratione) вынул зерно из скорлупы перед панами (enucleowal praesentem statum electionis) ко всеобщему удовольствию (z ukontentowaniem wszystkich). Он советовал развязать поскорее Гордиев узел избрания.
Находившиеся, очевидно, под его влиянием другие сеймовые ораторы говорили об опасности, угрожающей шляхетской свободе со стороны военачальника, наименованного самим войском. «Еслиб эта номинация состоялась не после поражения, а после победы» (рассуждали республиканцы), «то на что не дерзнули бы они (quae non ausi fuissent)»? — «Пример неслыханный! (inauditum exemplum)»! восклицали другие и, побуждаемые близостью неприятеля, торопили избрание намеченного уже короля.
В 28 заседании (9 ноября) Кисель произнес речь в том же духе. В 29-м (10 ноября) страхи по причине близости татар от Сендомира, неизвестно от чего «утихли»; но о Хмельницком, как и прежде, не было слышно ничего верного. В 30 заседании князь Вишневецкий доложил господствующему народу, что жолнеры, обложенные в Замостье, просят подкрепления во имя любви к отечеству (per amorem patriae), и вручил великому секретарю письмо полученное им от своего наместника, маркграфа Мышковского, от 6 ноября. Маркграф уведомлял, что из полка эльблонского каштеляна, Вейгера, посланного к Любачову для фуражировки, казаки несколько человек убили, многих переранили, а нескольких взяли в плен. Через одного из пленников Хмельницкий сделал Вейгеру, которого воображал иностранцем, предложение изменить ляхам (inwitujac go in societatem belli), и в письме к нему обращался к стоявшему под Замостьем войску и к замостьянам с такими словами:
«Свидетельствуюсь Богом, что мы не желали проливать христианскую кровь. Мы послали послов своих, умоляя о мире и пощаде (zebrzac о pokoj i milosierdzie); но князь Вишневецкий начал поступать с нами предательски, и потому бросились мы за ним, чтоб не сделал какого-нибудь предательства; но он ушел от нас (в Варшаву). Тем не менее, как с нами помирились львовяне, так мы готовы помириться и с вами. Не отступим от Замостья, пока не совершится Божия воля. Мы ищем мира, и для того посылаем нарочно этих нескольких человек своих и татар, чтоб вы послали к своим старшим как можно скорее и получили от них наставление, что вам делать. Из-за двоих ничтожных молодых людей, князя Вишневецкого и коронного хорунжего (Александра Конецпольского) такое замешательство! Ждем здесь избрания короля. Желаем, чтоб (королем) был королевич Казимир».
Это значило — рассечь мечем Гордиев узел, который слушатели красноречивого Киселя так долго развязывали. Возвеселился мудрый Адам Свентольдич, найдя единомышленника в таком доброжелателе шляхетского народа. Zyczymy, zeby byl Krolewicz Kazimierz: этому велению не смели сопротивляться люди, готовые бежать в Данциг, по примеру цвета польской знати, бежавшего из-под Пилявцев.
Прошло еще несколько заседаний в решении прелиминарных пунктов элекции.
Наконец, в 37 заседании (20 ноября) Ян Казимир воссел на престоле Казимира Великого.
По свидетельству Радивилова дневника, его хотели произвести в короли еще 5 ноября; «но произошло большое несогласие» (пишет литовский канцлер), «потому что избирателей облил извнутри Бахус, а снаружи — дождь»... Если бы тогда поляки избрали этого «неспособного ни к каким порокам, твердого умом и величественного наружностью» короля, то могли бы оправдываться хоть тем, что сделали это спьяна. Но судьба дала панам две недели на отрезвление, и они все-таки не могли сделать лучшего выбора.
Причину такого единомыслия (кроме письма Хмельницкого к замостьянам) объяснило всем и каждому появление в Варшаве специального посла его, бывшего иезуита, а потом — «надевшего рясу регулярных каноников Св. Августина».
Ярославский наставник Хмельницкого, ксендз Мокрский, объявил во всеуслышание, что сидел под Варшавой (имея, конечно, тайные с нею сношения) для того, чтобы не избрали другого короля.
К этому жалкому финалу национальных совещаний князь Радивил придал еще более жалостную ноту. «Хмельницкий со своей «канальей» (пишет он) «отъехал тогда к Белой Церкви, а наши жолнеры, которые могли бы дать ему отпор» (подразумевается, если бы гетманил князь Вишневецкий) «остались в Малой Польше, в Мазовии, в Серадзком и Лэнчицком воеводствах, для угнетения бедных подданных до самого коронационного сейма».
Глава XIX. Возвращение панских победителей в Украину. — Приветствовавшие коронного гетмана приветствуют гетмана казацкого. — «Что нужно Московскому Государству». — Царское посольство в Чигирине. — Королевское посольство в Переяславле 1649 года.
Весело возвращались казаки в Украину, предводимые казацким батьком, как справедливо стали называть Хмельницкого; но не весело было на душе у казацкого батька. Тайный голос говорил ему, что не разбоем обеспечивается будущность даже и такого общества, к какому принадлежал он; что не кровавыми замыслами успокоивается размученное обидою сердце.
Не разогнала мрачных мыслей счастливого добычника и та встреча, которую приготовили ему в Киеве. Город, из которого, тому назад полгода, побежали все духовные власти без различия исповеданий, теперь приветствовал казацкого гетмана, как одиннадцать лет назад — гетмана коронного, панского. В Киеве гостил иерусалимский патриарх, Паисий, как двадцать восемь лет назад — незабвенный в истории русской церкви Феофан. Но разница между ними была так вещественна, как между Хмельницким и Сагайдачным, как между Сильвестром Косовым и Иовом Борецким. Подкупаемые претендентами на патриаршество турки прижали Паисия по своему обыкновению, и он бросился собирать милостыню в вертепе разбойников, которым, как они сами говорили, жартуя со своими жертвами, не нужна была вера, а были нужны только «дидчи гроши». Неслыханное торжество казаков над панами сулило Паисию золотые горы. Он окружил себя в Киеве сторонниками казацкого бунта, которых теперь между «духовными старшими» оказалось волей и неволей множество, и митрополиту Косову, каковы бы ни были его религиозные и политические воззрения, пришлось вести себя по пословице: «с волками жить — по-волчьи выть».
Ученик и преемник Петра Могилы встретил победителя Потоцкого и Заславского у стен Св. Софии, в сопровождении своего «святейшего» гостя и всего своего клира, при звоне колоколов, при громе пушек, при восклицаниях оказаченного народа. Бурсаки Могилевской Коллегии пели Хмельницкому латинские и малорусские стихи, сочиненные, может быть, теми самыми пиитами, которые превозносили до небес усмирение предшественника его, Павлюка. Готовая к противоположным панегирикам семинарская муза сравнивала нашего Хмеля с Моисеем, называла спасителем, охранителем, освободителем своего народа, и в самом имени его Богдан видела Божие даяние; а патриарх Паисий, в приветственной латинской речи, назвал его знаменитейшим князем. Энтузиазм черни, обогащенной грабежом и разбоем, был таков, что когда гетман появлялся в церкви, на него глядели, как на божество, и даже целовали у него ноги.
Но Хмельницкому было не по себе. То он постился, подобно Лащу Тучапскому, то молился в древних, созданных и облагодетельствованных панским сословием храмах, и лежал по целому часу ниц перед образами, то, на место избранного в среде избранных духовного отца, призывал к себе трех ведьм, которые постоянно находились при его особе даже и в походе; то пьяный компоновал казацкие думы, импровизируя в них, без сомнения, такие события и обстоятельства, которые долженствовали оправдывать его кровавое дело. Иногда был он чрезмерно доступен и ласков с казаками, иногда был суров, как Гирей Чингисханович посреди мурз, и горд, как польский пан в виду оказаченной черни. Шеститысячная татарская гвардия и нагроможденные в Переяславле, Чигирине, Суботове богатства позволяли ему предаваться порывам раздраженного сердца, затеям пьяного мозга и стремлениям диких инстинктов. Но его, как видно, томили противоречия великости и ничтожества его подвигов, высоты и низости его положения, мыслей о бессмертной славе и сознание несовместимой с нею подлости.
В числе противоречий, в которых очутился Хмельницкий среди православного русского мира, немалую роль играла и его семейная жизнь, затемненная для нас темным веком и казацким всесожигательством, казацкою лживостью, отсутствием в казацкой среде чувства, как собственного, так и чужого достоинства. В глазах людей, перед которыми Хмельницкий, каков бы ни был он, желал казаться, если не быть, личностью почтенною, — например, хоть бы в глазах собственных взрослых детей, — эта жизнь была запятнана сперва тем, что, по смерти православной жены своей, он связался с католичкой (слово традиционально-бранное доныне в простонародье), а потом — тем, что эту женщину (каковы бы ни были её достоинства), обвенчанную с ненавистным ему человеком, он взял к себе вместо жены, и теперь, почив от кровавых дел своих, обвенчался с нею по обряду православному, тогда как муж этой Чигиринской Вирсавии обретался еще в живых. Если предположить, что при такой несовместимости личного достоинства своего, как отца семейства и «знаменитейшего князя», с общественным воззрением, хотя бы и казацким, новый Моисей был ревнив хоть в таком смысле, как это свойственно животным; то душа его, терзаемая, очевидно, и многим другим, не находила дома того, что составляет наибольшую отраду человеческой жизни: она была растерзана неисцелимо, а реки крови и слез людских, диавольское запугиванье со стороны ведьм, без которого не могли они удерживать за собой место свое, и, как следствие всего этого, безмерное пьянство, делали Хмельницкого лютым зверем и самым несчастным человеком.
Не будем терять из виду, что под всеми передрягами польско-русской Республики, выразившимися в бунтах самого Хмельницкого и его предшественников, незримо для истории совершалась многовековая, ежедневная и ежечасная работа двух церквей над умом и совестью наций, соединенных в одном государстве. В борьбе с греческой церковью римская церковь представила себя в этом государстве сравнительно лучшими людьми. Какова ни есть она сама по себе, но в нашем литво-русском обществе со времен Ягайловских, равно как и в червонно-русском — со времен Казимировских, исчерпала она всех, кто между нами был познатнее, побогаче и поталантливее, на служение своим интересам, под видом общечеловеческого блага. Для поддержания интересов церкви греческой остались только те, которые были пренебрежены или упущены из виду, многоучеными и многоопытными агентами Рима. Это были, можно сказать, неотесанные камни, забракованные зодчими при возведении политикорелигиозного здания, и в самом деле, между отверженцами римских зиждителей мало было таких, которые были способны поддерживать интересы своей национальной церкви, роняя достоинство самой религии. Но, к удивлению историка, над православным обществом в Малороссии исполнились евангельские слова: «когда вы умолкнете, камни возопиют»... После того как умолкли для нас, один за другим, голоса Радивилов, Сопиг и многого множества князей и панов, представителей русского элемента в Польском государстве, по своему времени высоко образованных и в своей политически развращенной среде сравнительно нравственных, — никто не был столь разительным олицетворением вопиющих камней, как этот жестокосердый Хмель с бессмысленными и беспощадными орудиями его мстительности — казаками. Его лукавое воззвание за веру! было не что иное, как громогласная проповедь того, что наши темные иноки едва смели проповедовать шепотом, а громадные преступления соблазненной и запуганной им черни явились возмездием за то ехидство, с которым иезуиты, скрываясь под полой Сигизмунда III, разоряли русскую церковь руками русских людей. Творец наших Терлецких, Потеев, Рутских, Кунцевичей и таких ренегатов, как Замойские, Потоцкие, Жовковские, Острожские, Вишневецкие, основатели римских коллегиумов, монастырей и костелов на счет продуктов Русской земли и русской рабочей силы, — получили полную меру за меру в ехидстве наших бунтовщиков, завершивших свои подвиги ехиднейшим из всех бунтов, а наглое ругательство иезуитов над кротким и чуждым какой-либо махинации учением Христа отозвалось казацкими ругательствами надо всем, что было для их питомцев святого, и нашло достойный себя отголосок в наглой программе свирепого разбойника Хмеля: «Я сделал то, о чем и не думал; теперь сделаю то, что мною задумано. Сперва я воевал за свою шкоду и кривду, теперь буду воевать за нашу православную веру».
Громкие манифестации поборников папства во имя государственности и тихие нашептыванья загнанного духовенства во имя оскорбленной свободы совести боролись между собой со времен Ягайла, и в результате борьбы явилось опустошение края, который уже и киевский митрополит помогал папистам осенять по всем распутиям католическими «фигурами». После низвержения Копинского с митрополичьего престола и возведения на fastigium православия иезуитских питомцев, окончательное завоевание Малороссии на служение Риму было уже только делом времени. Но политика иезуитов оказалась несостоятельною, и несостоятельность этой политики обнаружена всего больше тем фактом, что казак, побывавший в школе у иезуитов, заставил образованного ими митрополита славословить губителя и католического искони общества, и того, которое отверглось православной Руси недавно. Богдан Хмельницкий, своею решимостью воевать за православную веру, наругался жестоко над иезуитским правилом: «цель освящает средства»; а Сильвестр Косов обратив на злейшего врага Польши то славословие, которым его предшественник чествовал знаменитого её защитника, попрал ногами все святое и высокое, что под этим названием привнесено агентами Рима в национальную политику Речи Посполитой Польской.
Но Хмельницкий и Косов, сами по себе, не были еще так досадны для завоевательной гордости папы. Обиднее всего для Христова Наместника было то, что, в момент величайшего уничижения Польши, его соперник, восточный патриарх, явился в Киеве для того, чтобы приветствовать её уничижителя самыми громкими и почетными титлами. Он-то, надобно предполагать, и был причиной этого перехода Хмельницкого от обычных шляхетских чувств и помышлений относительно церковно-православной политики к решимости воевать за православную веру. Его-то внушениям и следует приписать программу насытившегося разбойной славой казака — вместо одной мести за свои личные потери и обиды, воевать отныне за православие.
Сравнительно с римским папой и даже с папскими легатами, патриарх Паисий был жалкий попрошайка, раб турецкого султана, церковный откупщик. Но, в силу исторических заслуг православия перед чистою совестью человечества, даже ничтожные по умственному развитию, даже низменные по нравственному уровню представители Восточной Церкви, появляясь изредка в Киеве и в Москве, действовали на ход событий могущественнее папских нунциев, которые одни из всех иностранных послов постоянно резидовали при дворе польских королей. Патриарх Феофан, восхваленный в Кормчей Книге до зела, своею проповедью в обществе Сагайдачного, о «христианском роде» русском, дал новое бытие уничтоженной папою киевской митрополии; патриарх Паисий, не восхваленный в Кормчей Книге вовсе, появился в обществе Хмельницкого как бы для того, чтоб эту повернутую к папству митрополию повернуть обратно на путь православный. Феофан обратил к покаянию разорителей православного царства; Паисий разорителям царства католического внушил воссоединительную в своем результате мысль — объявить себя защитниками православной веры.
Все наблюдавшие Хмельницкого по его возвращении в Украину находили поступки его загадочными и странными, видели в нем что-то похожее на умоисступление. Иным человеком сделался и Сагайдачний после пребывания в Киеве иерусалимского патриарха. Что говорил и делал Паисий среди казаков, это осталось так точно неизвестным, как и пребывание Феофана в «обоих русских пределах», в обеих наших Россиях. Но из дел Сибирского Приказа в московском «архиве Министерства Юстиции мы знаем, что он, как и Феофан, проповедовал православное единомыслие. Знаем также, что еще до пилявецкой таборщины Хмельницкий послал навстречу Паисию к волошской границе полковника Мужиловского с отрядом казаков, которые и препроводили его в Киев. Встреча, сделанная Хмельницкому в Киеве, была следствием этого распоряжения, а после того Хмельницкий отправил иерусалимского патриарха в Москву для вовлечения царя в казацкую войну. Сопровождал его тот же Мужиловский. По устному наказу Хмельницкого, Мужиловский добился позволения видеть «светлые государевы очи» в присутствии патриарха Паисия и «положить под ноги царского величества» написанный на бумаге словесный гетманский наказ, которого не согласился он открыть царским сановникам.
В этом наказе интереснее всего начальные слова: «Война тая, которая всчалася между казаками войска Запорожского и ляхами, не откуда инуды, одно: не могучи казаки войска Запорожского бед, утрапеня и утисков от ляхов казаком выраженных терпети», и т. д. Что касается гонения веры, то, по письму Мужиловского, вот в чем оно состояло: «Когда Хмельницкий ушел с товариществом своим на Запорожье, «там ляхи, чинячи на здоровье Богдана Хмельницкого разные ему пакости, и товариществу его выражали — в домах их маетность всю побрати, жен и детей мучити, а на остаток веру православную христианскую мечем выкореняти — ту себе пред ся взяли мысль», вот и все.
Татары (сказано в устном наказе Мужиловскому) «услышав о той войне, с стороны смотрели: больная нога послизняется... и яко воин воинови помог, сына Потоцкого раненого поймали... а сами с ордою снявшися, всякий по себе своим кошем до табора Николая Потоцкого тягнули».
Потоцкий и его соратники, в этом рукописании казацком, представлены сожигателями корсунских церквей (а мы знаем, что замочек с церковью остался цел, церкви же в те времена и в таких опасных местностях нигде не строились, как только в «замках»), — изображены грабителями церковных аппаратов и сосудов, попирателями агнцев Божиих, тела Христова, посекателями священников, за что де Бог и покарал Потоцкого с его товарищами-панами татарскою неволею и мечем Хмельницкого.
Далее говорится, что о смерти короля Владислава Хмельницкий узнал только под Паволочью, а «поспольство, доведався, что короля в земле нет, в казачество все поворотилось», избивая на обеих сторонах Днепра панов своих, ляхов, жидов, ксендзов и опустошая костелы вместе с городами. Под Глинянами (писал Мужиловский) собралось польского войска 120.000, и пришло оно под Пилявцы, имея 100 пушек. Туда явилась «нечаемая белогородская Орда», и казаки одних ляхов «под Пилявцами в реке потопили, а иных в Константинове побили и потопили, а за иными гнались», и т. д. «ляхи сгодне или несгодне обрали себе короля Казимира», который де обещал Хмельницкому «быть русским королем, и что саблею взяли, и то бы себе держали, крепко обещаясь, что одноконечно хотят подтвердить. И так де масляного заговейна помирились, а по масляном заговейне снова воевать, если не будет Казимир королем русским, хочет войско Запорожское». Татар де оно имеет на помощь себе сколько нужно, а самих казаков — тысяч триста. Остается де только московскому царю помочь казакам, и тогда не только еретики и неприятели православной веры будут покорены под ноги царского величества, но «и гроб Божий из руки турецкой с патриархами» будет освобожден.
С своей стороны патриарх Паисий уверял царя, что Хмельницкий желает поступить под высокую руку великого государства; но Мужиловский об этом в своем письме почему-то умалчивает.
Глядя по-своему на подвиги Хмельницкого, царь отправил к нему в табор гонца Василия Михайлова с письмом, внушительно советующим прекратить войну.
Хмельницкий отвечал, что не верит миролюбию ляхов, и просил царя, чтоб он, приняв казаков под свое самодержавие, велел своим людям наступить на ляхов. В противном де случае мы свидетельствуемся, Богом и всеми святыми, что «потуду станем с ляхами биться, покуду нас православных (и, разумеется, татар) станет».
Смекая, что все это значит, царь, через боярина, Григория Гавриловича Пушкина, объявил Мужиловскому, — что у него заключен вечный мир с Польшей, который нарушить непозволительно, потому что это будет грех перед Богом и позор перед всеми христианскими государями. Казацкий посол предложил царскому боярину такую увертку, чтобы государь позволил только «вольным людям донским казакам» прийти на помощь к Хмельницкому, и сулил царю несколько городов, которые де сделались казацкою собственностью, и если государь примет «Запорожское войско» в подданство, то они (казаки) пойдут отбивать у поляков и другие города, в которых бы жили одни православные христиане.
Этот совет казакоманы называют практическим; но Пушкин отвечал казацкому практику честно, что это дело, скрытое от людей, не скроется от очей всевышнего Бога, пред которым такой поступок будет так же грешен, как и явное нарушение мира. А пусть лучше казаки пошлют своих послов в Польшу и Литву к панам-раде уговорить их, чтоб они, вместе с казаками, избрали своим королем русского государя, и послали бы о том к великому государю своих великих послов а если у них король уже избран, то они помирились бы с казаками на том, чтобы Запорожскому войску быть в подданстве великого государя без нарушения вечного мира между Польшей и Россией; и если они на это согласятся, тогда государь примет казаков под свою высокую руку.
Таким ответом боярин Пушкин обезоружил полковника Мужиловского и разрушил дерзкие рассчеты Хмельницкого на московского самодержца. Казацкому послу надобно было ретироваться из Москвы ни с чем, — тем больше, что его посольская свита заявила Москве, каких прекрасных людей предлагал ей в сообщники практических действий свидетельствующийся Богом разбойник. Ночью 24 февраля эта свита взбунтовалась, и хотела избить представителя казацкого народа; но он бежал к стоявшим на одном с ними подворье грекам. В своей челобитной царю Мужиловский писал, что хотя ему и предоставлено по казацким правам наказывать «подданных своих» чем угодно, однакож не хочет он их наказывать, потому что они буянили от пьянства, и просил уменьшить им отпуск напитков на половину, что и было исполнено.
16 марта Мужиловского отпустили обратно в Малороссию, дав ему небольшое государево жалованье [85], и вместе с ним отправили дворянина Григория Унковского да подъячего Семена Домашнева для переговоров с Хмельницким о государевых делах.
Не такой награды ждал Мужиловский. На выезде из Москвы он, с досады, «говорил про Московское Государство непригожие слова: что в Московском Государстве правды ни в чем нет». Царь послал ему в догонку выговор, который должен был учинить Унковский. Послы ехали так быстро, что гонец с выговором настиг их только в Переяславле. Мужиловский оправдывался так: «Государеву милость к себе и жалованье я помню; гетману и полковникам и всему войску Запорожскому хвалить буду; а про Московское Государство ни с кем никаких непригожих слов не говорил, разве в пьянстве что молвил, и то не хитростью, по иноземному обычаю, (а потому) что государевою милостью и жалованьем поехал с Москвы пьян».
Патриарх Паисий остался в Москве. Но его проект завоевания Гроба Господня нимало не заохотил Тишайшего из Государей к недостойной сделке с губительнейшим из разбойников. Тем не менее дело, начатое патриархом Феофаном и поколебленное митрополитом Могилою, было им возобновлено настолько, насколько допускал это характер казацкой войны. Что вопрос о древнем русском благочестии стоял теперь на прежнем, до-могилинском, пути своем, видно и из отзыва Мужиловского в Москве о приятеле и должнике Петра Могилы, Адаме Киселе, — отзыва, напоминающего показание литовского канцлера об униатстве Киселя. Конфидент Хмельницкого, прежде всего, сообщил думным дьякам Волошенинову да Алмазу Иванову, — что Кисель — униат, а не истинный христианин; что он пытался устроить в Киеве такое патриаршество, какое существует в Москве, но не решился на это, опасаясь, что вселенские патриархи и все православные христиане не позволят ему сделать этого, тем более что патриарха он хотел получить из рук папы.
До приезда Паисия в Москву, царь Алексей Михайлович посылал к панам, изображавшим собою Польское государство, думного дьяка Кунакова «навестить их» и объявить, что «царь явился к Речи Посполитой милостью своею: писал к атаману казацкому к Богдану Хмельницкому и ко всему войску Запорожскому о добром и великом деле, о успокоенье нынешние войны, чтоб кровь христианская унялась». Когда же новый король, Ян Казимир, уведомил царя о своем восшествии на престол, — в ответной царской грамоте послышалась нота суровая. Грамота заканчивалась такими словами:
«А что к нам, великому государю, к нашему царскому величеству, вы, брат наш, ваше королевское величество, в той же грамоте писали: брата своего высокославные памяти, наяснейшего и великого князя литовского, его королевское величество, великим светилом христианства, (что он) просветивши весь свет, преселился до веку святых небесных обителей, в вечную хвалу, — и так было писать непристойно, потому что в той грамоте написано превыше человека. Одно светило всему — праведное солнце Христос, Бог наш, творец свету, небу и земли: той просвещает вся человеки».
Но перемена в благоволении царя Алексея Михайловича к Польше произошла не от одной бестактной и хвастливой грамоты Яна Казимира. Царский «гонец» Кунаков, по возвращении в Москву, представил своему государю обширную записку о «Черкаской войне». Черкаская война интересовала православную Москву крепко. Кунакову было поручено разведать о ней и в дороге, и в обеих польских столицах вместе со всем тем, «что нужно Московскому Государству». В начале своего посольства, Кунаков «вестовым письмом по литоре» донес царю, как мы уже знаем, что Богдан Хмельницкий, под видом войны из-за унии, мстил панам за свои личные обиды; но через два месяца старательных разведок представил дело совсем в другом виде, — представил то, «что нужно Московскому Государству».
«Запорожским де черкасом» (писал он) «наперед того за многие лета от ляхов [86] и от униат (было) утесненье большое веру благочестивую христианскую у них ломали, и церкви Божьи печатали, и многие благочестивые церкви привернули в унию, и самих черкас побивали, и жон и детей и животы у них отымали, и всякое насильство и розорене им чинили. Да черкасом же де, сверх того, было розоренье от жидов, которые держали в их местех от панов аренды. И те де жиды их, черкас грабили и наругались над ними всячески. Только который черкашенин укурит вина, или сварит пиво или мед, не явясь жидом, или против жида учнет говорить не сняв шапки, и жиды де за то, сприметываяся с ними за посмех, их грабили и разоряли, животы их отымали, и жен и детей в работу имали насильством. Да и сами де паны у черкас у многих поймали жены и дети, и животы, и многое им наруганье и разоренье учинили».
За такие кривды (пересказывал слышанное в православном народе Кунаков) казаки жаловались королю Владиславу. «И призвав де Владислав король Богдана Хмельницкого [87] и черкас челобитчиков в покоевые хоромы, и говорил им, что санатари его вдались в свою волю, панство его пустошат, а его мало слушают, и отписав де Владислав король саблю, дал Богдану Хмельницкому и сказал: то де ему королевской знак: имеют они при боках своих сабли, и они б тем своим обидником не поддавались, и кривды их мстили им саблями; и как время дойдет, и они б на поганцов и на его королевских непослушников были во всей его королевской воле».
В таком духе была составлена вся записка. Хотя в ней не было ни инквизиционных сцен, какими приправляют свои повествования малорусские летописцы, ни жидовских ругательств над религиозными обрядами, изобретенных казацкими кобзарями, но и того было довольно, что казаки воевали за православную веру и были призваны королем к усмирению непослушников его. Не король, стало быть, посылал войско на Хмельницкого за реку Рось да за речку Тясмин: это делали «санатари», что вдались в свою волю, что пустошили государство и мало слушали короля. Хмельницкий был не бунтовщик, а пособник своего государя в защите притесняемой папистами веры, в защите его царственности. Кунаков пересказывал похождения Хмельницкого в том виде, в каком они вошли в летописи и в монографии, от неизвестного сочинителя мурованного столба и медного быка до всем известного Костомарова включительно.
«Когда ляхи и погонщики» (посланные в погоню) «съехали в поле Богдана Хмельницкого, и Богдан де послал к ним от себя черкас двух человек, и велел им говорить: для чего они на них, товарышей и на единокровных, паче ж на единоверных, вооружились? а у них де идет не о себе, а о благочестивой христианской вере, и они де погонщики есть ли на благочестивую христианскую веру восстали сопча, и они Богу ответ дадут, а Бог де и товарыщи их против их и единокровных и единоверных своих товарыщей сабель не подымают. И черкасы де погонщики ляхов переймали, а которые противились, и тех побили. И Богдан де принял их к себе, и многие у них речи были со слезами о вере христианской».
Если Хмельницкий заставил большинство польско-русских панов приписывать казацкий бунт украинским землевладельцам, то его краковские и варшавские пособники без труда могли уверить царского гонца, что казакам «идет не о себе, а о благочестивой христианской вере», о которой «многие у них речи были со слезами». А что Кунаков находился под влиянием тайных и явных хмельничан, это всего яснее видно из его пересказа о призыве татар.
«И Богдан Хмельницкий с татарскими мурзы договорились и укрепились на том, что ясыр» (под которым, очевидно, разумеются здесь только военнопленные) «имать татарам, а лошади и животину дуванить пополам, а скарб и животы — черкасом. И тем Богдан Хмельницкий обоих людей от ссоры уберег».
О взаимных отношениях сословий и властей Кунаков докладывал царю так, как доложил бы ему сам Хмельницкий:
«И паны-рады советуют, меж себя розделясь, и нелюбовь меж панов-рад большая. А шляхта и многие мещане говорят сетуя, что паны-рада, в своем нелюбье, Речь Посполитую губят и такую великую черкаскую и татарскую войну ставят ни во што; видя неприятельскую саблю на головах своих, о обороне панства не промышляют, от гордости и в нелюбье своем не образумятца. А та де беда и злое разоренье учинилось от их же панской гордости и от налог, и пришла де на их Божья месть, и святое евангельское слово исполняетца: которою чашею они, пышные паны з жидами, поили бедных черкас, и ныне де тую чашу сами многие пьют и вперед будут пить, а подле их и невинные убогие люди погибают. Да гонцу ж (то есть ему, Кунакову) сказывали в розговорех многие люди, что Казимера де короля хотенье есть и того желает, чтоб Богдан Хмельницкий панов-рад сломил и ему послушных учинил, и чтоб паны-рада и шляхетство были во всей его королевской воле».
Наконец, Кунаков пересказывал распускаемый казаками слух, что «все паны-рада говорили и на мере немного того не поставили, чтоб во всей королевской державе благочестивую христианскую веру искоренить в конец, и была б во всей королевской державе одна вера, как и в Московском Государстве, чтоб в королевской области за веру меж панства и простых народов розни и несогласья не было».
Так иезуитски подкапывались казаки, в немом согласии с обнищавшим духовенством, под фундамент, на котором иезуиты думали утвердить нерушимую целость Речи Посполитой. Заинтересованный со стороны монархизма, борющегося с панами-республиканцами, московский царь тем еще более беспокоился о судьбе малорусского православия, что древнему русскому благочестию предстояло падение на киевской почве в случае торжества панского оружия над казацким. Было достаточно и одних этих побуждений для того, чтобы склонить мысли самодержавного монарха в пользу панских противников. Но представители польской национальности, не сознавая, как для них опасно столкновение с национальностью русскою вообще, возбудили против себя Русь и по отношению к достоинству московского царя.
Кунаков прибыл в Краков в начале февраля 1649 года; но царская грамота, которую он привез, была писана еще до получения в Москве вести об избрании Яна Казимира; поэтому он мог иметь дело только с примасом и с панами рады.
Когда царскому гонцу было вручено расписание предстоявшей ему аудиенции у примаса и панов рады, Кунаков сделал им, через посредство их докладчика, такое внушение:
«То мне в великое подивленье, что паны-рада великому государю нашему, его царскому величеству, достойные чести воздать не умеют. Для чего в том письме не написано, что паном-раде про здоровье его, государя нашего, царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Русии самодержца, спросити встав? И государь ваш Владислав король про его государское здоровье спрашивал его царского величества послов и посланников и гонцов всегды вставая и шляпу снимая; а им, паном-раде, его королевского величества подданным, пригоже наипаче того великому государю нашему, его царскому величеству, достойную честь воздавать».
В самом деле, было верхом безрассудства выказывать относительно московского царя высокомерие теперь, когда судьба Польши зависела от его благосклонности. Но римские просветители правительствующих сословий польских давно уже похитили у них ключ политического разумения. Вместо целости отечества, паны, с королем во главе, заботились о достоинстве католического прелата.
Жалкие правители обуреваемого государства держали совет по возбужденному думным дьяком вопросу, и приговорили, чтобы примас осведомился о царском здоровье сидя. Узнав об этом, царский гонец сделал им выговор, сознавая, без сомнения, какую силу задевают безмозглые (такой эпитет придавали москали полякам), и какое может последовать за то возмездие:
«Или у вас арцыбискуп найвышши королевского величества, что королевское величество про здоровье великого государя нашего спрашивал всегда стоя, а арцыбискупу спрашивать сидя? Слушное ль то дело? И помыслить про то страшно. А великий государь наш, его царское величество, жалея об вас, что вы остались безгосударны, прислал меня к вам с своего царского величества грамотою в ваших незгодах навестить, и писал в своей государевой грамоте о великих государственных делех, которые настоят обоим великим государствам к покою и к тишине и ко всякому добру, и паном-раде ту царского величества милость надобно было знать».
Для представителей римского просвещения тем зазорнее было выслушать от москаля подобную нотацию, что, повертевшись несколько дней, они были заставлены, во все время как он читал «царское именованье и государские титулы», стоять со своим арцыбискупом без шапок, а «также и про царское здоровье спросить с полным государским имянованьем и государеву грамоту принять — по тому ж, стоя без шапок».
В пику римскому папе, Кунаков потребовал, чтобы при аудиенции папский легат не присутствовал. «Легату римскому» (объявил он) «и в полате той у панов-рад быть при нем непригоже, а не токмо что ему в то время с паны-рады сидеть, потому: прислан я от великого государя, от его царского величества, к паном-раде Коруны Польские и Великого Княжества Литовского, а легату до того какое дело? И только в то время легат хотя и в полате у панов-рад будет, а не токмо что с паны-рады учнет сидеть, и мне к паном-раде идти не мочно».
Уничиженные в лице своего гостя и политического наставника паны-рады, узнав содержание грамоты, благодарили царя (как писал Кунаков) за то, что он не воспользовался их великим упадком, не наступил на их украины и не сделал им никакой неправды в их вдовье время; но в благодарственной грамоте хотели написать сперва имя своего новоизбранного короля, потом имя арцыбискупа гнезненского и всех панов рады, а потом уже имя московского царя с его полными титлами. Кунаков снова заметил строго, что «новых непристойных к государской чести образцов вчинать им непригоже, — что об этом даже и помыслить непристойно и страшно». Паны были принуждены написать свою благодарность по указанию московского дьяка.
В Москве не забыли тяжках обид и оскорблений, нанесенных русской национальности латинизованными панами в Смутное Время.
Но ни единым словом не помянул старого Кунаков теперь, когда бывшие владыки Москвы очутились под ногами «растоптавшего польскую славу» казака. Он действовал с благородным тактом и с истинным достоинством по вопросу о присоединении Русской земли к Русии, вопросу, очевидно, уже предрешенному, и в беседе с представителями Польши твердил одно:
«Нашему великому государю, его царскому величеству, недруга ни с которые стороны от иноземных государей нет. Наш великий государь, его царское величество, жалея о вас, что вы остались безгосударны, велел мне вас навестить, и писал в своей царского величества грамоте о покое христианском; также и к гетману к Богдану Хмельницкому от великого государя нашего, от его царского величества, писано, чтоб он, сослався с паны-рады, нынешнюю междоусобную войну и многое кровопролитие умирил; и та его царская милость к вам и ко всей Речи Посполитой ныне и самим вам явна. А войска у великого государя нашего, у его царского величества, всегды наготове многая рать, и царского величества у бояр и воевод по полкам росписаны, по тридцати и по сороку тысяч в полку и больши; так же и гусары, и райтары, и драгуны, и салдаты в строенье у полковников и у всяких начальных людей многие полки; и все царского величества войска воинскому ратному рыцерскому строю навычны. Хоти ему, великому государю нашему, и недруга никого нет, только его государским рассмотреньем во всех его государствах и по украинам войска многие полки всегды наготове. И ко всем людем, к подданным своим и к иноземцов, государь наш, его царское величество, милостив и щедр, и наукам премудрым философским многим, и храброму ученью навычен, и к воинскому ратному рыцерскому строю хотенье держит большое по своему чину и достоянью».
Поездка Кунакова в Краков и Варшаву была своего рода политическая пропаганда, основанная на заявлениях украинских и белорусских жителей о желании присоединиться к России. Но, не ограничиваясь этой пропагандою, Москва, как мы видели, послала и в казацкую Украину такого же гонца, дворянина Унковского.
Унковский должен был выведывать все те данные, на которых предстояло строить политическое единство Русской земли.
Дела Сибирского Приказа в московском архиве Министерства Юстиции сохранили следующие подробности этого посольства.
В сопровождении полковника Мужиловского, Унковский ехал из Путивля на Конотоп, Красный, Прилуки, Басань, Переяслав, Глемязов, и 10 верст плыл вниз по Днепру, переправляясь в Домонтове. 15 апреля прибыл он в Черкассы (которые в статейном списке своем называет Черкаском), направляясь в Чигирин.
Не доезжая 10 верст до Чигирина, Мужиловский поскакал вперед, и встретил царского посланника, в сопровождении гетманского хорунжего, с приветствием от гетмана. В полуверсте от Чигирина встретили царских людей сын Хмельницкого Тимофей, два писаря, Кричевский и Выговский, войсковой есаул, паволочский войт, да еще сотник и атаманы, человек 20, все пешком. Унковский также сошел с лошади.
Молодой Хмельницкий извинялся, что встретил его не раньше и притом пешком. «Под городом великая вода. Снесла она мосты и плотины, а судов таких не изготовлено; лошадей перевозить не на чем». Унковский пригласил Тимофея сесть на лошадь Мужиловского, а все остальные пошли пешком. Через Тясмин переправились на лодках. На берегу ждали лошади.
Царскому посланнику отвели квартиру в доме городничего, Яна. Гетман прислал Унковскому съестные припасы [88] с извинением, что, по болезни, не мог его встретить. Благодаря за корм Унковский просил, чтобы гетман принял его как можно скорее и чтоб на его приеме не было послов и посланников других государств.
На другой день, 17 апреля, к Унковскому пришли два писаря, войсковой есаул, паволочский войт и Чигиринский атаман с приглашением на свидание с гетманом. Унковский поехал на присланном от гетмана коне. Впереди подъячий вёз государеву грамоту, а по сторонам шли писаря, есаул, войт и атаман. На гетманском дворе, у крыльца, встретили его близкие гетманские люди, а в светлице, у самой двери, сам гетман.
Приняв от Унковского грамоту, Хмельницкий поцеловал печать. То же, по его приказанию, сделал обозный Чорнота. Унковский спросил, от имени государя, о здоровье гетмана и все войско. В ответ на это все низко поклонились. Гетман также спросил о здоровье государя и царевича Димитрия Алексеевича. Тогда посланник объявил государево жалованье: гетману три сорока соболей, сыновьям его, Тимофею и Юрию, обозному Ивану Чорноте, пасарям Ивану Кричевскому да Ивану Выговскому, войсковому есаулу Михайлу Гетману; Костырскому Яну, полковникам: черниговскому Федору Вешняку, корсунскому Морозенку, нежинскому Шумейку, миргородскому Матвею Гладкому — по паре соболей [89]. Хмельницкий прочел царскую грамоту про себя и, снова поцеловав печать, отдал Выговскому, благодарил за милостивое слово, посадил Унковского возле себя и, когда полковники уселись по скамьям, пригласил его к обеду. За обедом о предмете посольства не говорили.
Через день Унковский снова приехал к гетману с прежней церемонией и нашел у него всю старшину, какая на то время оказалась в Чигирине. Поздоровавшись, гетман удалился с ним, с его подъячим и с Выговским в отдельную комнату. Прочие были собраны в доме Хмельницкого лишь для того, чтобы служить органом толков о царском посольстве и пускать в ход о нем вести, какие были нужны казацким политикам.
Запершись вчетвером от своего национального собрания, Хмельницкий объявил, что не может, как написано в грамоте, послать к панам-раде с ходатайством об избрании царя на польский престол. «То дело миновалось: в Польше король выбран. Пускай теперь государь сам наступит на Литву, и она наверное предложит ему свою корону; а на Польшу я и войско Запорожское помоги не просит. Польше против нас и крымского царя не устоять, и великий государь станет государем Литве и Польши. Да писал я, чтобы великий государь принял меня с войском под свою высокую руку; но в царской грамоте ответа на это нет. Не наказано ли тебе что-нибудь об этом?»
Унковский отвечал: «Если даст Бог, вы освободитесь от Польши и Литвы без нарушения мира, тогда великий государь вас пожалует, велит вам быть под его высокою рукою».
«Да мы и теперь свободны» (сказал Хмельницкий). «Целовали мы крест служить верой и правдой королю Владиславу, а теперь в Польше и Литве выбран королем Ян Казимир и коронован; однако, нас Господь от них избавил. Короля мы не выбирали и креста ему не целовали, а они к нам о том не писали и не присылали, а потому мы свободны. Почему же теперь государю не помочь нам? Если он опасается Польши и Литвы, что в прошлые годы причинили Московскому Государству многие беды и разорение, то теперь этого опасаться нечего: без нашего Запорожского войска везде они будут худы, а и в тех-то войнах были сильны лишь нашим войском. Теперь счастье само дается в руки государю: без всякого ущерба, он может получить большое государство и множество ратных людей. А мы желаем поступить под государеву руку, потому что наша благочестивая вера явилась от общего корня, от Св. Владимира, только ляхи своими неправдами отлучили нас от Московского Государства. А я так думаю: на чьей стороне войско Запорожское и вся Белая Русь будет, та сторона будет страшна всем неприятелям, потому что войско Запорожское имеет огромные силы, что известно и государю, и если нас великий государь не принимает и от своей милости отгоняет, то нам кажется, что мы, православные христиане, ему негодны, и милостивым к нам быть не хочет».
Здесь надобно упомянуть, что в Черкассах Унковский виделся (конечно, не случайно) с сотником Яном Кравченком, который только что вернулся из Крыма и сообщил ему, что крымский хан со всей Ордой идет к Хмельницкому, и будет к Троицыну дню, и говорил ему: «Как нам Бог поможет повоевать ляхов, тогда вы, казаки, идите с нами воевать москалей за их неправды, — что они ныне во всем перед прежними крымскими царями чинят нам великие кривды, казну дают не сполна и послов наших бесчестят и по городам рассылают, и голодом морят».
Не смотря на клятвенное уверение сотника Яна, что хан делал такие угрозы, представитель крепкодумной Москвы отвечал на разбойное домогательство представителя днепровской вольницы спокойно:
«Такие речи говоришь ты, гетман, не помня к себе царской милости. От века прежние гетманы и войско Запорожское не видали таких милостей, как милость к тебе. В прошлом 156 (1648) году присылали к государю известие паны-рада польские и литовские, что войско Запорожское от них отложилось и войну против них начало, а потому просили на вас помочи ратными людьми, согласно договору; но великий государь и не подумал посылать на вас войско, а напротив, отвечал, чтоб они войны и кровопролитие прекратили. Затем, когда государь узнал, что у вас хлеб не родился, саранча поела, а соли по причине войны добыть негде, то позволил вам покупать хлеб, соль и всякие товары в своих городах и приезжать для покупки торговым людям. Что, если бы великий государь запретил вам вывозить из своего государства хлеб, соль и всякие товары? Ведь вы тогда все умерли бы с голода. Когда я ехал сюда черкаскими городами, то народ говорил мне, что они все молят Бога за эту милость государеву. Да вот и сейчас государь жалует вас новою милостью: дозволяет вашим людям вывозить всякие товары в свои порубежные города беспошлинно».
Гетман с благодарностью объявил, что он также прикажет пропускать из Московского Государства торговых людей со всякими товарами беспошлинно же.
«А долго ли быть у вас войне с поляками» (спросил Унковский), «и на чем вы хотите порешить?»
«Ну, нашей войне с ляхами и Литвою конец один Бог ведает» (отвечал Хмельницкий). «Много они нам бед и разорений причинили: святые Божии церкви сквернили, нас хотели неволить в свою проклятую веру; но милосердный Бог призрел на наши слезы и терпение, не допустил их в конец нас разорить, подавши нам победу на них за их злодейство, а мне, последнему в человецех, повелел над войском Запорожским в войне сей начальником быть и над ляхами победы иметь. После этих побед ляхи и Литва присылали к нам послов и много раз писали, чтоб нам по-прежнему быть под их властью на том условии, что они будут почитать святые Божии церкви и православную христианскую веру, не будут держать ляцких духовных и дадут нам во всем повольность, а мне, гетману, дают город Чигирин да еще четыре города, где я хочу, и кроме того киевское воеводство: в этом они готовы присягнуть. Однако, мы знаем, какова их присяга. И прежде они не раз присягали, да присяга не удерживала их от притеснений и кровопролитья. А теперь, как слышно, за нынешнюю войну грозят не оставить в живых ни одного казацкого младенца. Я с своей стороны предлагал им помириться на том, чтобы им, ляхам и Литве, до нас, войска Запорожского, и до Белой Руси дела не было, а границы наши и Белой Руси были бы те же, как владели благочестивые великие князья. Если они не пойдут на предложенные мною условия, то война затянется Бог знает до коих пор; а если согласятся помириться, то после мира к кому нам обратиться, как не к великому московскому государю? Не турского царя и не немецких королей призывать».
Как ни бравурствовал, как ни лгал татарский побратим перед царским посланником, тот молча смекал, что у него на уме, и не пошел дальше уверений, выслушанных Мужиловским в Москве, что великий государь, его царское величество, гетмана и все Запорожское войско жалует и милостиво похваляет.
Не зная, чем импонировать видавшему виды москалю, Хмельницкий принялся снова хвастать и лгать: «Если, Бог даст, эту войну кончим благополучно, тогда и царь (то есть хан) со всем Крымом хочет освобождаться из неволи от турского султана, и меня с войском Запорожским позовет на помощь, а за помощь уступает нам весь турецкий полон и животы, как мы поступились ему польским полоном и животами... (в обоих полонах православные составляли огромное большинство). Да хан же говорил мне, что у них мудрые люди в книгах своих нашли, что пришло время православным христианам освободиться от всех вер. В то время, как наши послы были у хана, пришли к нему послы и от польского короля и панов рады, и предлагали ему получить большую казну, с условием отступиться от войска Запорожского. Хан прислал королевский лист ко мне и спрашивал, как ему поступить. Я посоветовал ему взять ту казну, которую ему дают, и потом идти с нами воевать. Он так и сделал. Да в прошлом году, после польской войны, хан предложил мне идти с ним воевать Московское Государство, но я его унял, пригрозивши тем, что если он пошлет свое войско под государевы украинные города, то мы, войско Запорожское, отступимся от него и пойдем воевать Крым, потому что у нас с Московским Государством единственно православная христианская вера»...
Так ораторствовал Хмельницкий перед царским дворянином. Но тот был себе на уме, и не пошел дальше милостивой похвалы Запорожскому войску.
Слухи о сношениях казацкого народа с московским царем давно уже тревожили правителей народа шляхтского. Еще в «Дискурсе» Конецпольского было высказано опасение, что москали, владея Крымом, оторвут казаков от Польши и верою, и надеждою добычи, а потом оторвут и всю Русь. Опасная межень в составе Польского государства постоянно давала себя чувствовать его составителям. Не постигая духа великой нации, воспитанной православием, католики верили коварным стачкам русских государственников с русскими антигосударственниками, и не находили ничего противоестественного в том, что казаки поступились москалям Украиной по Днепр, а те тайком обязались помогать казакам разорять Польшу. Им грезились царские посольства в Украину, предательские договоры атамана разбойников с преемником Иоаннов; а Хмельницкий, пользуясь этим, пускал в ход выдумки, по давнишнему казацкому обычаю. Верили тайным договорам его с царем и казаки, так как, не смотря на все их злодейства в Московщине, последним убежищем представлялась им всё-таки Царская земля. Поэтому-то полученная от царя грамота, дважды поцелованная публично гетманом, была сообщена одному Выговскому, и переговоры с Унковским велись таинственно, только в присутствии гетманского канцлера.
Правда факта проникала и в панские головы; но голов, способных отличать истину от вымысла, в оиезуиченном обществе было немного. Так, по современным польским письменам, царь, осаждаемый просьбами днепровских казаков о наступлении на его супостатов, уклонялся от разрыва с Польшею, и желал успеха казакам лишь в таком случае, если причиною их бунта одна только вера. Но большинство панов, с иезуитской факцией и королем во главе, относилось к царской и к гетманской политике безразлично.
Королевские сановники знали, что Хмель вошел в сношения и с другими соседями. Относительно политических разведок они были деятельнее, чем в добывании вестей о неприятеле посредством боевых подъездов. Они знали, что трансильванский князь Ракочий заискивает расположенности казаков в виду своей борьбы с Габсбургским домом, и что он питает надежду, с помощью Хмельницкого, овладеть польским престолом, на который метил его отец, и который, по смерти отца, некоторые паны во время элекционного сейма, были готовы предоставить сыну. Знали королевские люди и то, что оба придунайские князьки опасались, как бы Хмельницкий, за татарскую помощь, не отдал волохов и мултан туркам в полное подданство. У них носился слух, что, еще до похода на Волынь, казацкое посольство было в Константинополе и обещало султану всю русскую землю от Днестра до Люблина, с тем чтобы казаки находились под покровительством Турции, как данники. Наконец, они узнали, что турецкий посланник отправлен к Хмельницкому для заключения торгового и оборонительного договора. Венецианская война склонялась в пользу турок. Республика Св. Марка предлагала уже султану денежную сделку. Если бы Турция удосужилась на море, тогда силы её должны были обратиться к войне сухопутной, и всего скорее — к войне с Лехистаном, который пугал турок перемирием с казаками, готовыми сражаться из-за добычи под каким угодно знаменем.
Все это заставляло правительствующих панов торопиться с отправкою к Хмельницкому обещанных королем комиссаров. Но произошла остановка за деньгами. Поляки, предлагавшие хану, по уверению Хмельницкого, «большую казну», которую будто бы хан и получил от них, не имели в Коронном Скарбе и такой казны, чтобы дать на дорогу комиссарам!.. На эту ногу вечно хромала олигархическая республика, дававшая частным лицам скоплять в своих скарбовнях миллионы, и не умевшая пополнять недочеты государственного казначейства.
Королевские комиссары были набраны из остатков старорусской знати, растворившейся уже в польщизне, хотя некоторые почему-то, или для чего-то, сохраняли еще на себе образ древнего русского благочестия, отвергшись его духа, духа национальности. Первым и главным членом новой комиссии был назначен необходимый до конца панскому большинству Адам Свентольдич Кисель; вторым — его племянник; третьим — князь Четвертинский, четвертым — Березовский; пятым — Зеленский. Шестого, Войцеха Мясковского, по крестному имени католика, следовательно полного ляха, и только по-фальшивому — русина-недоляшка [90], придали к ним в виде надзирателя, как папского прозелита. Вместе с комиссарами отправилось в казацкую Украину более двадцати человек приоров, гвардианов и других ксендзов, как бы для того, чтобы представители римской проповеди в польско-русских областях видели собственными глазами результаты стараний братии своей разрушить в Малороссии греческую церковь руками её недавних отступников, и навязать римскую веру потомкам её исконных отрицателей.
Отступник русской веры и национальности, Войцех Мясковский, как и все колонизованные русичи, был чужд исторического разумения, того, что сделала из богатого и спокойного края римская проповедь вместе с немецким вероучением, отрицательно его же порожденным, да с польскою неурядицей. Такое разумение доступно только людям нашего времени, если они не фанатики ляхоманы и не архифанатики казакоманы. На руину чужой культуры в родном крае Мясковский взирал глазами сопутствовавших ему приоров, да гвардианов, — взирал глазами их питомицы, олигархически господствующей, шляхты. Он вел дневник новой комиссии изо дня в день, и в своем воззрении вдавался в такие же крайности, какие, в противоположном смысле, были свойственны воззрениям республиканцев-охлократов; но тем не менее сохранил для нас многие черты обеих борющихся республик. Я представлю эти черты, по возможности, его собственными словами. Пускай каждый свяжет их в уме своем с общим выражением польско-русской жизни, стремившейся к неразлучному слиянию в «русском море» наперекор всяким предусмотрениям и предотвращениям римско-польских политиков, — наперекор всем досадам и антипатиям, порожденым противоположностью церковной проповеди, и даже — различием исторической жизни со времен отдаленных.
Мясковский мог выехать из Варшавы едва через шесть недель после элекции, тогда как у другого правительства и шестидневная отсрочка была бы в этом случае медленностью непростительною. Его задержали «скарбовые люди» выдачею денег на издержки комиссии. Тем и начинает он дневник свой: «dla nierychlej odprawy Skarbu», давая этим знать, что повредило второй Киселевской комиссии со сторон правительствущих панов.
«Земский маестат (ziemska majestas)», по воле которого «цари царствуют (reges regnant)», и который «пред лицом Неба творит великих монархов (feste соеlо wielkich monarchiw kreujo)», как выражались ораторы на избирательном сейме, — этот шляхетский маестат сотворил великого монарха из маленького Яна Казимира, но не мог снабдить его средствами даже для комиссарского конвоя. Великий монарх повелел одному из своих верноподданных, литовскому гетману князю Радивилу, дать в провожатые Киселю с товарищи «200 коней», но верноподданный литворусс-кальвинист дал только десятка полтора конных татар (kilkanascie tylko koni Tatarow), найдя какую-то отговорку (wymowil sie z tej uczynnosci), вроде той, какою он оправдал жолнерское казакованье перед своим сановитым дедушкой.
Неутомимый в миротворной деятельности своей Кисель пустился в путь, не дождавшись денег. Мясковский, выехав наконец с деньгами 1 января 1649 года, догнал его 7-го в Кобрине, и вручил ему 10.000 злотых на эту дорогу.
Комиссары, с ассистенцией своей, двинулись далее, под прикрытием только сотни драгун, навербованных коштом познанского бискупа, Андрея Шолдрского. Конечно, бискупа интересовала поездка ксендзовской миссии больше, чем кальвиниста, к которому вовсе некстати обратился с повелением великий монарх.
10 января присоединился к ним киевский каштелян Бржозовский, то есть Березовский (которому Оссолинский исходатайствовал обещанную каштелянию, в полной уверенности, что он, вместе с Косом и Киселем, поможет ему устроить унию потверже Брестской).
14 января съехался с ними племяник Киселя, новгородсеверский хорунжий.
16 января прибыли комиссары в имение Киселя Гощу, которую называл он Гущею в польской переписке своей. Казатчина отхлынула за Случь, оставив по себе не изгладившиеся доныне следы пожаров и всяческого разорения. Несмотря на перемирие, край все еще волновался, как море после бури. По уцелевшим остаткам хозяйственной культуры бродили купы казацких подражателей, называемых вообще гультаями. Народ местами поразительно разбогател грабежом панских имений, местами терпел крайнюю бедность. Но каждый вдохновлялся живущею доселе пословицей: «Бог не без милости, а казак не без щастя». Неизвестно, как обстояло хозяйство в Гоще, но жена Киселя сопровождала его вместе с женами некоторых из его спутников, все еще не понимая, что такое собственно есть разнузданный казак, и надеясь присутствием своим смягчить полудиких бунтовщиков.
Через четыре дня комиссары гостили у князя Корецкого в Корце, где доселе видны остатки его замка. Корец стоит над рекой Случью. Это был крайний пункт, до которого смели возвращаться на свои пепелища отважнейшие колонизаторы наших пустынь по следам отлива руинной казатчины. Князь Корецкий, православный еще малорусс, с колонизационною деятельностью соединял охочекомонное казакованье, необходимое для отражения ордынских и домашних набегов. Полуверя и полунедоверяя прежним своим подданным, он собрал вокруг себя более 4.000 вооруженных осадников, из которых, одни боялись других, и потому повиновались князю осадчему. Дело в том, что князь Корецкий держал поближе к себе несколько сот надежных рубак, стрелков, копейников, и с их помощью обуздывал такую же сбродную дружину людей ненадежных, что делал, в больших размерах, и сам Хмельницкий, вверявший свою палатку и свой сон жолдовым татарам.
Целый день провели комиссары в Корце, и 21 января, переправясь в Звягле через Случь, вступили на территорию «удельного княжества казацкого», на границу Киевского воеводства, существовавшего фактически еще весною прошлого 1648 года.
Князь Четвертинский ездил к Хмельницкому в Чигирин с уведомлением о приближении королевских комиссаров и с приглашением в Киев на комиссию. По распоряжению гетмана, на границе его татаро-казацкого кочевья встретили комиссаров полковник Донец и сотник Тиша, с конвоем в 400 человек.
«В Бышове» (пишет Мясковский) «догнал нас брацлавский подчаший Зеленский, которому я отдал на эту дорогу из Скарба 3.000 злотых».
К ночи того же дня прибыла комиссия в имение Киселя, Новоселки, в 15 милях от Киева. Отсюда Кисель вновь послал князя Четвертинского к Хмельницкому с просьбою выехать в Киев на комиссию, и целую неделю ждал его ответа. В это время, по словам Мясковского, пан воевода и его пани претерпели «разные контемпты от хлопства», то есть от своих подданных. «Жияность» (пишет он) «затруднительна и дорога: не только зерна, но и соломы для лошадей не было. Бунты подданных против самого пана и дедичной пани».
Так приветствовала миротворца оказаченная родина, куда надежда угомонить Хмеля влекла его как будто для того, чтоб он уразумел наконец смешную и печальную роль свою.
Февраля 2, в Белогородке, в трех милях от Киева, комиссары испытали такое же беспокойство и недостаток (niewczas i niedostatek). Но Кисель и Березовский отвели душу в беседе с православными единомышленниками своими: митрополит (Косов) и архимандрит (печерский Тризна) выехали сюда для секретного совещания (ad secretum colloquium)».
В Киев казаки не впустили королевских комиссаров, а посланцов Киселевых, шляхтичей Гнездовского и Брышовского, приняли там с презрением (zniewazono), Кисель один ездил под Киев для беседы с митрополитом.
Из Гвоздова 12 (2) февраля отправил он племянника своего и «бывшего королевского посла, Смяровского», секретаря комиссии, к Хмельницкому с убеждением ехать в Киев на комиссию. Хмельницкий местом съезда назначил Переяслав.
«В сыропустную неделю» (пишет Мясковский) «пустились мы к лесникам на Киев черев Хотовку, местечко князя Корецкого. Заступили дорогу пану воеводе, с которым сидели мы в одних санях, тамошние казаки с хлопством, и не пустили далее, держа под уздцы коня под казаком, который нес за паном воеводою знак. Мы были принуждены и того казака, и самих себя окупить талерами, будучи в небольшой купе, без казацких и драгунских хоругвей».
Еще из Новоселок послал Мясковский такую реляцию в Варшаву, которая уничтожала всякую надежду и все мирные ожидания, возбужденные Хмельницким.
Хмельницкому было нужно приостановить панские вооружения и панские военные распоряжения для того, чтобы доверчивые ляхи дали ему время разобраться в своих разнообразных лупах. Это видно из его письма к султан-калге, о котором будет речь в своем месте.
«Пришли мы сюда под Киев» (писал в Варшаву Мясковский), «как в пустопорожнюю неприятельскую область (jako in hosticum solum). Все города и села полны казаков. Отряды их ведут и сторожат нас. Повсеместно враждебность (undique hostilitas). Съестные припасы добываем с трудом и платим дорого. Кругом саранча — казаки и татары. На зиму ничего не сеяли. В города не пускают. Кто отстанет или возьмет в сторону, тотчас погибнет, как это недавно случилось в Черняхове, где пан Можайский и пан Лютомирский, добрый и нужный слуга, убиты с несколькими другими, а Радивиловы татары-казаки едва ушли, раненные и ободранные.
Хмельницкий возвысясь победою (elatus victoria), не согласен на конгресс (congressum nie pozwala); не дает ответа; посланцов задерживает под стражею... Причиною тому иерусалимский патриарх, который дал ему титул русского князя (titulum ducis Russiae) и сравнял его с Константином Великим. Причиной тому и послы от Ракочия. Того и другого надобно было упредить; но несчастная отправа (с деньгами), медленная скарбовая экспедиция, как бы завидуя успокоению отчизны, повергла её в отчаяние (zajrzala ojczyznie pokoju desperacyej)... От киевских чернцов, посредников его с Лупулом, узнали мы, что Хмель хотел идти на волохов, но Лупул прислал ему подарки и натравливает его на нас. И патриарх побежал в Москву, чтобы царя соединить с Лупулом против нас. Тогай-бей господствует и на Саврани, и на Чечельнике. Живность ему доставляет Умань, и у него уже тысяч 70. Со всех сторон принимает к себе и верующих, и неверующих в Бога, всех наций и религий; тотчас и жолд, и вооружение. Хмель отдал ему Бар и Цацарулки, весь тракт за Днепром, и по сию сторону на 20 миль земли. Закаливайте колья да сабли. Готовьтесь, сколько вас ни есть, конные и пешие (quotquot estis, equites et реdites). Не жалейте скарбов и не щадите, или же — нагните шеи под ярмо гадким хлопам (albo szyje brzydklemu chlopstwu sub jugum podajcie). Нам уже турки (т. е. неверные казаки) «и Кодаком грозят» (т. е. что Хмель комиссаров отправит в Кодак) и живности не хотят продать. Правда, у них немалый голод. Пропадут и наши кони (i my odpadniemy od koni), если пробудем здесь дольше... Против договора (с осажденными в Кодаке), Хмель перевез тамошнюю артиллерию в Чигирин... Казаки готовы с татарами. Сухари берут на коней. Недели в две будут в Кракове. — Душно нам без сена, овса, ячменя и соломы. Казаки сами гонят лошадей в поле, в снега, (иной) коней по пятнадцати турецких. А в Киеве нарядов и другой одежды видимо-невидимо (ber liczby) [91]. — Вместе с нами пустилось было много киевской шляхты; но хлопы ни одного не приняли в их собственные дома, или лучше — на пепелища. Самому пану воеводе не дали ни хлеба, ни соломы. — Начиная от Кобрина, костелы так разорены, что и в Новоселках не видали мы ни одного ксендза (а было, видно, их довольно у православника Киселя). Шляхетские дворы все обращены в пепел».
Нельзя было комиссарам проехать в Переяслав на Киев: они поехали на Хвастов... Хвастов! какие с этим именем были соединены у них воспоминания о добродетельном бискупе (а все таки бискупе) киевском, Юзефе Верещинском, основателе первой в Украине типографии, авторе гуманно-политических брошюр, наивных до поэтичности, друге и защитнике верных еще королю и Республике казаков! Бискуп Верещинский, окатоличенный с колыбели русин, наименовал было уже колонизованный им Хвастов Новым Верещином, в память о родном Верещине в Холмской земле. Он, вместе с другими энтузиастами патриотами, ревностно созидал «Новую Польшу», иначе «Нижнюю Польшу», в Малороссии, и не сомневался в успехе благого по его воззрению дела... Теперь, по словам дневника, казаки с мужиками (cum plebe) насекли и натопили в этом Хвостове не мало шляхты обоего пола (utriusque sexus); а некоторые из престарелых утопленников могли еще помнить доналивайское время и знать в лицо добродетельного колонизатора Хвастовской пустыни!
Через Днепр переправились комиссары в Триполье; оттуда ехали на Воронков; от Воронкова сделали еще 6 миль, и достигли Переяслава 19 (9) февраля (следовательно, месяца за полтора до выезда Унковского из Малороссии).
Стоял сильный мороз. Гетман Хмельницкий выехал навстречу королевским комиссарам за версту в поле, в несколько десятков лошадей, с полковниками, есаулами и сотниками, с военною музыкою, под бунчуком и красным знаменем. После приветствия и «казацкой речи», сел он в сани с левой стороны Киселя. Когда въезжали в город, велел ударить из 20 пушек, может быть, взятых под Корсунем или под Пилявцами, и пригласил послов к себе (do swego dworu) на обед.
В бедственных обстоятельствах панской республики, на долю королевских комиссаров выпала самая горестная роль — являть спокойный и величавый вид, когда в сердце у них скребли мыши. Приамово посещение Ахилловой ставки не было столь мучительным. Приам целовал руки убийцы своего сына, но этот убийца был ему равен, и совершил свое кровавое дело геройски. Здесь пришлось выпрашивать милости у собственных слуг и рабов, которые восторжествовали над исконными панами своими предательством христиан в руки неприятелей Св. Креста. Разоренные казако-татарским нашествием паны тянулись из последних средств, чтоб одеть свою ассистенцию и свой шляхетский конвой сообразно достоинству Речи Посполитой, для внушения казацкому народу грозной по их мнению мысли, что прогнанные из Украины землевладельцы имеют еще довольно средств для поддержания владычных прав своих. С великим опасением за себя самих и за своих женщин-героинь, добрались они до кратера, все еще колебавшего страну бунтом, всё еще озарявшего ее пожарами и заливавшего кровью. Но то, что они видели и претерпели в дороге, оказалось менее страшным по сравнению с тем, что предстояло им видеть и испытать в самом вертепе казацкого Плутона. Действительность превзошла самое дикое, что ни закрадывалось в их воображение.
Хмельницкий был теперь уже не тот, каким Кисель знал его в то время, когда, вместе с Петром Могилою, морочил казаков поддельным королевским письмом да укрощал евангельскими изречениями. Ничего шляхетского не оставил в своих приемах и обстановке казацкий батько. До последнего слова и движения, превратился он в запорожца, ненавистника всего панского и ляцкого. К такому превращению побудила его не одна мстительная политика, но и горькая необходимость.
Еще в своем «вестовом письме по литоре» Кунаков доносил царю, что татары, после Корсунского погрома ляхов, остались у Хмельницкого и «меж себя укрепились, гетман — присягою, а татаровья — шертью, что им друг от друга не отступиться, и ныне де вся надежда у Богдана Хмельницкого на тех татар, которые остались у него, а черкасам не доверивает».
В настоящее время казацкий батько опасался казацкой «зрадливости» больше, нежели когда-либо, потому что «фортуна» послужила ему слишком усердно. Только прикидываясь простаком и крайним ненавистником ляхов, только показывая вид, что у него с казаками «дума и воля едина», удерживал он их в повиновении, да и то с помощью жолдовых татар. Вспомним показания пленных казаков о замешательстве в казацком таборе под Пилявцами. Хотя в инквизиционных конфессатах надобно видеть всего больше то, что желали вымучить инквизиторы, но весть о казацком замешательстве все-таки имела свое основание. Приход орды, по словам Мужиловского, «нечаемый», сделал тогда Хмельницкого, как и в Диком Поле, из малого человека великим, из «последнего в человецех», как он выражался о себе, первым, и с него все пошло у казаков на стать. Поэтому он и теперь, окруженный казако-татарской ордою, вел себя, как ордынец, или кочевой запорожец, так что, по замечанию одного из комиссаров, московский посол, человек почтенный и обходительный, часто бывал принужден опускать в землю глаза во время беседы гетмана с полковниками, а посол Ракочия, уезжая из Переяслава, не мог удержаться, чтоб не сказать по-латыни: «Каюсь, что прибыл к этим свирепым и безумным зверям (Poenitet me ad istas bestias crudeles et irrationabiles venisse)».
За обедом у гетмана шла такая грубая попойка, что могла напомнить знатоку казатчины известные запорожские стихи:
В нас у Сичи то і норов, хто Очинаш знає: Як умивсь, уставши вранці, дак чарки шукає. Чи чарка то, чи ківш буде, не гледять перелини: Гладко п'ють, як з лука б'ють, до ночної тіни.Разгоряченные горилкою, гетман и полковники не могли воздержаться от сарказмов насчет князя Вишневецкого, Александра Конецпольского, Чаплинского и всех ляхов.
Но это было только предуведомлением к будущим беседам с ненавистными гостями.
На другой день, 20 (10) февраля, комиссары совещались о том, когда вручить гетману булаву и знамя. В совещании участвовали, как неизбежное, хоть и не сознаваемое панами, зло, их руководители, ксендзы. Совсем не следовало бы им брать с собой ксендзов сюда, в ту среду, которая опустошила все костелы, от Кобрина до Переяслава. Эти представители католической польщизны напоминали казакам (а в казаках были и попы [92]) творца Брестской унии, Скаргу, и отступников народной церкви Терлецкого, Потея, Рогозу, Рутского, Кунцевича.
Члены комиссарской рады рассуждали о Хмельницком, как дети, или, что все равно, иезуитские питомцы, остающиеся до конца в детском возрасте, и решили: отдать ему знаки гетманского достоинства прежде всего (ante omnia), «чтобы смягчить его людскостью и королевскою милостью».
Этот многозначительный акт Хмельницкий указал совершить на майдане перед своим двором, вблизи которого квартировали (как написано в дневнике Мясковского) послы московский и венгерский. Несли перед комиссарами булаву киевский ловчий пан Кршетовский (это значит русин Кротовский, происходивший от Крота), а знамя — киевский скарбник пан Кульчинский (опять какое-нибудь полонизованное имя). Их торжественное шествие возвещали гетманские трубы и бубны.
Хмельницкий ждал королевских комиссаров, стоя в кругу своих полковников и другой старшины, в альтембасовом (золото-парчовом) красном собольем кобеняке, под бунчуком.
Кисель хотел произнести речь, которую сеймовые паны, без сомнения, назвали бы oratio disertissima; но едва начал восхвалять короля, великого монарха, как стоявший возле гетмана Джеджелий, или Джеджала, закричал: «Король — яко король, але вы, королята, князи, бронте много, и наброили. И ты, Киселю, кость од костей наших, одщепивсь еси и накладаеш з ляхами»...
Свое малорусское происхождение Мяско-Мясковский засвидетельствовал тем, что в дневнике комиссии писал казацкие речи по-малорусски не как иноплеменник.
Гетман (продолжает он) стал говорить Джеджале: «Угамуйсь, не роби колоту» или что-нибудь в этом роде (wzial go hamowac hetman); но он, пьяный уже, хотя было еще рано (pijany gorzalka, choc rano bylo) хотел еще ораторствовать, потрясши булавою; однакож, видя, что никто его не поддерживает, удалился из круга. Вероятно, нашлись у гетмана такие, которые увели его домой, уговаривая, как водится в подобных случаях: «Коли двое кажуть п'яный, дак лягай спати».
После такой интермедии, глава королевской комиссии, с надлежащей торжественностью, отдал Хмельницкому «королевские листы» и «комиссарский креденс (верящую грамоту), которые были тотчас прочтены, потом отдал украшенную бирюзой булаву (bulawe turkusowa), а племянник его — красное знамя с белым орлом и с надписью Iohanes Casimirus Rex Poloniae.
То и другое принял Хмельницкий без особенного удовольствия (z jaka taka checia). Нам вспоминаются при этом слова самовидца в подобном случае: «подарок оного в смех принял, яко тот человек, который и своего много имеет». Булава Николя Потоцкого и булава Доминика Заславского затмевали в глазах казацкого батька туркусовую булаву нищего короля и ценностью, и значением своим. Он поблагодарил «казацки», как выразился дневник Мясковского, и пригласил комиссаров к себе (do swojej gospody).
Перед обедом Кисель произнес к нему речь в изысканных выражениях (gladkiemi i wybornemi slowy): говорил о великих сегодняшних подарках, указал ему на амнистию прошлых дел и преступлений его, потом на свободу стародавней греческой религии, на увеличение реестрового войска, на восстановление старинных прав и свобод запорожских, и наконец — что казалось ему всего важнее — что регимент вверен ему, а не кому-либо другому.
В ином положении дел все это было бы и величаво, и внушутельно. Но Кисель изображал в своем лице побежденного короля с его шляхетским народом, готовым, по мнению победителя, превратиться в жидов. Поэтому казацкому батьку должно было показаться и смешным, и обидным заключение красноречивой орации, именно следующее: подобает и ему, Хмельницкому, явить себя благодарным за столь великую королевскую милость; он должен, как верный подданный и слуга его королевской милости, положить конец этому замешательству и кровопролитию, предотвратить разлив крови, не принимать под протекцию простого хлопства, велеть, чтоб оно повиновалось панам своим, и приступить к трактатам с господами комиссарами.
«За такую великую милость» (говорил Хмельницкий, иронизируя Киселя), «которую явил мне король его милость через вашу милость, что и власть над войском прислал (wladze nad wojskiem przyslal), и прошлые мои преступления прощает, униженно благодарю. Что же касается комиссии, то ее трудно теперь отправить. Войска нет вместе, полковники и старшина далеко; без них не могу и не смею ничего делать: это подвергло бы мою жизнь опасности (idzie о zdrowie moje). Притом же я не вижу правосудия над Чаплинским и Вишневецким. Необходимо нужно, чтобы мне одного выдали, а другого покарали: ибо они причиною кровопролития и всего замешательства. Виноват, пожалуй, и пан Краковский, что наступал на меня, что преследовал меня, когда я, спасая жизнь мою, бежал в днепровские вертепы (kiedym w lochy Dnieprowe zdrowie unosil); но этот получил уже свою мзду, нашел то, чего искал.
Виноват и пан Хорунжий: отнял у меня батьковщину, Украину роздал ляховчикам, а те молодцов, заслуженных в Республике, обращали в мужиков и грабили, вырывали бороды, запрягали в плуги. Но этот не столько виноват, как те два другие. Не будет ничего изо всего, если одного из них не покарают, а другого не пришлют мне. Иначе — или мне с Запорожским войском пропасть, или погибнуть Ляцкой земле, всем сенаторам, дукам, королькам и шляхте. Разве мало ляхи тому причиною, что кровь христианская льется? Литовские войска высекли Мозыр и Туров. Януш Радивил одного молодца посадил на кол. Я послал туда несколько полков, а к Радивилу написал, что если он это сделал одному христианину, то я зато сделаю то же самое четыремстам (подразумевается нехристям) ляхам, которых имею, и воздам за свое».
«Вот какой антипаст [93] дал нам он перед скверным своим обедом, ударивши нас в сердца наши жестоким ядом и бешенством»! (пишет Мясковский). Отзывались и другие, точно какие гады из болота, а старый черкасский полковник, Федор Вешняк, схватил булаву на ксендза Лентовского, кармелита, который приехал к ним вместо покойного ксендза Мокрского с королевским листом, — за то, что сказал только: «Вести из Литвы о Мозыре и Турове могут еще перемениться». А он за булаву: «Мовчи, попе! не твоє діло брехню мені задавати»! И непременно ударил бы его, когда бы сидел ближе. Но, как этого нельзя было сделать, то сказал: «И ваши ксьондзи, и наші попи — усі» (тут он ввернул крепкое словцо) «сякие-такие сини. Ходи лишень, попе, на двір: навчу я тебе полковників шанувати». И с этим ядом вышел из светлицы».
«Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», говорит пословица. Но Кисель, в трезвом виде, писал однажды Радзеёвскому то же самое: «Скажем друг другу правду: духовные ссорят нас с обеих сторон». Этими словами он высказал то, что старались и стараются с обеих сторон игнорировать, в ущерб разумению былого.
Комиссары провели у Хмельницкого несколько часов, всячески стараясь его смягчить хорошими словами. Но их красноречие нимало не подействовало. «С сердечным жалем и слезами» (пишет Мясковский) «разъехались мы по квартирам, которые были умышленно разбросаны по городу так, чтобы мы затруднялись в своих сношениях».
На другой день, в воскресенье, ходил Мясковский с Зеленским в соборную церковь, и там обменялся учтивостями с московским послом, которого в своем дневнике называет «особою людскою и обычайною». Вступить с ним в какую-либо беседу не было возможности, а Хмельницкий отнял у них эту возможность и в других случаях.
Но что это был за московский посол, ниоткуда не известно. В феврале посол самого Хмельницкого, Мужиловский, находился еще в Москве, а царский дворянин Унковский прибыл с ним в Чигирин только в апреле. Хмельницкий приковал к пушке подставного Кривоноса и его показали конфиденту Киселя. Весьма возможно, что он сочинил и московского посла для королевских комиссаров.
Церковь была полна разодетого в панское добро народа. Разительную с нею противоположность представляли немые памятники господства здесь иных властей, иных щеголей и щеголих. Замок, сдерживавший жмайловцев, тарасовцев, сулиминцев и павлюковцев, теперь «был разорен и пуст». Казацкий народ строил только подвижные замки из кованных и босых возов. Место валов, дубовых тынов и мурованных стен заступали у него фортели, в роде затонов и зарослей Медвежьих Лоз. Панская фортификация была не пригодна ни на что республике номадов. Даже старший брат казака, татарин, предоставлял цивилизованному арабами турку держать Крым и Буджаки под господством крепостей, ограничив свое владычество конем и мечем. Так не дорос и казак до сохранения в целости того, что создала в Украине европейская цивилизация, а над иноверными храмами ругался он еще больше из ненависти ко всему культурному, нежели в отместку за ругательства над православными церквами и кладбищами со стороны фанатиков панского владычества, Кунцевичей. «Были мы в коллегиуме и в костеле иезуитском» (пишет Мясковский). «Он так разорен, что не осталось ни одного алтаря и образа. Даже гробницы были открыты, и три шляхетские гроба опрокинуты. Гроб покойного Лукаша Жовковского, брацлавского воеводы и переяславского старосты, достойного вечной памяти кавалера, разбит, военные трофеи (insignia) взяты, снят и брильянтовый перстень с пальца».
Это был родной брат великого Жовковского. Он жил с казаками в добром согласии, постоянно давал им банкеты, мирил их с королевским правительством. По его внушению, реестровики овладели кошем разорителя Кодацкой крепости, Сулимы, а самого Сулиму, с соучастниками бунта, предали в руки правосудия. У казаков и попов слыл он паном добрым. Но и добрые, и злые представители римской проповеди и римской политики должны были исчезнуть с лица нашей родной земли перед могучим дыханием русского духа, который одинаково был непреодолим для иноземщины и в христианском самопожертвовании Советователей о Благочестии, и в истребительных подвигах казаков руинников. Тем больше сделался он сокрушителен для западных посягателей на русскую самодеятельность в государственном строительстве наших москво-руссов.
Хмельницкий был приглашен Киселем на воскресный обед, но приехал только вечером, пьяный, с несколькими полковниками. Расточаемые страшному гостю любезности, с устранением всяких неприятных ему напоминаний, были напрасны.
Хмельницкому хотелось быть ни в чем не виноватым, как это свойственно всем злодеям: он только и говорил, что о сделанной ему ляхами кривде. За это он отнимал у них не только Украину, но и всю польско-литовскую Русь. Наконец пьяный проповедник справедливости ввалился в особую комнату пани Киселевой и стал ее увещевать, ее и всех панов единоверцев, чтоб они отреклись от ляхов и остались в Украине с казаками, как сделал Выговский. Без всякого сомнения, присутствие ксендзов среди разобщенных и поссоренных ими русских людей раздражало не одного старого Вешняка, но и самого Хмельницкого, насколько он дышал одним духом с казаками. «Ляцкая земля» (проповедовал он) «погибнет, а Русь будет пановать в этом году, весьма скоро»... Тут он заметил в обществе пани Киселевой одного из своих пленников, пана Позовского (конечно, Пузовского), и погрозил ему виселицей. Хмель едва не повесил потомка малорусского Пуза [94] перед прибытием комиссаров, и теперь закричал: как он смел показаться ему на глаза!
Не находя больше о чем говорить с дамами, любезный по-казацки гость вернулся к трепетавшим от его рычанья мужчинам, заливал вином пылавший в нем огонь злости, и только в три часа уехал, пьяный.
«Долго спал он» (продолжает свой горестный рассказ Мясковский): «ибо допивал с чаровницами, которые часто занимают его досуги (czesto go bawia) и обещают ему счастье на войне еще и в этом году».
Таковы были слухи, доходившие разными путями до комиссаров. Их тревожило и безотрадное положение Республики, и собственное положение в берлоге разъяренного зверя. Когда послали на другой день к нему человека, наименее неприятного ему, Киселева племянника, с просьбой назначить час и место для беседы и трактатов, молодой Кисель застал казацкого батька уже за горилкою с товариществом (juz go przy gorzalce zastali z towarzystwem). По словам дневника, ответ его был скор и ядовит. Он отправлял венгерского посла, и сказал при нем следующую орацию, которую дневник, сохранил в малорусской версии:
«Завтра буде справа і росправа: бо тепер я п'яний. С тієї комісії ничого не буде. Тепер війна, війна мусить бути в тих трьох або чотирьох неділях. Навчу всіх вас, ляхів: переверну догори ногами і потопчу під ноги, а наостанок оддам вас турецькому цареві в неволю. Король королем буде, аби карав шляхту і стинав дуки та князі. Нехай вольний буде собі. Згрішить князь — уріж йому шию; згрішить козак — те ж і йому вчини. Се правда, що я малий, мізерний чоловік, та мені се Бог дав, що я єдиновладець і самодержець руський. Нехай буде король королем, як воно йому здаєцця. Скажи се пану воєводі и комісарам. Лякаєте мене шведами, — і ті мої будуть. Хоч би їх було п'ятьсот і шістьсот тисяч, не переможуть руської, запорозької і татарської сили. Іди ж с тим, що завтра буде справа і росправа».
23 (13) февраля поехали комиссары к Хмелю на третье заседание. Кисель даже плакал перед ним, представляя, что он не только Ляцкую и Литовскую, но и Русскую землю, и веру, и святые церкви хочет отдать язычникам. Хмельницкий, выслушав его до конца, отвечал то же, что вчера, с такою прибавкой:
«Шкода говорити много. Як шукали мене Потоцькі за Дніпром, тогді був час трактувати зо мною. По жовтоводзький і Корсунській іграсці — був час. Під Пілявцями и Костянтиновим — був. Наостанок, під Замостім і як йшов я від Замостя шість тижнів — був. Тепер уже часу нема. Доказав я, чого й не думав зразу; докажу і далі, що задумав: виб'ю із ляцької неволі ввесь Руський народ; а що перше воював за мою шкоду й кривду, до тепер воюватиму за нашу православну віру.
Поможе мені в тому вся руська чернь по Люблін і Краків. Не відступлю її: бо то наша рука правиця. А щоб ви не знесли її та не вдарили на козаків, буде в мене двісті, триста тисяч своїх, та й уся Орда при тому. Токай-бей поблизу мене, на Саврані, мій брат, моя душа, єдиний сокіл на світі. Готов учинити зараз що схочу. Вічна з ним наша козацька приязнь; увесь світ її не розірве. За гряницю не пійду, шаблі на турки й татари не підійму. Доволі маю на Вкраїні й Подолі, а тепер і на Волині. Досить вигоди, досить достатку й пожитку в землі і князтві моїм по Львів, Холм и Галич. А ставши над Віслою, скажу дальшим ляхам: «Седіте й мовчіте, ляхи»! І дуків і князів туди зажену. А коли будуть і за Віслою брикати, знайду їх там певно. Не встоїть у мене нога ні одного князя і шляхетки в Україні. А коли захоче хліба которий з найменших, нехай буде послушний Запорозькому війську, а на короля не брикає».
Полковники вторили завзятой импровизации своего гетмана. Один из них, Яшевский, сказал выразительно:
«Минули вже ті часи, що нас ляхи сідлали. Над нашими людьми, християнами, брали вони гору драгунами. Тепер не боїмось їх. Дознались мы під Пілявцями: не ониї се ляхове, що перед тим бували. турки, москву, татари і німці бивали: не Замойські, Жовковські, Ходковичі, Хмелецькі, Конецьпольскі, и Тхоржевські, Зайончковські, — дітвора в залізо повбирана. Померли від страху, скоро нас побачили, та і повтікали, хоч татар не було зразу в середу більш 3.000. Колиб їх підождали до п'ятниці, до б ні єдиний лях живцем не втік до Львова».
«На сю войну» (продолжал Хмельницкий) «благословив мене патріарха в Києві; дав мені з моєю жінкою шлюб, с переступів моїх мене розгрішив і причастив, хоч я і не сповідавсь, і звенів мені кончати ляхів. Як же мені його не слухати, такого великого старшого, голови нашої і гостя любого? Оце же я вже обослав полки, щоб кормили коні і були готові в дорогу без возів, без армати. Знайду я те все в ляхів. А которий би козак узяв на війну воза, велю йому шию врізати. Не візьму і сам ні одного з собою, хіба юки та сакви».
«Долго об этом говорило» (пишет Мясковский) «бешеное чудовище со всею фурией, — до того, что вскакивал с лавы, рвал на себе чуприну, бил ногами в землю. Мы, слушая, оцепенели. Наши рации и персвазии, чтоб он вспомнил о Боге, о короле и, наконец, о том, какой будет конец таких дел и поступков, чтобы дал место разуму, умерил свою завзятость, — ничто не помогло».
На пункт о числе реестровых казаков, чтоб их было 12, а то и 15 тысяч, Хмельницкий отвечал: «Нащо писати стілько і стілько? Не стане сили, буде і 100 тисяч, буде стілько, скілько я схочу».
«После таких приятельских бесед, такой вкусной сессии и скверного обеда (пишет Мясковский), разошлись мы по квартирам, отчаявшись в трактатах, в примирении, в своей безопасности и в выдаче пленных. Стали мы стараться, как бы вывезти несчастных и выбраться самим. По ночам собирались мы на свет и рассуждали, отпустит ли нас Хмельницкий, или же отошлет на Кодак, ограбивши (spoliatos)».
В тот же день отправил Хмельницкий, перед глазами комиссаров, венгерского посла, наградив его и послов Ракочию трои парадных коней и несколько пар самопалов. Но посол, по словам Мясковского, уехал недовольный, и высказал по латыни приведенное выше мнение свое о казаках.
На другой день, 24 (14) февраля, комиссары просили Хмельницкого об «отправе» и о пленниках. Одни из этих пленников были взяты на Кодаке, при осаде крепости Конецпольского, с клятвенным обещанием (какое дал в Боровице и Кисель) возвратить им свободу, другие в Баре, на таких же условиях капитуляции. В числе последних был сын коронного гетмана, Андрей. Сперва Хмельницкий обещал освободить их, но потом переменил решение, и когда комиссары говорили ему, что это королевские слуги, рукодайные дворяне короля, он отвечал: «Се річ завойована: нехай король не здивує». Кисель представлял ему долг королевского подданного и слуги, долг воина, получившего от своего государя булаву и знамя, представлял забывая Боровицу, что эти пленники взяты не саблею, не на боевом поле, а условиями и трактатами. «Шкода про те говорити» (отвечал Хмельницкий). «Се мені Бог дав. Пущу тогді, як не буде ніякої зачепки на войну з Литви і від ляхів. Нехай підожде тут Потоцький брата свого, каменецького старосту, що мені Бар, моє власне місто, заїхав, а в моїм Подолю кров християнська ллєцця. Звелів я полки туди рушити і живого мені привезти».
В ответ на это, комиссары припомнили Хмельницкому, что в Киеве теперь христианская кровь без вины льется ручьями и течет в Днепр. Одних ляхов топят, других тирански рубят; избивают шляхту обоих полов, детей, духовных, ограбив и опустошив последние костелы. «Ищут ляхов под землею» (говорил Кисель), «и все это — за приводом брацлавского полковника Нечая, который говорит, что ему дан такой наказ от вашей милости».
«Не велів я невинних людей побивати» (оправдывался Хмельницкий) «тілько тих, що не хоче до нас пристати, або на нашу віру хреститись. Моя воля там порядкувати: я воєвода київськй. Се дав мені Бог через мою шаблю, а про інше таке шкода говорити».
Кто бы ни был так называемый в Переяславе московский посол, только все эти сцены происходили, можно сказать, перед его глазами. Уничижив перед этим таинственным лицом и короля и комиссаров, Хмельницкий отпустил его из Переяслава так, что паны не видели его «отправы» и не могли сказать о ней в официальном дневнике посольства ничего кроме четырех слов: «отправлял без нас московского посла (odprawowal bez nas Posla Moskiewskiego), прибавив к этому, что он «уехал перед самым вечером (odjechal przed samym wieczorem)». Панам не удалось никоим образом разведать ни об имени посла, ни о его беседах с гетманом, хотя и писали они в официальном дневнике своем, что он просил «через послов» о свидании с Киселем (lubo и Posel zyczyl sobie tego i prosil do przez Posly). [95] Но у казаков застали они, по своем приезде, такую молву, — что московский царь спрашивал у Хмельницкого: действительно ли он поднял войну из-за одной веры? Конфиденты Хмельницкого не чуждались подарков, как и панские: «Любят голубчики взять (lubia niebozeta wziasc)» писал Кисель о казаках, подкупая их еще в Павлюковщину. От них комиссары слышали да заключали из слов и самого Хмельницкого (z howory jego i konfidentow jego slyszelismy), что московский царь сожалел о междоусобной брани в Речи Посполитой, и увещевал Хмельницкого остановиться в своем задоре, не проливать больше христианской крови, не истреблять подданных своего государя, причем давал ему понять, что желает остаться «любовным» братом короля, брата своего, и станет на более справедливой стороне со всею своею силой.
Сообщая такие успокоительные вести, действительные или мнимые конфиденты Хмельницкого могли повторять содержание миротворного письма, посланного царем в табор Хмельницкого через Василия Михайлова. В этом удостоверяет нас то обстоятельство, что Хмельницкий весьма выразительно хвалился вечною казацкою дружбой с татарами, которой не разорвет и весь свет; что он ревел о своем княжестве по Львов, Холм и Галич; что величал себя единовладником и самодержцем русским, а Токай-бея называл братом своим, точно в ответ на заявление царя о любовном братстве с королем. Многозначительно для нас и то обстоятельство, что в завзятых орациях казацкого батька имя Москвы и Московского царя не было произнесено ни разу, тогда как из отправы венгерского посла сделал он такую бурную манифестацию.
Подделанное Хмельницким, как это очевидно, царское посольство в Переяславе украинские патриоты представляют поклонением славе Хмельницкого. Но и Михайлов с миротворным письмом своим в казацком таборе, и Унковский с милостивой грамотой в Чигирине — являются перед нами людьми, накидывающими на дикого степного коня узду; а бешенство Хмельницкого говорит нам, как этот конь чуял, что от опытной и сильной в обуздыванье руки уйти ему трудно.
Может быть, внушения таких людей, как Михайлов и Унковский, — а такие люди могли беседовать с Хмельницким и без посольства, — может быть, их беседы, проникнутые чувством политической степенности, и были причиною бешенства Хмельницкого. Не того домогался он от Восточного Царя. Лях по воспитанию, татарин по казацкому быту, он разумел московского самодержца чем-то вроде царя перекопского. В первом письме своем счастливый бунтовщик и титуловал его, как бы какого хана. Видя теперь, что московское христианство представляет не то, чем оно было у казаков, Хмельницкий и боялся своих единоверцев, и злился на них, а бедные ляхи отвечали перед ним за все.
25 (15) февраля, на просьбу комиссаров об отправе, он отвечал, что другой отправы не будет, кроме ответного письма. Не хотел дать ни другого «скрипта», ни продлить перемирия. Наконец, по усиленным просьбам Киселя, велел составить перемирные статьи и, вероятно, во внимание к московскому царю, выдвинул в этих статьях на первый план интересы церковные. Он соглашался приостановить войну на следующих условиях:
1. Унии в Киевском воеводстве не быть нигде, ни даже имени её (nec nomen ipsius).
2. Киевскому митрополиту дать место в сенате.
3. Киевский воевода и киевский каштелян должны быть религии греческой.
4. Римские костелы, которые обращены в ничто и трупы из гробов повыброшены, ксендзы побиты, потоплены, должны оставаться так, как они есть теперь.
5. Исключаются иезуиты, которые причиною всего замешательства.
6. Князь Вишневецкий, как author второй войны, никоим способом не будет коронным гетманом; иначе — я жить с ним и пустить в Украину не хочу.
7. Окончание комиссии на составление реестров отложить до весны, до Зеленых Свят русских, до первой травы, над рекой Русавою, чего теперь не могло быть по отдаленности полков и по причине голода.
8. Комиссаров только два.
9. До тех пор коронные и литовские войска не будут входить в Киевское воеводство по реки Горынь и Припеть, а от Подольского и Брацлавского — по Каменец.
10. Так же и войска запорожские за эти реки переходить не будут.
11. Всех пленников обещаю на той комиссии выдать, только чтобы так же был выдан тогда Чаплинский.
Королевские комиссары не приняли было этих условий. Они подали Хмельницкому свой проект перемирия, в котором домогались, чтобы коронные войска могли ходить по реки Случь, по Бар, Винницу, Заслав. Но Хмельницкий перечеркнул их пункты и велел им готовиться в дорогу с одним ответным письмом его и с вызовом на войну.
«Согласились мы и на такое перемирие» (писал Мясковский), «лишь бы вырваться из тиранских рук и предостеречь короля и Речь Посполитую, да чтобы этим ненадежным перемирием задержать Хмельницкого у Днепра и вырвать у него пленников». Даже и для того, чтобы задержать Хмельницкого у Днепра, не предлагали и не могли предлагать ему королевские послы ни Чигирина с четырьмя другими городами, ни киевского воеводства; не было речи и о границах Белой Руси, «как владели благочестивые великие князья», чем хвалился он через месяц в Чигирине царскому дворянину Унковскому [96].
Комиссары посулили по 100 червонцев главным полковникам за содействие в освобождении пленников. Они были тайком у войскового обозного, Чорноты, пробуя подкупить «жестокого тирана», как назван Чорнота в дневнике, и достойно замечания, что даже в этом щекотливом и опасном случае не могли обойтись без своих гувернеров: они взяли с собой ксендза Лентовского, — того самого, которого Вешняк едва не ударил булавой за весьма осторожное замечание. Казаки даже православных попов не допускали в свои коши и рады: тем более было противно им совещание с попами католическими. Не понимали этого паны, проведя столько веков на попечении римского духовенства, и потому крайне дивились ответу «жестокого тирана». Кисель отдавал ему даже свое столовое серебро, которое ценил в 24.000 злотых. Другие комиссары также не жалели «своих мешков». Но казак отвергнул (sprevit) все это, и отвечал: «Не пійду до гетьмана, бо нездужаю: пили всю ніч із гетьманом. Він буде в мене тута. Але ж не радив я йому и не раджу пускати пташок із клітки. Та й ви самі, коли б я не нездужав, не знаю, як би влизнули».
Тогда комиссары отправились к Хмельницкому «трактовать окончательно (ultimarie), просить со слезами (cum lacrymis)». Кисель, воображая, что знает чувствительные струны казацкого сердца, заперся с гетманом и провел часа полтора в убеждениях. «Ничто не помогало (nihil profuit)».
К ужасу комиссаров ночью с 25 на 26 февраля весь город был оцеплен стражею: казаки боялись, чтоб комиссары не ушли и не увезли пленников. Пойманных на улице топили. Топили особенно кодацких драгун, прикованных к пушкам: их подозревали в заговоре. Один шляхтич, Шимкевич, усердствовавший Киселю, погиб за то, что спросил о «поташе Пана Хорунжего», своего господина. Комиссары и их челядь провели ночь без сна. Комиссарским конвойным не дозволялось и взглянуть на казацкую армату, а кто к ней приближался, тех жестоко били.
На рассвете комиссары начали сбираться в дорогу, и лишь только настал день, послали к Хмельницкому сказать, что желают откланяться. Он обещал сам быть к ним, а потом переменил свое слово для сохранения достоинства (z powagi). Комиссары пошли к Хмельницкому; но Кисель так заболел хирагрой и подагрой, что его везли в санях и не поднимали в светлицу. Сели они с Хмельницким на подворье, которое было заперто от натиска шумевшего поспольства. Перед ними стояли полуживые пленники. Паны, перепробовав напрасно все средства к их освобождению, просили теперь отослать несчастных к татарам.
Хмельницкий отдал Киселю подписанные им пункты, два письма, одно к королю, другое к канцлеру, и подарил ему серого мерина да мешок с 500 или 600 червоных злотых, которые Кисель отдал тут же пленникам, в виде «отъездного». Еще однажды комиссары просили Хмельницкого освободить их, а пленники пали ему в ноги с горькими слезами (sami niebozeta pokornie do nog upadli i krwawe niemal lzy toczyli). Но просьбы и слезы приводили Хмельницкого только в ярость. Он обратился к Андрею Потоцкому и сказал:
«Для того ще подержу тебе, що, коли твій брат заїхав мій город Бар, дак посаджу його на тику перед містом, а тебе тут же в місті, та й дивитесь один на одного».
«Хорошо его утешил жестокий тиран! » (пишет Мясковский). «Задрожали шкуры на панах Конецпольском, Гродзицком, Гарнецком, Лачипском и других, даже на самих нас. Уже две ночи летали голоса черни по городу: «Повбивати сих коміссарів, або облупити тай одіслати на Кодак»! Весь город и казаки были под оружием (in armis), а пан гетман — никогда в трезвом виде (nigdy dobrze trzezwy)».
Когда Кисель напомнил Хмельницкому о перемирии до святок, об успокоении Волыни и Подолии, он сказал: «Не знаю, як воно буде, коли не вдовольняцця двадцятьма або тридцятьма тисячами лейстрового війська та удільним, одрізним своїм князтвом. Побачимо. А з тим бувайте здорові»!
Полковники проводили комиссаров за город: иначе — их бы не выпустили без грабежа, а, может быть, и без побоев.
Глава XX. Возвращение панских миротворцев из Переяслава. — Встреча русичей гражданственных с русичами одичалыми. — Перевес чувства народной мести над правдою фактов. — Два противоположные способа государственного самосохранения. — Борьба государственного права с казацкой вольницей. — Казацкий поход на панов 1649 года.
О положении панского общества в это бедственное время можно судить по тому обстоятельству, что иссреди самих посетителей Переяслава несколько человек перебежало к казакам. Даже некоторые шляхтянки и служебные панны из штата супруги Киселя предпочли остаться в казацком царстве. В числе перебежчиков, были подкуплены Хмельницким или переманены обещаниями — пожилой шляхтич, слуга самого Киселя, какой-то Соболь, хорошо знавший положение панской республики, и литвин пан Ермолович, перед которым паны не скрывались в своих совещаниях, Хмельницкого окружали и такие перебежчики, как паволочский войт, предавший казакам своего державца. Мы видели, какую важную роль играл он в церемониале приема царского посланника Унковского. Эти люди сильно вредили теперь бывшим господам своим, становясь, если не юридически, то фактически на их места в обладании краем.
Но и сами казаки были прошпигованы предательством, так что не знали, на кого из своих сообщников можно полагаться в слове и в деле. Этим объясняется, почему вся казацкая столица была в тревоге по случаю выезда комиссаров с их малочисленным почтом. Около сотни пленников, содержавшихся в Переяславе, получили возможность переодеться в панскую ливрею и выбраться благополучно, в толпе челяди, из логова казацкого батька, в том числе даже несколько офицеров князя Вишневецкого и несколько десятков казацких драгун. Несмотря на приков к пушкам и на побои за приближение к армате, казацкие стражи, как видим, входили в сделку со стерегомыми, и достойные детушки обманывали достойного батюшку исправно.
Во все пребывание в гостях у Хмельницкого, королевские комиссары не видали его трезвым. Окружавший гетмана штат был также собранием грубых пьяниц не лучше и не хуже тех, которых русские люди видали впоследствии вокруг Стеньки Разина и Емельки Пугачёва. Древний наш Переяслав, сделавшийся казацкою столицею, являл подобие разбойницкого притона. Среди обилия дорогих одежд, вещей, напитков, лошадей и всего того, что пришло сюда путем набега на культурников, местные продукты были так дороги, что комиссары за мерку овса платили 16 злотых, а за вязанку сена по 2 талера. Шестьсот собственных лошадей Хмельницкого бродило за городом, добывая себе траву из-под снега, и множество казацких кляч падало от голода по улицам. Замок, бывший до бунта местом городского и земского суда для всей Переяславщины, стоял в безобразных развалинах, так точно, как и школа высших наук, иезуитский коллегиум с его костелом. Разбитые гроба и поруганные остатки заслуженных в государстве людей, валяясь кругом, представляли еще более дикое зрелище. Такая обстановка соответствовала ночным попойкам украинского Макбета с его вещуньями-ведмами. Она бросала мрачную тень на судьбу землевладельцев, очутившихся чужими среди народа, который они созвали на воли да на слободы, который они устроили хозяйственно и защитили от мусульманского пленения, которого родную землю они сделали «землею Христианскою» не только по знамению креста, но и по праву меча. И папский Рим, разделивший наших русичей на ся ради своего господства, не давал теперь панам нити для выхода из этой гибельной борьбы с казаками, из этого лабиринта взаимных кривд и незабываемых ругательств.
Путь королевских комиссаров от границы удельного казацкого княжества до его правоправящего центра был преисполнен таких лишений, что часто нельзя было достать не только зерна для лошадей, но даже и соломы. Голодные среди плодородной земли мужики дополняли горечь хозяйливых путников своими грубыми выходками.
Миролюбивый Кисель, при всем своем православничестве, представлялся даже собственным подданным паном ляхом, а это значило таким вредоносным зверем, что они тотчас бы его убили, когда бы не конвой. Ревнивая пропаганда против ляхов, гонителей «христианской веры», распространяемая невежественными в своей нищете попами да монахами среди невежественной черни, слилась в темных умах с понятием о притеснителях вообще, — и «благочестивые» паны были у них одно и то же с панами злочестивыми. Опустошители панских имений, казаки вопияли, что «паны пустошат Украину», и люди, доведенные руинниками до голода, верили, что голод стался не от кого другого, как от тех же панов, которым теперь оставалось только идти по миру.
Украина, покинутая бегущими помещиками в виде полной чаши, привлекавшая сотни тысяч выходцев из осад старинных баснословною роскошью крестьянского быта, представляла бедствующим комиссарам повторение Батыева нашествия. Об исчезнувших панских хозяйствах говорили в ней только виднеющиеся на «кучугурах» печища да обгорелые деревья, а мужицкому хозяйству не давали процветать истребители панского — казаки и татары. Зато про «казацкую славу» гремели в каждом кабаке песни, уподоблявшие панскую колонизацию древних пустынь египетской работе.
Каково было на душе у православной иерархии под протекцией и караулом нового Моисея, видно из того, что киевский митрополит и архимандрит Киево-печерской Лавры выехали за 20 верст от Киева «для секретной беседы» с Адамом Киселем. Не взирая на мирный характер комиссарского похода, казаки не только не позволили королевским сановникам проехать через Киев, но взяли с них и на окольной дороге окуп. В Хвастове комиссары ехали мимо валявшихся шляхетских трупов обоего пола.
В Киеве, как объяснил сам Хмельницкий, избивали безоружных людей за то, что не хотели участвовать в казатчине, или же за то, что отказывались «креститься на нашу веру». Голод, грабеж, разбой и инквизиция: вот что представила далеким путникам с их приорами да гвардианами страна, прослывшая благословенным краем в государстве!
Обратный поход искателей мира был еще печальнее. Они должны были по-старому миновать Киев, но для каких-то сношений с митрополитом отрядили небольшую партию, которая, не въезжая в жилой город Подол, отдала поклон митрополиту в Старом Киеве, у Св. Софии, окруженной древними развалинами. «Сведав о нас» (говорит комиссарский дневник), «шляхтянки и убогая католическая чернь (misera plebs catholica) рвались к нам и догоняли нас на дороге, кто как мог. Некоторые бежали и пешком по глубокому снегу, зарослями и байраками, в Белогородку. За ними гнались казаки и многих настигали. Возвращая этих несчастных вспять, ободрали до нага, били и тут же топили, так что и мы были не безопасны, из-за наших католиков».
Подвигаясь далее обратным путем, королевские комиссары наткнулись на новую беду. Казаки и татары заходили, на перерез дороги, к Звяглю, чтоб их ограбить.
Пришлось делать большие упряжки, бросая на дороге изнемогших лошадей. Наконец явилась к ним выручка. Не доезжая до Корца, были они встречены князем Корецким, который выехал к ним в поле в несколько сот коней, оставивши в городе до четырех тысяч ненадежных подданных.
Здесь опять вспомним, для характеристики времени и страны, что изо всех местных землевладельцев один Корецкий имел столько духа и сноровки, чтобы вернуться на свое руйновище и жить в опустошенном замке своем. Он сделал первую из многократных попыток — возобновить былой компромисс, в котором, по переходе нашем из-под кипчакской Орды под орду литовскую, а потом под панованье польское, — состояли здесь крупные и мелкие землевладельцы с рукодайными своими слугами, с мещанами, казаками, всеми вообще «служебниками» и сельскою чернью. Но всякий компромисс был бесполезен там, где одни не признавали фактически над собой закона, а другие не хотели знать ничего, кроме жизни на чужой счет, без всякого возмездия собственников и без всякой заботливости о трудящихся. Строго судили казаки панов за их действительные и мнимые кривды, но, принявшись за панское дело сами, «напроказили вдвое хуже», и кончили свое панованье тем, что сдали край потомкам истребленной ими шляхты в виде голодной пустыни, которую собственные их потомки опять были принуждены обрабатывать панским плугом. Но это произошло через 120 лет взаимной резни и всевозможных преступлений с обеих сторон. Возвратимся в XVII век.
Как ни беспомощна была панская республика в виду республики казацкой, но паны, по наследственной дрессировке своей у иезуитов, продолжали их темное и губительное дело, воображая свои уловки спасительными. Это видно из их тайных бесед с питомцем созданного польщизною митрополита-магната. Бесполезны были для них уроки, полученные ими в зрелище повсеместного разорения костелов и иезуитских школ заодно с панскими замками, и крайне вредоносно было вмешательство римского духовенства между борющихся шляхтичей плуга, землевладельцев, и шляхтичей меча, казаков. Не видя проку в руководительстве своих наставников ни среди боевых обозов, ни в мирных посольствах и переговорах, они тем не менее остались при своих римских воззрениях до конца и по конце политического существования Польши, как добыча ксендзов, завоеванная многовековыми подвигами ксендзовства и всего, что соединено с этим словом. Поэтому история смутного времени, порожденного в Речи Посполитой Польской прежде всего и больше всего римскою политикой, — для нас, пострадавших от этой политики много, должна быть столь же интересна, как и все то, что мы видим теперь в остатках польской политической системы.
Когда королевские комиссары достигли обильной некогда напитками и всяким угощением Гощи, панская болезнь Адама Киселя усилилась до такой степени, что его «вносили в пекарню и выносили на санях». В Гоще было тревожно, как и всюду от Случи до Горыни. За два дня перед приездом Киселя (3 марта), 5.000 гультаев-хмельничан вторгнулись перед рассветом в город Острог и «насекли до 400 мещан (даже руси) и жидов, а город ограбили. Из шляхты погибло только двое. Приспевшая из Межирича надворная хоругвь князя Заславского вытеснила гайдамак из города и положила на месте до 150 человек. Этот набег сделал по собственной воле Звягельский полковник, кушнер [97] Тиша, ища в Остроге пана Вонсовского, бывшего Звягельского старосты, подобно тому, как некогда Гренкович искал своего врага в Межигорье.
Положение миротворцев сделалось отчаянным. Несмотря на то, что конвойным жолнерам не вышел еще срок наемной службы, они не хотели остаться при пане воеводе в Гоще, для защиты его убежища от гайдамацких набегов. Очевидно, что дело казацкое находили они более верным, чем панское. Неизвестно, как уладили свою оборону комиссары, но оставленное ими позади себя зрелище казако-гайдаматчины ужасало их.
«Вся чернь» (писал Мясковский) «вооружается, полюбив свободу от работ и податков и не желая на веки иметь панов. Хмельницкий велел вербовать казаков по всем городам, местечкам и селам, кормить лошадей, и зазванные таким образом в казаки берут, бьют, грабят. Но далеко большая часть простонародья молит Бога о мире и мести над Хмельницким и своевольниками. (Носится слух, что) Хмельницкий чует близкую смерть (niedlugo sobie zyc wrozy). Зарыл в Чигирине бочек 15 серебра. Там же у него 130 турецких коней и 24 скрини дорогой одежды. Пилявецкой добычи полна Украина. Больше всего покупает ее Москва в Киеве и по ярмаркам в других городах. Серебряные тарелки продавались по талеру и дешевле. Один киевский мещанин купил за 100 талеров такой мешок серебра, что мужик едва мог нести. Жена полковника Тиши, кушнерка, угощала в Звягле посланцов пана воеводы на серебре, за богато накрытым столом, и бранила Хмельницкого (laja Chmielnickiemu), что не так великолепно (splendide) живет, «коли Бог дав усього много». Нашим продавать серебра казаки не хотели. Даже лошадей запретил гетман продавать нам».
В силу перемещения богатства и всяких вольностей из панской республики в казацкую, сотниками гультаев и гайдамаков делались весьма часто шляхтичи, даже с такими фамилиями, как процветающие в Киевском Полесье доныне Горностаи. О Хмельницком ходили такие слухи, что хоть бы и хотел он мириться с панами, то не может: чернь остервенилась до того, что решилась истребить шляхту, или же сама погибнуть. Татары готовились к новому нашествию, в помощь казакам. К Хмельницкому являлись они даже пешком из Крыма и Буджаков, и Хмельницкий снабжал их тотчас лошадьми и оружием. Не только ежемесячно, но и еженедельно (говорила молва) посылает он послов к хану с зазывом на войну и просит его не давать свободы ни одному пленнику. «Ты, мол, хочешь их выпустить, а я хочу их выгубить, чтоб ни одного ляха не было на свете». Даже днестровские побережники, славные в шляхетских походах против буджацких татар, теперь делались «разбойниками», как уведомляли один другого паны.
Каковы были отношения Хмельницкого с татарами, и что заставило его приостановиться с «кончанием ляхов», открывает нам следующее письмо его к первому соправителю хана — султан-калге:
«Ясновельможный, милостивый пан султан-калга крымский, наш милостивый пан и добродей!
Доброго здоровья и всяких счастливых помыслов со всем предостойным рыцарством вашей царской милости, низкий поклон отдавая, желаем пользоваться им на многие лета.
3а труд, который ваша царская милость благоволили подъять для нас, нижайших своих слуг, много и униженно благодарим, и, пока живы, мы и дети наши, за столь милостиво оказанное нам благоволение готовы отслуживать. Однакож, во время бытности вашей царской милости, был бы я рад, когда бы мы этого неприятеля нашего, победив, уничтожили до остатка; только ваша царская милость сами видели, что войско было крайне отягчено (добычею), и я уже тем удовольствовался. Но, как они издавна привыкли жить неправдою, так и теперь на нас наступают своею силою, вознамерившись уничтожить нас, в чем им, Господи Боже, не помоги, и на Крым хотят идти. Мы имеем верную о том весть от его милости венгерского короля, который предостерегает нас и ваших милостей, наших милостивых панов, что и шведов на нас и на весь Крым вербуют... Умилосердись, умилосердись, милостивый пан, чтобы мы не дали этим нашим неприятелям распространиться. И вторично, и третично просим: ибо множество Христианства нашего, душ невинных, вырезали бы. Умилосердись ваша царская милость: как начал с начала, так и до конца благоволи нас оборонять»...
Татарское милосердие к беспощадным руинникам грозило шляхетскому народу тем большими несчастьями, что у него был теперь такой король, который помог Хмельницкому отстранить от гетманства единственно страшного для него человека.
Если у Киселя было хоть немного прямой любви к отечеству, то он, хворая в Гоще над Горынью, должен был бы на досуге понять, какую нелепую и злотворную играл он роль в качестве миротворца. Товарищ его по комиссии, Мясковский, из Млыновцев под Русским Зборовом, от 28 (18) апреля, уведомлял краковского бискупа, Гембицкого, что хан дал упросить себя Хмельницкому (dal sie Chmielnickiemu uprosic); что посылает впереди себя крымских собак (ogarow krymskich) и сам садится на коня.
«Никогда не были мы ближе к последней гибели» (писал он), «как ныне, в несчастном будущем мае. Это будет октава и года и месяца, еще горшая прошлогодней, Желтоводского и Корсунского погрома. Никакой спасительной надежды нет; из Варшавы ничего утешительного..... Уже из Каменца бежит все живое; кто уходит в Венгрию, кто — куда может».
Теперь Кисель знал, что такое Хмельницкий. Оправясь в Гоще от своей хирагры, под гул наступающей грозы он уведомил казацкого батька приятельски о своем расстроенном здоровье и, вместе с другими комиссарами, просил об окончании комиссии, но сделал это для того, чтобы маскировать панские приготовления к войне.
Хмельницкий видел пана воеводу насквозь, и писал к нему из Чигирина, от 13 (23) мая так нежно, как писал бы мурлыка-кот к неосторожной мыши, желая удержать ее по сю сторону подполья:
«За письменное навещение благодарю ваших милостей панов и приверженным сердцем желаю радоваться, видя вашмость-пана в добром здоровье. Что же касается окончания комиссии, то всеми силами (totius viribus) стараюсь, чтобы она, согласно нашему условию, получила конец. Одно только всех нас очень удивляет, что в Короне и в Литве собраны весьма великие войска. Это тревожит все наше Запорожское войско. Оно опасается, чтобы — от чего сохрани Господи Боже — не так желали кончить комиссию, как в прошлом году: тут про мир, а тут совсем про другое думали.
Однакож, я, будучи другого мнения, обослал всех полковников, чтобы посоветоваться, где бы всего безопаснее можно было отправить комиссию. Когда между собой постановим, я не замедлю дать знать вашим милостям как можно скорее днем и ночью. А вашмость-пан и их милости паны, с своей стороны благоволите задержать жолнеров, чтоб не давали повода к разорванию этой комиссии, которая будет, даст Господь Бог, отправляться».
Но 22 (12) мая мозырский подкоморий, Федор Михаил Обухович, писал литовскому подканцлеру, Льву Сопиге, что Кисель ретировался уже из Гощи за Горынь, имея явные доказательства враждебности Хмельницкого (operta hostilitatis argumenta), так как он ни королевского посла Смяровского не хочет оттуда выпустить, ни на письма о комиссии не отвечает. «Отовсюду также» (писал Обухович) «сыплются толпы взбунтованного поспольства и наполняют весь тракт между Горынью и Случью, а сам author et dux этого подвига наступает главною купою, окруженный огромными ордами».
Через три дня сам Адам Кисель уведомлял коронного канцлера, — что видел неприятеля собственными глазами; что Хмельницкий был бы рад поймать его в свои руки; что потому пишет к нему (Киселю) штучно, и что теперь уже нет надежды на трактаты (juz nulla spes traktatow). Так поумнел наш Свентольдич, умудренный поздним опытом.
Он отписал Хмельницкому дружески (bona verba), как будто ничего не подозревает, и едва двинулся из-под Гощи, в ту же минуту 600 хмельничан вступило в местечко, а ночевало в нем 1.500. Прискакавший от Смяровского в Тайкуры казак перебежчик (transfuga), по фамилии шляхтич, объявил, что «запорожский Макиавелли» отобрал у королевского посла и его челяди лошадей и держит всех их под стражею до приезда комиссаров: тогда их выпустит, а комиссаров задержит. Он же уведомлял, что юркий монах, Отец Ляшко, конфидент Киселя, очутился в татарской неволе.
Вместе с тем было донесено, что Хмельницкий заключил с Москвою тайный договор. Основанием этому слуху послужила, без сомнения, милостивая грамота царская, из которой Хмельницкий сделал умышленно тайну. Говорили также, будто бы письмо Киселя в Москву было прислано к Хмельницкому из Москвы. Но гораздо правдоподобнее, что он, перехватив письмо, делал из московского царя своего сотоварища. Ему было нужно, чтобы московский царь, во мнении панов, был то же самое, что и крымский хан. О Киселе же наперсники Хмельницкого говорили Унковскому, — что он отпущен из Переяслава с тем, что гетман и все войско Запорожское и вся Киевская Русь под властью польского короля и панов-рады быть не хотят, и паны бы рады на войско Запорожское и всю Русь не наступати и крови не проливати; но Адам Кисель с таким условием в Польшу идти не решился, потому что, отправляясь послом, хвалился войско Запорожское на мир привести по-прежнему, и теперь живет в своей маетности, в городе Гоще, а город этот принадлежит войску Запорожскому.
Каковы бы ни были виды московской политики на Русскую землю, которая ломалась в руках у Польши, но правительство московского царя должно было смотреть на казаков не иначе, как и правительство короля польского; а Кунаков представил своему государю польский взгляд на казатчину в следующих выражениях: «Великому государю, его царскому величеству, своих (московских) украин годитца от такова гультяйства оберечь, чтоб не вомкнулись и шкоды какие не учинили. А у Богдана Хмедьницкого многие своевольные люди казаки, и гультяи, и татаровя; и только им в королевском панстве не удасца, и им де без хлеба не пробыть, и чаять их промыслу и инуды».
Так говорили правительствующие паны царскому гонцу. Но, в виду того, что они держали себя так гордо перед царским гонцом, Алексей Михайлович долго не отвечал на привезенное ими 30 марта 1649 года благодарственное письмо Яна Казимира. Зная все обстоятельства польской неурядицы и видя, какой «пожар» пылает внутри польско-русских областей, Москва выжидала событий во всеоружии своих ратей, обступивших польские границы.
В конце апреля появился в царской столице посол Хмельницкого, полковник Федор Вешняк, тот самый, который так рыцарски вел себя за столом у гетмана. Несмотря на название, данное им заодно и ксендзам и попам, его сопровождали — игумен могилевского Глядовского монастыря да «черный поп» (т. е. иеромонах) Никифор. Этим лицам было поручено ходатайствовать у царя, через посредство иерусалимского патриарха, Паисия, о принятии Хмельницкого и его казаков под высокую царскую руку и о «пособии» в войне с поляками. «А розделавшись де с поляками» (докладывал Посольский Приказ), «казаки обещали, для царского счастья, идти с крымскими людьми на турского салтана. А войска де черкаского с 40.000 человек да татар с 400.000».
Но для царя не было тайною, что Хмельницкий отмерил уже туркам Червенские Города равноапостольного Владимира по самый Люблин. С этим опасным интриганом надобно было вести себя крайне осторожно, не так, как этого желали бы наши киевские ретрограды. Из его неверного положения вытекала для царского правительства двойная забота: во-первых, чтобы, воюя поляков с побратимами татарами (которых сам он показывал 400.000), не очутился он в руках у мусульман со всем своим кочевьем; а во-вторых, чтоб, отвергнутый царем, не обратил он, по старой казацкой памяти, на Москву опустошителей своего родного края.
Не получив никакого ответа через глядовского игумена, Хмельницкий написал, от 3 мая, новое письмо к царю Алексею Михайловичу. Он просил принять Запорожское войско «в свою милость и благословить своей рати на их (казацких) наступцов и за веру православную наступати». При этом выражал желание, чтобы московский государь был над казаками царем и самодержцем, приняв их со всею Русью под свою милость и оборону.
Письмо было представлено царю полковником Вешняком, который не упомянут в прежнем докладе Посольского Приказа, и теперь из поповского провожатого сделался самостоятельным послом: уловка, проделанная и Мужиловским. Этот грубый пьяница получил от своего достойного гетмана наказ: «чтоб он с его царским величеством» (точно Ян Коровченко с крымским ханом) «изустно розговорил и всю истину исповел».
Бывши в Переяславе, паны подхватили слух, что тонкая Москва (subtelna Moskwa) приняла не совсем радушно и патриарха Паисия (male exceptus et habitus) за его индульгенции в Украине. Тем несимпатичнее отнеслась она к анти-обычайному Вешняку.
Тяжела была в казацком вопросе роль царя Алексея Михайловича, столь величавого в своих приемах, столь высоко ценившего достойную обстановку царственности. Верх русского общежития, олицетворяемый москвичами, и самая низкая ступень его, изображаемая запорожцами, сошлись волею исторических судеб, в общей работе русского воссоединения, которую Москва производила сознательно еще в эпоху Великого Собирателя Русской земли, а казачество совершало бессознательно и под бунчуком того, кто объявил себя русским единовладником и самодержцем. Из этой встречи русичей, просвещенных новою гражданственностью в удалении своем на Клязьму и Москву, с другими русичами, одичалыми в пустынях Калки и Днепра, надобно было царскому правительству выйти с достоинством. Такие ведомые нам представители Москвы, как Унковский и Кунаков, не могли смотреть на казатчину иначе, как с отвращением. Но, с другой стороны, воспитанные вне западного влияния, они чуяли в грубиянах казаках древнее русское родство больше, нежели в малорусской шляхте, — больше, чем даже в нашем начальствующем духовенстве, пропитанном так или иначе антирусскою латинщиной.
В течение трех веков политического разобщения Руси, население литво-русской части её не переставало делиться на приверженцев забвенной русской старины и на приверженцев прославляемого латинства, или же — протестантства. С каждым поколением оставалось у нас меньше и меньше староверов, напоминавших собою древнее наше единство с тем русским народом, который собрался в одно сильное тело под спасительным единовластием Москвы. С каждым поколением, малорусское наше староверство оседало из высших, богатых и порядочных слоев общества в низшие, убогие, по своему быту, ордынские. Это было оседание русской народности и обычайности, русских сочувствий, русских отвращений.
Перед началом Хмельнитчины иноплеменник наш, Петр Могила, сроднил идеалы нашей духовной аристократии с идеалами латинскими, и тем осадил у нас русский элемент ниже прежнего. Представителями этого элемента в нашей интеллигенции, таившейся в монастырях, сделались подобные Филиповичу личности, остатки подавленной могилянами партии Копинского, которые и по своему убожеству, и по своему ничтожному положению в панском обществе, следили только издали, сквозь туман своих предубеждений, за совершающимися в Малороссии событиями, пробавлялись в политических делах только молвою прихожих богомольцев и, не видя себе ни откуда поддержки, взирали на казаков, как на борцов за веру, а на московского царя — как на последнее убежище в безотрадной будущности.
Здесь церковь, разделенная с казачеством диаметрально противоположными стремлениями, очутилась в таком точно опасном положении за свою верность древним преданиям, в какое казаки были приведены своими посягательствами на права и имущество производительных классов малорусского населения. Церковь, воздвигнутая из своего упадка творцами знаменитого Советования о Благочестии, проповедовала святое мученичество, родственное с мученичеством Гермогена и Филарета московских, как единственный способ одолеть своих отступников, и в то же время, подвергшись новому упадку в лице своих верховников, могилян, чаяла какого-то спасения от людей, проливавших кровь, как воду; а общество убийц и грабителей, верставших попов и ксендзов под одну стать, хваталось кровавыми руками за её чистое знамя, лишь бы выбраться из той беды, которая грозила ему за его неслыханные злодейства даже и в момент его торжества над панами.
Вслед за посольством Хмельницкого пришло к царю и к московскому патриарху от игумена Мгарского монастыря, Калистрата, с братиею письмо, умоляющее царя «принять его под крыла царства своего со всеми старцы и со всеми статки монастырскими и церковными». В письме к царю Калистрат изображал положение дел в Малороссии такими словами:
«Нынешнего времени в земле Лятцкой велие есть смятение и междоусобная рать зельная, какова не была отдавна, и ныне все в отчаянии есмы и в страсе великом от ляхов, и еще преодолевают наших казаков, ктому не мощно нам быти живым. И в нынешний час перевозятся на сю сторону Днепра, ляхи, литва с Радивилом, шездесят тысячей сказывают их быти».
В послании к московскому патриарху судьба малорусского православия представлена еще в более мрачном виде:
«Ныне прииде время, еже бежати нам от лица луку сильных, глаголю же врагов сущих нашея православные и благочестивые, с солнцем восходящие веры и церкви нашея восточные апостольские ненавистников, хулников, гонителей, ляхов, кои отдавна изостриша язык свой, яко меч остр, дыщуще на ны огнем ярости злопамятства, кои пообладаша беша все благочестивые церкви российские и монастыри, всех нас, яко заплененных, под ся покориша. И се ныне, Божиим манием и попущением, оружие приимше, пособием Божиим, войско наше православное казацкое Запорожское, не терпяще преизлишних бед от ляхов поносити, ополчившееся противу им сташа, еже есть слышано, яко мимошедшего лета вторицею и третицею неизбежные ляхи от наших побеждена быша; и се ныне сильнее первого на наших вооружишась, и онех убо множество, насских же в малом числе сочести. И сего ради боимся и зело ужасаемся, да не како безбожные ляхи преодолевают казаков наших и месть сотворят злую над нами, безо всякого пощадения и милосердия».
Посланцов Калистрата путивльские воеводы не пустили к царю. Но тем не менее монашеские вопли должны были волновать в Москве общественное мнение, находившееся под влиянием духовенства. Между тем, из расспросов, сделанных по заведенному порядку воеводами у этих посланцов, видно, что монахи писали в Москву то, что было нужно казакам, все равно как в прежние времена казаки в свои петиции на сейм включали то, что было нужно духовенству. Полковники Хмельницкого рассылали по монастырям реляции о своих победах, а вернувшясь из похода, являлись к монахам с приношениями, которые заставляли честных отцов забывать уверение Киселя и других православных панов, все еще продолжавших созидать и благодетельствовать наши храмы, что война с казаками идет вовсе не за веру, а за опустошение края, за предательство его татарам, за нарушение государственного права и оскорбление королевского величества. Таким образом казацкая и поповская мстительность торжествовала над правдою фактов, и православные люди от берегов Тясмина до реки Москвы твердили хором, что в Малороссии идет война за веру. Великоруссы разуверились в этом только тогда, когда Выговский и другие предатели, питомцы Хмельнитчины, стали поступать с ними так, как до сих пор поступали с безбожными и злочестивими ляхами, а малоруссы не стыдятся и после Мазепы проповедовать, что «казаки были единственными борцами за православную веру и русскую народность».
Оставаясь непроницаемою в своих намерениях, набожная, чинная, величавая и вместе с тем, по замечанию поляков, тонкая (subtelna), Москва угощала Чигиринского увальня, Вешняка, с обычным своим хлебосольством. По царскому указу, велено было дать ему «государево жалованье в стола место: колач смесной в полторы лопатки, блюдо икры чорные, лещь или стерлядь паровые, звено белые рыбицы, блюдо вухи рыбы свежие, звено белужины, щуку колодку; питья: две кружки вина двойного, две кружки романеи, две кружки ронского, две кружки меду вишневого, или малинового, полведра меду паточного, ведро меду цеженого, два ведра пива доброго».
Царь Алексей Михайлович милостиво принял присланные казацким верховодом лошадь (оцененную потом в 45 рублей) да лук турской, и спросил через думного дьяка о здоровье гетмана Богдана Хмельницкого: Вешняка и четверых его спутников «пожаловал к руке; но выслушать гетманской лист и на тот лист и на речи Вешняка обещал, через того же думного дьяка, учинить указ приказными людьми иным временем».
Казацкому посольству было придано значение обыкновенного «приезда казаков к Москве для испрошения государева жалованья». — «В доклад» было написано Посольским Приказом, что «1646 году гетман Запорожского войска, Николай Зацвилиховский, присылал к царю лист да двух человек языков татарских». Сообразно с отпущенным его гонцам жалованьем, было дано жалованье полковнику (Мужиловскому) и десяти человекам казаков, которые привезли в Москву иерусалимского патриарха Паисия, а сообразно с этим жалованьем был награжден и Вешняк с товарищи. Они получили: «отлас гладкой, сукно лундыш [98] самый доброй, камка добрые, два сорока соболей по 50 рублев сорок, денег 30 рублев; казакам трем человеком по сукну по англинскому по доброму, по две пары соболей по 5 рублев пара; денег по 10 рублев; людем их и полковникову конюху всего 6 человеком, по сукну по доброму, по паре соболей, по 2 рубли пара, денег по 10 рублев человеку».
Июня 12, через 8 дней по прибытии Вешняка в Москву, он был отпущен царем, у которого поцеловал руку, но с которым «розговорить устно», как это писал Хмельницкий, было бы слишком высокою для него почестью. На отпуске думный дьяк сказал ему в присутствии царя:
«Федор! великий государь-царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель, велел к тебе сказати: Приезжал еси к нашему царскому величеству по присылке запорожского гетмана, Богдана Хмельницкого, с листом. И мы, великий государь, тот гетманов лист выслушали, и гетмана и все войско Запорожское за их службу, что нашие царского величества милости ищут, жалуем — милостиво похваляем. И против того гетманова листа посылаем с тобою к нему, гетману, к Богдану Хмельницкому, нашу царского величества грамоту да нашего государева жалованья три сорока соболей».
«А после того» (записано в столбцах) «думной дьяк Михайло Волошеников, объявил им государево жалованье при государе, а молыл: Полковник Федор! великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует тебя своим царским жалованьем: отлас, камка, сукно багрец, два сорока соболей, денег 30 рублев».
Так патриархально и вместе так отчетливо велось государево хозяйство московское, вовсе непохоже на польское, в котором иной раз было разливное море для всех выдмикуфлей, а иной — на королевской кухне недоставало дров и говядины, а сенаторы-резиденты голодали вместе с своим «великим монархом», от иностранных же послов, случалось, великий монарх бегал из Варшавы на охоту, чтобы в нимвродовской жизни скрыть свое постыдное убожество.
Из приема Вешняка явствует само собой, что тайный договор с казаками и пересылка сенаторских писем к казацкому гетману могли явиться только в шляхетских умах, которые по-казацки мутил взбунтовавшийся шляхтич.
В ответной своей грамоте, врученной Вешняку, царь писал, что желание Хмельницкого и обещание служить ему, великому государю, со всем Запорожским войском — милостиво похваляет, но что наступить царским ратям на казацких неприятелей нельзя, потому что отцом его, царем Михаилом Федоровичем, заключено с покойным королем Владиславом и с его наследниками «вечное докончанье», утвержденное на обе стороны их государскими душами, крестным целованьем и грамотами и печатьми». — «А будет королевское величество» (сказано в заключение) «тебя, гетмана, и все войско Запорожское учинит свободных [99], без нарушенья вечного докончаня, и мы, великий государь, наше царское величество, тебя, гетмана, и все войско Запорожское пожалуем — под нашу царского величества высокую руку приняти велим» [100].
Но польскому королю и его панам-рады, рабам римского папы, уже была дана строгая нота. Получив известительное письмо о воцарении Яна Казимира в конце марта, Алексей Михайлович промолчал весь апрель, и только 8 мая написал внушение, что возводить человека в достоинство светила всего христианства (как делают-мол паписты) непристойно. Под этим внушением могло скрываться и другое, — что славословить без всякой меры короля, оторвавшего у Москвы Северщину к Польше, более чем неблагоразумно в такой момент, когда завоеватели Северщины завоевали Польшу, и готовы повергнуть ее к ногам преемника Собирателей Русской земли.
Привыкнув мыслить по римской логике, польские паны взирали на Москву с таким пренебрежением, что даже лучший из их канцлеров, Ян Замойский, среди национального собрания своего называл московского царя Бориса хлопом. Между тем цари-хлопы, с окружавшими их просторековатыми боярами, хорошо знали путь политической жизни, шли по этому пути при свете собственного, русского ума, и, в свою очередь, присвоивали себе право называть панов безмозглыми ляхами. Теперь именно настал такой момент, когда две системы политической жизни, два противоположные способа государственного самосохранения — должны были доказать практически свою состоятельность. Поляки гордились вольностью своею, а москали — своею неволею. Называя себя холопьями царя своего, бояре московские таким самоуничижением высказывали только национальное уважение к знамени, под которым русский народ (не шляхетский и не казацкий) из падшего сделался восставшим, из раздробленного — единым, из малаго — великим. Поэтому всякое прямое или косвенное оскорбление имени и достоинства царского принимали они за оскорбление всего народа, над чем «безмозглые» смеялись и после Хмельнитчины, в знаменитых Pamietnikach Paska [101].
Случай выместить на ляхах всю их кичливость сам по себе был искусителен.
Хмельницкий «растоптал» их боевые силы, растоптал, по выражению Киселя, их славу, и грозил перевернуть польское панство кверху ногами, — грозил в глаза великим и полномочным послам Речи Посполитой, которых третировал en canaille. Москали знали цену казакам еще до своего Разорения: это у них был народ дикий, безбожный, предательский. С казаками они держали себя осторожно, как с огнем. Но почему же им было не взять у ляхов свое, когда ляхи станут кверху ногами? Связывало их вечное докончание, утвержденное крестным целованьем. То не была преподанная ляхам присяга словом, а не намерением. Но это вечное докончанье, при всей святости своей для воспитанного православием сердца, не обязывало его терпеть новые оскорбления, — и от кого же? от панов, попранных ногами собственных рабов, как они сами сознавались. В сердцах думных царских людей не зажили еще раны, нанесенные тем самым Владиславом Жигимонтовичем, которого просвещение ляхи так не ко времени противопоставили московскому невежеству, разумея под этим сияние польского католичества и темноту русской схизмы. Всякое прикосновение к этим ранам отзывалось в Москве болезненно, а между тем со стороны ляхов это была не единственная зацепка.
С возобновлением казацких бунтов и сношений нашего духовенства с Москвою, польские политики стали бояться русского воссоединения больше прежнего, и, чтобы проявлявшиеся в низшей шляхте симпатии к московской тишине, к московской безопасности, к московскому суду и расправе — не возымели своего действия, пустили в ход самое жалкое средство. При всяком удобном случае, на сеймиках и сеймах, в церковных проповедях и в печатных сочинениях, они старались бросить на Московское царство тень, как на страну зверскую, коварную, и самого царя московского изображали или тираном, или посмешищем. Так продолжалось дело до последнего бунта. Хмельницкий, изыскивая средства задобрить московское правительство и вооружить Москву против Польши, напал на этот родник международной ссоры. В качестве польского шляхтича и казака, он питал к царскому правительству меньше приязни, нежели к султанскому, и в особенности — за его неуклонную строительность. Разозлясь на царя за его равнодушие к казацким предложениям, не раз отпускал он перед московскими людьми такие угрозы, что вот-мол пойду изломаю вашу Москву и все Московское царство, да и тот, что у вас на Москве сидит, от меня не отсидится. Но это делал он спьяна. Проспавшись и опомнясь, посылал он к царю все книги, в которых ляхи делали из него карикатуру, а московский народ низводили на ступень диких животных.
Этим удачным в демоническом смысле маневром Хмельницкий еще больше сгустил густую тучу на северо-востоке польского горизонта.
Но поляки, к пагубе своей, не замечали грозы. Они думали, что им предстоят счеты с одними казаками; обо всем же, что взяли у Москвы с возведения бродяги на престол Собирателей Русской земли, паны думали, как наши мужики: «що з воза впало, те пропало».
На последнем сейме было у них постановлено: собрать вновь 30.000 регулярного войска и дать королю право на посполитое рушение.
Деление панов на коренных землевладельцев и на колонизаторов малорусских пустынь проявилось опять зловещим образом. Польша сумела примкнуть к себе Русскую землю, или, как ее называли еще до церковной унии, Малую Россию, но не умела соединить ее с собою неразрывно. Хотя такие люди, как Ян Замойский, читали русские летописи, но они не понимали, как много значили для этой Малой России общие с Великою Россией предания. Своими униями они произвели только дизунию, и все, чем их политика мечтала соединить на веки с Польшею Русь, — а всего больше латинопольские школы, — обратилось в причину их вечной несоединимости. Не помогла полякам на чужой почве и колонизация пустынь, которой начало положили их кровные Конецпольские да Гаштольды.
Стародержавные паны не хотели теперь дать предводительства над войском представителю панов новодержавных, Вишневецкому, а король был у них в руках. Да он и сам не любил Князя Иеремии, точно провидел, что его сын сменит шведских Ваз на Польском престоле. Но на панов рады сильно влияло в этом случае и требование Хмельницкого, примирение с которым эти малодушные политики считали возможным до конца. Притом же, по их традиционному мнению, было бы несправедливо отдать великую или малую гетманскую булаву кому-либо при жизни находившихся в татарском плену гетманов, Потоцкого и Калиновского, о выкупе которых они хлопотали настойчиво. В ожидании свободы вождей, погубивших уже одну армию, впустивших казако-татарскую орду in viscera Reipublicae, и способных только к новым и новым промахам в пользу руинников, король, с одобрения панов рады, сделал то, что было всего хуже и что мог бы присоветовать ему только губитель Польши: он оставил гетманские права за собою, он, который не сумел гетманить и одним полком пехоты.
Ян Казимир вознамерился предводительствовать посполитым рушением непосредственно, а регулярное войско вверить новому триумвирату, который состоял из белзского каштеляна, Фирлея, каменецкого каштеляна, Лянцкоронского, и известного уже нам коронного подчашего, Остророга. Эта последняя мера опровергает известную пословицу: «po szkodzie Lach madry» [102]. Она показывает, что лях оставался всегда одним и тем же ляхом, и что Хмельницкий не напрасно считал все польское войско за ничто без Вишневецкого.
Притязания казацкого батька на независимое владение в русских провинциях королевства побуждали панское правительство вооружаться на борьбу с ним всеми своими силами. Вишневецкий советовал это панам в самом начале бунта: он советовал гасить пожар на малом пространстве; но поклонники Киселевского хитроумия дали пожару охватить большую часть государства, да и тут еще устранили единственно способного гасителя, по воле поджигателя.
Дилемма короля с его триумвиратом и с его панами-рады состояла в том: государству ли торжествовать над казацкой вольницей, или казацкой вольнице ругаться безнаказанно над государственным правом? Появясь во главе бунтующих казаков, иерусалимский патриарх придал ксендзовской побранке Наливайкова секта значение действительности, и тем усилил влияние ксендзов на их паству, у которой еще так недавно были они дискредитованы своею жадностью к овладению шляхетскими имуществами. Вопрос веры и церкви перестал теперь быть в Польше римским вопросом: он сделался польским, и вернее — римско-польским навсегда, так что, чем больше теряла Польша подданных, тем больше приобретала Римская Курия исключимых рабов среди шляхетского народа. От этого пропасть, разделявшая две национальности северной Славянщины, разверзалась все шире и шире. Казацкое дело, противоположное делу православия, стало принимать значение дела церковного не только в глазах Польши, но и в глазах Москвы. Гибель панской республики сделалась неизбежною.
Двинулись предводители квартяного войска на Волынь и расположились главным станом под Старым Константиновым, где бурная волна казатчины смыла уже однажды плотину или мол панской хозяйственности. Войско было далеко не все в сборе.
Финансовые затруднения и теперь, как всегда, составляли камень преткновения в панских военных действиях. А между тем хлопская война кипела в разных местах на Волыни и в Белоруссии с ранней весны. Собственно говоря она не прекращалась ни после того, как Хмельницкий двинулся из-под Замостья, якобы послушный королевскому повелению, ни после того, как он заключил перемирие в Переяславе.
Взволнованная казацким походом и голодная вследствие опустошительного бунта масса простонародья не хотела знать никаких договоров. Несчастная шляхта делала, что могла, отстаивая свои имущества, свои семейства, свои гражданственные учреждения; но чем успешнее отражала разбой, тем больше узаконивала в понятиях бунтовщиков убийства, грабежи и насилия, совершаемые над противниками казачества, тем шире разносилась молва о борьбе за христианскую веру, тем свирепее ревел и бил в землю ногами казацкий батько, заставляя дрожать шкуру на пленниках и королевских послах.
В начале марта, за два дня до возвращения королевских комиссаров из Переяслава, как уже сказано выше, гайдамацкий полковник Тиша, по-казацки Гарасько, овладел городом Острогом, — побывавшим уже в руках героев разрушения; но законные владельцы знаменитого города снова отстояли его у противозаконных. Увы! эти владельцы были окатоличенные потомки Князя Василия, на которого внуках и правнуках тяготели вещие слова Иоанна Вишенского, объяснявшего целость панских домов на Руси только существованием среди панов монашествующих каптуроносцев.
Теперь во мнении взбунтованной казаками черни исчезло и последнее различие между панами отступившими от предковской церкви, и панами, сохранившими веру отцов своих. Князь Корецкий, которого родители были еще православными, и который держался их памятью так, что даже конфиденты Хмельницкого хвалились Унковскому его готовностью помогать им, подвергся участи, одинаковой с окатоличенными давно уже наследниками князя Острожского. Ватага мужиков, запорожествуя по казацкому почину, взбунтовала местных гультаев против людей хозяйственных, которые поладили с вернувшимся на родное пепелище князем. Замок в городе Корце был разорен; шляхта и жиды истреблены; сам князь едва избегнул гибели от рук народа, который своим водворением в этих местах и своею целостью был обязан его воинственным предкам и ему самому. Сын знаменитого Кривоноса поднял на панов Полесье. Загон Донца, конвоировавшего, вместе с Тишею, королевских комиссаров от Звягля до Переяслава, задумал было, вместе с загоном полковника Татаринца, овладеть Заславом; но стоявшие на Волыни жолнеры отбили у них две пушки, 20 значков, и самих обратили в бегство. Казаки были выбиты из Звягля, и, вероятно, великолепная кушнерка перестала тогда «лаять» Хмельницкого за его простую обстановку, «когда Бог дал всего много». Еще прежде были они выбиты из Бара, который Хмельницкий называл своим городом, едва отстояли Шаргород и потеряли Гусятин. Наконец, были разбиты и под Межибожем.
Повсеместный голод, последовавший за казако-татарским нашествием прошлого года, давал жителям Волыни надежду, что Хмельницкий теперь не соберет великой силы для похода на панов, а с малою против них не устоит. Так думал и королевский триумвират.
Но война кипела сама собой, без видимой причины и без всякого разумного рассчета.
Православный Адам Кисель с православными и католическими своими спутниками подобно жившему в 4 милях от него князю Корецкому, напрасно старался утвердиться в своем волынском имении, Гоще, хотя держался в нем до конца мая, приводя экономические дела свои в возможный при тогдашних обстоятельствах порядок, другими словами — связывая выгоды подданных с выгодами панскими для противодействия опустошительной Хмельнитчине. В то же время он посылал письмо за письмом в Москву, выставляя Хмельницкого врагом не одной Речи Посполитой, но и всякого гражданственного общества. Хмельницкий, как мы знаем, дружески с ним переписывался о способах успокоения междоусобной войны, а между тем ловил его посланцов и подкрадывался к нему самому. Находившиеся с Киселем комиссары изображали собою довольно комически мир среди неудержимой никакою властью войны. По-видимому, Хмель считал особы этих представителей короля и Речи Посполитой неприкосновенными. Вдруг сильный казацкий отряд нагрянул в Гощу. Но Кисель имел конфиденцию среди казаков еще со времен Павлюка, и когтистая лапа хитрого кота сделала промах: мышь ускользнула с мышатами. После такой развязки комиссарской трагикомедии, панские сделки с хозяйливыми подданными стали уступать место казацким сделкам с гультаями и гайдарами.
Подобно своим предшественникам, Хмельницкий брал не одним подучиванем панских подданных и служебников на предательство, но и террором над людьми, мирившимися с существующим порядком вещей. Уже вскоре после первого разлива казацкой славы под бунчуками желтоводских и корсунских героев, слышен был и ропот на Хмеля в земледельческом и ремесленном классах. Самое стоянье под Пилявцами сопровождалось такой шаткостью в украино-запорожском войске, что Хмельницкий разослал по всем дорогам команды сечевиков для истребления новобранцев, расходившихся из табора; а захваченные впоследствии жолнерами по одиночке пилявецкие победители показывали на пытке, что общее бегство казаков было предупреждено только бегством самой шляхты.
Панским попыткам удержать разлив антихозяйственной казатчины экономическою деятельностью вредили всего больше землевладельцы, которые, отчаявшись в спасении своих имений, делали на них наезды с помощью квартяных жолнеров, и захваченное у крестьян добро отправляли в глубину края. Добро это было приобретено крестьянами посредством грабежа панского хозяйства, но тем не менее возбуждало громкие вопли против «проклятых ляхов». Еще больше помогали Хмельницкому в привлечении черни на сторону разбоя храбрые, хищные и распутные жолнеры, которые, идучи против русских злодеев, всячески обижали мирных жителей и грозили вырезать до ноги русское племя, разогнавши казацкие купы, — грозили не оставить живыми и младенцев, как жаловался Унковскому сам творец свирепой с обеих сторон трагедии.
Молва подхватывала нелепые угрозы в кабаках и на жолнерских вакханалиях, превращала их в совершившиеся факты, как это было в Тарасовщину, и гибельно для панского дела весь украинский, волынский, червоннорусский, белорусский народ делила на казаков, воюющих за православную Русь, и на ляхов, готовых истребить ее поголовно, вплоть до московской границы, не щадя и «немовляток».
В силу казацкого террора, подавлявшего не только работящих мужиков и мещан, но и мелкую шляхту, в составе так называемого Запорожского войска находились люди, гнушавшиеся казацким промыслом и ждавшие только решения спорного вопроса: которому из двух славянских государств владеть Малороссией, чтобы из-под казацкого самоуправства перейти под власть правительства монархического. К таким людям принадлежал неизвестный автор современных записок, которым я дал название «Летописи Самовидца». Он разделял со множеством порядочных людей то мнение, что война на Хмельницкого возымела свое начало от гонения ляхов на православие и отягощения казаков; но ляшеское гонение изобразил только словами: «не тилко унея у Литве, на Волыне, але и на Украине почала гору брати»; а это значило, что желавшие единения с людьми господствующего вероисповедания, как например Кисель, Березовский, Косов и все «могиляне», стали превозмогать староверов, которые понизились в достатках, в общественном значении, и со стороны которых скиталец Филипович был гласом вопиющего в пустыне. Напротив, «отягощение казаков» изобразила «Летопись Самовидца» весьма подробно и обстоятельно. По её рассказу, Хмельницкий прежде всего «наступил Ордою на Запорожье» и заставил стоявшее на Запорожье войско пристать к нему. Вызванное в Украину бунтом Хмельницкого коронное войско, по известию Самовидца, распространило в народе не новый уже слух, поддержанный, разумеется, хмельничанами, что, по уничтожении бунтовщиков, паны опустошат Украину, и большую часть её населят людьми немецкими да польскими. Но случилось наоборот: коронное войско было уничтожено бунтовщиками.
Услыхав об этом (рассказывает Самовидец), начали собираться в полки не только те, которые бывали казаками, но и те, кто никогда не знал казачества. Державцы спасались из охваченного бунтом края бегством, а Корсунские победители, вместе с новобранцами, принялись истреблять шляхту, жидов и городских урядников, не щадя ни женщин, ни детей. «Маетности» (пишу его языком) «рабовали, костелы палили, обвалиовали, ксионзов забияли, дворе зась (же) и замки шляхетские и двори жидовские пустошили, не заставляючи жодного (ни одного) целого. Редкий в той креве на тот час рук своих не умочил и того грабления тих добр не чинил. И на тот час туга великая людем всякого стану значным была и наругання от посполитых людей, а найболше от гультяйства, то есть от броварников, винников, могильников, будников, наймитов, пастухов, же любо бы (что хотя бы) який человек значный и не хотел привязоватися до того казацкого войска» (как, вероятно, и сам летописец), «тылко мусел задля позбытя того насмевиска и нестерпимых бед в побоях, напоях и кормах незвычайных, и тыи мусели у войско приставати до того казацтва».
Однакож, положение бунтовщиков было крайне рискованное. По сказанию Самовидца, войско Хмельницкого под Пилявцами было едва не в осаде от коронного войска; но пришла Орда «великою силою» и испугала панов, не видавших еще татарских полчищ. Гоня перед собой разбежавшееся войско (что не совсем верно), татары не брали полона, имея в виду будущий ясыр и не желая себя обременять, а всех обезглавливали. Но, расположась под Замостьем, казаки и татары распустили загоны по самую Вислу. «И хто» (восклицает Самовидец) «может зраховати (исчислить) так неошацованную (неоценимую) шкоду в людех, изо орды позабирали, а маетности (изо) казаки побрали! Бо в тот час не було милосердия межи народом людским. Не тил (только) жидов губили и шляхту, але и посполитым людем, в тих краях живучим, тая же беда была. Многие в неволю татарскую пойшли, а най барзей ремесники молодые, которые себе головы голили попольску, чуприну пускаючи на верх головы. Але предся (но однакож) Русь-христиане в тих поветах, в городах, позоставали, и ежели якого поляка межи собою закрыли, то тот (остался) жив. Костелы зась (же) римские пустошили, склепы (подвалы) с трупами (гробами) откоповали, мертвых тела з гробов (гробниц) выкидали и обдирали и в том оделю (одеянии) ходили».
Осада Львова показала нам, как щадили казаки галицкую «Русь-христиан». Самовидец поправляет сам себя, описывая то, что делалось у пего перед глазами. Нежинцы, посланные взять Кодак, по его рассказу, делали людям во время похода «великие кривды», так что поднепряне приняли их за Литву, идущую оборонять эту крепость, напали на них между Рашевкою и Комышным, и перебили несколько сотен.
Новую войну Хмельницкого, в 1649 году, характеризует Самовидец следующими словами, показывающими, как и предыдущая выписка, что тогдашняя письменная речь малорусская на половину сделалась уже речью польскою:
«.....усе що живо поднялося в казацтво, же заледво (что едва) знайшол бы в яком селе такого человека, жебы (чтобы) не (и) мел альбо (или) сам, албо сын до войска ити; а ежели сам нездужал, то слугу паробка посылал. А иные, килько их было, все ишли з двора, тилько одного зоставляли, же (так что) трудно было о наймита (найти наймита). А то усе деялося задля того, же (что) прошлого року (года) збогатилися шарпаниною (грабежом) шляхетских и жидовских и иных людей, бывающих на преложенстве (старшинстве), же навет (что даже) где в городах были и права майдебурские, — и присяглые бурмистрове, и райцы свои уряды (должности) покидали и бороды голили, до того войска ишли: бо тые себе зневагу держали (презрение терпели), который бы з бородою неголеною у войску был [103]. Так диявол учинил себе смех з людей статечных»!
Вот побуждения, управлявшие пособниками Хмельницкого в Украине! Немудрено, что составившееся таким образом войско норовило разойтись из табора еще до начала боя, и геройствовало только среди беззащитных. Понятно также, почему, не имея у себя сзади татар, оно было слабосильною и малодушною массою. Хмельницкий знал свой народ, эту дружину хищных новобранцев, находившуюся под террором «старинных казаков», и потому прежде всего заручился дружбою крымцев, во что бы ни обошлась эта дружба родному краю. Новобранцы стояли у него между молотом и наковальней: им не оставалось иного выбора, как «пановати», по-татарски, вместо разогнанной шляхты, или же идти в татарскую неволю. По свидетельству королевских комиссаров, оказаченные мужики в прошлую осень ничего не сеяли. От этого-то жилища их были окружены роющимися в снегу лошадьми, от этого улицы столицы казацкой были обезображены падалью, а вязанка сена продавалась по 2 талера.
Казацкий батько посылал в Украину целые обозы, нагруженные панским добром, но был принужден выгнать 600 собственных лошадей в снега за центральный город казатчины. Многие казаки вернулись домой также богачами. На киевских рынках продавалось бесчисленное множество панской одежды, ценных принадлежностей культурного быта, дорогого оружия, конской сбруи, ломанного и неломанного серебра.
Но приток добычи не внес в Украину того, что составляет прямое богатство страны.
Посреди роскошных вещей нищета высовывала обнаженные члены свои, а голод угрожал даже тем, кто владел блестящими побрякушками. Это были самые сильные союзники Хмельницкого в новом его походе против «проклятых ляхов», хотя они же явились в последствии самыми грозными врагами его. Хмельнитчина и началась под сильным давлением голода, поразившего разом и казацкую Украину, и татарский Крым. Зима 1647 — 1648 года была бесснежная, теплая, гнилая. Наступило неурожайное лето, и Унковский говорил правду Хмельницкому, что когда бы не подвоз хлеба из пограничных московских рынков, то казаки перемерли бы с голоду; а новый голод, причиненный великим бунтом черни, был предвестником тех голодов, которые погнали наконец казаков, точно стада, в запасливые царские Украины.
Одичалая в нашей украинщине Клио изображает вторичное вторжение казацкого батька в область хозяйственной культуры с восторгом: «Поселянин не рассчитывал дорогого времени; заброшен лежал плуг его; орала и серпы перекованы были на оружие... не заботился он, что ему есть и пить, надеясь жить на счет Польши» и т. д. [104] По этому дикому восторгу, встреченному похвалами дикой критики, можно судить, какова была дикость казако-татарского нашествия, совершившегося более, чем за два столетия до нашего времени.
Примечания
1
Кобзарские думы называют Христианскою землею, иначе Святорусским Берегом, безразлично и Восток и Юго-восток польских владений, когда говорят о возвращении пленников из татарской и турецкой неволи.
(обратно)2
Это древнерусское имя писали еще по-русски в XVI-м столетии (автор Боркулабовской Хроники) и в XVII-м (Кулаков, Самовидец). Я пишу его по-русски в XIX-м.
(обратно)3
Это звание носит при дворе папы кардинал, управляющий юстицией и финансами. После смерти папы до избрания нового, камерленго управляет папским царством.
(обратно)4
Взято с польского pan cala geba (geba — рот).
(обратно)5
По когтям узнают льва.
(обратно)6
Итальянская монета scudo ценилась в 5 франков 35 сантимов.
(обратно)7
Вспомним, что и в Наливайково время примас чуждался церковной унии. (См. выше стр. 108 первого тома).
(обратно)8
Т. е. поступил в орден иезуитов.
(обратно)9
Другой брат Владислава, Карл Фердинанд.
(обратно)10
Слова Д-ра Кубали.
(обратно)11
Имя Koniecpolski, разделенное пополам, буквально значит по-русски Конец Польши.
(обратно)12
Шляхетская фамилия Вадовских существует в Варшаве и ныне.
(обратно)13
Dyskurs jednego Dworskiego per modum Listu pisany we Lwowie.
(обратно)14
Не любя братств, могилинская факция назвала их здесь иными местами.
(обратно)15
В Московской Патриаршей библиотеке хранятся записки Филиповича, ожидающие издания.
(обратно)16
В наше время это местечко принадлежало Константину Свидзинскому, которому историография обязана, между прочим, и сохранением летописи Ерлича, требующей более полного и точного издания.
(обратно)17
А Киселя той же дорогой прочили из киевской каштелянии на брацлавское воеводство.
(обратно)18
Сам Хмельницкий упомянул об этом в своем «Реестре казацких кривд», о котором будет речь ниже.
(обратно)19
Они напечатаны по-русски вторым изданием в Лейпциге, в 1883 году, доктором Манделькерном, под заглавием: «Богдан Хмельницкий, рассказ еврея современника, очевидца событий в Малороссии за 1648 — 1653 годы».
(обратно)20
Костомаров, «Богдан Хмельницкий», изд. 4, т. I, стр. 242.
(обратно)21
Костомаров, там же, стр. 238 — 251.
(обратно)22
Об этом упоминается в записке Хмельницкого, известной под названием Реестра казацких кривд.
(обратно)23
Бутом называли казаки толмача, по-малорусски товмача. Отсюда и остров Товмаковский, иначе Товмаковка.
(обратно)24
И панский погреб, как сердце, казался открытым, а старое венгерское рождало не без души шутки.
(обратно)25
Паны имели, как и король, старост, которые, по отношению к этим королятам, были те же brachia regalia.
(обратно)26
В населенную Украину.
(обратно)27
Бог ме — сокращение слов: «Бог мене вбий».
(обратно)28
И летит пустынными бездорожьями царь пустыни, а степь, конь, казак, темнота, это — одна дикая душа.
(обратно)29
Когда казацкие кобзари возбуждали к бунту городскую и сельскую чернь, они пели, будто бы жиды заарендовали вси казацьки реки. Эти заарендованные реки помещали кобзари не в Диких Полях, а на славний Украини. Первая из невозможных для жидов рыболовных аренд находилась, по кобзарской думе, на Самари, вторая — на Саксани, третья — на Гнилий, четвертая — на Пропойной, иначе на Пробойной (по Папроцкому, существовал Пробойный Шлях), пятая — на рицци Кудесци.
(обратно)30
Буздыган знак власти: булава, пернач и просто чекан, по-казацки келеп.
(обратно)31
Выговского называют волынским шляхтичем, тогда как слава рождения столь знаменитой личности принадлежит земле Киевской. Еще в царствование Сигизмунда I, предки Ивана Выговского, овручские бояре Лучичи, купили у королевы Боны, торговавшей, как известно, под рукой у короля, должностями и пожалованиями, «пустовскую землю в Киевском повете, называемую Скочковскою, в Выгове, с обязательством служить с этой земли земскую службу. Выданную им жалованную грамоту Сигизмунд I, в 1541 году, подтвердил по ходатайству Боны, а в 1611 и в 1632 подтвердил ее Сигизмунд III.
(обратно)32
Может быть, это было древнее «селище, Родивонова на Тясмени и с пасеками», которое князь Федор Глинский «выслужил на князи Александре (литовском) и на князь Семене (киевском)» «Акты Западной России», I, № 158.
(обратно)33
Шемберк был житель города Львова, как и комендант Кодацкой крепости, которому казаки также отсекли руки.
(обратно)34
Он пишет о Николае Потоцком так: «...wiecej radzil о kieliszkach и szklannicach, nizeli o dobru Rzeczpolitej i calosci onej; jakoz u nocy radzil o pannach albo dziewkach mlodych i nadobnych zonkach, bedac sam w starosci lat podeszlych, nie znoszac sie ani radzae kolegi swego Marcina Kalinowskiego Hetmana Polnego, ani innych pulkownikуw i rotmistrzow, tak tez towarzystwa. Z powadu pijanstwa ustawieznego i wielkiego wszete czenstwa zatracil wojsko...»
(обратно)35
Седла, узды и проч.
(обратно)36
Слова знаменитого проповедника, Фабиана Бирковского.
(обратно)37
Слова того же народного пророка.
(обратно)38
Еще и в апреле 1649 года царский дворянин Унковский упрекал Хмельницкого, в Чигирине, — что «черкасы нападают на порубежных людей, чинят им великие обиды, грабят и убивают, в угодья въезжают, пчел выдирают, рыбу ловят, хлеб и сено увозят насильно, и ваши порубежные начальники» (говорил Унковский) «таких воров не наказывают и не сыскивают».
(обратно)39
Эта косвенная прокламация, подобная павлюковской, так точно уничтожает апокрифический универсал Хмельницкого из-под Белой Церкви, как павлюковская — фальшивый универсал Остряницы, включенный в Летопись Величка. При отсутствии у нас исторической критики, Археографическая комиссия напечатала белоцерковский универсал в своих актах и еще не так давно публиковала его для Европы, с переводом на французский язык. Я указал на это в «Материалах для Истории воссоединения Руси», но Костомаров, в 4-м издании «Богдана Хмельницкого» пишет, что Хмельницкий, «с шестидесятью казаками, разослал из-под Белой Церкви списки зазывного универсала ко всем южноруссам, обитающим по обеим сторонам Днепра», и прочая.
(обратно)40
Костомаров, «Богдан Хмельницкий», изд. 4, т. I, стр. 317.
(обратно)41
Если Байда был религиозен, то по духу его времени и по его связям с такими людьми, как владелец Хотина, Лаский, он был арианист.
(обратно)42
Этот мудрый сенатор писал к сеймующей шляхте в июле 1648 года: Трудно восстановить спокойствие, «poki niezagoja sie nie tylko powierzchowne, ale i wewnetrzne rany, ktore, im szkodliwsze, tem skrytsze».
(обратно)43
Книга Папроцкого: «Panosza, to iest Wyslawienie Panow Ruskich у Podolskich», была в Польше преследуема, как и его гербовник.
(обратно)44
Poslecie go w poselstwie, dobrze je odprawi,
Ledwie mu tak roskaza jak on lepiey sprawi.
Tam pytay o Hetmanie, o dobrym Rycerzu,
Nie rad kiedy wotuia w Radzie o przymierzu.
(обратно)45
По рассказу Кассиана Саковича, один благочестивый поп, развернув протестантское сочинение польского поэта Рея, обратился к прихожанам со словами: «Панове миряне, православни христиане, послухайте лиш казания Святого Рея», и по доносу католика, был привлечен за это к суду.
(обратно)46
Печерский архимандрит Захария Копыстенский сетует в своей «Палинодии», что нашего попа чаще видали в кабаке, нежели в церкви (Автограф Палинодии хранится в Варшавской библиотеке графов Красинских).
(обратно)47
См. Киевскую Старину 1887 года, январь, стр. 51.
(обратно)48
Прозвище Трясило дали Тарасу Федоровичу (по фамилии шляхтичу) казаки, распускавшие слух о своем торжестве над Конецпольским. Ложное предание о Тарасовой Ночи, в которую будто бы Тарас ляхов за чуба потряс, дожило до нашего времени, и пущено в ход новыми летописцами да кобзарями.
(обратно)49
Перевод с еврейского напечатан в «Чтениях Императорского Общества Истории и Древностей Российских» 1859 года, кн. I.
(обратно)50
Литовские паны домогались уравнения прав своих гетманов с коронными, если бы кто из них пришел с войском в лагерь. На это коронные паны не согласились.
(обратно)51
В Дневнике Конвокации Варшавской читаем: «Z strony Uniwersalu, w ktorym sa trzej Hetmani naznaczeni, aby takowe in posterum nie wychodzili, praecustoditum».
(обратно)52
В Дневнике Варшавской Конвокации слова Оссолинского записаны так: «Jezeli на nas chcecie wytargowac со uporem swoim, iz to czas urget maxime.»
(обратно)53
Дворянская фамилия Ляшка до сих пор существует в Борзне. Кисель, вероятно, во избежание неприятного для казаков имени, называл своего конфидента Lasko, словом, не значащим ничего. Тогдашние недоляшки подобные Киселю, попали в такое положение между двух народностей, что не знали, нак им быть.
(обратно)54
См. в «Киевской Старине» 1885 года, август, стр. 745 — 750, а в сентябрьской — декабрьской кн. биографию Адама Киселя.
(обратно)55
Например львовский арцыбискуп писал, от 1-го римского сентября, к своему приятелю: «Pan Kisiel w traktatach excuzuje zlosci Kozackie, i tem traktaty stanowi; et hostes excusat, jako Rusin».
(обратно)56
Польское хозяйство.
(обратно)57
Печатные брошюры, распространяемые между сеймующими панами, заслуживают прилежного изучения. Biblioteka Polska г. Туровского напечатала их несколько, но в нее не вошла весьма редкая брошюра: O nowych Osadach: Slobodach ukrainnych Zdanie i Rozsadek, напечатанная без означения года и имени автора, но по шрифту и правописанию относящаяся к XVI столетию. Не думаем, чтобы заслуженный перед наукою издатель отверг ее потому, что в ней высказано много неприятной для поляков правды.
(обратно)58
Один весьма талантливый польский писатель, видя в моей «Истории воссоединения Руси» восстановленные по малорусскому произношению имена наших полонизованных русичей, знаменитых в истории Польши, спрашивает печатно в недоумении, для чего я это делаю. Отвечаю ему: для науки, для науки самопознания. В нашем «домашнем старом споре, уже взвешенном судьбою, интересно видеть, насколько польский элемент был увлекателен для русского, и как потом русский элемент восторжествовал над всеми польскими приманками (о принуждениях молчу). Что поляки умели торжествовать над Русью посредством Руси, это составляет гордость польского имени. Почему же нам не гордиться сознанием, что без нас, русских людей, сами по себе поляки были бы еще больше несостоятельны в войне и политике, чем они есть ныне, когда, в лице полонизованных русичей, владеют значительною частью древней русской почвы и пользуются присвоенною Польше славою множества русских имен?
(обратно)59
Эту речь вкладывал в уста Вишневецкому и Костомаров. Но у него не спросила критика: как мог Вишневецкий, в такой важный для него момент, называть поражение Конецпольского под Переяславом победою? (См. т. I моей книги, стр. 165, примеч.). Впрочем, она ни о чем подобном у него не спрашивала, довольная тенденциею сказок его.
(обратно)60
«Umorzono wszystkie kondycye», сказали в обозном дневнике.
(обратно)61
В ответе на речь Киселя заставили Вишневецкого говорить о недостатке запасов и т. п., тогда как обозный дневник (неизвестный современным историкам) показывает противное. На этом основании я исключил из речи Вишневецкого, очевидно постороннюю, вставку.
(обратно)62
В подлиннике это важное обстоятельство изложено темновато, а именно: «lubo wozy porzuciwszy, со znaczniejszego brac na koni i piechoty, i tak porzadnie ustanowiwszy ze wszystkiem przeciwko Ordzie samej, odwaliwszy ja od ozakow, resumere vires».
(обратно)63
См. описание пилявецкого дела у Костомарова, в 4-м изд. «Богдана Хмельницкого».
(обратно)64
Так погибла впоследствии одна казацкая армия, вся поголовно пьяная.
(обратно)65
Стих апокрифической думы, каких много сочиняли казацкие потомки в наше время и выдавали за старинные кобзарские.
(обратно)66
Одно имя знакомо нам по известному казаку предателю, другое — по фальшивому летописцу малорусскому.
(обратно)67
Малоруссы доныне кладбище (обыкновенно устраиваемое прежде вокруг церкви) называют по-польски цвинтарем (cmetarz).
(обратно)68
Чеканам, которые назывались и обухами.
(обратно)69
Малорусское восклицание пробі! или пробу! заимствовано из польского prze Bog! (ради Бога).
(обратно)70
Дьявольских денег. (Дідько — дьявол).
(обратно)71
Почитание и вместе поругание икон можно встретить еще и теперь в казацком народе (независимо от штунды). Считают, например, грехом ветхий образ сжечь. Его пускают на воду. Но иногда ставят в коморе, приговаривая: «Нехай миші ловить».
(обратно)72
Шляхетская фамилия Мокрского существует и ныне во Львове.
(обратно)73
Лаврисевичи также существуют во Львове, но не знаю, ополячились ли они, или только не доляшествуют в унии, которую наши тамошние соплеменники приняли в 1720 году.
(обратно)74
В песне о Перебийносе, записанной мною самим, поется:
Рубає мечем головы с плечей, А решту топить водою. (обратно)75
Книга эта появилась через три года по возвращении Яна Казимира в Польшу, под заглавием: Serenissimi Johannis Casimiri Р. S. Principis Carcer Gallicus. Gedani, 1644.
(обратно)76
Сорок осьмой удивительный год.
(обратно)77
Генералом назывался старший возный (wozny jeneral). Назывались генералами и некоторые старосты, с особенным правам по присвоенным их староствам.
(обратно)78
Неурядицею.
(обратно)79
Похода.
(обратно)80
Слово непереводимое: оно значит и добродетельный и честный, и сознающий свое достоинство.
(обратно)81
Не повелительный голос, а плачевный.
(обратно)82
В этом смысле и Хмельницкий называл панское ополчение жидами.
(обратно)83
Из сеймового дневника видно, что суматоха произошла по случаю внесения сенаторских кресел в Посольскую Избу. О бегстве сенаторов из заседания дневник выразился осторожно: «Chcieli Panowie Senatorowie ise za krzeslam swemi w posrodek Kola naszego, ale sie zas z jakiejsi przyczyny rozmyslili».
(обратно)84
Эта причина казацких бунтов существовала с первых известных нам документально времен казачества. Казаки бунтовали на тех самых основаниях, что и теперь, с начала XVI века против местных королевских старост, заведовавших первобытным казачеством, как об этом документально у меня в I т. «Ист. воссоед. Руси», стр. 485.
(обратно)85
Атлас гладкий, сукно багрец, сорок соболей в 50 р. и денег 30 р. Казакам, бывшим с вим: 5 человекам по сукну доброму и по 10 р., денег людям его пяти же человекам по 5 р. человеку. Из них оказались один пасынок Мужиловского, а другой племянник, и им было дано по 10 р., по сукну доброму да по паре соболей, в 3 р. пара.
(обратно)86
Под словом ляхи разумели русские люди панов, совратившихся в католичество, протестантство и в униатский папизм, (так называемую римскую веру). Коренных полонусов называли в Москве поляками. От этого, в тогдашних письменах встречаются такие выражения: «пришли ляхи и поляки».
(обратно)87
Кунаков имя Хмельницкого писал сперва через е, а потом стал писать через і, по-малорусски.
(обратно)88
В статейном списке эти припасы начислены так: «10 хлебцов пшеничных малых; 10 хлебцов ржаных людских, гуся, утю, двух поросят, четырех кур, 50 яиц, 2 сыра, баран, ногу говядины, 50 черенков соли; питья: сткляницу вина двойного, сткляницу вина венгерского, сткляницу мальвазеи, ведро вина простого, ведро меду, 5 ведер пива, 10 свеч сальных, четь овса и остралюк сена». Если еще понадобится корм, просили обращаться на гетманский двор.
(обратно)89
Достойно замечания, что Унковский обошел подарком паволочского войска, не смотря на его видную роль в церемониале Хмельницкого.
(обратно)90
Предок его был какой-нибудь Мяско. Некоторые пишут Мясковского Мястковским, но от польского miasto так точно нельзя произвести Miastkowski, как от русского Бела — польского имени Bielski (а поляки желают, чтобы первый, писавший историю их по-польски (а не по-латыни), не был наш русин.
(обратно)91
Одною из причин, почему комиссаров не пустили в Киев, надобно полагать нежелание покупать за небольшие деньги то, что было награблено у панов, и при этом разузнавать кой-что от московских торговых людей.
(обратно)92
Например, в статейном списке Унковского говорится: «А Запорожское войско стоит под Баром, в Константинове и в Гоще, под начальством Нечая, полковника брацлавского, Штепы попа да винницкого Гавтеренка».
(обратно)93
Иначе przysmaczek — возбудительная закуска.
(обратно)94
По-польски было бы Brzuch.
(обратно)95
Этими послами, т. е. посланцами, могли быть казаки, удившие в панских карманах талеры.
(обратно)96
Основываясь на этой лжи, исторический журнал «Киевская Старина» (1887 г., август, стр. 735) проповедует: «Речь, достойная великого патриота, каким был Хмельницкий! Он как будто вовсе забыл о причинах, побудивших его поднять казацкое восстание; он вовсе не думает о своих личных интересах, даже благополучие всего войска запорожского не составляет цели его действий. — Цель эта выше, шире! Он мечтает о восстановлении (sic) Руси в тех границах, как она была при великих князьях» (курсив журнала), «он смотрит на войско запорожское, как на неразрывную часть целого — Великой Руси, к которой он поэтому всеми силами души стремится. Велика казацкая душа! Странным даже представляется, что у простого казака могла явиться такая идея, — идея, о которой Москва, преследуя свои узкие интересы, не имела никакого представления. Не могло не казаться обидным Хмельницкому, что Москва не хочет понять его великой идеи, не имеет мужества рискнуть побороться за свои старинные земли, тогда как он, отказываясь от лично выгодных условий мира, стремится осуществить эту идею».
(обратно)97
Kürschner, скорняк.
(обратно)98
Fein holländisch, по-польски falendysz. Из этого сукна казаки носили так называемые жупаны-луданы.
(обратно)99
Вчерне было подписано сперва: «А будешь ты, гетман и все войско Запорожское, у короля и у панов-рад учинитеся свободны.
(обратно)100
Это место также вчерне было написано иначе, а именно: «А будет, вам в чем учинитца теснота и гоненье, и которые на нашу царского величества сторону переходить учнут, и мы, великий государь, для православные христианские веры, по тому ж тех приняти велим, что после вечного докончанья с обе стороны переходят повольно».
(обратно)101
Byl tedy miedzy ochotnikami chlopiec, ktory umial z Moskalami swarzyc sie i draznic ich; jak oni wolali: «czaru, czaru»! to chlopiec przypadlszy blisko nich, zawolal glosem: «wasz czar taki a taki»! to Moskali za nim kilkunastu albo kilkudziesiat wysworowalo sie; chlopiec zas, na racymbach macie siedzac, dobrze uciekal, a wyprowadziwszy ich za soba daleko od kupy, to my, skoczywszy z bokow. przerznielismy ich, siekac i zabierajac. Dosc na tem, zasmy poslali wojewodzie ze trzydziestu jezykow z harcowki za powodem owego chlopca. To znowu chlopiec do nich poruszal i powiedzial im co innego o carze, a Moskale jakoby wsciekli, (bo oni bardziej sie urazaja o krzywde imienia carskiego, nizeli imienia boskiego), suna sie za nim zapamietale. Tak bylo tego wiele razy na swego chlopca, i tak tedy zagnali sie za owym chlopcem az w las, chcac go koniecznie dostac, boby go pewno ze skory odarli za takie niecnoty, ktore im wyrzadzal. My zas zawsze po nich...
(обратно)102
Умен лях после шкоды (т. е. потери).
(обратно)103
Хмельницкий, как мы видели, жаловался в Переяславе, что паны вырывали казакам бороды. Борода была принадлежностью почетных людей. Но в Польше распространилась уже шляхетская мода брить бороды, и казатчина, подчиняясь вожакам своим, недовольным шляхтичам, усвоила себе их моду.
(обратно)104
Костомаров, «Богдан Хмельницкий», изд. 4, стр. 91
(обратно)
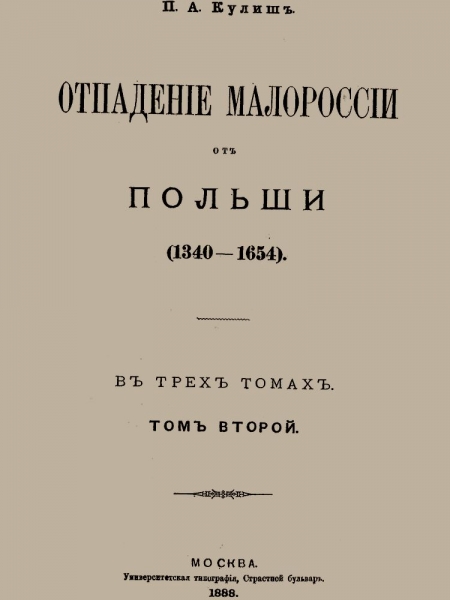

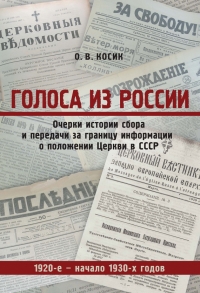
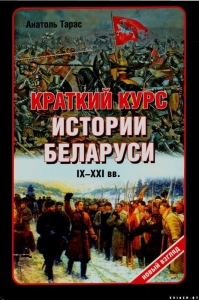

Комментарии к книге «Отпадение Малороссии от Польши. Том 2», Пантелеймон Александрович Кулиш
Всего 0 комментариев