Сыр и черви. Картина мира одного мельника жившего в XVI веке
О.Ф. Кудрявцев Карло Гинзбург и его книга «Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в.»
Доступ в мир народной культуры средних веков и начала нового времени совсем не прост. Сфера ее бытования — устная традиция, которая очень редко, в каких-то исключительных случаях привлекала к себе внимание и фиксировалась современниками. Чаще всего историки пытаются о ней судить по косвенным, фрагментарным и, как правило, опосредствованным данным, отраженным в произведениях высокой литературы, хронографии, философской или богословской мысли, изобразительного искусства или извлекаемым из церковных документов, законодательных памятников, частных и государственных актов. О том, сколь успешно можно справиться с задачей реконструкции умонастроения простолюдинов отдаленного прошлого, используя подобного рода материалы, показали работы М.М. Бахтина и А.Я. Гуревича*, заложившие основы изучения принципов и категорий народного миросозерцания в качестве особого направления истории культуры.
Проблемам исследования народной культуры на исходе эпохи средневековья посвящена в значительной мере и публикуемая ныне в русском переводе работа Карло Гинзбурга «Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в.», впервые увидевшая свет на итальянском языке в 1976 г. Следует сразу заметить, что ее автор, профессор университетов Болоньи и Лос-Анжелеса, — выходец из семьи эмигрантов из России, игравших заметную роль в культурной и политической жизни Италии уходящего века: его отец, Леоне Гинзбург, изучал и преподавал русскую классическую литературу, являлся одним из создателей знаменитого книгоиздательства «Эйнауди», из-за участия в антифашистском движении Сопротивления был брошен в застенок, где и погиб (1943); его мать, Наталия Гинзбург-Леви, — автор многочисленных литературных произведений и публицист, избиралась в парламент Италии от ИКП. Карло Гинзбург, хотя и приобрел широкую мировую известность прежде всего своими исследованиями верований, установок сознания и поведения человека из народа, обнаруживающих связь с очень давней, уходящей корнями в дохристианские времена фольклорной традицией, наряду с этим является также крупным специалистом по истории религиозных движений и церковных преобразований в Европе XVI—XVII вв. Не случайно как в публикуемой ныне на русском языке книге, так и в других подобных ей работах, Гинзбург стремится анализировать материал под двумя разными углами зрения, с одной стороны, выявляя во взглядах людей XVI в. черты, обнаруживающие близость к устойчивым стереотипам и самым архаическим принципам миросозерцания, с другой — показывая, как они воспринимались обществом и трансформировались в условиях вероисповедной борьбы и гонений на религиозное инакомыслие, усилившихся с развертыванием Реформации и Контрреформации. Несомненно, такой подход предохраняет исследователя от однобокости и позволяет взглянуть на изучаемое явление и в контексте зафиксировавшей его эпохи, и в его исторической ретроспективе.
С начала 60-х гг. Гинзбург приступил к работе над большим массивом документов второй половины XVI — первой половины XVII в., представляющих собой материалы инквизиционных процессов над людьми, обвиняемыми в ереси или в связях с нечистой силой. Стоит обратить внимание на то, что изучаемые Гинзбургом процессы имели место на северо-востоке Италии, во Фриули, гористой области, где встречались романские, германские и славянские обычаи народной жизни и верования, которые в ее пределах, на периферии тогдашнего христианского мира, не в полной мере были утрачены под воздействием официальной религии и высокой культуры. Итогом первых изысканий Гинзбурга стала опубликованная в 1966 г. монография «Бенанданти. Ведовство и аграрные культы на рубеже XVI и XVII вв.»* Посвящена она вызвавшему пристальное внимание инквизиции комплексу широко распространенных в сельских местностях Фриуля верований в то, что существует определенная категория людей, так называемых «бенанданти» (benandanti — букв.: благоидущие) из числа тех, кто рождается «в рубашке», обладающих, как считалось, сверхъестественными способностями вести борьбу за плодородие и урожай, сражаясь со злыми силами, колдунами и ведьмами, сообщниками дьявола; происходит это, по показаниям самих «бенанданти», в определенное время (четыре раза в год) на тайных ночных сходках, на которые они, точнее их души, покинувшие во сне тело, съезжаются, подобно их противникам, верхом на животных. Такого рода воззрения, считает Гинзбург, свидетельствуют о сохранении в народном сознании элементов древнего аграрного культа, восходящего к почитанию некоего женского божества, вроде Перхты, Хольды, Дианы, о реликтах первобытной магии, позволяющих усматривать связь между «бенанданти» и шаманами. Со временем, однако, по мере того, как главная сфера применения своих способностей «бенанданти» стали находить не в обеспечении плодородия полей, а в знахарстве и заклинании бесов, они сами начинают восприниматься окружающими как сообщники дьявола, а их ночные собрания в целях борьбы за урожай — как сатанинский шабаш. Вера в ведовство, имеющее своей основой союз с дьяволом, распространяется во Фриуле, по мнению Гинзбурга, в результате деформации прежнего аграрного культа*.
Такое объяснение широкого распространения в Европе XV—XVII вв. демономании и — как ее следствия — охоты за ведьмами представляется, если не исчерпывающим, то, по крайней мере, проливающим новый свет на проблему, которая является в историографии предметом острых дискуссий. В самом деле, еще недавно наши отечественные исследователи самых разных специальностей активно обсуждали причину захватившей все слои общества и страны католической и протестантской Европы на переходе к новому времени веры в ведьм и колдунов, массового преследования и истребления тех, кого обвиняли в сношениях с нечистой силой, в ком находили орудие дьявола. Одни предлагали видеть в этом проявление «упадочной религиозности» позднесредневекового католицизма, вызванное к жизни преследованием еретиков и вскормленное народными суевериями**, другие — порождение ренессансной эпохи, оказавшейся, несмотря на превознесение величия человеческого разума, во власти самых изуверских предрассудков*. Гинзбург, отказываясь от оперирования такими понятиями, как «суеверия» или «предрассудки», не вполне адекватными для тех подходов к изучению миросозерцания простонародья, которые он предлагает, в ряде последующих своих трудов, в частности, в монографии «Ночная история. Истолкование шабаша»**, наиболее крупном из них, вскрывает за характерными чертами сложившихся в ученой среде (демонологов, инквизиторов, судей) образов ведьм, колдунов, их сходок, их поведения и деяний подспудную, жившую в глубинах народного сознания, в его древнем, фольклорном культурном слое веру в необыкновенные дарования некоторых людей выступать посредниками между разными мирами, в их способности заклинать мертвых, воздействовать на природные явления, дабы обеспечить благополучие своей общине, своим близким. Вмешательство инквизиции, по мнению Гинзбурга, способствовало демонизации в общественном мнении подобных верований, на которые был наложен выработанный церковью стереотип их восприятия как ереси, как враждебного христианству культа, подразумевающего поклонение Сатане. Стоит заметить в данной связи, что пик гонений на них не случайно приходится на период с середины XVI по середину XVII в., то есть на время наиболее острой борьбы старой и новой конфессий в Западной и Центральной Европе, каждая из которых, пытаясь на подопечных им территориях подчинить полному контролю духовную жизнь людей, и особенно ее религиозную сторону, стремилась уничтожить все, что не соответствовало даваемой ею трактовке истин веры и поэтому не могла мириться с духовной автономией народной культуры, преследовала ее фольклорную традицию, ритуалы, магическую практику*.
Одной своей стороной книга «Сыр и черви» тесно связана с изучением этих проявлений народной культуры, отраженных в зеркале материалов ведовских процессов; другой — с историей реформационных идей и религиозных движений середины—второй половины XVI в., которым Гинзбург также посвятил ряд работ. В 1970 г. он выпустил обстоятельное исследование о так называемом «никодемизме»**, скрытом религиозном вольнодумстве, которое, не принимая конфессиональную замкнутость и нетерпимость католической и протестантских церквей, сохраняло в новых условиях критический дух ренессансного гуманизма и было близко к наиболее радикальным в идеологическом отношении течениям Реформации, вроде анабаптизма. Многие аспекты религиозных исканий в Италии XVI в. были затронуты Гинзбургом в подготовленной совместно с А. Проспери работе, предметом изучения которой стал важнейший памятник итальянской Реформации, анонимный трактат «Благодеяние Христа» (Beneficio di Cristo)***.
Проделанные исследования в области истории религиозной мысли Реформации и Контрреформации позволили Гинзбургу в книге «Сыр и черви» поместить рассматриваемое им явление народного вольнодумства в контекст эпохи, искать не только моменты сходства с архаическими верованиями, хранившимися в глубинах народной памяти, но и связи с культурной и религиозной обстановкой, в которой оно состоялось. Таким широким подходом к историко-культурному анализу Гинзбург во многом обязан школе известного итальянского историка Делио Кантимори*, учившего принимать во внимание социально-культурную почву, на которой произрастает исследуемое явление духовной жизни, прослеживать его корни в прошлом и, наконец, — что не менее важно — искать в нем черты более общих тенденций развития, свойственных изучаемому историческому моменту. Нужно также отметить влияние, оказанное на Гинзбурга трудом М.М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», на который он весьма часто ссылается в своей работе. Это влияние заметно, прежде всего, в постановке самой проблемы исследования народной культуры, или «культуры угнетенных классов», в которой Гинзбург вслед за Бахтиным отказывается видеть лишь искаженное усвоение форм духовной жизни, выработанных образованными кругами общества, его высоко просвещенной элитой. Не отрицая взаимовлияния и взаимопроникновения двух культур, оба исследователя подчеркивают самобытность народной культуры, ее укорененность в очень давней фольклорно-мифологической традиции с присущим ей особым типом восприятия мира и человека, разных сторон их бытия. Лишь одно, хотя и существенное обстоятельство не устраивает Гинзбурга в «превосходной книге Бахтина», открывающей «богатую исследовательскую перспективу», — то, что персонажи народной культуры «говорят с нами почти исключительно языком Рабле». Здесь кстати заметить, что упрек Гинзбурга в адрес Бахтина не вполне справедлив, ибо какой памятник, рожденный в недрах самой народной культуры, мог бы дать такую полную и обобщенную ее картину, которая послужила бы русскому исследователю достаточным материалом для реконструкции этой культуры в ее целостности? Как бы то ни было, Гинзбург вправе заявить желание обратиться к народной культуре «без посредников»; что он и предпринял в книге «Сыр и черви», пытаясь по материалам инквизиционного процесса воссоздать и подвергнуть анализу умонастроение мельника, жившего в конце XVI в.
По предмету и целям исследования, источникам и хронологии указанную работу можно сопоставить с опубликованной десятью годами раньше монографией о «бенанданти». И в одном, и в другом случае Гинзбург сумел найти тот тип исторических документов, которые позволяют воспринять идеи и представления людей из простонародья практически без искажения и чьей-либо чужой интерпретации: писцы инквизиции фиксировали показания обвиняемых по возможности точно, на итальянском языке, передавая даже интонацию. Разница между ними, однако, в том, что в первой работе был исследован феномен коллективного сознания, сумма поверий о «бенанданти», свидетельствующих о сохранении в народной среде мифологии, которая уходит своими корнями в дохристианские времена; во второй — взгляды лишь одного представителя простонародья, не только опиравшегося на устную традицию, но и активно использовавшего, осмысляя на свой лад, доступные ему произведения высокой, ученой культуры.
Фигура фриульского мельника Доменико Сканделла, прозванного Меноккио, почти всю свою жизнь проведшего в небольшом горном селении Монтереале, достаточно своеобразна. Дважды представший перед судом инквизиции, в 1584 и 1599 гг., причем второй процесс кончился трагически — обвинительным приговором и смертью на костре (конец 1600 или начало 1601 г.), этот Меноккио оказывается носителем, а точнее — создателем, оригинальной картины мира, неожиданной для простолюдина. Сразу следует оговориться, что этот человек не был каким-то социальным отщепенцем, вел обычную для селянина жизнь, держал мельницу, арендовал участки земли, был женат, имел детей, в местном обществе его не только не чуждались (он «со всеми в дружбе и в приятельстве», — сказано в показаниях одного из свидетелей), но, наоборот, ему скорее доверяли, избирая деревенским подеста и даже приходским старостой. Тем не менее, как замечает Гинзбург, духовный облик Меноккио был нетипичен для его среды, непохож на знакомых ему с детства односельчан. Впрочем, изолированность деревенского мыслителя Гинзбург не абсолютизирует, полагая, что он «не выходит за пределы культуры своего времени и своего класса». С последним утверждением итальянского исследователя невозможно согласиться, иначе чем объяснить одинокость и непонятость Меноккио в окружении близких ему людей, которым были недоступны его религиозные и философские идеи, его отношение к церкви и клиру, его восприятие мироздания.
Высказанные Меноккио воззрения на проблемы церковной жизни и религии недвусмысленно изобличают его довольно хорошее, хотя и без всякого порядка осуществленное, знакомство с разного рода реформационными учениями и идеями склонных к религиозному вольнодумству гуманистов, имевшими хождение в образованных слоях итальянского общества. Близость Меноккио к неортодоксальным, с точки зрения католической веры, религиозным течениям была вполне угадана его слушателями, которые, по словам одного из них, «говорят, что он из последышей Лютера». Конечно, в первую очередь, к лютеранству его современники должны были возвести критику папства и церковных властей, обращение к Библии в переводе на итальянский язык, экземпляр которой он хранил у себя, отказ от почитания священных образов и реликвий. На самом же деле Меноккио держался взглядов, гораздо более радикальных, чем могла допустить приверженность лютеранскому вероучению. Он не признавал, например, все таинства, видел в них «барышничество», уловку духовенства, с помощью которой оно эксплуатирует народ, обогащаясь за его счет. Вполне логично и то, что, отвергая в числе прочих и таинство священства, он признавал право быть священником за каждым, кто учился, поскольку, как он утверждал, «дух божий есть во всех людях». Он проповедовал идею церкви, не имеющей привилегий и богатств, не отделенной от верующих; смысл религии, по Меноккио, не в следовании определенным, строго установленным догматам, но в вере в Бога, в добродетельной жизни и любви к ближнему. Не считаясь ни с какими вероисповедными различиями, он подчеркивал близость всех людей к Богу, возможность каждого из них, будь то «христианин, еретик, турок, иудей», обрести спасение. Уникальность христианства, таким образом, стирается в провозглашенном равенстве всех вер, в безразличии к их культовой стороне.
Сам Меноккио считал себя христианином и желал таковым оставаться, но только потому, что христианство — вера его предков. Не признавая христианство единственно истинной религией, он очень вольно обращался с его догматикой, видел в Христе «одного из божьих детей», ибо «все мы дети и того же свойства, что и распятый», который «родился от Иосифа и Марии-девы». Таким образом, оказывается, что Христос — всего лишь человек, отличающийся от других людей разве что своей праведностью и святой жизнью. Акцент на моральной стороне религии («он... говорил, что верит только в добрые дела», — сказано в свидетельском показании), отрицание важности для дела спасения следования определенной догматике и принятым церковным установлениям вполне закономерно приводили Меноккио либо к отвержению Священного Писания как еще одного поповского средства обманывать людей, либо к мысли о том, что божественное откровение, выраженное в кратких словах, замутнено в Писании последующими добавлениями людей.
Не стоит спешить с утверждением, будто «взгляды Меноккио не образовывали какой-либо системы»*. В них есть последовательность, очень напоминающая логику, свойственную учению анабаптистов и других родственных им радикальных течений Реформации. Гинзбург не мог не заметить и не подчеркнуть эту близость взглядов Меноккио к позициям анабаптистов, которые также, как и он, настаивали на простоте слова Божьего, на неприемлемости культовых изображений, церемоний и таинств, не признавали Христа Богом, настаивали на преимуществе практической религиозности и дел благочестия перед чистой верой, обличали недопустимую роскошь церковной жизни, проповедовали веротерпимость. В данной связи Гинзбург ссылается на исследования, показывающие распространение анабаптизма в Венецианской области, в частности, во Фриули, и допускает, что Меноккио, который начал проповедовать свои мысли задолго до первого ареста, вполне мог в молодые годы поддерживать контакт с одной из анабаптистских групп. И все же Гинзбург отказывается отнести этого мельника-«еретика» к числу анабаптистов, ссылаясь, в частности, на то, что для них, почитавших единственным источником истины только Священное Писание, была неприемлема та разнородность текстов, на которые он ссылался, объясняя свои религиозные идеи, немыслимы какие-либо положительные высказывания о папе, о мессе, об индульгенциях, звучавшие из уст Меноккио. Действительно, Меноккио не был анабаптистом в том смысле, что он не принадлежал к их церковной (или, если угодно, сектантской) организации и не держался строго и точно всех их взглядов. Однако Гинзбург идет еще дальше и считает, что и своим происхождением религиозные идеи Меноккио обязаны не этому движению и вообще не Реформации, а некоему «вполне независимому течению крестьянского радикализма, которое много старше Реформации и которое бури этой эпохи лишь вынесли на поверхность». Именно к нему, укорененному в «прочной традиции народной культуры», итальянский исследователь стремился возвести весь круг представлений фриульского мельника, не только религиозных, но и социально-политических, натурфилософских, космогонических. Следует, однако, сказать, что эта связь идей Меноккио с глубинными установками народного сознания в работе Гинзбурга в большей мере утверждается, нежели аргументируется, в частности, материалами источников.
Гинзбург показывает, как у Меноккио отчетливо обнаруживалась тенденция к полному отождествлению религии и морали, которая, доводя до крайних пределов концепцию деятельной веры, утверждала приоритет любви к ближнему по сравнению с любовью к Богу; и он справедливо отмечает наличие указанной тенденции во всех итальянских еретических (то есть реформационных) движениях второй половины XVI в., в частности в анабаптизме. По мнению Гинзбурга, в этом сведении религии «к чисто земному феномену», к системе моральных или политических установлений «не исключена частичная конвергенция между сферой высокой культуры и радикальными народными движениями». Однако не правильнее ли здесь увидеть вместо «частичной конвергенции» двух культур проникновение в народную толщу идей и концепций, выработанных и распространенных в кругах религиозных диссидентов Италии? Естественно, усвоение их определенной средой и даже конкретным человеком накладывало на них свой отпечаток. И все же, что в данной обмирщенной концепции религии, проповедуемой Меноккио, могло бы свидетельствовать о воздействии на нее традиций народной культуры, остается непонятным; все развитие мысли в этой концепции заложено уже в ее исходной установке, сформулированной идеологией оппозиционных течений Реформации, вполне возможно, под влиянием гуманистической культуры; ведь уже у Эразма Роттердамского мы найдем такое понимание христианства, которое будет удивительным образом созвучно высказываниям Меноккио. К сожалению, возможность подобного рода связей никак не отмечена Гинзбургом и тем самым им упущен из виду еще один аспект исследования духовного мира фриульского мельника.
Гинзбург безукоризненно, на уровне сопоставления текстов сумел показать близость, а, возможно, и зависимость Меноккио в понимании природы Бога и интерпретации им лиц Троицы от антитринитарных доводов Мигеля Сервета, испанского врача, богослова и философа, высказанных в трактате «О заблуждениях в отношении Троицы» (De Trinitatis erroribus), переведенного на итальянский язык и, по-видимому, так или иначе известного вольнодумцу из отдаленного фриульского селения. Как и Сервет, Меноккио настаивал на человеческой природе Христа, отрицал самостоятельность Св. Духа, растворял Бога в мире, отождествляя с ним. Допуская, что идеи Меноккио «имеют своим отдаленным источником» сочинение Сервета, Гинзбург, вместе с тем, усматривает в них еще и проявление «народного материализма», с которым вполне согласуются положения о том, что Бог, Св. Дух и душа не есть самостоятельные субстанции, что существует только материя, наделенная божественными атрибутами, только вечный круговорот четырех стихий. Непонятно, однако, что позволяет Гинзбургу связать подобные воззрения с «подпольной устной традицией»; ведь он не приводит никаких других документов, которые бы убедительно свидетельствовали об укорененности этих воззрений в народном сознании, в глубинных пластах народной мифологии и фольклорной культуры, восходящей к далекой древности. В то же время, в своего рода материалистической концепции мироздания и пантеизме Меноккио несложно увидеть вольное изложение соответствующих идей древних или ренессансных натурфилософов (и не только Сервета, но, возможно, Симоне Порцио, Марчелло Палидженио Стеллато, Бернардино Телезио и иных*), хорошо известных во второй половине XVI в. и воспринятых философом-самоучкой, если не из первых рук, то в чьем-либо письменном или устном пересказе. Причем, в упрощении идей предшественников, допущенном Меноккио, невозможно отыскать никакого специфического кода, который, по мнению Гинзбурга, определял его подход к книге и основывался на «прочной традиции народной культуры».
Правда, похоже, что уж в одном-то случае, а именно — в космогонических концепциях Меноккио, искомая устная народная традиция «прямо выходит на свет». Отрицая сотворение мира Богом, фриульский мельник утверждал, что первоначально был хаос, содержащий в себе все стихии, и, подобно сыру в молоке, они сбились в один комок, в котором появились черви, из них и произошли ангелы и Бог, создавший затем Адама и Еву... Ближайшие аналогии сообщенному Меноккио мифу, в котором, впрочем, нельзя не заметить примесь библейско-христианских преданий, Гинзбург находит в ведийском сказании о пахтании богами-творцами вод океана и происхождении космоса из его сгущения, подобному сгущению молока, а также в калмыцком мифе о возникновении мира из вспененного и затвердевшего, как сыр, моря и зарождении в нем червей, превратившихся в людей, из которых самый сильный и мудрый стал Богом. Основываясь на сходстве космогонической концепции Меноккио с древнейшими мифами человечества, Гинзбург полагает, что тот воспроизводил, сам и не подозревая об этом, вековечные предания, сохраненные не иначе, как благодаря устной традиции, прямой их передаче из поколения в поколение. «Не такая уж фантастическая гипотеза», — заключает свою мысль Гинзбург, если учитывать, что в то же время во Фриули был распространен культ «бенанданти», «шаманский по своей сути». Гипотеза, возможно, не такая уж фантастическая, однако для ее принятия нужны дополнительные свидетельства, которые бы показали бытование в народной среде Фриуля поверий, близких космогонии Меноккио. Пока же их нет, аналогии, предложенные Гинзбургом, выглядят произвольными и мало убедительными. Ведь имея в виду ученые увлечения Меноккио, уместнее его космогонию поставить в связь с античными мифами об изначальном хаосе, интерпретированными в понятиях античной же натурфилософии, хорошо известной в эпоху Возрождения. Обратим внимание, что, характеризуя хаос, Меноккио представляет его смешением не просто всего и вся, но четырех, выделенных именно античной натурфилософской мыслью стихий, то есть материальных первоэлементов («сначала все было хаосом, и земля, и воздух, и вода, и огонь — все вперемежку», — утверждал Меноккио). Что же касается уподобления космогенеза образованию сыра в молоке, а появления ангела и Бога — зарождению в сыре червей, то эти образы могли быть навеяны бытовым опытом Меноккио (который, конечно же, знал, а, возможно, и сам использовал технологию изготовления сыра и видел, как в нем заводятся черви), нежели сообщены неким сокровенным изустным преданием, тысячелетиями сохранявшемся в народной памяти. Во всяком случае было бы нелепо отказывать человеку в способности к творческому образному мышлению, даже если согласиться с предположением о том, что он является носителем, пусть и не отдающим себе в этом отчета, самобытной народной культуры.
В ходе допросов Меноккио как-то признался, что он, объятый гордыней, «желал нового мира и нового устройства жизни». Речь идет, по мнению Гинзбурга, о преобразовании земной жизни собственными силами человека. На этом основании в словах Меноккио он усматривает утопические мотивы, которые возводит прежде всего к крестьянскому сказанию о легендарной заокеанской стране изобилия Кокань, а не к «Утопии» Томаса Мора или соответствующему сочинению итальянца Антон Франческо Дони, хотя именно его название — «Новый мир» — воспроизведено в словах Меноккио. Тем не менее, Гинзбург решается предположить, что с произведением Дони, идеи которого в иных случаях близко напоминают мысли фриульского мельника, этот человек скорее всего не был знаком, а вот о крестьянском и карнавальном мире страны Кокань мог кое-что слышать. Недоумение вызывает, однако, не это предположение итальянского историка, а его решительное утверждение, будто в цитированных выше кратких «словах Меноккио приоткрываются на мгновение глубокие народные (курсив Гинзбурга. — О.К.) корни всяких утопий, обращенных как к простому, так и к ученому читателю». Ибо в самом по себе желании «нового мира и нового устройства жизни» невозможно отыскать «народные корни утопии», как и любые другие корни этого явления европейской общественной мысли, исторически обусловленного радикальным мировоззренческим переворотом, осуществленным в культуре эпохи Возрождения*.
По материалам инквизиции Гинзбург реконструирует круг доступных Меноккио книг, обращая внимание не только на то, что он читал, но и на то, как он это воспринимал. В распоряжении мельника-книгочея были Библия, «Цветы Библии» (переложение средневековой каталанской хроники, в состав которой входили фрагменты Вульгаты, «Хроники» Исидора Севильского, апокрифические евангелия, «Светильник» Гонория Августодунского), «Золотая легенда» Иакова Ворагинского, «Путешествие» сэра Джона Мандевиля, «Декамерон» Боккаччо, «Сон Каравии» (шутливо-сатирическое стихотворное повествование в жанре видения, составленное в духе итальянского евангелизма), анонимная поэма «История Страшного Суда», «Месяцеслов» Марино Камилло де Леонардиса, хроника конца XV в. Якопо Филиппо Форести и, возможно, Коран; все это Меноккио мог читать, разумеется, только на итальянском языке. Проведенное Гинзбургом сравнение текстов книг, упомянутых Меноккио, с выводами, которые он из них мог сделать, показывает, что куда большее значение, чем исходный текст, имеет подход к нему этого человека. Ибо, как справедливо подчеркивает Гинзбург, восприятие чужих произведений было у Меноккио «односторонним и произвольным: он как будто лишь искал подтверждения своим уже прочно укоренившимся идеям и убеждениям». Роль именно этих книг (за исключением, пожалуй, «Путешествия» сэра Джона Мандевиля, повествование которого «о разных народах и верах», по собственному признанию Меноккио, измучило его «всего») в идейном формировании сельского философа не стоит преувеличивать, их чтение действительно могло лишь способствовать рождению в его сознании мыслей, корни которых гораздо глубже. По мнению Гинзбурга, — в устной традиции, хотя никаких убедительных свидетельств ее существования итальянский исследователь привести не может. Поэтому его утверждение, будто та самая «идеология примитивного, инстинктивного материализма», выражая которую Меноккио прибегал к понятиям, присущим «христианским, неоплатоническим, схоластическим системам», была «выработана поколениями его крестьянских предков», является не более, чем гипотезой, увлекательной, но и рискованной. Весь комплекс воззрений Меноккио убеждает, что его установки мировосприятия, проявившиеся, в частности, и в пресловутом «примитивном материализме», очень близки идейным и религиозным исканиям радикальных течений итальянской Реформации и сформировались, по-видимому, в молодости под влиянием прямых контактов с их адептами и чтения распространенной в их среде литературы. Сам Гинзбург довольно полно, хотя и не исчерпывающе, показывает возможные связи представлений фриульского мельника с учениями разных групп в реформационном движении Италии, теми или иными его памятниками. И, разумеется, он прав, когда утверждает, что Меноккио был свободен от какой-либо данной ему извне системы (курсив мой. — О.К.) идей». Речь, однако, идет не о системе, а о мировоззренческих принципах, которые не контролируя строго все нюансы мысли у Меноккио, задавали все же ей направление, просеивали всю информацию (в том числе исходящую и от книжного слова, авторитет коего оставался огромным), выделяя в ней то, что было им созвучно; их ближайшие источники — и здесь я должен акцентировать несогласие с Гинзбургом — следует искать в том умонастроении, которое характерно для радикальной Реформации, ставшей идейным преемником ренессансного гуманизма*.
Случай Меноккио, полагает Гинзбург, не уникален, черты «своеобразной крестьянской религии» он ищет не только у него, но и еще у ряда представителей простонародья, возбудивших к себе внимание инквизиции по подозрению в ереси. В частности, у автора религиозно-дидактической поэмы «Семерица», известного под псевдонимом Сколио, который проповедовал, в частности, равенство всех религий, сводя их существенное содержание к десяти нравственным заповедям. Положение, несомненно, родственное мыслям, высказанным Меноккио, однако оно очевидным образом связано с рационалистической, философской «ересью», то есть с радикальными реформационными учениями, и никаких особых признаков «подземного течения крестьянского радикализма», к которому стремится отнести его Гинзбург, отыскать в нем невозможно. То же самое следует сказать и о социальном идеале этого поэта-самоучки, главными своими чертами близко напоминающем не столько так называемые «крестьянские утопии», сколько конкретно «Утопию» Томаса Мора и идеи близких ему гуманистов — и умеренностью и скромностью, свойственными быту описываемого им сообщества, и отказом от ненужных ремесел, всех видов праздности и беспутной жизни, и строгим соблюдением принципа равенства, и отсутствием социального угнетения, и торжеством справедливости благодаря простоте и ясности законов. Также нельзя признать удавшейся попытку Гинзбурга нащупать общую основу религиозного диссидентства как Меноккио, так и еще одного мельника, его старшего современника Пигино в их причастности к устной народной культуре, «традициям и мифам, которые переходили от одного поколения к другому». Ибо, как убедительно показал сам же Гинзбург, с гораздо большим основанием можно говорить о воздействии на этого мельника-вольнодумца реформационных идей, распространенных во вполне определенных социальных кругах, с которыми он находился в контакте.
Нужно согласиться с Гинзбургом, что своеобразный духовный мир крестьян, воззрения которых он исследовал, и прежде всего Меноккио, полностью не объясним посторонними влияниями. Конечно, эти влияния, попав на определенную социально-культурную почву, были ею усвоены и преобразованы. Проблема состоит в том, чтобы понять, что представляла собой эта почва. Только ли пласты архаических представлений, сохраняемых устной традицией, — то, что Гинзбург именует «народной культурой»? Или же это была культура народа, низших, угнетенных классов, не только хранящая древнюю фольклорно-мифологическую традицию, которая, впрочем, все больше вымывалась из глубины ее памяти, но и развивающаяся, вырабатывающая адекватные запросам и вызовам времени формы сознания и творчества. Первый взгляд видит в народной культуре собрание закоснелых поверий, ведущих — по крайней мере в XVI в. — подпольное существование и лишь под влиянием чрезвычайных обстоятельств* выходящих на поверхность, второй видит в ней живой, духовный организм, способный к продуктивной, творческой деятельности. Склоняющийся к первой точке зрения Гинзбург в случае с Меноккио, несомненным представителем народного умонастроения, корни его веротерпимости (а более широко — религиозного радикализма), мечтаний о переустройстве общества, натурфилософских идей усматривает «в непроницаемой глубине прошлого, в неизвестной нам культуре деревни». С таким подходом невозможно согласиться, ибо все указанные воззрения носят не внеисторический характер; они не могли быть актуальны для «культуры деревни» (и не только деревни) на всем протяжении ее истории вплоть до развертывания Реформации и Контрреформации, до социального и культурного перелома XVI в.; возникнув в определенную историческую эпоху в связи с теми проблемами, с которыми столкнулось европейское общество, эти воззрения в их интерпретации у Меноккио обнаруживают живую реакцию народной среды на конфликты в общественном развитии, религиозной сфере и культуре их времени.
Успех более ранней книги Гинзбурга о «бенанданти», в которой ему удалось в крестьянских верованиях, ставших объектом инквизиционных разбирательств, проследить черты древнего аграрного культа, несомненно спровоцировал итальянского историка пойти в том же направлении при изучении материалов инквизиционных процессов над Меноккио, хотя подлинная самобытность этого сельского мыслителя не в отражении им вековой устной традиции, а в его чуткости к новейшим веяниям эпохи, способности с позиций человека из простонародья высказать отношение к самым злободневным социальным, религиозным и мировоззренческим вопросам. Тем не менее, установка на реконструкцию «глухих народных верований» не помешала Гинзбургу провести полноценное исследование и по его итогам издать интереснейшую книгу. Свою роль тут сыграла научная добросовестность итальянского историка, ни в коем случае не пренебрегавшего и теми источниками, которые, казалось, могут идти вразрез с его концепцией. Меноккио, этот философ-самоучка, обвиненный в ереси и вольнодумстве, представлен на широком фоне основных тенденций и явлений социальной, религиозной, церковно-политической и даже экономической жизни Италии середины—второй половины XVI в. И судьба этого человека, имевшая не столь уж необычное для своего времени трагическое завершение, и судьба каждой из его идей прослежены со всей возможной тщательностью, для чего автор привлекает обширнейший материал источников, обращается к трактатам гуманистов и реформаторов, фольклорной традиции, сочинениям простого люда, переводам с латыни средневековых религиозных компендиев, частной переписке, делопроизводству инквизиции и церкви, частно- и публично-правовым документам. В результате через духовный мир Меноккио довольно полно был воссоздан облик эпохи, весьма своеобразный, ибо ее судит, сам представ перед трибуналом инквизиции, не чуждый интересам высокой культуры простолюдин, представитель редко умевшего внятно заявить свою позицию немотствующего большинства. Голос этого человека донес до нас итальянский историк.
О работах Карло Гинзбурга отечественный читатель, интересующийся проблемами истории культуры, знает уже довольно давно. В 1982 г. вышел в свет реферативный сборник, в котором Л.М. Баткиным был сделан добротный обзор двух книг итальянского исследователя — одной публикуемой ныне, другой о «бенанданти»*. Тогда же в 80-е гг. появляются ссылки на труды Гинзбурга в научных исследованиях на русском языке. В 1990 г. в ежегоднике «Одиссей» напечатана в переводе с французского статья непосредственно самого Гинзбурга, посвященная изучению мифологической структуры, лежавшей в основе средневековых концепций ведовства*. Другая его статья по этой же проблеме, показывающая, сколь проницательно высокая культура позднего средневековья (в лице крупнейшего философа и церковного деятеля эпохи Николая Кузанского) угадывала связь распространенных в деревенской среде культов богини богатства и удачи с древними языческими верованиями, вышла на русском языке в сборнике материалов конференции о французской исторической школе «Анналов»**. В этом ряду можно также упомянуть еще одну изданную в русском переводе в 1998 г. работу Гинзбурга, касающуюся проблем преемственности германских традиций в идеологии и практике национал-социалистической Германии***.
Кроме конкретно-исторических трудов итальянского исследователя внимание привлекли его работы по проблемам эпистемологии гуманитарных наук. В 1994 г. в «Новом литературном обозрении» появилась статья о так называемой «уликовой парадигме»****, в принципах которой автор усматривает характерные черты и методы современного гуманитарного знания. С этой же стороны состоялось у нас первое прямое знакомство с книгой «Сыр и черви», поскольку выполненный отдельно перевод предисловия к ней вышел в свет в 1996 г. в малотиражном издании*, предназначенном дать представление о новейших зарубежных подходах к истории культуры. Конечно, давно назрела необходимость познакомить широкий круг отечественных историков с книгой целиком. Публикуемый ныне перевод, выполненный на самом высоком уровне, призван это сделать. Хотя впервые на итальянском языке работа Гинзбурга «Сыр и черви» увидела свет около четверти века тому назад, она ни в коей мере не утратила и сейчас ни научной актуальности, ни познавательного интереса. Хотелось бы надеяться, что настоящей публикацией освоение ученым миром нашей страны главных трудов Гинзбурга только начинается, и вслед за ней в скором времени на русском языке появятся также его исследования о «бенанданти» и ведовстве, труды по истории идейной борьбы в период Реформации.
ЛУИЗЕ
Введение
1.
Историков еще совсем недавно можно было упрекать в нежелании заниматься чем-либо, кроме деяний царствующих особ1. Сейчас это уже не так. Все чаще они обращаются к тому, что их предшественники замалчивали, отодвигали в сторону или попросту не желали знать. «Кто построил семивратные Фивы?» — спрашивал «рабочий читатель» Брехта. Источники ничего не говорят об этих безымянных строителях, но вопрос остается.
2.
Скудость свидетельств об угнетенных классах прошлого — первое (но не единственное) препятствие, с которым встречаются такого рода исследования. Из этого правила, однако, есть исключения. В настоящей книге рассказывается история одного фриульского мельника — Доменико Сканделла по прозвищу Меноккио, — который провел жизнь в полнейшей безвестности и был сожжен по приговору инквизиции. Материалы двух судебных процессов, на которых с интервалом в пятнадцать лет рассматривалось его дело, дают нам широкую картину его мыслей и чувств, его фантазий и чаяний2. В других документах содержатся сведения о его хозяйственной деятельности, о жизни его семейства. До нас дошли даже его собственноручные записи и неполный перечень прочитанных им книг (он умел читать и писать). Конечно, хотелось бы знать о нем больше. Но и то, что мы знаем, позволяет реконструировать хотя бы фрагмент того, что принято называть «культурой угнетенных классов» или «народной культурой».
3.
Наличием нескольких культурных уровней в рамках так называемых цивилизованных обществ определяется само существование той научной дисциплины, которое носит имя фольклористики, демологии, этнологии или истории народных традиций3. Но термин «культура» применительно к комплексу взглядов, верований, жизнеповеденческих принципов, присущих угнетенным классам в определенный исторический период, вошел в употребление сравнительно недавно, будучи заимствован у культурной антропологии. Только введя понятие «примитивной культуры», удалось постулировать наличие хоть какой-то культуры у тех, кого не так давно свысока именовали «плебсом цивилизованных народов». К угрызениям совести, испытываемым классовым гегемоном, прибавились угрызения совести колониализма. Тем самым удалось преодолеть, хотя бы на словах, не только устаревшую концепцию фольклора как простого собрания диковинок, но и точку зрения тех исследователей, которые видели в идеях, верованиях, мировоззренческих установках угнетенных классов всего лишь бессвязную мешанину идей, верований, мировоззренческих установок, выработанных господствующими классами и выработанных иногда в далеком прошлом. На этом фоне завязалась дискуссия о характере отношений между культурой угнетенных классов и культурой классов господствующих. В какой степени первая зависит от второй? Можно ли говорить о каком-либо между ними взаимобмене?
Историки лишь недавно и с известной недоверчивостью стали рассматривать такого рода проблематику. Отчасти это объясняется тем, что взгляд на культуру как на явление сугубо аристократическое далеко не утратил своего влияния. Еще слишком часто оригинальные идеи и представления в обязательном порядке связываются с культурной деятельностью высших классов, а их появление в народной среде в лучшем случае отмечается как факт и не вызывает никакого интереса: разве что указываются «искажения» и «деформации», которые они претерпели в ходе своей миграции. Но у недоверчивости историков есть и другая, более веская причина — методологическая скорее, чем идеологическая. По отношению к антропологам и исследователям народных традиций историки находятся, что ясно само собой, в невыгодном положении. Вплоть до сегодняшнего дня культура угнетенных классов продолжает оставаться в значительной своей части культурой устной4 — какой она и была на протяжении веков. Но, к сожалению, историк не может вступить в непосредственный диалог с крестьянином, жившим в XVI веке (а если бы и мог, еще большой вопрос, поняли ли бы они друг друга). Поэтому он должен опираться прежде всего на письменные источники (а также, разумеется, на плоды трудов археологов), которые не являются прямыми источниками сразу в двух смыслах: потому что они письменные и потому что их происхождение связано с деятельностью лиц, прямо или косвенно причастных к доминирующей культуре. Отсюда следует, что мысли, верования, чувства живших в далеком прошлом крестьян или городских ремесленников доходят до нас (если доходят) только через посредников — в их искажающем изложении. Довольно одного этого, чтобы привести в уныние историка, заинтересовавшегося данной проблемой.
Характер исследования решительно меняется, когда объектом его выступает не «культура, созданная народом», а «культура, навязанная народу». Именно такое исследование десять лет тому назад предпринял Р. Мандру; в качестве материала он выбрал литературу «коробейников» (colportage), до тех пор почти не изучавшуюся: дешевые книжки (альманахи, песенники, сборники поваренных рецептов, рассказы о святых и о чудесах), изданные как Бог на душу положит и продававшиеся бродячими торговцами на ярмарках и по деревням. Разобрав их основную тематику, Мандру пришел к выводу, который представляется несколько поспешным. По его мнению, эта литература («литература ухода от действительности», как он ее называет) в течение длительного времени способствовала формированию мировоззрения, проникнутого фатализмом и детерминизмом, преклонением перед чудом и тайной — она уводила своих читателей от осознания их истинного общественного и политического положения и выступала тем самым — может быть, вполне сознательно — как орудие реакции.
Но Мандру не ограничился зачислением своих альманахов и песенников в разряд литературы популяризирующей. В результате резкого и безосновательного логического перехода он объявил их документами победоносно завершившейся акультурации, прямым отражением той картины мира, которая была присуща народным массам дореволюционной Франции: народ тем самым автоматически лишался сколько-нибудь активной роли в культурной деятельности, а литературе «коробейников» присваивалось значение, ни в коей мере ею не заслуженное. Пусть тиражи были не маленькие, пусть каждая из этих книжек читалась для не знающих грамоты вслух, все равно крестьяне, умеющие читать, составляли в обществе, где три четверти народонаселения были неграмотны, абсолютное меньшинство. Нельзя полностью отождествлять «культуру, созданную народом» и «культуру, навязанную народу», невозможно проникнуть к народной культуре исключительно через нравоучения, рецепты и рассказики «Голубой библиотеки». Маршрут, выбранный Мандру, чтобы обойти препятствия, связанные с реконструкцией устной культуры, приводит нас к отправному пункту.
На тот же путь ступила в простоте души и Ж. Боллем; предпосылки у нее, правда, были существенно иные. Литературу «коробейников» эта исследовательница поняла не как орудие победоносной культурной экспансии (что невероятно), а как прямое отражение народной культуры во всей ее самобытности и автономности, со всем ее религиозным пафосом (что не менее невероятно). Согласно ее концепции, в этой народной религии, в основе которой лежат идеи человечности и бедности Христа, гармонично соединяются природное начало со сверхъестественным, страх смерти и жизненная сила, смирение перед несправедливостью и протест против угнетения. Совершенно ясно, что исследовательница за «народную литературу» приняла «литературу, предназначенную для народа» и никуда за границы культуры, созданной господствующими классами, не вышла. Правда, время от времени Боллем указывает на существование разрыва между этой макулатурой и ее гипотетическим восприятием в народной среде, но эти весьма ценные замечания остаются без существенных последствий, поскольку ничто не может поколебать исходный тезис о каком-то неопределенном и неопределимом «народном творчестве», не оставившем после себя, ввиду своего устного характера, никаких следов.
4.
Со слащавыми и стереотипными образами народной культуры, создаваемыми в подобных исследованиях, ярко контрастирует живая и полнокровная картина, которую рисует М. Бахтин в своей фундаментальной книге о Рабле и народной культуре его времени5. Похоже, что «Гаргантюа и Пантагрюэль», вряд ли прочитанный хоть одним крестьянином, позволяет больше понять в культуре крестьянства, чем все эти «Пастушеские альманахи», которыми были наводнены французские деревни. Ядро той культуры, которую исследует Бахтин, составляет карнавал: миф и одновременно ритуал, где прославление плодородия и изобилия сочетается с праздничным опрокидыванием всех устоявшихся ценностей и иерархий и с ощущением космического масштаба всеразрушающего и всепорождающего времени. Согласно Бахтину, эта картина мира, выработанная в течение столетий народной культурой, находилась в открытой конфронтации, особенно в эпоху Средневековья, с культурой господствующих классов с ее догматизмом и серьезностью. Только с точки зрения этой конфронтации можно верно понять роман Рабле. Его комизм прямо связан с карнавальностью народной культуры. Перед нами пример культурной дихотомии, но вместе с тем и культурного круговорота, взаимообмена, особенно интенсивного в первой половине XVI века.
Не все в этой концепции в достаточной степени подтверждено материалом. Но ограниченность превосходной книги Бахтина в другом: персонажи народной культуры, которую он пытался описать — крестьяне, ремесленники, — говорят с нами почти исключительно языком Рабле. Именно богатая исследовательская перспектива, открытая книгой Бахтина, делает желательным следующий шаг: прямое, без посредников, обращение к народной культуре. Но по причинам, которые мы уже изложили, в этой области знаний замена флангового маневра на фронтальное наступление представляется чрезвычайно сложной.
5.
Соглашаясь с неизбежностью искажений, привносимых всяческими посредниками, не следует все же чрезмерно отчаиваться. Если источник не полностью «объективен» (даже инвентарная опись таковой не является), это не значит, что ею вообще нельзя использовать. Враждебно настроенный автор хроники может сообщить бесценные подробности о поднявшей восстание деревенской общине. Образцовым в этом смысле остается анализ «карнавала в Романе», проделанный Э. Ле Руа Ладюри6. На фоне методологического разброда и скудости результатов, которыми отличаются большинство исследований о народной культуре доиндустриальной Европы, выделяются своим уровнем посвященные частным аспектам этой культуры работы Н. Девис и Э.П. Томпсона о «шаривари». Иначе говоря, даже скудные и разрозненные материалы можно с толком использовать.
Но многие историки, страшась погрязнуть в пресловутом наивном позитивизме и одновременно сильно преувеличивая идеологическую нагрузку, которую может таить в себе самая обычная и невинная, на первый взгляд, интеллектуальная операция, вместе с водой выплескивают ребенка — или, попросту говоря, саму народную культуру вместе с материалами, которые предлагают ее более или менее искаженный образ. Группа ученых, раскритиковав (и вполне справедливо) вышеупомянутые исследования о литературе «коробейников», остановилась перед вопросом, «существует ли народная культура вне действия, направленного на ее уничтожение»7. Вопрос явно риторический, и ответ следует отрицательный. Эта разновидность неопирронизма не может не вызывать удивления, и самое поразительное, что его источником являются работы того самого М. Фуко, который своей «Историей безумия» привлек всеобщее внимание к проблеме ограничений, преследований, запретов, которые составляют историческую основу нашей культуры. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что удивляться нечему. Фуко интересует гонение и его причины — сами гонимые много меньше. В «Истории безумия» есть уже указания на путь, который приведет ученого к «Словам и вещам» и «Археологии знания». К нему Фуко могла подтолкнуть и та нигилистическая критика, которой «История безумия» была подвергнута Ж. Деридца. Нельзя говорить о безумии языком, сложившимся в рамках западного «рацио» и, следовательно, исторически причастным к тому процессу, который привел к репрессиям против безумия: точки опоры, которую выбрал для своего исследования Фуко, не существует — вот что, в сущности, утверждает Деридда. Если с этим согласиться, то дерзкий замысел Фуко по созданию «археологии молчания» обречен угаснуть в самом настоящем молчании — или в немом восторге эстета.
Памятником этой инволюции является недавно вышедшая книга, которая включает в себя различные документы, касающиеся истории крестьянского парня, убившего в начале XIX века мать, сестру и брата, а также ряд статей, написанных Фуко и его сотрудниками. Предметом анализа в них являются точки схождения двух языков, которые отрицают друг друга: языка юридического насилия и языка психиатрического насилия. Фигура убийцы, Пьера Ривьера, уходит на второй план — притом что впервые публикуется его записка с объяснением причин тройного преступления. Какая-либо интерпретация этого текста объявляется невозможной, ибо интерпретировать значит подчинить чему-то постороннему, внести чуждый смысл. В качестве единственно допустимых реакций остаются только «изумление» и «молчание».
Это научное направление закономерно приходит к эстетизирующему иррационализму как к своему итогу. Связи Пьера Ривьера с официальной культурой едва упомянуты; круг его чтения (альманахи, религиозно назидательная литература, но вместе с тем и «Здравомыслие отца Мелье») попросту не принимается во внимание. Вместо этого описывается, как он бродит в лесу после убийства — «человек, лишенный культуры, зверь, лишенный инстинкта..., мифическое существо, чудовище, о котором невозможно ничего сказать, ибо к нему не приложимо никакое высказывание.» Авторы приходят в экстаз перед этой абсолютной непознаваемостью, которая на самом деле проистекает из их собственного нежелания анализировать и познавать. Жертвы социального остракизма объявляются единственными носителями дискурса, свободного от лжи официального общества — дискурса, включающего в себя человекоубийство и антропофагию и воплощенного с одинаковой полнотой в записке Пьера Ривьера и в его преступлении. Это популизм с обратным знаком, «черный» популизм, но тем не менее популизм и ничто иное.
6.
Из всего вышесказанного следует, что в концепции «народной культуры» заложена некоторая двойственность. Угнетенные классы доиндустриального общества считаются способными либо на пассивное усвоение культурных субпродуктов, вырабатываемых господствующими классами (Мандру), либо на робкую и половинчатую культурную самостоятельность (Боллем), либо на такое отношение к культуре, которое фактически выводит их за ее рамки (Фуко). Куда более плодотворной представляется мысль Бахтина о взаимовлиянии между культурой низов и культурой верхов. Но она нуждается в конкретизации (работая в этом направлении, интересных результатов достиг Ж. Ле Гофф)8, что в очередной раз ставит перед нами проблему источников, которые в том, что касается народной культуры, очень редко оказываются прямыми. Если в явлениях народной культуры мы встречаем элементы культуры официальной, то как это объяснить — как результат более или менее целенаправленной культурной политики9, как продукт более или менее стихийной конвергенции или как естественное следствие той бессознательной потребности, которая заставляет нас переводить все неизвестное на язык близких и знакомых понятий?
Подобные вопросы вставали передо мной, когда несколько лет назад я работал с материалами судебных процессов над ведьмами, которые велись на рубеже XVI—XVII веков10. Мне хотелось разобраться в том, что эти ведьмы и колдуны сами думали о себе, но документы, бывшие в моем распоряжении (судебные акты и, само собой разумеется, всякие демонологические трактаты), вставали непреодолимой стеной на пути к народным корням ведовства. На каждом шагу я натыкался на схемы, восходящие к ученой, инквизиторской демонологии. Только напав на след неизвестных до той поры верований «бенанданти», мне удалось пробить брешь в этой стене. Между вопросами обвинителей и ответами обвиняемых все время наблюдалась какая-то нестыковка, которую никак нельзя было объяснить ни обстоятельствами дознания, ни даже пыткой: и именно через эту трещину открывался подход к глубинному слою ничем не потревоженных народных верований.
К «бенанданти» в некоторых отношениях весьма близок случай Меноккио, фриульского мельника и героя настоящей книги. И здесь значительная часть сказанного Меноккио не может быть сведена к известным схемам и потому позволяет прикоснуться к подлинной народной мифологии. С Меноккио, однако, дело обстоит много сложнее: в его случае эти глухие народные верования встроены в последовательную и логичную систему идей, которая включает в себя и религиозный радикализм, и потенциально научный натурализм, и утопические мечты о социальном обновлении. У безвестного фриульского мельника и у самых широко мыслящих интеллектуалов его времени оказывается много точек соприкосновения, и это примечательное совпадение вновь подводит нас к проблеме культурного взаимообмена, поставленной в трудах Бахтина.
7.
Но прежде чем попытаться уяснить, что нового вносит история Меноккио в решение этой проблемы, имеет смысл задуматься над тем, какое вообще значение в научном плане может иметь знакомство с идеями и убеждениями отдельного индивида данного социального ранга. Сейчас, когда количественная история идей или серийная история религии представлена обширными проектами, к разработке которых привлечены целые коллективы ученых11, рассматривать через микроскоп судьбу какого-то одного мельника кажется делом несвоевременным или попросту абсурдным — столь же абсурдным, как в эпоху текстильных фабрик возвращаться к прялке. И неслучайно, подобные исследования считаются в принципе недопустимыми — например, такими учеными, как Ф. Фюре, который утверждал, что низшие классы могут быть реинтегрированы во всеобщую историю только под знаком «массовости и безымянности», посредством демографических и социологических сводок, с помощью «количественного анализа социальных групп исторического прошлого»12. Историки их больше не игнорируют, но тем не менее социальные низы остаются обреченными на «безмолвие».
И все же, если исторические документы дают нам возможность бросить взгляд не только на общую массу, но и на отдельную личность, глупо было бы ею не воспользоваться. Это не так уж мало: расширить за счет социальных низов объем исторического понятия «индивида». Конечно, всегда есть риск сорваться в пустую анекдотичность, в пресловутую «histoire evenementielle»* (которая не всегда и не обязательно является историей политической)13. Но этого риска можно избежать. Некоторые биографические исследования доказали, что индивид, ничем не выделяющийся из среднего уровня и именно поэтому репрезентативный, может выступать в качестве своего рода микрокосма, сосредоточивающего в себе все существенные характеристики целого социального организма — австрийского дворянства, например, или низшего английского клира в XVII веке14.
Может быть, и Меноккио относится к тому же ряду? Ничуть не бывало. Мы никак не можем посчитать его «средним» крестьянином того времени (то есть «типичным», представляющим статистически наиболее распространенный тип): его относительная изоляция среди односельчан говорит об обратном. Своим соседям Меноккио казался человеком, не похожим на других. Но эта непохожесть не была абсолютной. Меноккио не выходит за пределы культуры своего времени и своего класса: за этими границами — лишь безумие и полный обрыв каких-либо контактов с миром. Культура, как и язык, дает индивиду определенный набор потенциальных возможностей — что-то вроде клетки из гибких и невидимых прутьев, ограничивающей его свободу15. Меноккио с поразительной эффективностью использовал язык, бывший в его распоряжении. Именно поэтому в его высказываниях с редкой наглядностью проявляется в едином комплексе то, что в других источниках, близких по времени, дано в разрозненном виде и вообще едва различимо. Параллельные исследования доказывают наличие в мировоззрении Меноккио черт, свойственных культуре деревни как таковой. В общем, даже такие пограничные случаи (а случай Меноккио, вне сомнения, относится к их числу) могут быть показательными16. И в отрицательном смысле — ибо помогают уточнить, что надо понимать в каждой конкретной ситуации под «статистически наиболее распространенным». И в положительном — ибо позволяют очертить потенциальные границы некоего феномена (в нашем случае народной культуры), известного нам только из отрывочных и искаженных источников, каковыми являются архивы «репрессивных органов»17.
Мы не хотим, разумеется, сталкивать между собой количественные и качественные исследования. Хотелось бы лишь указать на то, что когда речь заходит об истории угнетенных классов, количественные исследования с их стремлением к точности не могут обойтись (пока не могут обойтись, скажем осторожнее) без качественных с их пресловутым импрессионизмом. Острота Э.П. Томпсона о «грубом импрессионизме компьютера, который с тошнотворным упорством обрабатывает одну и ту же величину, отбрасывая все документальные данные, не заложенные в его программу» — отнюдь не безосновательна: компьютер, как известно, может лишь исполнять, но не размышлять. С другой стороны, только целый ряд частных и углубленных исследований может привести к составлению всеохватывающей компьютерной программы. Приведем конкретный пример. В последние годы был проведен целый ряд разысканий, посвященных производству и распространению книжной продукции во Франции XVIII века; в основе их — вполне законное стремление расширить рамки традиционной истории идей, обогатив ее огромным массивом источников, которые до сих пор были обойдены вниманием ученых (почти сорок пять тысяч названий). Только так, утверждали сторонники этого метода, мы можем учесть значение инертных, статических элементов в книжной продукции и вместе с тем оценить масштабы того нового, что вносят в нее произведения, рвущие с традицией. В ответ на это итальянский ученый Ф. Диас указал, что такой подход к исследованию грозит превратить его в трудоемкое открытие всем очевидных истин и вообще уводит его на исторически непродуктивную обочину18. Свои возражения он подытожил следующим образом: французские крестьяне, жившие в конце XVIII века, осаждали феодальные замки вовсе не потому, что прочли «Ангела-хранителя», но потому, что «новые идеи, доносившиеся до них вместе с новостями о событиях в Париже», соответствовали их «издавна зревшему недовольству». Очевидно, что вторым своим возражением (первое много более резонно) Диас вообще отрицает существование народной культуры и какой-либо прок от изучения народных идей и верований, предлагая вернуться к старой истории идей, построенной исключительно по вертикали. На самом деле, количественные исследования заслуживают критики совсем за другое: они еще слишком прочно держатся за вертикаль. В основе их лежит убеждение, что однозначные исторические указания можно почерпнуть не только из текста, но и из одного названия. Это неверно и становится все менее верным по мере того, как понижается социальный уровень читателей. Альманахи, песенники, религиозно-назидательные книги, жития святых, все то, что составляло основную массу книжной продукции того времени, представляется нам теперь чем-то статичным, инертным, ничем не отличающимся друг от друга, но так ли воспринимал эту литературу современный ей читатель? Может быть та устная культура, носителем которой он был, воздействовала на его восприятие текста до такой степени, что текст переставал быть равным себе? Каждый раз, когда Меноккио говорит о прочитанных им книгах, мы встречаемся именно с таким восприятием текста, в корне отличающимся от отношения к тексту современного образованного читателя. У нас появляется возможность конкретно представить себе то расхождение, которое имелось между содержанием «народных» книг и тем, что извлекали из них крестьяне и ремесленники (на возможность такого расхождения справедливо указывала Боллем). Конечно, в истории Меноккио это расхождение оказывается чрезвычайно глубоким — вряд ли это был типичный случай. Но повторим еще раз: именно эта исключительность указывает нам направление дальнейших поисков. В том, что касается, к примеру, истории идей, лишь признав, что исторической изменчивости подвержена среди прочего и фигура читателя, мы приблизимся к созданию истории, отличающейся от прежней не только использованием количественных методов, но и качественно.
8.
Разрыв между текстом и тем, что из него вынес и сообщил инквизиторам Меноккио, доказывает, что его мировоззрение не может быть сведено к книжному знанию. С одной стороны, оно определяется устной культурной традицией, имеющей, по-видимости, весьма отдаленные истоки. С другой стороны, оно обнаруживает близость к идеям, циркулировавшим в кружках склонных к инакомыслию гуманистов: к идеям веротерпимости, уравнивания религии и морали и т.п. Противоречие здесь только видимое; в действительности речь идет о цельной культуре, которую нельзя разделить на отдельные блоки. Даже если у Меноккио были прямые или косвенные контакты с ученой средой, его выступления в защиту веротерпимости, его мечты о коренном переустройстве общества отличаются несомненной оригинальностью и не могут быть объяснены пассивным восприятием посторонних влияний. Их истоки коренятся в непроницаемой глубине прошлого, в неизвестной нам культуре деревни.
Может возникнуть вопрос: не есть ли то, что нам известно о мыслях Меноккио, скорее проявление «ментальности», чем «культуры». Вопрос далеко не праздный. Для исследований ментальности характерна сосредоточенность на бессознательных, глубинных, пассивных элементах картины мира. Всякого рода пережитки, архаизмы, аффективные и иррациональные мотивировки — вот что составляет специфический предмет истории ментальностей, четко отграничивающий ее от параллельных и давно устоявшихся научных дисциплин, таких как история идей или история культуры (хотя для некоторых ученых последняя включает в себя все остальные). Можно подойти к случаю Меноккио с позиций истории ментальностей, но что тогда делать с той рациональной установкой, которая определяет его картину мира (но которая далеко не идентична нашим рациональным установкам)? Есть, однако, и более сильный аргумент против. Истории ментальностей свойственен внеклассовый подход, она изучает, как выразился один из ее представителей, то общее, что имеют между собой «Цезарь и последний из его легионеров, св. Людовик и крестьянин, вспахивавший его владения, Христофор Колумб и матрос с его каравеллы»19. Поэтому определение «коллективная», часто добавляемое к слову «ментальность», звучит как плеоназм. Никто не ставит под сомнение полезность такого рода исследований; хотелось бы только указать на связанный с ними риск — они часто приводят к слишком поспешным обобщениям. Даже Люсьен Февр, один из величайших историков нашего столетия, не избежал подобной ловушки. Одно из его исследований, увлекательное, но в корне ошибочное, представляет собой попытку — оттолкнувшись от такой ярко индивидуальной и во всех отношениях исключительной фигуры, как фигура Рабле, — вычертить ментальные координаты целой эпохи20. Пока развеивается миф о пресловутом «атеизме» Рабле, все обстоит благополучно. Но когда мы вступаем на почву «коллективной ментальности» (или «психологии»), когда мы слышим, что влияние религии на «людей XVI века» было одновременно всеохватывающим и всепроникающим, что от него было невозможно уклониться, как не смог уклониться Рабле, тогда аргументы утрачивают свою убедительность. Кто это — «люди XVI века»? Гуманисты, купцы, ремесленники, крестьяне? Выводы, сделанные в ходе исследования той тончайшей прослойки французского общества, которую составляли образованные люди, легко применяются — благодаря внеклассовой широте, заложенной в понятие «коллективной ментальности», — ко всему обществу. И за теориями коллективной ментальности вдруг открывается вполне традиционная история идей. От крестьянства, составлявшего подавляющее большинство тогдашнего народонаселения, Февр отделывается одной фразой — о «полудикой толпе во власти суеверий», а утверждение о невозможности в то время последовательно антирелигиозной позиции плавно переходит в достаточно тривиальную мысль о том, что XVII век это не XVI и Декарт — не Рабле.
Несмотря на эти ограничения, методы, позволившие Февру проследить многосложные связи, соединяющие индивида и исторически конкретную общественную среду, остаются образцом для подражания. Аналитический инструментарий, примененный им для изучения религии Рабле, может пригодиться и при изучении религии Меноккио — совершенно на нее непохожей. Но вот термин «коллективная ментальность» я заменяю на другой, также не вполне удовлетворительный — «народная культура», и считаю эту замену принципиальной. Классовый подход — это в любом случае шаг вперед по сравнению с внеклассовым.
Это не значит, что в доиндустриальной Европе у крестьян и городских ремесленников (не говоря уж о всякого рода маргинальных группах)21 была некая единая культура. Но хотелось бы подчеркнуть, что исследования индивидуальных казусов, подобных нашему, следует проводить, только ясно представляя себе их границы. И только тогда выводы, в них достигнутые, могут приобрести общий характер.
9.
Меноккио мог стать тем, кем он стал, благодаря двум великим историческим событиям: изобретению книгопечатания и Реформации. Книгопечатание дало ему возможность сопоставить книжное знание с той устной культурой, которой он обладал по праву рождения, и оно же дало ему слова, чтобы облечь в них его немые мысли и образы. Реформация дала ему мужество, необходимое, чтобы заявить о своих убеждениях деревенскому священнику, односельчанам, инквизиторам — он мечтал о том, чтобы бросить их в лицо папе, кардиналам, сильным мира сего, но такой возможности у него не было. Настал конец монополии ученых на письменную культуру и монополии клириков на обсуждение религиозных вопросов — этот исторический перелом породил совершенно новую и взрывоопасную ситуацию. Но движение, которое начали навстречу друг другу народная культура и культура высокая в лице некоторых ее представителей, было решительно остановлено более чем за полвека до начала суда над Меноккио — когда Лютер гневно осудил восставших крестьян и их требования. Теперь этим идеалом вдохновлялись только разрозненные и преследуемые религиозные меньшинства — такие, как анабаптисты. Контрреформация (и параллельная консолидация протестантских церквей) открыла эпоху ужесточения социальных иерархий, патерналистской опеки народных масс, уничтожения народной культуры, борьбы против религиозных меньшинств и против инакомыслящих. Меноккио неслучайно закончил жизнь на костре.
10.
Мы сказали, что в культурном мире Меноккио нельзя выделить отдельные блоки. Они обозначаются только на известной исторической дистанции: мы отмечаем стремление к радикальному обновлению общества, внутреннее охлаждение к религии, проповедь веротерпимости — все это мотивы, встречающиеся уже у представителей высокой культуры XVI века и становящиеся с течением времени необходимым признаком «прогрессивного» мировоззрения. Меноккио тем самым оказывается на той директории исторического развития — подчас еле заметной и далеко не прямой, — которая ведет в наше время: в каком-то смысле он наш предшественник. Но Меноккио также — доставшийся нам почти случайно осколок темного, непроницаемого для взора мира, который находится в стороне от нашей истории. Этот мир с его культурой был стерт с лица земли. Он не полностью доступен нашим аналитическим методам, в нем всегда остается темный осадок непознанного, но признавая это, мы вовсе не впадаем в бессмысленное преклонение перед экзотикой и тайной. Мы просто отдаем себе отчет в разрушениях, произведенных историей и сказавшихся в определенной степени и на нас22. «Ничто из случившегося не потеряно для истории, — писал Вальтер Беньямин. — Но только возрожденное человечество полностью овладеет своим прошлым»23. Возрожденное человечество — это человечество, обретшее свободу.
Первый вариант этой книги обсуждался сначала на семинаре по народной религии в Девисовском центре исторических исследований Принстонского университета, а затем на моем семинаре в Болонском университете. Я сердечно благодарен Лоуренсу Стоуну, директору Девисовского центра, а также всем тем, которые своими замечаниями и критикой помогли мне в работе. В особенности — Пьеро Кампорези, Джей Долан, Джону Эллиотту, Феликсу Гилберту, Роберту Мьючемблду, Оттавии Никколи, Джиму Обелкевичу, Адриано Проспери, Лионелю Роткругу, Джери Сейгелю, Эйлин Йэо, Стивену Йэо и моим болонским студентам. Я благодарю также дона Гульельмо Бьязутти из архиепископской библиотеки Удине, учителя Альдо Колоннелло, Анджело Марина, секретаря коммунальной управы в Монтереале Вальчеллина, а также всех работников архивных хранилищ и библиотек.
Болонья, сентябрь 1975 г.
Tout ce qui est interessant se passe dans l'ombre...
On ne salt rien de la veritable histoire des hommes.
Celine*1. Меноккио
Его звали Доменико Сканделла, прозывался он Меноккио1. Родился в 1532 году (во время процесса он называл свой возраст — пятьдесят два года) в Монтереале, небольшом селении на фриульских холмах, в 25 километрах к северу от Порденоне, у самого взгорья2. Здесь же и жил все время, кроме двух лет (1564–1565) изгнания, к которому его приговорили за участие в потасовке — их он тоже провел неподалеку, в Арбе и в каком-то еще местечке Карнии. Был женат и имел семерых детей; еще четверо умерли. Канонику Джамбаттисте Маро, генеральному викарию инквизитора Аквилеи и Конкордии, он заявлял, что занятие его было «плотницкое, столярное, выкладывать стены и всякое другое мастерство». Но в основном он был мельник и одевался как мельник: белые шерстяные рубашка, накидка и колпак3. Так, одетый в белое, он и присутствовал на своем процессе.
«Я — последний из бедняков», — говорил он два года спустя. «Я арендую две мельницы и два участка земли, и этим кормлю свое бедное семейство»4. Тут не обошлось без самопринижения. Пусть даже значительная часть урожая уходила на арендную плату за землю и мельницы (оплата, видимо, осуществлялась натурой)5, все же остаток должен был быть не так мал, и кое-что удавалось откладывать на черный день. Так, например, когда Меноккио пришлось перебраться в Арбу, он немедленно арендовал мельницу и здесь. Когда его дочь Джованна вышла замуж (спустя месяц после смерти отца), то получила в приданое 256 лир и 9 сольдо: сумма не огромная, но и не мизерная, в сравнении с обычными размерами приданых в это время и в этой среде6.
В целом представляется, что место, занимаемое Меноккио в социальном микрокосме Монтереале, было не из последних7. В 1581 году он исполнял должность подеста в своем селении и в селениях по соседству (Гайо, Гриццо, Сан Лонардо, Сан Мартино)8, известно также (хотя точной даты мы не знаем) о его пребывании в должности «камерария», т.е. старосты церковного прихода Монтереале. Возможно, что и здесь, как почти повсеместно во Фриули, старая система ротации таких должностей была уже вытеснена избирательной системой9. В таком случае умение Меноккио «читать, писать и складывать числа» наверняка принималось во внимание. Камерариями, как правило, избирались те, кто получил хоть какое-то образование10. Такие школы, где можно было почерпнуть даже начатки латыни, имелись в Авиано и в Порденоне; одну из них, возможно, посещал Меноккио11.
28 сентября 1583 года на Меноккио поступил донос в святую инквизицию. Ему вменялись в вину «безбожные и еретические» речи об Иисусе Христе. Речь шла не об единичном случае: Меноккио свои мнения обосновывал и стремился распространять («praedicare et dogmatizzare eribescit»). Это еще больше осложняло его положение.
Попытки прозелитизма с его стороны нашли обширное подтверждение в материалах следствия, которое открылось месяц спустя в Портогруаро и продолжилось затем в Конкордии и в Монтереале. «Он то и дело спорит с кем-нибудь о вере и даже со священником», — сообщал генеральному викарию Франческо Фассета. По словам другого свидетеля, Доменико Мелькиори, «он спорит то с одним, то с другим, и когда хотел спорить со мной, я ему сказал: я сапожник, ты мельник и человек неученый, что ты можешь об этом знать?» Предметы веры возвышены и трудны, говорить о них — не дело сапожников и мельников; для этого требуется ученость, а ученость — это привилегия клириков. Но Меноккио не верил, что церковь ведома духом святым, он повторял: «Попы все под себя подмяли, все себе захватили, чтобы сладко есть и мягко спать». О себе он говорил: «Бога я знаю лучше, чем они». Когда приходской священник, объявив ему, что «все его причуды — чистейшая ересь», отвел его в Конкордию к генеральному викарию, чтобы тот направил его на путь истинный, Меноккио пообещал исправиться — и тут же принялся за свое. Он говорил о Боге на площади, в трактире, по дороге в Гриццо или в Давиано, возвращаясь домой с гор: «он всякому, с кем заговорит, — сообщал Джулиано Стефанут, — ввернет что-нибудь о Боге и всегда прибавит какую-нибудь нечестивость; и никого не слушает, а все спорит и кричит».
2. Деревня
Из материалов следствия нелегко составить представление о том, какой отклик встречали слова Меноккио у односельчан: никто, разумеется, не объявлял, что относится с одобрением к речам подозреваемого в ереси. Многие торопились поделиться с генеральным викарием, который вел следствие, своим негодованием. «Послушай, Меноккио, ради Бога, оставь эти речи», — так увещевал его Доменико Мелькиори. А вот что говорит Джулиано Стефанут: «Я не раз ему твердил, когда, например, нам случалось вместе идти в Гриццо, что хотя он мне как брат, но его слова о вере мне не по сердцу, и в этом деле мы с ним врозь, и пусть меня сто раз убьют и потом вернут к жизни, я все равно за веру головы не пожалею». Священник Андреа Бионима предупреждал Меноккио, что добром тот не кончит: «Лучше бы тебе помолчать, Доменико, как бы не пришлось потом каяться». Еще один свидетель, Джованни Поволедо, обращаясь к генеральному викарию, даже дал идеям Меноккио определение, пусть и несколько расплывчатое: «У него дурная слава, говорят, что он из последышей Лютера». Однако верить на слово этим свидетелям не следует. Почти все опрошенные заявляли, что знают Меноккио давно: некоторые тридцать, некоторые сорок, некоторые двадцать пять или двадцать лет. Даниэле Фассета говорил, что знаком с ним с «малолетства, ведь мы из одного прихода». По всей видимости, многие высказывания Меноккио делались не вчера, а «много лет» назад, иные — лет тридцать назад12. И за все эти годы на него не было ни одного доноса. Его речи были известны всем: люди их повторяли — быть может, удивляясь, быть может, задумчиво покачивая головой. В свидетельствах, собранных генеральным викарием, не чувствуется враждебности в отношении Меноккио: в крайнем случае, некоторое неодобрение. Правда, среди них есть свидетельства родственников, например, Франческо Фассета или Бартоломео ди Андреа, двоюродного брата его жены, назвавшего его «достойным» человеком. Но даже тот Джулиано Стефанут, который резко выступал против Меноккио и клялся, что готов умереть за веру, признался тем не менее, что он ему «как брат». Этот мельник, в свое время и деревенский подеста и приходский староста, не был, конечно, парией в своем Монтереале. Много лет спустя, во время второго процесса один свидетель скажет: «Он со всеми в дружбе и в приятельстве». И все же донос на него был сделан, и следствию был дан ход.
Сыновья Меноккио, как мы убедимся ниже, сразу распознали в анонимном доносчике священника местного прихода, дона Одорико Вораи. Они не ошиблись. Между ним и Меноккио давно установилась вражда: Меноккио в течение четырех лет даже исповедоваться ходил в другую церковь. Правда, показания Вораи, заключавшие следственную часть процесса, были нарочито расплывчатыми: «Я в точности не помню, что он говорил — память у меня уже не та и других дел много». Ясно, что никто лучше него не мог осведомить инквизицию об истинном положении дел, однако генеральный викарий не стал настаивать. В этом не было нужды: именно Вораи по наущению другого священника, дона Оттавио Монтереале, из семьи местных синьоров, представил в инквизицию подробный донос, на основании которого генеральный викарий и формулировал в дальнейшем вопросы к свидетелям13.
Эта враждебность местного духовенства легко объяснима. Как мы уже видели, Меноккио не признавал за церковной иерархией никакого авторитета в вопросах веры. «Ох, уж эти папы, прелаты, попы! Он говорил это с издевкой, потому что не верил им», — это свидетельство Доменико Мелькиори. Проповедуя день за днем на улицах и в трактирах, Меноккио не мог не подрывать авторитет приходского священника14. Но о чем в конце концов были его речи?
Начнем с того, что он не только богохульствовал «без всякого удержу», но утверждал, что богохульство — не грех (как уточняет другой свидетель, это не грех в отношении святых, но грех в отношении Бога), добавляя не без сарказма: «у каждого свое ремесло — кто пашет, кто сеет, а кто Бога хулит». Далее, он выступал с весьма странными утверждениями, которые его односельчане доводили до сведения генерального викария в виде еще более туманном. К примеру: «воздух — это Бог, а земля — наша матерь»; «что, по-вашему, Бог? Бог — это малое дуновение и все то, что люди воображают»; «все, что мы видим, — это Бог, и мы тоже боги»; «небо, земля, море, воздух, бездна и ад — все это Бог»; «зря вы думаете, что Иисус Христос родился от девы Марии; такого быть не может, что она его родила и осталась непорочной: тут не обошлось без какого-нибудь доброго молодца». Наконец, он говорил, что у него есть запрещенные книги и, в частности, Библия на народном языке: «всегда он спорит то с тем, то с другим, и у него есть Библия на нашем языке, и он все из нее берет, и сбить его с точки никак нельзя».
Пока еще шел сбор свидетельств, Меноккио почувствовал, что дело неладно. Он отправился в Польчениго к Джованни Даниэле Мелькиори, местному викарию и своему другу с детства15. Тот посоветовал ему самому явиться в инквизицию или, во всяком случае, явиться туда по первому требованию. Еще он ему посоветовал «подчиняться всему, что тебе скажут, говорить поменьше и особенно ни о чем не распространяться, только отвечать на вопросы, которые будут задаваться». Также и Алессандро Поликрето, бывший адвокат, которого Меноккио случайно встретил в доме своего друга, лесоторговца, советовал ему по доброй воле предстать перед судьями и признать себя виновным, но заявить при этом, что сам никогда не верил собственным еретическим утверждениям. Меноккио отправился в Маниаго по вызову церковного суда. Но днем позже, 4 февраля, ознакомившись с материалами следствия, инквизитор, францисканский монах Феличе да Монтефалько, распорядился взять его под стражу и «в оковах» препроводить в тюрьму инквизиции в Конкордии. 7 февраля 1584 года Меноккио был подвергнут первому допросу.
3. Первый допрос
Не считаясь с полученными советами, он сразу проявил значительную словоохотливость. При этом, однако, он попытался несколько смягчить ту неблагоприятную картину, которую создавали показания свидетелей. Так, признав, что двумя или тремя годами ранее у него были сомнения в непорочности Богоматери, которыми он делился с различными людьми, он пояснил: «это правда, что я многим говорил такие слова, но я никого не призывал так веровать, а говорил я так: «Хотите я покажу вам путь истины? Делайте добро и идите по пути, указанному предшественниками, и это то, чему учит святая наша мать церковь». Но это мной говорилось во искушение, потому что я так думал и хотел научить других; это во мне говорил нечистый дух, он принуждал меня так думать и так говорить с другими». Такими высказываниями Меноккио только подтверждал тот факт, что он претендовал в своем селе на роль духовного наставника и учителя жизни («Хотите я покажу вам путь истины?»). А еретическое содержание его проповедей выступило во всей очевидности, когда Меноккио изложил судьям свою диковинную космогонию, о которой до тех пор они имели представление лишь по показаниям свидетелей.
«Я говорил, что мыслю и думаю так: сначала все было хаосом, и земля, и воздух, и вода, и огонь — все вперемежку. И все это сбилось в один комок, как сыр в молоке, и в нем возникли черви и эти черви были ангелы. И по воле святейшего владыки так возникли Бог и ангелы; среди ангелов был также Бог, возникший вместе с ними из того же комка; он стал господом и у него было четыре капитана, Люцифер, Михаил, Гавриил и Рафаил. Этот Люцифер захотел стать господом подобно тому владыке, который был царем и Богом, и за его гордыню Бог прогнал его с неба со всеми его присными и приспешниками. И Бог затем создал Адама и Еву и много других людей, чтобы заполнить места изгнанных ангелов. Но все они не исполняли его заповедей, и тогда Бог послал к ним своего сына, и евреи его схватили, и он был распят». И добавил: «Я никогда не говорил, что его повесили как скота» (это было одно из обвинений: впоследствии Меноккио признал, что, возможно, что-то в этом роде и говорил). «Я говорил только, что его распяли, и тот, которого распяли, был один из божьих детей, потому что все мы божьи дети и того же естества, что и распятый; он был такой же человек, как и мы, но более важный, как сейчас, к примеру, папа — такой же человек, как мы, но более важный, потому что может приказывать; тот, которого распяли, родился от Иосифа и Марии-девы».
4. «Одержимый»?
Столкнувшись во время следствия со странными показаниями свидетелей, генеральный викарий спросил сначала, «всерьез» все это говорил Меноккио или «в шутку», а затем — в своем ли он уме16. В обоих случаях ответ был категорический: Меноккио говорил «всерьез» и был «в своем уме..., не помешанный». После начала допросов уже один из сыновей Меноккио, Заннуто, стал по совету некоторых друзей отца (Себастьяно Себенико и некоего отца Лунардо) ссылаться на его «помешанность» или «одержимость». Но викарий не обратил на это внимания, и процесс продолжился. Была возможность занести идеи Меноккио, и в частности, его космогонию (сыр, молоко, черви-ангелы, Бог-ангел, возникший из хаоса), в разряд нечестивых, но в сущности безобидных чудачеств, но этой возможностью не воспользовались. Век или полтора века спустя Меноккио скорее всего оказался бы в сумасшедшем доме с диагнозом «религиозный бред»17. Но в разгаре Контрреформации способы изоляции были другими и сводились в основном к распознаванию и подавлению ереси.
5. Из Конкордии в Портогруаро
Оставим на время космогонию Меноккио и проследим за ходом процесса. Когда Меноккио оказался в тюрьме, Заннуто, его сын, приложил немало стараний, чтобы облегчить его положение: он заручился услугами стряпчего, некоего Трапполы из Портогруаро, съездил в Серравалле и говорил с инквизитором, добился от коммуны Монтереале прошения в пользу Меноккио, которое послал стряпчему, обещая, если потребуется, раздобыть и другие свидетельства добронравия обвиняемого. «А если есть надобность удостоверить, что сказанный узник ходил каждый год к исповеди и причастию, то это могут сделать наши приходские священники; также в случае надобности коммуна Монтереале может удостоверить, что он был подеста и управляющий пяти деревень, что был старостой прихода Монтереале и честно исполнял свою должность и что он собирал общинные подати». Кроме того, вместе с братьями Заннуто принудил того, кто в его глазах был главным виновником всех этих несчастий, а именно священника Монтереальского прихода, написать (Заннуто был неграмотным) письмо Меноккио, заключенному в тюрьму инквизиции18. В письме содержался совет выказывать «во всем покорность святой церкви» и утверждать, что «вы не верили и никогда не станете верить иначе, чем учит Господь Бог и святая церковь, и желаете жить и умереть в христианской вере, как учит святая римская католическая и апостолическая церковь, и готовы, если нужно, отдать жизнь и даже тысячу жизней во имя Господа Бога и святой христианской веры, ибо и сама жизнь и все блага ее даны вам святой матерью церковью...» Похоже, что Меноккио не признал в письме руку своего врага, приходского священника, и считал его автором Доменего Феменусса, торговца шерстью и дровами, бывавшего у него на мельнице и иногда одалживавшего ему деньги19. Но следовать советам, содержавшимся в письме, ему было явно не по нутру. В конце первого допроса (7 февраля) он воскликнул в сердцах, обращаясь к генеральному викарию: «Господин, все то, что я говорил может по воле Бога, может по наущению диавола, я не знаю, правда это или ложь, но прошу милосердия и сделаю то, что мне скажут». Он просил прощения, но ни от чего не отрекался. На протяжении четырех длительных допросов (7, 16, 22 февраля и 8 марта) он прекословил викарию, не соглашался, вносил уточнения, спорил. «Явствует из дознания, — спрашивал, например, Маро, — что вы призывали не верить папе и постановлениям церкви и говорили, что у папы такой же авторитет, как и у всякого человека». Меноккио отвечал: «Я призываю Бога всемогущего поразить меня на месте, если я когда-нибудь говорил то, о чем ваше преподобие спрашивает». А правда ли, что, по его словам, от заупокойных служб нет никакой пользы? (По свидетельству Джулиано Стефанута Меноккио, возвращаясь как-то от мессы, сказал следующее: «зачем горстке праха нужны все эти пожертвования?»). «Я говорил, — пояснил Меноккио, — что надобно делать добро, пока ты на этом свете, а что будет потом с душами, это в руках Господа Бога, потому что молитвы и пожертвования и мессы, которые служатся за мертвых, все это делается ради любви к Господу, а он уж творит то, что ему угодно; душам все эти молитвы и милостыня ни к чему, это Бог решает, пригодятся ли все эти добрые дела живым или мертвым». Меноккио, должно быть, считал, что ловко вышел из трудного положения, но на самом деле вступил в явное противоречие с учением церкви о чистилище. Недаром викарий из Польчениго, друживший с Меноккио с детских лет и наверняка знавший его хорошо, советовал ему «говорить поменьше». Но Меноккио явно не мог удержаться.
В конце апреля в ход процесса вмешалось неожиданное обстоятельство. Венецианские власти указали фра Феличе да Монтефалько20, инквизитору Аквилеи и Конкордии, на необходимость следовать действующему на территории республики порядку, согласно которому в инквизиционном процессе должен принимать участие наряду с церковными судьями также и представитель светской магистратуры. Конфликтные отношения между двумя властями были здесь в порядке вещей21. Не исключено, хотя и ничем не подтверждается, что за этим демаршем кроятся попытки адвоката Трапполы облегчить положение своего клиента. Так или иначе Меноккио был препровожден в Портогруаро, во дворец подеста, где ему предложили подтвердить полученные от него ранее показания. После этого процесс возобновился.
В прошлом Меноккио неоднократно заявлял односельчанам о готовности и даже желании изложить как светским, так и религиозным властям свои «убеждения» в вопросах веры. «Он говорил мне, показывает Франческо Фассета, — что если его привлекут за это к суду, то он не будет противиться, и если его будут преследовать, он много чего скажет о дурных делах тех, кто наверху». По словам Даниэле Фассета, «Доменего говорил, что кабы не страх за жизнь, он скажет такое, что всех приведет в удивление; я думаю, что он хотел говорить о вере». В присутствии подеста Портогруаро и инквизитора Аквилеи и Конкордии Меноккио подтвердил это показание: «Это правда, я говорил, что кабы не боязнь суда, я бы сказал такое, что всех бы привел в удивление; и еще я говорил, что, доведись мне повидать папу или короля или князя, я бы много чего сказал, и пусть меня потом хоть расказнят, мне это безразлично». Тогда ему предложили говорить свободно, и Меноккио отбросил всякую осторожность. Это было 28 апреля.
6. «О дурных делах тех, кто наверху»
Для начала он указал на такое средство угнетения бедняков как использование в присутственных местах непонятного языка, латыни. «Я тех мыслей, что говорить по-латински значит обманывать бедняков; бедный человек не разбирает, что говорят судьи, и оказывается в проигрыше, а когда хочет сам что-то сказать, то не может без адвоката». Это лишь один из примеров тотального притеснения, в котором принимает участие церковь. «И еще я думаю про наши порядки, что у нас папа и кардиналы и епископы такие богатые и сильные, что церковь и попы все захватили и сосут кровь из бедняков; если берешь в аренду клочок земли, то земля эта — церкви или епископа или кардинала». Напомню, что Меноккио арендовал два участка земли, владелец которой нам неизвестен; что касается его латыни, то, видимо, она ограничивалась «Верую» и «Отче наш», усвоенными из церковной службы; адвоката же ему нанял его сын Заннуто, как только Меноккио посадили за решетку. Но эти совпадения или возможные совпадения не следует преувеличивать: Меноккио, даже отправляясь от личных обстоятельств, вкладывал в свои обвинения значительно более широкий смысл. Идея церкви, которая отказывается от всех своих привилегий, которая становится бедной наравне с последним бедняком, была тесно связана с представлением об иной религии, лишенной догматических претензий, сводящейся к нескольким простым практическим положениям. «Надобно, чтобы человек верил в Господа Бога и чтобы не делал зла, надобно поступать, как Иисус Христос, который ответил евреям, спрашивавшим его, какому закону следовать: «Любить Бога и любить ближнего». Эта упрощенная религия не имела, по мнению Меноккио, вероисповедных ограничений. Всем людям в равной степени дано откровение: «Господь Бог всем уделил от духа святого, и христианам, и еретикам, и туркам, и иудеям, он всех любит, и все могут спастись». От этой страстной защиты равенства вер Меноккио переходит к яростному обличению судей и их ученой гордыни: «А вы, попы и монахи, хотите ведать больше, чем сам Бог, и в этом похожи на дьявола; вы, подобно дьяволу, хотите быть как боги на земле22 и знать все, как Бог; кто думает, что знает больше, тот знает меньше». И отринув какую-либо осторожность, какое-либо благоразумие, Меноккио заявил, что отвергает все таинства, включая крещение, как измышления человеческие, как «барышничество», как орудия угнетения и эксплуатации в руках духовенства: «я думаю, что законы и повеления церкви — все это барышничество и надобны ей, чтобы богатеть». О крещении он сказал: «я думаю, что все новорожденные принимают крещение — их крестит Бог, который все на земле благословляет, а крещение в церкви — это фальшь; попы начинают высасывать соки у детей еще во чреве матери и продолжают до смерти». О миропомазании: «я думаю, это барышничество и фальшь, всем людям дан дух святой, а они хотят знать больше и не знают ничего». О браке: «его создал не Бог, а придумали люди: сначала мужчина и женщина просто давали друг другу слово, и этого было достаточно»23. О священстве: «я думаю, что дух божий есть во всех людях.., и думаю, что каждый, кто учился, может быть священником, для этого не нужно посвящения, все это барышничество». О елеосвящении: «я думаю, что оно ни на что не годится: помазывают тело, а душу нельзя помазать». Об исповеди он говорил так: «исповедоваться у попов и монахов — все равно, что у дерева». Когда инквизитор вознегодовал, услышав это, Меноккио пояснил свои слова не без некоторого самодовольства: «Если бы дерево могло назначить покаяние, этого было бы достаточно; к попам ходят те, кто не знает, какое положено покаяние за грехи, чтобы они их научили, а если знаешь, то ходить не надо, и те, кто знают, не ходят». Последним достаточно исповедаться «перед Господом Богом в сердце своем и молить Его, чтобы Он отпустил им грехи».
Только на таинство пресуществления не распространялась критика Меноккио, однако и здесь его взгляд был далек от ортодоксального. В показаниях свидетелей его высказывания представали либо прямым богохульством, либо презрительным отрицанием. Навестив викария в Польчениго и застав приготовление гостий, Меноккио воскликнул: «Силы небесные, до чего ж здоровенные бестии!» В другой раз, заспорив с отцом Андреа Бионима, он сказал: «Что это как не кусок теста, откуда там взяться Господу Богу? И что такое Господь Бог? Это земля, вода и воздух». Но генеральному викарию он пояснил: «Я говорил, что эта гостия — кусок теста, но Дух святой сходит в него с небес, и так я верю». Викарий, думая, что ослышался: «что, по-вашему, есть Святой Дух?» Меноккио: «Верую, что это Бог». А знает ли он, сколько лиц включает Троица? «Да, господин, Отца, Сына и Духа Святого». — «И в кого из этих лиц, повашему, пресуществляется гостия». — «Я думаю, что в Святого Духа». Викарий не мог поверить в такое невежество. «Когда ваш священник объяснял таинство святого причастия, он говорил, что содержится в гостии?» Дело было, однако, не в невежестве: «Он говорил — тело Христово, но я думал, что это Святой Дух, потому что Святой Дух больше Христа: Христос был человек, а Святой Дух исходит из рук божьих». «Он говорил..., но я думал...», — едва представлялась малейшая возможность, Меноккио даже с некоторой дерзостью демонстрировал независимость своих взглядов, свое право на особую точку зрения. Отвечая инквизитору, он добавил: «Мне нравится это таинство, когда человек исповедался и затем идет причащаться и приобретает Духа Святого и дух радуется...; а само таинство причащения нужно, чтобы править людьми, его придумали люди, а не Святой Дух; они говорят, что мессу сотворил Святой Дух и что нужно поклоняться гостии, чтобы люди не вели себя, как бестии». Этот взгляд на мессу и на таинство пресуществления как на орудия приобщения людей к цивилизации — взгляд, который можно назвать политическим, — излагается языком, поневоле приводящем на память шутку, отпущенную в разговоре с викарием Польчениго («гостии — бестии»).
Но на чем же основывалась эта радикальная критика церковных таинств? Во всяком случае, не на Священном писании. Писание само было подвергнуто Меноккио пристрастному экзамену и свелось в итоге к некоему элементарному ядру, к «двум словам»: «Я думаю, что Священное писание дано Богом, но потом к нему много добавили люди; для этого Священного писания достаточно было двух слов, но потом оно выросло, как растут книги о сражениях...» Даже евангелия с их разноречиями удалились, по мнению Меноккио, от краткости и простоты слова божьего: «А о евангелиях я думаю, что частью в них правда, а частью евангелисты добавили в них от себя: это видно по страстям — один говорит о них так, а другой иначе». Неудивительно поэтому, что Меноккио мог говорить односельчанам (и повторять уже на процессе), что «Священное писание выдумали, чтобы морочить людей». Отрицание догматики, отрицание священных книг, акцент исключительно на практической стороне религии: «а еще он мне говорил, что верит только в добрые дела», — это показание Франческо Фассета. А в другой раз, обращаясь к тому же Франческо, воскликнул: «я хочу только делать добро». Понятно, что святость представлялась ему идеальным образом жизни, практического поведения, и ничем другим: «я думаю, что святые были хорошими людьми и творили добрые дела, и за это Господь Бог сделал их святыми и они молятся за нас». Ни мощи, ни образы святых почитать не следует: «а мощи их, разные там руки, ноги, головы, пальцы, думаю, что такие же, как у нас, и им не нужно поклоняться..., не нужно поклоняться их образам, но одному Богу, который сотворил небо и землю; разве вы не помните, — воскликнул Меноккио, обращаясь к судьям, — как Авраам разбил все кумиры и все образы и поклонился только Богу?» Также и Христос своими страстями преподал людям образец поведения: «он помог... нам, христианам, потому что терпел ради любви к нам, и показал, как нужно терпеть и умирать ради любви к нему; не надо страшиться смерти, потому что Бог захотел, чтобы и сын его умер». Христос был только человек, и все люди — сыны божьи, в них «то же естество, что в том, которого распяли». Следуя этой логике, Меноккио отказывался верить, что Христос умер во искупление грехов человечества: «если кто-то согрешил, он и должен каяться».
Большинство этих утверждений было сделано Меноккио в ходе одного очень долго продолжавшегося допроса. «Я скажу такое, что всех приведу в удивление», — обещал он односельчанам: действительно, и инквизитор, и генеральный викарий, и подеста Портогруаро должны были онеметь от изумления при виде какого-то мельника, который с такой уверенностью и напором излагал свои идеи. На их оригинальности Меноккио особенно настаивал: «Я никогда не имел дела ни с каким еретиком — сказал он, отвечая на конкретный вопрос судей, — но я не без смысла в голове, и я хотел разузнать великое и неизвестное; может быть, все то, что я говорил, — ошибка, и я покоряюсь святой церкви. Может быть, я согрешил, но Святой Дух меня просветил, и я прошу смерти у Господа Бога, у Господа Иисуса Христа и у Духа Святого, если в чем-нибудь солгал». В конце концов он решил последовать совету сына, но в начале ему хотелось, как он давно уже задумал, «много чего сказать о дурных делах тех, кто наверху». Он, конечно, знал, чем рискует. Когда его уводили в камеру, он попросил судей о снисхождении: «Пощадите меня, синьоры, ради Господа нашего Иисуса Христа: если я повинен смерти, казните меня, но если я заслуживаю милосердия, окажите мне его, потому что я хочу быть добрым христианином». Но до конца процесса было еще далеко. Через несколько дней (1 мая) допросы возобновились; подеста пришлось уехать из Портогруаро, но судьям не терпелось еще раз послушать Меноккио. «Из прежних заседаний, — сказал ему инквизитор, — явствует, и об этом вам было заявлено, что дух ваш шаток и исполнен нечестивых мнений, и ныне святой суд желает, чтобы вы закончили перед ним изложение всех ваших мыслей». Меноккио в ответ: «Дух мой был объят гордыней, я желал нового мира и нового устройства всей жизни, я думал, что церковь идет по неправому пути и хулил ее за роскошество».
7. Архаическое общество
К тому, что скрывается под словами о «новом мире и новом устройстве всей жизни», мы вернемся позже. В начале необходимо ответить на вопрос, каким образом этот фриульский мельник мог формулировать подобные идеи.
Общественная жизнь во Фриули во второй половине XVI века была в сильнейшей степени отмечена архаическими чертами24. Феодальная знать обладала подавляющим влиянием во всем регионе. Институт рабства, известный под именем «маснада», существовал еще веком раньше — много дольше, чем в других близлежащих областях25. Традиционный средневековый парламент продолжал сохранять свои законодательные функции, хотя реальная власть уже давно перешла в руки венецианских наместников26. Вообще Венеция, владевшая этой областью с 1420 года, все, что могла, оставила в нетронутом виде. Главной заботой венецианцев было создание такого баланса сил, который бы сводил на нет подрывные тенденции части феодального фриульского дворянства.
В начале XVI века конфликты внутри знати обострились. Возникли две партии — «замберланов», сторонников Венеции, объединившихся вокруг могущественного Антонио Саворньяна (он впоследствии перешел на сторону императора и умер на чужбине), и «струмьеров», враждебных Венеции, во главе которых стояло семейство Торреджани. Этот конфликт разворачивался на фоне ожесточенной классовой борьбы. Уже в 1508 году дворянин Франческо ди Страссольдо, выступая в парламенте, предупреждал, что в различных местностях Фриули крестьяне объединились в «сообщества», некоторые числом до двух тысяч человек, и в этих «сообществах» произносятся «нечестивые и сатанинские речи о том, чтобы изрубить на куски прелатов, дворян, владельцев замков и горожан, учинить им всем сицилийскую вечерню, и говорятся многие другие непристойные речи»27. И дело не ограничивалось речами. В жирный четверг 1511 года во время кризиса, последовавшего за поражением Венеции при Аньяделло, и в самый разгар эпидемии чумы крестьяне, верные Саворньяну, восстали сначала в Удине, потом в других местах, истребляя дворян из обеих партий и поджигая замки. Мгновенно восстановилась классовая солидарность дворянства, и восстание было жестоко подавленно28. Но размах крестьянского мятежа, с одной стороны, напугал венецианскую олигархию, а с другой — указал на эффективный способ сдерживания фриульского нобилитета. После восстания 1511 года венецианское правительство взяло на вооружение политику поддержки крестьянства Фриули (и всей Террафермы) в пику местному дворянству. Эта тактика противовесов породила на свет уникальный для венецианского государственного организма институт — крестьянскую управу (Contadinanza)29. Он был наделен не только фискальными, но и военными функциями: посредством специальных списков осуществлял сбор податей и в то же время организовывал из крестьян местную милицию. Это было самой настоящей пощечиной для фриульских нобилей: в «Уложениях Отечества», глубоко проникнутых феодальным духом (среди прочего там упомянуты наказания, полагающиеся крестьянам, которые дерзают чинить помехи благородному искусству охоты, расставляя ловушки для зайцев или вылавливая по ночам куропаток), имеется статья, озаглавленная «De prohibitione armorum rusticis»*30. Но венецианские власти, сохраняя за крестьянской управой ее специальные функции, последовательно выдвигали ее на роль полномочной представительницы интересов деревенских жителей. Тем самым юридическая фикция, согласно которой парламент являлся представительным органом всего населения, утрачивала в том числе и формальное значение31.
Список мер, предпринятых Венецией в защиту интересов фриульского крестьянства, весьма обширен32. Уже в 1533 году в ответ на петицию, в которой «доверенные лица» из Удине и других мест Фриули и Карнии выражали неудовольствие «непосильным размером арендной платы за землю, каковая вносится в этом нашем Отечестве лицам благородного сословия и другим гражданам светского состояния, а происходит это из-за чрезмерных цен на зерно, сильно возросших за последние годы», — в ответ на эту петицию было дано разрешение оплачивать аренду (за исключением долгосрочной) деньгами, а не натурой, причем на основании единых расценок, установленных раз и навсегда. В условиях быстрого роста цен это явно облегчало положение крестьян. В 1551 году «по прошению крестьянства этого Отечества» все арендные платежи, установленные начиная с 1520 года, были особым декретом снижены на семь процентов — через восемь лет этот декрет был подтвержден и положения его расширены. Затем в 1574 году-венецианские власти предприняли попытку ограничить ростовщичество в деревне, постановив, что «у крестьян этого Отечества запрещается забирать в залог все виды крупного и мелкого скота, пригодные для обработки земли, а также любую хозяйственную утварь, и это запрещение распространяется на всякого заимодавца помимо владельца сказанного имущества». Кроме того, «дабы облегчить бедствующее крестьянство, у которого по алчности заимодавцев и торгующих в рассрочку отбирается урожай еще до обмолота, когда цены на него самые низкие во весь год», постановлялось, что кредиторы могут требовать возвращения долгов только после 15 августа.
Эти послабления, главной целью которых было гасить конфликты, тлеющие во фриульской деревне, устанавливали вместе с тем в обход местного нобилитета отношения объективной солидарности между крестьянами и венецианской властью. С прогрессирующим снижением арендных платежей землевладельцы боролись, пытаясь заменить бессрочную аренду обычной, условия которой были невыгодны для крестьянина33. Эта тенденция, доминировавшая в данный период, встречалась во Фриули с серьезными препятствиями — в первую очередь демографическими. Когда налицо нехватка рабочих рук, землевладельцу трудно рассчитывать на заключение выгодного для него земельного контракта. В течение столетия, с середины XV до середины XVI века либо по причине постоянных эпидемий, либо из-за усиления эмиграционных процессов, прежде всего, в направлении Венеции, численность народонаселения во Фриули уменьшилась34. В донесениях венецианских наместников то и дело говорится о нищете крестьян35. «Я приостановил взыскание всех частных долгов до сбора урожая, — сообщал Даниэле Приули в 1573 году, добавляя, что кредиторы «отбирали у женщин одежду на глазах у их детей и даже запирали перед ними их собственные дома — дело неслыханное и бесчеловечное». Карло Корнер в 1587 году указывал на скудную природу края: земля здесь «малоплодородна, ибо камениста и частично покрыта горами, а также страдает от частых наводнений и сильных гроз, которые здесь также не редкость», — и приходил к такому заключению: «именитые люди не имеют здесь больших богатств, а простой народ, и крестьяне в особенности, бедны до последней крайности». В самом конце века (в 1599 г.) Стефано Варо рисовал картину полного упадка и беспросветного отчаяния: «за несколько прошедших лет сказанное Отечество оскудело до того, что не осталось города, в котором две трети и даже три четверти домов не пребывали бы в разрухе и брошенными; почти половина земель не обрабатывается, что являет вид воистину прежалостный, ибо если дело так пойдет и дальше — в чем сомневаться не приходится, поскольку что ни день отсюда уезжают все больше и больше, — то остаться этим несчастным подданным в полной нищете». В то время, когда упадок Венеции еще едва угадывался36, фриульская экономика уже пребывала в состоянии полного разложения.
8. «Сосут кровь из бедняков»
Но что мог знать простой мельник об этом переплетении политических, социальных и экономических противоречий? Какой образ принимало в его глазах это столкновение могучих сил, которое незримо определяло его существование? Образ, конечно, получался примитивный и упрощенный, но весьма отчетливый. В мире существует много степеней «важности»: есть папа, есть кардиналы, епископы, есть священник в Монтереале; есть император, короли, князья. Но помимо этих иерархических градаций имеется еще одно фундаментальное противопоставление: «бедняков» и «тех, кто на верху», и Меноккио знает, что он принадлежит к числу бедняков. Отчетливо дихотомическая классовая структура, типичная для крестьянского сознания37. Однако в высказываниях Меноккио можно усмотреть и признаки более дифференцированного отношения к власть предержащим. Яростное ниспровержение высших церковных властей — «и еще я думаю про наши порядки, что у нас папа и кардиналы и епископы такие богатые и сильные, что церковь и попы все захватили и сосут кровь из бедняков», — сочетается со значительно более умеренной критикой политической власти. «Я думаю, что венецианские синьоры потворствуют в этом городе ворам: когда пойдешь за покупкой и приценишься, тебе говорят — дукат, хотя цена этому грош». В этих словах чувствуется реакция крестьянина, соприкоснувшегося с чуждой ему реальностью города: между Монтереале или Авиано и таким крупным городом, как Венеция, пролегла целая пропасть. И при этом если папа, кардиналы и епископы прямо обвиняются в том, что «сосут кровь из бедняков», то о «венецианских синьорах» говорится всего лишь, что они «потворствуют в этом городе ворам». Это различие в тоне объясняется чем угодно, только не осторожностью: когда Меноккио произносил эти слова, перед ним восседали не только Аквилейский инквизитор со своим викарием, но и подеста Портогруаро. В глазах Меноккио главным символом угнетения была церковь. Спрашивается, почему?
Объяснение предложил он сам: «церковь и попы все захватили и сосут кровь из бедняков; если берешь в аренду клочок земли, то земля эта — церкви или епископа или кардинала». Как уже говорилось, мы не можем быть уверены, что он имел в виду свои личные обстоятельства. Из кадастра 1596 года, т.е. составленного через двенадцать лет после этих утверждений38, следует, что один из участков, предположительно арендуемых Меноккио, граничил с землями, которые один из местных синьоров, Орацио ди Монтереале, отдавал в аренду серу Джакомо Марньано. Тот же кадастр, однако, указывает на наличие различных земельных участков, находившихся в собственности местных и близлежащих церквей и также отдаваемых в аренду: восемь участков принадлежали церкви Санта Мария, один — церкви Сан Рокко (и та, и другая — монтереальские), один — церкви Санта Мария в Порденоне. И Монтереале, конечно, не был исключением: в конце XVI века во Фриули, как и на прочей венецианской территории, у церкви сохранялись значительные владения39. Там, где они уменьшались количественно, они улучшались и укреплялись качественно. Утверждения Меноккио представляются более чем обоснованными, даже если ему на личном опыте не пришлось сталкиваться с церковной собственностью и жесткими условиями ее аренды (на церковные владения никогда не распространялась политика сдерживания арендных платежей, проводившаяся венецианскими властями). Достаточно было взглянуть вокруг.
И все же какова бы ни была доля церковных владений в Монтереале и окрестностях, этим может объясняться только ожесточенность обвинений Меноккио, но не их обобщенность. Папа, кардиналы и епископы «сосут кровь из бедняков», но, спрашивается, с какой целью и по какому праву? Папа «такой же человек, как мы», за тем исключением, что у него больше власти (он «может приказывать») и, следовательно, он «более важный». Между мирянами и духовенством нет никакой разницы: таинство священства — это «барышничество». Как, впрочем, и все прочие таинства и установления церкви: все это «барышничество», «фальшь», нужные затем, чтобы потуже набить кошельки. Этой колоссальной постройке, скрепленной кровью и потом бедняков, Меноккио противопоставляет иную религию, для которой все равны, ибо дух божий веет, где хочет.
Толчком к осознанию своих прав для Меноккио послужили, следовательно, его размышления о религии. Любой мельник может проповедовать истины веры папе, королю, князю, потому что имеет в себе тот дух, который Господь даровал всем. По той же причине он смеет прямо говорить «о дурных делах тех, кто наверху». К решительному ниспровержению существующих социальных иерархий Меноккио увлекал не только протест против эксплуатации, но и собственно религиозная идеология, утверждавшая присутствие в каждом человеке некоего «духа», которого Меноккио называл то «божьим», то «святым».
9. «Лютеране» и анабаптисты
Кажется очевидным, что за всем этим стоит протестантская Реформация, тот страшный удар, который она нанесла принципу авторитета — не только религиозного, но и общественно-политического. В каких отношениях находился Меноккио со сторонниками Реформации и как понимал их идеи?
«Лютеранин, по-моему, — это тот, кто учит злому и ест скоромное по пятницам и субботам», — так говорил Меноккио судьям, его допрашивавшим. Но судя по всему, он сознательно предложил столь упрощенное и искаженное толкование. Много лет спустя во время второго процесса (в 1599 г.) стало известно, что Меноккио говорил некоему крещеному еврею по имени Симон о лютеранах, которые явятся после его смерти и «заберут его кости». Казалось бы, спорить больше не о чем. На самом деле, это не так. Ниже мы вернемся к вопросу о том, насколько были обоснованы ожидания Меноккио, сейчас же нужно отметить, что термин «лютеранин» встречается здесь в таком контексте, который лишь подтверждает крайнюю смысловую расплывчатость, отличавшую его в данную эпоху. Согласно Симону, Меноккио отрицал какую-либо ценность евангелия, не принимал божественность Христа и восхвалял некую книгу, в которой предположительно опознается Коран. Трудно дальше уйти от Лютера и его учения. Нам снова нужно начинать с нуля и продвигаться вперед с осторожностью, от одного предположения к другому.
Экклезиология Меноккио — назовем ее так — реконструируется на основе его сделанных в Портогруаро показаний с большой определенностью. В сложной панораме религиозных учений того времени она ближе всего напоминает позицию анабаптистов40. Акцент на простоте слова божьего, отказ от культовых изображений, церемоний и таинств, отрицание божественности Христа, сосредоточенность на практической религиозности и на делах благочестия, обличения пауперистского толка, направленные против церковных «роскошеств», веротерпимость — все это прямо перекликается с религиозным радикализмом анабаптистов. Правда, у Меноккио нет высказываний в поддержку крещения взрослых. Но установлено, что и итальянские анабаптисты очень быстро пришли к отрицанию крещения наряду со всеми другими таинствами: они допускали лишь духовное крещение, предполагающее внутреннее возрождение человека. Меноккио, со своей стороны, считал, что крещение вообще не нужно: «я думаю, что все новорожденные принимают крещение — их крестит Бог, который все на земле благословляет...»
Движение анабаптистов, захватив значительную часть северной и центральной Италии и завоевав особенную популярность в Венецианской области, в середине XVI века встретилось с ожесточенным религиозным и политическим преследованием, сигналом к которому послужил донос одного из его вождей, и было разгромлено41. Но некоторые разрозненные группы продолжали свою подпольную деятельность, в том числе и во Фриули42. Не исключено, что анабаптистами были, например, ремесленники из Порчии, попавшие в тюрьму инквизиции в 1557 году: они собирались в доме одного дубильщика и сукновала, где читали Писание и говорили «об обновлении жизни..., о разноречиях евангелий и об очищении от грехов». Как мы убедимся в дальнейшем, Меноккио, который, согласно одному из свидетелей, уже тридцать лет назад вел свои еретические речи, вполне мог находиться в контакте с этой группой.
И все же, несмотря на все эти совпадения во взглядах, не представляется возможным отнести Меноккио к числу анабаптистов. Для анабаптиста были немыслимы те положительные высказывания, которые Меноккио делал о мессе, евхаристии и даже, до определенных пределов, об исповеди. И главное, анабаптист, считавший папу воплощением Антихриста, никогда бы не сказал об индульгенциях то, что сказал Меноккио43: «я думаю, им можно верить, ведь если человек, которого Бог поставил за себя, а именно папа, дарует прощение, то это все равно как будто его дарует Бог, ведь оно дано его управляющим или вроде того». Это материалы первого допроса, проходившего в Портогруаро (28 апреля): поведение Меноккио на нем — независимое, а порой и просто дерзкое, — не позволяет объяснить подобные высказывания осторожностью или расчетом. Кроме того, для анабаптистов с их жесткими сектантскими ограничениями неприемлема та разнородность текстов, на которые Меноккио, в чем мы еще будем иметь возможность убедиться, ссылался как на «источники» своих религиозных идей. Для анабаптистов единственным источником истины было Священное писание, если не просто одно евангелие; как утверждал сукновал, возглавлявший только что упомянутую группу из Порчии, «помимо него не следует верить никакому другому писанию, ибо ни в каком другом писании, кроме евангелия, не содержится ничего, потребного для спасения души»44. Меноккио, напротив того, черпал нужные ему сведения из самых разнохарактерных книг — от «Цветов Библии» до «Декамерона». Иначе говоря, у Меноккио и анабаптистов можно заметить сходные взгляды, но проявляются они в совершенно различных контекстах.
Но если случай Меноккио не удается объяснить конкретным влиянием анабаптизма, может быть подходит более общее объяснение? У Меноккио, похоже, были контакты с «лютеранами» (в то время это название прилагалось ко всем неортодоксальным течениям мысли почти без разбора): так, может, все дело в импульсе, данном ему идеями протестантства?
И это объяснение, однако, не годится. Однажды у инквизитора и Меноккио состоялся весьма любопытный диалог. Инквизитор спросил: «Что вы понимаете под оправданием?» Меноккио, обычно столь охотно излагавший свои «убеждения», на этот раз просто не понял вопроса. Монаху пришлось объяснить ему, «quid sit iustiflcatio»*, и в ответ Меноккио, как мы уже видели, выступил с отрицанием того, что Христос умер во спасение человечества: «если кто-то согрешил, он и должен каяться». Аналогичный случай произошел с «предопределением»: Меноккио не знал, что означает это слово, и только после объяснений инквизитора заметил: «Я не верю, что Бог кого-либо заранее предназначает к вечной жизни». Оправдание и предопределение — две темы, вокруг которых и шел в основном религиозный спор в Италии эпохи Реформации, — не значили ровным счетом ничего для этого фриульского мельника, и это при том, что, как мы убедимся в дальнейшем, он не мог, хотя бы однажды, не встретиться с ними в книгах, которые он читал.
Это тем более примечательно, что даже в Италии интерес к этим темам не ограничивался высшими кругами общества.
Теперь лакей, кухарка и привратник За завтраком жуют свободу воли, А оправданье верой — за обедом.Так писал в середине XVI века поэт-сатирик Пьетро Нелли, иначе прозывавшийся мессером Андреа да Бергамо45. Несколькими годами раньше неаполитанские кожевники, наслушавшись проповедей Бернардино Окино, спорили до хрипоты о посланиях апостола Павла и о предопределении46. Дебаты о том, что важнее, вера или дела, могли давать самые неожиданные отзвуки — вплоть до прошения, которое одна миланская проститутка адресовала городским властям47. Примеры взяты первые попавшиеся, их легко умножить, но им всегда будет присуща одна общая черта: они все имеют отношение к городу48. Это еще одно указание в числе прочих на глубокую пропасть, уже давно разделившую в Италии город и деревню. Анабаптисты, возможно, и попытались бы подчинить своему влиянию деревню, если бы их движение не было быстро подавлено религиозными и политическими репрессиями; несколько десятилетий спустя успешное наступление на деревню провели — под совершенно иными лозунгами — религиозные формирования Контрреформации — иезуиты, в первую голову49.
Отсюда, впрочем, не следует, что в течение XVI века религиозные смуты вовсе обходили итальянскую деревню стороной50. Однако в деревне за тонким поверхностным слоем современных тем и понятий всегда скрывается массивный костяк иной, куда более древней традиции. Что общего с Реформацией имеет космогония, подобная той, что зародилась в голове у Меноккио — первозданный сыр, в котором как черви копошатся ангелы? А высказывания, которые приписывались Меноккио его односельчанами — «все, что мы видим, это Бог, и мы тоже боги», «небо, земля, море, воздух, бездна и ад — все это Бог» — что в них реформационного? Не правильнее ли будет отнести их на счет традиционных крестьянских верований, чье происхождение теряется в глубине веков? Реформация, разбив поверхностное религиозное единомыслие, пробудила их к жизни; Контрреформация в попытке это единомыслие восстановить вывела их на свет прежде, чем окончательно уничтожить.
Если это действительно так, тогда нет нужды искать объяснение радикальным идеям, высказанным Меноккио, ни в анабаптизме, ни в некоем абстрактном «лютеранстве». Мы должны задаться вопросом, не принадлежат ли они вполне независимому течению крестьянского радикализма51, которое много старше Реформации и которое бури этой эпохи лишь вынесли на поверхность52.
10. Мельник, живописец, шут
Инквизиторы не могли поверить, что обычный мельник способен самостоятельно, вне влияний со стороны, прийти к подобным мыслям. У свидетелей допытывались, говорил ли Меноккио «всерьез или в шутку или словно бы повторяя чужие слова», от самого Меноккио добивались имен его «сотоварищей», но не добились ничего. Меноккио, в частности, заявил со всей определенностью: «Я никогда никого не встречал, кто был бы тех же убеждений, что и я; до этих мыслей я дошел своим умом». В этом случае, однако, он не говорил всей правды. В 1598 году дон Оттавио Монтереале (который, напомним, был косвенно причастен к тому, что инквизиция заинтересовалась Меноккио) сообщил, что по его сведениям, «этот Меноккио набрался своих богопротивных мыслей у художника из Порчии по имени Никола», когда тот работал в Монтереале в доме" синьора де Лаццари, родственника дона Оттавио. Имя этого художника упоминалось и во время первого процесса53, причем Меноккио реагировал на него с явным смущением. Сначала Меноккио заявил, что встречался с ним во время великого поста и тот ему сказал, что постится только «из страха» (сам же Меноккио разрешал себя «немного молока, сыру и несколько яиц», оправдываясь своей слабой физической конституцией). И тут же Меноккио начал рассказывать в довольно туманных выражениях о некоей книге, принадлежавшей Николе, явно стараясь увести разговор в сторону. Самого Николу не преминули вызвать в инквизицию, но вскоре отпустили, удовлетворившись похвальными аттестациями, выданными ему двумя священниками из Порчии. И только во время второго процесса прозвучал намек на возможность постороннего влияния на еретические воззрения Меноккио. На допросе 19 июля 1599 года инквизитор спросил Меноккио, с каких пор он стал считать (опираясь, как мы впоследствии увидим, на одну новеллу «Декамерона»), что любой человек может рассчитывать на спасение, если не изменяет своей вере, и поэтому турку нужно оставаться турком и не следует обращаться в христианство. Меноккио ответил: «Я этих мыслей уже пятнадцать или шестнадцать лет — начали мы как-то разговаривать, и дьявол мне это подсказал». «С кем начали разговаривать?» — тут же спросил инквизитор. Только сделав долгую паузу («post longam moram»), Меноккио ответил: «Не знаю».
С кем-то, значит, Меноккио все же беседовал о религии пятнадцать или шестнадцать лет назад — всего вероятнее, в 1583 году, поскольку в начале следующего года он уже сидел в тюрьме. Можно с уверенностью предполагать, что именно у этого человека Меноккио одолжил и саму подозрительную книгу, «Декамерон». Пару недель спустя Меноккио назвал его имя — Никола Мелькиори. Не только совпадение имени, но и совпадение дат (на это обстоятельство инквизиторы не обратили внимание) позволяют отождествить его с Николой из Порчии, о котором в 1584 году Меноккио говорил, что не видел его в течение года.
Дон Оттавио Монтереале был хорошо осведомлен: Меноккио беседовал о религии именно с Николой из Порчии. Мы не знаем, входил ли этот Никола в тот кружок местных мастеровых, которые двадцатью пятью годами раньше собирались для совместного чтения евангелия54. Но в любом случае, несмотря на благоприятные аттестации, добытые им в 1584 году, он уже задолго до этого пользовался славой «отъявленного еретика». Так его назвал в 1571 году порденонский дворянин Фульвио Рорарио55, сообщая о случае восьми- или десятилетней давности: по его словам, Никола «сам рассказывал, как разбил несколько иконок, украшавших церквушку неподалеку от Порчии, и при этом твердил, что они плохо изготовлены и некрасиво смотрятся..., и что это барышничество, что не годится помещать изображения в церкви». Нельзя не вспомнить о Меноккио и его решительном осуждении священных изображений. И это еще не все, чему он научился от Николы из Порчии.
«У Николы, — рассказывал Меноккио генеральному викарию, — была книга, называемая «Замполло», и в ней говорилось об одном шуте, как он умер и попал в ад, но и там продолжал свои штуки; и еще я помню, что там был его кум, а один черт водил дружбу с этим шутом, и кум про это прознал и сказал шуту, чтобы тот притворился сильно больным, и он так и сделал, и тогда черт ему сказал: «Признавайся, что ты задумал, говори правду, потому что и в аду нужно вести себя по правде». Генеральному викарию этот рассказ должен был показаться нагромождением нелепиц: он продолжил допрос, но повернул его к более серьезным темам — например, утверждал ли Меноккио, что все люди обречены попасть в ад, — тем самым упустив весьма важный след. Из книги, одолженной ему Николой из Порчии, Меноккио почерпнул многие излюбленные свои темы и выражения, хотя и принял имя главного персонажа, Занполо, за название.
В этой книге, называвшейся «Сон Каравии»56, венецианский ювелир Алессандро Каравиа вывел в качестве персонажей самого себя и знаменитого буффона Занполо Лиомпарди, своего свояка, незадолго до того умершего в глубокой старости.
Вы Меланхолии мне кажетесь портретом, Написанным отменным живописцем.— с таким словами обращается в начале Занполо к Каравие (которого гравюра на фронтисписе представляет как раз в позе дюреровской «Меланхолии»)57. Каравия пребывает в печали: его удручает зрелище мира, в котором царит несправедливость. Занполо его утешает, напоминая, что жизнь истинная начинается не на земле.
Как мне б хотелось новости узнать О том, что на том свете происходит.— восклицает Каравия. Занполо обещает после смерти исполнить его желание. Такая возможность вскоре предоставляется: большую часть поэмы занимает сон ювелира, в котором ему является его друг-буффон и рассказывает о своем путешествии в рай, где он беседует со св. Петром, и в ад, где он сначала сводит дружбу с дьяволом Фарфарелло, пленив его своими трюками, а затем встречает другого знаменитого буффона, Доменего Тайакальце. Тот советует Занполо прибегнуть к хитрости, чтобы исполнить обещание, данное Каравие:
Я знаю: Фарфарел тебе приятель И он тебя проведать поспешит. Когда же спросит, как тебе живется, И сильно ль припекает, сделай вид, Что мочи нет терпеть. Утешить Тебя захочет, тут ты и проси Желание заветное исполнить.«Тогда я притворился», — рассказывает Занполо, —
Что стражду горькой мукой, И притулился в угол, дожидаясь, Когда наведается бес-приятель.Но уловка не удалась, и Фарфарелло обрушивается на него с упреками:
Обман твой ясен мне. Мне горько, Что ты со мной на хитрости пустился. Ты думаешь, в аду уж места нет Ни дружеству, ни верности, ни правде? Ты ошибаешься…Все же он его прощает и дозволяет явиться к Каравие с докладом. Каравия, пробудившись ото сна, преклоняет колени перед распятием.
Меноккио запомнился призыв черта говорить правду даже в аду, и это, без сомнения, одна из центральных тем «Сна», связанная с критикой лицемерия, в особенности монашеского. «Сон» был опубликован в мае 1541 года, т.е. в то время, когда в Регенсбурге шли переговоры, имевшие целью примирить католиков и протестантов; он является типичным выражением итальянского евангелизма. «Глумство, изличья, шутки и потехи» двух буффонов, Занполо и Тайакальце, которые даже перед престолом Вельзевула пускаются в пляс, «сверкая тугими ягодицами», представляют собой карнавальный фон для обстоятельного разговора на серьезные религиозные темы. Тайакальце в открытую восхваляет Лютера:
И среди них известный Мартин Лютер, Чье имя у германцев всех в почете. Попов он ставит ни во что. К собору Народы громогласно призывает. Во всяком он ученье искушен, Но чистому евангелью привержен. Смутил он многих: тот теперь твердит, Что лишь Христос нам, грешникам, заступа, Другой все упованья возложил На Павла Третьего с Климентом вкупе. Один бранится, лается другой И верит всяк, что лишь соборно, вместе Недоуменья эти разрешим.Лютер достоин одобрения, тем самым, ибо он призывает к созыву собора для наведения порядка в вопросах вероучения, а также учит «чистому евангелью».
Костлявая ко мне явилась, кум, Не во время. Я не успел спознать, Какая вера правильнее в мире И каковой мне надлежит держаться. Всего важнее человеку верить И в вере никогда не колебаться. Евангелья держаться нерушимо, А в остальном о Мартине не печься.Что такое «чистое евангелье», объясняют по очереди Занполо, святой Петр и Тайакальце. Прежде всего, это оправдание верой в жертву Христову:
Чтоб душу христианину спасти, Соблюсть необходимо три условья. Во-первых, Бога почитать душой И веровать Ему непрекословно. Второе, быть в надежде, что Христос Спасенье всем купил своею кровью. И третье: в сердце жар любви иметь И Духом Святым в деле облачаться. Исполнишь все, и ада избежишь.Не нужно, следовательно, никаких теологических премудростей, на которые так охотно пускаются монахи и на которые так падки невежды:
Невежд есть много, что, ученых корча, Священные предметы обсуждают И богословствуют сверх всякой меры, Сбивая паству с правого пути. О предопределении толкуют, О воле, что свободною зовется, Пытают тайны, скрытые от глаз И разума людского. А уж им-то, Чья вся премудрость — «Отче наш» и «Верю», И вовсе непосильные. Дорогу Прямую к небесам искать нет нужды: Евангельем указана она. Куда приглядней было бы монахам, Оставив суемудрие, что с толку Сбивает легковерных простецов, Со словом божиим людей знакомить И только…Отрицание теологических хитросплетений ради простоты истинной религии памятно нам по некоторым высказываниям Меноккио, который, впрочем, утверждал, что не знает слова «предопределение», хотя и встречал его в этой поэме. Еще большее сходство наблюдается между осуждением «законов и повелений церкви» как «барышничества» (этим термином пользовался, как мы видели, также и Никола из Порчии) и инвективой против священников и монахов, которая во «Сне» вложена в уста св. Петра:
Барыш искать приучены повсюду И в смерти даже. Торжище ведут О мертвом теле словно на базаре И мздой не поступаются. А после Глумясь над простаком, с деньгой Последнюю простившимся, утробу Лелеют ненасытную и глотку Луженую. Барышничать пустились И церковью моею, все добро Себе хватая, бедняков в забросе Оставив, службу божью позабыв.Отрицание чистилища58 и, следовательно, какой-либо пользы заупокойных служб, осуждение латинского языка священников и монахов («Они нарочно в церкви говорят Не по-людски, а по-латински»), негодование против «церквей роскошных»59, оговорки в отношении культа святых:
Святые, сын мой, Бога почитали, И мы за то их чтим. Святому Их житию мы если подражаем, То чаем лику их сопричаститься. Но кто о милости их молит, тот И думает, и делает неверно.- и в отношении исповеди:
Тот христианин истинный, кто Богу В душе свершает исповедь своей И ежечасно, а не раз в году, Лишь чтоб не записали в иудеи.— все это, как мы могли убедиться, мотивы, то и дело встречающиеся в признаниях Меноккио. Он читал «Сон Каравии» через сорок с лишним лет после его выхода в свет, и историческая обстановка к тому времени решительным образом изменилась. Собор, который должен был примирить «папистов» и протестантов (раздор между ними Каравия сравнивал с враждой струмьеров и замберланов, двух фриульских партий), был созван, но оказался собором гнева, а не мира. Для людей, близких Каравии по духу, церковь, вырисовывающаяся из тридентских постановлений, ничем не напоминала ту «исправленную» по заветам «чистого евангелия» церковь, о которой они мечтали60. И Меноккио «Сон Каравии» должен был казаться памятником давно минувшей эпохи. Конечно, антиклерикальная и антитеологическая пропаганда оставалась по-прежнему злободневной, но взгляды Меноккио на религию далеко ушли от «Сна» по уровню своего радикализма. Отрицание божественности Христа, критический подход к Священному писанию, неприятие крещения, аттестованного как «барышничество», прославление веротерпимости — всего этого нет и следа в «Сне Каравии». Так, может быть, Меноккио это почерпнул из бесед с Николой из Порчии? Не исключено, особенно в том, что касается веротерпимости, и если верна идентификация Николы из Порчии с Николой Мелькиори. Однако из показаний жителей Монтереале следует, что к своему образу мыслей Меноккио пришел задолго до первого процесса61. Мы, правда, не знаем, к какому времени восходит его знакомство с Николой, но упорство Меноккио в отстаивании своих идей не вяжется с образом пассивного ученика.
11. «До этих мыслей я дошел своим умом»
«Хотите я покажу вам путь истины? Делайте добро и идите по пути, указанному предшественниками, и это то, чему учит святая наша мать церковь» — с такими словами, как утверждал Меноккио (и при этом, скорее всего, говорил неправду), он обращался к односельчанам. На самом деле, Меноккио призывал к прямо противоположному — уклоняться от веры предков и сомневаться в том, что священник возглашает с амвона. Так долго (судя по всему, около тридцати лет) сохранять верность этой неординарной позиции — сначала в маленьком мирке Монтереале, затем перед лицом инквизиционного суда — было возможно лишь для человека, наделенного совершенно исключительными интеллектуальными и моральными качествами. Ни ропот родных и знакомых, ни упреки священника, ни угрозы инквизитора — ничто не могло поколебать Меноккио. Но что давало ему такую стойкость? Ради чего он произносил свои речи?
В начале процесса он попытался объяснить свои идеи дьявольским внушением: «Но это мной говорилось во искушение..., это во мне говорил нечистый дух, он принуждал меня так думать». Но уже к концу первого допроса в его позиции наметились изменения: «Все, что я говорил или по божьему внушению или по дьявольскому...» Две недели спустя он привел другое объяснение: «Это было мне искушение от дьявола или от кого-нибудь там еще». Чуть позже он уточнил, что скрывается под этим «еще», его преследовавшим и искушавшим: «до этих мыслей я дошел своим умом». И от этого утверждения он уже не отступал в течение всего процесса. Даже решив умолять судей о снисхождении, он все свои грехи объяснял тем обстоятельством, что он «не без смысла в голове».
Меноккио не ссылался на откровения, ему ниспосланные. Главной его опорой была его собственная способность суждения. Одно это уже резко выделяло его на фоне тех вещунов, духовидцев, бродячих проповедников, которые на рубеже XV—XVI веков оглашали неясными пророчествами площади итальянских городов62. Еще в 1550 году бывший бенедиктинский монах Джорджо Сикуло пытался довести до сведения собравшихся в Тренто церковных иерархов те истины, которые открыл ему, явившись «собственной персоной», Христос. Но Тридентский собор* уже двадцать лет как завершился, церковь вынесла свой окончательный вердикт, добрым христианам было указано, во что им следует веровать. А этот мельник из забытой Богом фриульской деревушки продолжал раздумывать о «высоком», продолжал противопоставлять свои мысли о вере постановлениям церкви: «я думаю так..., я тех мыслей, что...»
Но помимо своей головы были еще и книги. «Сон Каравии» — не исключение. «Будучи много раз на исповеди у священника из Барчиса, — заявил Меноккио на первом допросе, — я спрашивал его: как это возможно, что Иисус Христос был зачат от Духа Святого и рожден Девой Марией, и говорил, что я в это верю, но дьявол иногда наводит на меня сомнения». Дьявольское искушение как причина сомнений — в начале процесса Меноккио еще пытался осторожничать; он тут же, однако, указал на другой источник своих идей. «Эти мои мысли у меня возникали, потому что я никогда не слышал о таком девственном рождении; и так как я читал, что Преславная Дева была женой святого Иосифа, я думал, что наш Господь Иисус Христос был сыном святого Иосифа, потому что я читал, что святой Иосиф называл нашего Господа Иисуса Христа своим сыном, и читал я это в книге под названием «Цветы Библии». Это пример, взятый наудачу: Меноккио часто ссылался на ту или иную книгу как на источник (в данном случае, не единственный) своих «мыслей». Так что же он читал?
12. Книги
К сожалению, полным списком прочитанных им книг мы не располагаем. После ареста генеральный викарий распорядился провести у него дома обыск: книги там были найдены, но так как среди них не оказалось ни запрещенных, ни подозрительных, опись их не велась63. Приблизительную и неполную картину круга чтения Меноккио можно составить лишь на основании его собственных показаний. Во время процесса он упоминал следующие книги:
1. «Библия на народном языке», «с буквами по большей части красными» (издание не разыскано)64;
2. «Цветы Библии» (речь идет о переводе средневековой каталанской хроники, материал которой взят из самых разнообразных источников: кроме «Вульгаты», это и «Хроника» Исидора Севильского, и «Светильник» Гонория Августодунского, и несколько апокрифических евангелий; данный памятник сохранился в большом количестве рукописей XIV—XV веков, известны также не менее двадцати его изданий, выходивших — вплоть до середины XVI века — под разными названиями: «Цветы Библии», «Цветы, собранные со всей Библии», «Новые цветы»)65;
3. «Светильник (или «Розарий»?) Богоматери» (предположительно идентифицируется с «Розарием преславной Девы Марии» доминиканца Альберто да Кастелло, также в течение XVI века выдержавшим много изданий)66;
4. «Лючендарий (вместо «Легендария») святых» (это перевод знаменитой «Золотой легенды» Иакова Ворагинского: перевод, редактором которого значится Никколо Малерми, вышел под названием «Легендарий житий всех святых»)67;
5. «История Страшного Суда» (анонимная поэма XV века в октавах, известна в нескольких редакциях, сильно различающихся по объему)68;
6. «Кавалер Зуанне де Мандавилла» (итальянский перевод знаменитой книги путешествий, появившейся в середине XIV века под баснословным именем сэра Джона Мандевиля; перевод несколько раз издавался в XVI веке)69;
7. «Книга, называемая «Замполло» (т.е. «Сон Каравии», опубликованный в Венеции в 1541 году)70. Этот список можно дополнить книгами, упомянутыми во время второго процесса:
8. «Прибавление к хроникам» (перевод на народный язык хроники, составленной в конце XV века бергамасским августинцем Якопо Филиппо Форести; под названием «Прибавление к прибавлениям к хроникам» печаталось вплоть до конца XVI века)71;
9. «Месяцеслов, исчисленный применительно к Италии почтеннейшим доктором Марино Камилло де Леонардисом в городе Пезаро» (этот «месяцеслов» также известен во множестве переизданий)72;
10. «Декамерон» Боккаччо, нецензурованное издание73;
11. Книга, не поддающаяся точной идентификации; один из свидетелей считал ее Кораном (Коран был в 1547 году издан в Венеции в переводе на итальянский)74.
13. Сельские читатели
Для начала посмотрим, как эти книги попали к Меноккио.
Единственная, о которой наверняка известно, что она была куплена, — это «Цветы Библии». «Я ее купил в Венеции за два сольдо», — говорил Меноккио. О происхождении трех других — «Истории Страшного Суда», «Месяцеслова» и гипотетического Корана — не известно ничего. «Прибавление» Форести Меноккио получил в подарок от Томазо Меро из Мальминса. Все остальные — шесть из одиннадцати, больше половины, — одолжил. Знаменательный факт, указывающий на наличие в этой крошечной общине целой группы читателей: камень преткновения в виде своих скудных финансовых возможностей они обходили, передавая книги друг другу. Так, «Светильник (или «Розарий») Богоматери» Меноккио получил от одной женщины, Анны де Чекко, пока отбывал срок своего изгнания в Арбе в 1564 году. Ее сын, Джорджо Капель, вызванный в качестве свидетеля (мать к тому времени умерла), сообщил, что у него осталась одна книга — «Жития святых»; остальные забрал арбский священник и вернул потом только две или три, заявив, что остальные «решено сжечь» (решено инквизиторами, надо полагать). Библия досталась Меноккио от его дяди Доменико Джербаса вместе с «Легендарием святых». «Легендарий» «вымок и изорвался». Библия же перешла в собственность Бастиана Сканделлы, двоюродного брата Меноккио, и Меноккио неоднократно ее у него одалживал. За полгода до начала процесса, однако, жена Бастиана, Фьора, сожгла ее в печке; «большой грех — жечь такую книгу», заметил Меноккио. «Мандавилла» была получена Меноккио за пять или шесть лет до процесса от Андреа Бионима, монтереальского капеллана, который случайно нашел эту книгу в Маниаго, разбирая какие-то нотариальные акты. (Сам Бионима, однако, благоразумно уточнил, что книгу передал Меноккио не он, а Винченцо Ломбардо, который, «зная немного грамоты», взял ее у него дома). Владельцем «Сна Каравии» был Никола из Порчии — быть может, одно лицо с тем Николой Мелькиори, от которого через посредство Лунардо делла Минусса из Монтереале Меноккио получил «Декамерон». Что же касается «Цветов Библии», то Меноккио в свою очередь одолжил их одному молодому человеку из Барчиса, Тита Корадина, но тот (по его словам) прочел только одну страницу: священник объяснил ему, что это книга запрещенная, и он ее сжег.
Довольно активный книгообмен, и затрагивает он не только духовных лиц (как можно было бы предполагать), но даже женщин. Известно, что в Удине с начала XVI века действовала школа под руководством Джероламо Амазео, где «научались грамоте все, без какого-либо различия лиц: дети горожан наравне с детьми подмастерьев, малые и вошедшие в возраст, и ни с кого не взималась никакая плата»75. Начальные школы, где обучали даже начаткам латыни, имелись также и неподалеку от Монтереале, в Авиано и Порденоне76. И все равно нельзя не удивляться, что в маленьком, затерянном среди холмов селении столько читали77. К сожалению, не всегда нам известен социальный статус этих читателей. О художнике Николе из Порчии уже говорилось. Бастиан Сканделла, двоюродный брат Меноккио, значится в уже упоминавшемся кадастре 1596 года в качестве владельца (но неизвестно, на каких правах) нескольких участков земли; в том же году он был подестой Монтереале. Но все остальные — имена и только. Тем не менее очевидно, что для них книга составляла привычную часть обихода; книга — это предмет частого употребления, к ней относились без излишнего почтения, она могла вымокнуть и порваться. При этом обращает на себя внимание возмущенная реакция Меноккио на сожжение Библии (которую отправили в печь явно, чтобы она не попалась на глаза дознавателям из инквизиции): несмотря на ироническое сравнение с «книгами о сражениях», Писание представлялось ему книгой, отличной от других, ибо содержало в ядре своем слово Божие.
14. Печатное слово и «вздорные мысли»
Анализируя книжный список Меноккио, нужно иметь в виду то обстоятельство, что больше половины книг, упомянутых Меноккио, ему не принадлежало. Лишь в случае «Цветов Библии» мы можем уверенно предполагать сознательный читательский выбор — предпочтение, оказанное именно этой книге среди многих других, выставленных на продажу неизвестным венецианским книготорговцем. Показательно, что «Цветы», как мы убедимся в дальнейшем, служили Меноккио в качестве livre de chevet*. И наоборот, чистая игра случая причиной того, что «Мандавилла» оказалась в руках падре Андреа Бионимы, рывшегося в маниагских нотариальных актах; Меноккио же ее выпросил просто из любви к чтению, а не потому что она чем-то его заинтересовала. Так же обстоит дело, по-видимому, и с остальными книгами, одолженными им у односельчан. Список, нами составленный, включает преимущественно те книги, которые Меноккио были доступны, а не те, которые он выбрал бы сам и которые предпочитал другим.
Кроме того, список неполон. Этим объясняется, в частности, перевес религиозной литературы; шесть книг из одиннадцати, больше половины. Это понятно: во время двух своих процессов Меноккио ссылался, главным образом, на этот тип литературы — для подкрепления своих идей. Не исключено, что список всего, что у него было и что он читал, был бы более разнообразен: он мог бы включать какие-нибудь образцы тех «книг о сражениях», с которыми он довольно двусмысленно сопоставил Священное писание, — например, «Книгу, в которой говорится о сражениях, прозываемую Фиораванте» (Венеция, 1506) или что-нибудь в этом роде. Но даже этот список при всей его неполноте и односторонности позволяет прийти к некоторым выводам. Рядом со Священным писанием мы находим в нем благочестивую литературу, вариации на библейские темы в стихах и прозе, жития святых, месяцеслов, комическую поэму, рассказ о путешествиях, хронику, сборник новелл («Декамерон»): все это тексты на народном языке (как уже было сказано, Меноккио из латыни знал только то, что сумел усвоить, прислуживая при отправлении мессы)78, двух-трех вековой давности, и пользовавшиеся большой популярностью у самых разных слоев населения79. Книги Форести и Мандевиля, к примеру, имелись в библиотеке другого «неуча», т.е. человека, не владевшего латынью, — Леонардо да Винчи80. А «История Страшного суда» фигурирует среди книг известного естествоиспытателя Улиссе Альдрованди (у которого тоже, кстати, были неприятности с инквизицией из-за того, что в молодости он поддерживал отношения с лицами, известными своими еретическими взглядами)81. Явно выделяется в списке Коран (если только он действительно имелся у Меноккио): это особый случай, и мы рассмотрим его позже. В остальном никаких неожиданностей: в библиотеке Меноккио нет ничего, что могло бы пролить свет на то, каким образом он пришел к выработке своих — по определению односельчанина — «затейливых мнений».
15. Тупик?
Итак, перед нами очередной тупик. Вначале, после знакомства с экстравагантной космогонией Меноккио у нас, как и у генерального викария, возникло подозрение, не бред ли это сумасшедшего. Отклонив эту мысль, мы обратились к разбору экклезиологии Меноккио и тогда родилась другая гипотеза: о связях его с движением анабаптистов. Отбросив и ее, мы занялись вопросом об отношении Меноккио, именовавшего себя «лютеранским» мучеником, к Реформации. Выдвинули предположение, что в случае с Меноккио речь идет о традиции крестьянского радикализма, пробужденного к жизни Реформацией, однако этому предположению явно противоречит список прочитанных им книг, реконструируемый на основе материалов процесса. Можно ли считать репрезентативной столь необычную фигуру — мельника, жившего в XVI веке и умевшего читать и писать? И репрезентативной в отношении чего? уж конечно, не в отношении крестьянской культуры, если сам Меноккио указывал на книгу как на источник своих идей. Запутавшись в этом лабиринте, мы фактически вернулись к отправному пункту.
Почти вернулись. Мы видели, что за книги читал Меноккио. Теперь надо выяснить, как он их читал82.
Последовательно сопоставляя тексты из книг, упомянутых Меноккио, с выводами, которые он из них извлек (или с которыми он познакомил своих судей), мы наталкиваемся на зияние, на расхождение, иногда весьма значительное. Рассматривать эти книги в качестве «источников» в буквальном смысле слова невозможно: этому препятствует ярко выраженная самобытность их восприятия Меноккио-читателем. Куда большее значение, чем текст, имеет ключ к тексту, особая оптика, посредством которой печатное слово доходило до сознания Меноккио: оптика, благодаря которой высвечивались одни части текста и затемнялись другие, представали в преувеличенном виде значения вырванных из контекста слов, — оптика, которая воздействовала даже на память Меноккио, деформируя отложившиеся в ней сведения. И эта оптика, этот ключ к тексту неизбежно отсылают к иной культуре, не к той, что запечатлелась в печатной странице — к культуре устной.
Это не значит, что чтение являлось для Меноккио чем-то чисто формальным, простым предлогом. Он сам заявил, как мы увидим ниже, что по крайней мере одна книга глубоко его взволновала и побудила к новым размышлениям. Именно в столкновении печатного слова и устной культуры, носителем которой был Меноккио, рождались стимулы, побуждавшие Меноккио формулировать — сначала для себя, потом для односельчан, наконец, перед судьями — мысли, до которых он «дошел своим умом».
16. Храм девственниц
Для иллюстрации того, чем был для Меноккио процесс чтения, приведем несколько примеров возрастающей сложности. На первом допросе он сказал, что Христос был такой же человек, как другие, и имел, как другие, родителей, пояснив, что Мария, его мать, «звалась Девой, поскольку родилась в храме девственниц: это был храм, где воспитывались двенадцать девственниц, а когда они подрастали, их выдавали замуж, а прочитал я об этом в книге, называемой «Светильник Богоматери». Этой книгой, которую в другой раз Меноккио назвал «Розарием», был, по всей вероятности, «Розарий преславной Девы Марии» доминиканца Альберто да Кастелло. Меноккио мог прочесть в ней следующее: «И зрит здесь благочестивый читатель, как св. Иоаким и св. Анна, принеся дары Богу и священнослужителю, оставили свою сладчайшую дщерь в храме Божием, дабы возрастала она там с другими чистыми девами, посвященными Богу. И в месте сем она пребывала в мыслях о Боге и в созерцании небесных таинств, и посещали ее ангелы, воздавая ей честь как своей царице и повелительнице, и молитва всегда была на устах ее»83.
Может быть, Меноккио потому особенно запомнился этот отрывок из «Розария», что он много раз мог видеть на стенах монтереальской церкви Сан Рокко, расписанных Кальдерари, учеником Порденоне, фрески, изображающие Деву Марию во храме и Иосифа с другими женихами84. Так или иначе, не изменяя букве текста, он совершенно исказил его дух. В книге явления ангелов Марии отделяют ее от подруг, окружая мистической аурой. В пересказе Меноккио основной акцент падает, напротив того, на присутствие «других девственниц»: тем самым находит простое объяснение эпитет, прилагаемый к Марии, и сама она приравнивается к своим подругам. Деталь выдвигается в центр рассказа, меняя весь его смысл.
17. Похороны Мадонны
В конце допроса, состоявшегося 28 апреля, уже высказав без всяких обиняков свои обвинения в адрес церкви, священнослужителей, таинств и церковных церемоний, Меноккио заявил в ответ на вопрос инквизитора: «Я думаю, что на этом свете императрица главнее мадонны, но на том — главнее мадонна, потому что там мы невидимы». Свой вопрос инквизитор задал, опираясь на показания одного свидетеля, истинность которых Меноккио подтвердил ничтоже сумняшеся. «Да, синьор, это так и есть, я говорил, когда приезжала императрица, что она главнее мадонны, но только на этом свете; и в той книге о мадонне говорится, что ей не оказывали никаких почестей, и наоборот, когда ее хоронили, нашелся один, который хотел ее осрамить: он хотел отнять ее тело у апостолов, но руки его присохли, и об этом говорится в житии мадонны».
Что за книгу имел в виду Меноккио? Выражение «книга мадонны» наводит на мысль, что речь вновь идет о «Розарии преславной Девы Марии», но там ничего похожего нет. Источник надо искать в другой книге, прочитанной Меноккио, — в «Легендарии всех святых» Иакова Ворагинского, в главе «Об успении блаженной Девы Марии», которая восходит к апокрифу, приписываемому Иоанну Евангелисту. Вот как описывается здесь погребение Девы Марии:
«И с апостолами вкупе пели ангелы и возглашали по всей земле славу предивному ее житию. Пробудились все при звуках этого сладчайшего пения и вышли из города и спрашивали усердно, что происходит. И сказал некто: «Это ученики хоронят новопреставленную Марию и поют те песнопения, что вы слышите». Тогда все схватились за оружие и говорили друг другу: «Идемте, убьем всех учеников и пожжем огнем тело, которое выносило того искусителя». А первосвященник, увидев все это, разъярился и сказал во гневе: «Вот сосуд, из которого изошел тот, кто смущал нас и малых сих, и какая честь ему воздается». И сказав так, возложил руку на одр, желая сбросить на землю и его и тело на нем, но руки, лишь коснувшись одра, тут же отсохли и приросли к одру, и от таковой муки он криком вскричал, остальной же народ был поражен слепотой ангелами, которых скрывало облако. И тогда первосвященник взмолился, говоря такие слова: «Молю тебя, святой Петр, не оставь меня в моих мучениях, но заступись за меня перед Господом, вспомни, как я за тебя заступился, когда обвиняла тебя раба придверница». На что Петр так отвечал: «Нынче мы погребаем Госпожу нашу и лечить тебя нам недосужно. Но ежели ты уверуешь в Господа Иисуса и в ту, которая его носила в чреве своем, то здоровье твое возвратится к тебе». И тот ответил: «Я верую, что Господь Иисус есть воистину Сын Божий, а Мария — святейшая матерь Его». И тут же руки его отстали от одра, но сухота в них осталась и великая боль не унялась. Тогда сказал Петр: «Поцелуй одр и скажи: верую в Господа Бога Христа, которого ты носила в чреве и не нарушила девство, породив его». И когда тот сказал так, стал здоров, как прежде...»85
Для автора «Легендария» главным в рассказе о попытке поругания первосвященником тела Богоматери является чудесное исцеление, и весь рассказ тем самым превращается в прославление Марии как приснодевы и матери Христа. Меноккио же рассказ о чуде не занимает совсем и точно так же — тема девственности Марии, в отрицании которой он упорствовал. Единственное, на что он обращает внимание, это жест первосвященника — «непочтение», оказанное Марии во время похорон, как доказательство ее низкого положения. Память Меноккио действует как фильтр: пройдя сквозь него, рассказ Иакова Ворагинского превращается в свою противоположность.
18. Отец Христа
Отсылку к рассказу из «Легендария» можно считать почти случайной. Совсем другое дело — отсылка (которую мы уже упоминали) к «Цветам Библии». Мы помним, как на первом допросе Меноккио утверждал, что не верит в девственное рождение Христа от Духа Святого, ибо «никогда не слышал о таком девственном рождении» и к тому же, прочитав в книге, именуемой «Цветы Библии», что «святой Иосиф называл нашего Господа Иисуса Христа своим сыном», полагал, что Христос был сыном Иосифа. Действительно, в главе CLXVI «Цветов Библии», озаглавленной «Как Иисус ходил в школу», есть такой рассказ: Иисус проклял учителя, давшего ему пощечину, тот умер на месте, и Иосиф, узнав об этом от разгневанных свидетелей, сказал: «Видишь, сынок, сколько людей теперь нас ненавидят?»86 «Сынок», — но в конце предыдущей главы («Как Иисус, играя с другими детьми, воскресил умершего мальчика»), на той же странице Меноккио мог прочитать, что ответила Мария женщине, спросившей ее, чей Христос сын. «Он мой сын, но отец его — Бог».
Восприятие книжного текста было у Меноккио односторонним и произвольным: он как будто лишь искал подтверждения своим уже прочно укоренившимся идеям и убеждениям. В данном случае убеждению в том, что «Христос был такой же человек, как и все мы». Глупо верить в то, что он родился от девы, в то, что он умер на кресте: «Если он был Бог, зачем он дал себя схватить и повесить?»
19. Судный день
Нет ничего удивительного в том, что Меноккио обращается к таким текстам, как «Легендарий» или «Цветы Библии», — восходящим к апокрифическим евангелиям. Противопоставив предельную простоту слова Божия — «два слова» — бесстыдному словообилию Писания, Меноккио подорвал само понятие апокрифа. Апокрифические и канонические евангелия оказывались приравнены друг к другу как произведения человеческого пера и рассудка. В то же время Меноккио в ходе допросов весьма редко ссылался на Библию, притом что показания жителей Монтереале позволяли предполагать, что таких ссылок будет немало («всегда он спорит то с тем, то с другим, и у него есть Библия на нашем языке, и он все из нее берет»). Возникает впечатление, что пересказы Писания вроде «Цветов Библии» интересовали его больше, чем сама Библия в переводе на народный язык. Так, 8 марта, отвечая генеральному викарию, Меноккио воскликнул: «Любить ближнего — это более великая заповедь, чем любить Бога!» У этого утверждения также имеется источник, на который Меноккио немедленно сослался: «Я читал в «Истории Страшного Суда», что, когда наступит судный день, Бог скажет ангелу: «Ты плохой, ты не сделал мне никакого добра», — а ангел ответит: «Господи, как же я мог сделать тебе добро, если я тебя никогда не видел?» — «Я хотел есть, а ты меня не накормил, я хотел пить, а ты меня не напоил, я был наг, а ты не покрыл моей наготы, я был в тюрьме, а ты не пришел меня навестить». — И я думал, что Бог и есть тот ближний, потому что он сказал: «тот бедняк был я».
Вот соответствующее место из «Истории Страшного Суда»:
О вы, избранные Отцом моим, Я вас зову со мною в царство славы. Голодного меня вы накормили, Холодного — согрели, а когда В темнице одинокий я томился, Меня вы навещали, и в болезни Не бросили, а смерть когда пришла, То в путь последний скорбно проводили. Они, услышав это, возликуют, Но спросят Иисуса в изумленьи; «Когда такое было, что тебя Мы насыщали в голоде, в болезни — Ходили за тобою, одевали - Лишенного одежды, утешали — В темницу заключенного, и смертью Похищенного — честно хоронили?» Христос ответит с радостью во взоре: «Тот нищий, что пришел к вам на крыльцо И именем Моим к вам обратился, От голода страдая и от стужи, Он не был вами изгнан и избит, Но от достатка вашего накормлен. Бедняк тот, получивший подаянье Любви Христовой ради, это — я». Тогда восплачут ставшие ошую, Но Бог с великим гневом их прогонит, Сказав: «Вас судьбы ждут другие — Идите в ад на вечную погибель. Меня вы не поили, не кормили, От вас добра вовек никто не видел. И потому гореть вам в преисподней И мучаться непреходящей мукой». Ответит тот народ, охвачен скорбью; «Тебя мы, Боже, сроду не видали, Не знали, что Ты голоден и жаждешь, Что Ты в темнице страждешь горькой мукой» И скажет им Христос в сиянье славы: «Когда с порога бедняка вы гнали - Меня вы гнали, и когда убогих Вы не жалели — мучили меня»87.Легко заметить, что эти топорные октавы восходят к евангелию от Матфея (XXV, 41–46), но Меноккио предпочитает ссылаться на них, а не на библейский текст. И здесь, как и в предыдущих случаях, он не столько опирается на книжный источник, сколько от него отталкивается, и это при том, что текст источника воспроизводится довольно точно, если исключить забавную ошибку, в результате которой место грешников занял ангел. Но если раньше, чтобы переосмыслить текст, достаточно было сделать в нем пропуск, то здесь мы встречаемся с более сложной операцией. Меноккио отходит от текста — кажется, что на один шаг, на самом деле, бесконечно далеко: если Бог — это наш ближний («потому что он сказал: «тот бедняк был я»), то главное это любить ближнего, а не любить Бога. Перед нами умозаключение, доводящее до крайних пределов то стремление к практической, деятельной религиозности, которое было свойственно всем итальянским еретическим движениям данного периода. Анабаптистский епископ Бенедетто д'Азоло, например, проповедовал веру в «единого Бога, в единого Иисуса Христа, Господа нашего и заступника» и учил любви к ближнему: «когда придет день Суда, нас спросят о том и только о том, накормили ли мы голодных, напоили ли жаждущих, одели ли нагих, утешили ли болящих, приветили ли странствующих... — в этом и состоит любовь»88. Но Меноккио не ограничивался ролью пассивного слушателя такого рода проповедей (если — что возможно — они достигали его ушей). В его высказываниях проявляется, пусть всего лишь в виде тенденции, стремление полностью отождествить религию и мораль. Прибегнув к удивительной и, как обычно, насыщенной конкретными образами аргументации, Меноккио объяснял инквизитору, что в богохульстве нет греха: потому что оно «причиняет зло только тебе, а не ближнему твоему, как если бы был у меня плащ и я его разодрал, то причинил бы зло только себе и никому другому, а кто не делает зла ближнему своему, тот не грешит; все мы — сыновья Божии, если не делаем зла друг другу, наподобие того, как если бы у одного отца было несколько сыновей и один бы проклял своего отца, то отец его простил бы, но если один сын разобьет голову другому, то его не прощают, а наказывают; вот поэтому я сказал, что богохульство — это не грех, потому что никому не делает зла». Итак, кто не причиняет зла другому, тот не совершает греха; отношения с Богом менее важны, чем отношения с людьми. Но если Бог — это ближний, зачем он вообще нужен?
Меноккио не сделал этого последнего шага — шага, который привел бы его к уже совершенно безрелигиозному идеалу справедливого человеческого общежития. Для него любовь к ближнему оставалась религиозной заповедью, вернее, самой сутью религии. Вообще абсолютной последовательностью его идеи не отличались (также и поэтому о его попытках свести религию к морали можно говорить только как о некоторой тенденции). Обращаясь к односельчанам, он говорил (если верить показаниям Бартоломео д'Андреа): «я учу вас не делать зла, не берите пожитков ближнего вашего, и это то добро, которое вы можете сделать». Но на происходившем 1 мая допросе, отвечая инквизитору, спросившему, какими «богоугодными делами» можно заслужить место в раю, Меноккио — который, если уж быть точным, говорил только о «добрых делах» — заявил следующее: «надо любить Бога, почитать его, поклоняться ему, благодарить его; еще надо иметь в себе любовь, милосердие, негневливость, приветливость, честность; не противиться гонителям, прощать обиды, исполнять обещанное; делая все это, попадешь на небеса, и другого делать не надо». Здесь обязанности в отношении ближнего поставлены в один ряд с обязанностями по отношению к Богу и полностью к ним приравнены. Но приведенный тут же список «злых дел» («красть, убивать, давать деньги в рост, насильничать, жить в беспутстве, творить непотребства и смертоубийства — таковы семь дел, которые противны Богу, но совершаются на мирскую потребу и угодны дьяволу») основывается исключительно на отношениях между людьми, на стремлении человека взять верх над другими. Упрощенная религия Меноккио («делая все это, попадешь на небеса, и другого делать не надо») пришлась инквизитору не по нраву. «Каковы заповеди Господни?». «Я думаю, — ответил Меноккио, — те, что я сказал». «А славить имя Божие, почитать праздники — это не заповеди Господни?». «Этого я не знаю».
Евангелие, сведенное к нескольким простым и ясным предписаниям — именно на этой основе обычно строятся заключения, подобные тем, к которым пришел Меноккио. Опасность такого рода выводов с исключительной ясностью была прочувствована полувеком раньше в одном из наиболее значительных произведений итальянского евангелизма: называется оно «Почему надо прощать» и было издано в Венеции анонимно89. Его автор, Туллио Криспольди, верный сподвижник известного веронского епископа Джан Маттео Джиберти, комментируя его проповеди, приводит самые разнообразные доводы для доказательства того, что суть христианства состоит в «законе прощения»: надо простить ближнего своего, чтобы получить прощение от Бога. Он не скрывал, однако, что «закон прощения» может быть понят в чисто человеческом плане и почитание Бога окажется тогда в «опасности». «Это средство так могущественно и так доступно, что Бог, установив этот закон, подверг опасности всю насажденную им веру: ибо можно подумать, что этот закон учрежден самими людьми ради блага людей, ведь им провозглашается, что Бог не будет взирать на обиды, ему нанесенные, сколь бы они ни были многочисленны, если мы будем прощать и любить друг друга. И нет сомнения, что если бы прощающим не даровалось очищение от грехов, всякий мог бы считать этот закон идущим не от Бога для исправления человеков, а придуманным людьми, которые ради сохранения мира готовы забыть о преступлениях и грехах, совершающихся потаенно или по взаимному согласию или так, что спокойствие не нарушается. И только увидевши, что прощающим во имя Божье даруется Богом все по их желанию, что в таковых пробуждается ревность к добрым делам и ненависть к злым, люди убеждаются в великой милости Божией»90.
Основное ядро Христовой проповеди («закон прощения») может быть сдвинуто в область чисто человеческих, политических установлений — этому препятствуют только сверхъестественные силы в лице благодати божией. Возможность такой сугубо светской интерпретации религии учитывается автором книжицы. Он знаком с ее наиболее последовательной версией, предложенной Макьявелли (и отчасти находится под ее влиянием): причем он совершенно не затронут традицией примитивного понимания Макьявелли и видит в нем не теоретика religio instrumentum regnum*, а прежде всего автора «Рассуждений», которому религия представляется мощным фактором политического объединения91. Но в процитированном отрывке спор идет не столько с беспристрастным взглядом на религию извне, сколько с подрывом ее основ изнутри. Опасение, высказанное Криспольди (и заключающееся в том, что «закон прощения» может быть понят как закон, учрежденный «самими людьми ради блага людей, ведь им провозглашается, что Бог не будет взирать на обиды, ему нанесенные, сколь бы они ни были многочисленны, если мы будем прощать и любить друг друга»), перекликается почти дословно с тем, что Меноккио говорил инквизитору: «кто не делает зла ближнему своему, тот не грешит; все мы — сыновья Божий, если не делаем зла друг другу, наподобие того, как если бы у одного отца было несколько сыновей и один бы проклял своего отца, то отец его простил бы, но если один сын разобьет голову другому, то его не прощают, а наказывают».
Разумеется, нет никаких оснований предполагать, что Меноккио был знаком с книгой «Почему надо прощать». Все дело в том, что в Италии XVI века существовало, охватывая самые разнообразные социальные круги, течение мысли, стремившееся свести религию к чисто земному феномену, к системе моральных или политических установлений — на сам этот факт очень точно указал Криспольди. Это течение отправлялось от различных предпосылок и находило самые разные способы выражения. Однако и в данном случае не исключена частичная конвергенция между сферой высокой культуры и радикалистскими народными движениями.
Если мы вернемся теперь к неуклюжим строфам «Истории Страшного Суда», ссылкой на которые Меноккио подкреплял свои утверждения («Любить ближнего — это более великая заповедь, чем любить Бога!»), то легко заметить, что и в данном случае ключ, прикладываемый к тексту, важнее самого текста. Текст помогал идеям Меноккио рождаться на свет, но корни их залегали много глубже.
20. Мандавилла
И все же некоторые тексты для Меноккио значили, действительно, много: в первую очередь, по его собственному признанию, «Кавалер Зуанне де Мандавилла», то есть «Путешествия сэра Джона Мандевиля». Как только в Портогруаро вновь открылся инквизиционный процесс, судьи обратились к Меноккио с увещеванием «назвать всех своих соумышленников», угрожая в противном случае «прибегнуть к более строгим мерам, ибо св. Инквизиции представляется неимоверным, что он, не имея товарищей, умыслил таковое». «Господин, я никогда и никого не поучал, — последовал ответ, — и никогда в этих моих мнениях не имел сотоварищей, а все, что я говорил, я брал из книги, мной прочитанной, по названию «Мандавилла». Еще более определенно он высказался в письме, направленном судьям из тюрьмы: здесь он, как мы увидим, в списке причин своих заблуждений поставил на второе место чтение «этой книги Мандавилла, где говорится о разных народах и разных верах, и она всего меня измучила». Что было причиной этой «муки», этого душевного волнения? Вопрос, на который нельзя ответить, не ознакомившись предварительно с содержанием самой этой книги.
Французский оригинал «Путешествий», приписанных мифическому сэру Джону Мандевилю, появился на свет, по всей видимости, в середине XIV века в Льеже и представлял собой компиляцию из географических текстов и из средневековых энциклопедий, подобных энциклопедии Винцента из Бове. Получив поначалу распространение в большом количестве списков, книга затем неоднократно издавалась в переводе на основные европейские языки и на латынь.
«Путешествия» состоят из двух частей, сильно между собой различающихся. Первая — это хождение во Святую Землю, что-то вроде путеводителя для паломников. Вторая — описание путешествия на Восток, все дальше и дальше, вплоть до Индии, вплоть до Китая. Заканчивается книга рассказом о земном рае и об островах, которые граничат с мифическим царством пресвитера Иоанна. Обе части поданы как свидетельство очевидца, но если в первой немало точных и конкретных наблюдений, то вторая представляет собой в значительной степени плод вымысла.
Популярности книги способствовала главным образом первая часть. Известно, что вплоть до конца XVI века число описаний Святой Земли превосходило число описаний Нового Света92. И читатель Мандевиля имел возможность составить довольно точное представление как о местоположении святых мест и находящихся в них реликвий, так и о нравах и обычаях местных жителей. К мощам и реликвиям Меноккио, как мы помним, питал полное равнодушие, но подробное изложение богословских и богослужебных особенностей греческой церкви и других христианских конфессий (самаритяне, яковиты, грегориане), встречавшихся на Святой Земле, а также их расхождений с римской церковью могло вызвать у него интерес. Для своего отрицания мистического значения исповеди он мог найти поддержку, а возможно, и первоначальный толчок в рассказе Мандевиля об учении яковитов (название которых автор связывает с их обращением в христианство св. Иаковом): «они утверждают, что исповедоваться нужно только перед Богом и только ему обещать исправиться; поэтому когда они хотят исповедаться, то зажигают огонь, бросают в него ладан и другие благовония и в дыму приносят исповедь Богу и просят его о милости»93. Эту форму исповеди Мандевиль называет «натуральной» и «предначальной» (два определения, обладавшие особым смыслом для читателей XVI века), но спешит уточнить, что «в последующие времена святые отцы и папы постановили, что исповедь должна приноситься человеку, и это не без причины, ибо никакой недуг нельзя уврачевать и найти от него доброго снадобья, если прежде не узнать его природу; точно так же нельзя назначить потребное покаяние, если не знать сущность греха, ибо грехи рознятся между собой, равно как время и место, и потому надлежит узнать природу греха вместе со временем и местом и затем назначить должное покаяние». В свою очередь Меноккио, сравнивавший исповедь перед священником с исповедью перед деревом, все же допускал, что священник способен объяснить тому, кто этого не знает, что такое покаяние: «Если бы дерево могло назначить покаяние, этого было бы достаточно; к попам ходят те, кто не знает, какое положено покаяние за грехи, чтобы они их научили, а если знаешь, то ходить не надо, и те, кто знают, не ходят». Может быть, это тоже реминисценция из Мандевиля?
Но еще большее впечатление на Меноккио должно было произвести пространное повествование о магометанстве. Из материалов второго процесса можно заключить (хотя лишь предположительно), что он постарался удовлетворить свою любознательность, обратившись непосредственно к Корану, который в середине XVI века был переведен на итальянский язык. Но и из путешествий Мандевиля Меноккио мог почерпнуть некоторые сведения о магометанстве и обнаружить в этом религиозном учении черты сходства с собственными воззрениями. Согласно Корану, пишет Мандевиль, «из всех пророков Иисус был самый великий и самый близкий к Богу». И Меноккио — по смыслу почти то же самое: «мне думалось, что... он не был Богом, но каким-нибудь пророком, каким-нибудь великим человеком, которого Бог послал на землю для проповеди». Здесь же Меноккио мог встретиться с примером того, что факт распятия Христа отрицается как несовместимый с божественной справедливостью: «Он не был распят, как утверждают, но Бог призвал его к себе, избавив от смерти и от мук, а его телесную форму дал человеку, именуемому Иуда Искариот, которого иудеи и распяли, думая, что распинают Иисуса; Он же живым поднялся на небо, чтобы судить весь мир; вот почему они и утверждают, что, говоря о распятии Иисуса, мы ошибаемся, ибо правосудие Божие не могло такого допустить». Из показаний одного односельчанина Меноккио следует, что и тот утверждал нечто подобное: «неправда, что Христос был распят; распяли Симона Киринейского». Меноккио во всяком случае не признавал распятия, не принимал парадокса креста: «Мне казалось это невозможным, что Господь позволил себя схватить, и потому я думал, что раз его распяли, то это был не Бог, а какой-нибудь пророк...»
Совпадения бесспорные, но затрагивающие лишь частности. Кажется невероятным, что чтение этих мест у Мандевиля могло так взволновать Меноккио. То же самое можно сказать о резкой критике христианства, которую Мандевиль вкладывает в уста султана: «Им бы (христианам) подавать пример всем людям своими добрыми делами, Богу бы в храмах поклоняться, а они не выходят из кабаков, где играют, пьют и обжираются подобно скотам... Им бы быть нелукавыми и кроткими и незлобивыми и терпеливыми и милосердными, каким был Иисус Христос, в которого они веруют, а они творят прямо тому обратное, и все как один склонны к злодеяниям, и алчность их такова, что за малую мзду продают в блудилища дочерей, сестер и жен своих, и отбирают жен друг у друга и неверны слову и нарушают закон свой, который Иисус Христос дал им для спасения их...»
Эта картина морального падения христианского мира, нарисованная за двести лет до Меноккио, должна была, наверное, казаться ему ничуть не устаревшей. Алчность священнослужителей, беззакония тех, кто объявил себя последователями Христа, — все это он видел каждый день. В словах султана Меноккио мог найти самое большее подтверждение своего критического отношения к церкви, но уж никак не причину для душевного волнения. Ее нужно искать где-то еще.
21. Пигмеи и людоеды
«Народы, проживающие на этих землях, веруют по-разному; одни поклоняются солнцу, иные — огню, деревьям, змеям, иные — тому, что первым попадется утром на глаза, иные же — болванам и идолам»..., — говорится в начале второй части путешествий Мандевиля, там, где идет речь об острове Канне рядом с Индией94. К теме «различия вер» автор вернется потом не раз — именно эта тема, тема разнообразия религиозных убеждений так «измучила» Меноккио. Рассказы Мандевиля, описания отдаленных земель, большей частью сказочные, существенно расширяли умственный горизонт Меноккио. Из Монтереале, Порденоне или Венеции, из мест, где проходила его жизнь, он переносился в Индию, в Китай, на острова, населенные людоедами, пигмеями, псеглавцами. Именно пигмеям Мандевиль посвятил строки, ставшие знаменитыми.
«Это малорослый народ, не выше трех пядей; и мужчины и женщины изящны и красивы, хотя и малы. Они женятся в шесть месяцев, в возрасте двух или трех лет родят детей и редко живут больше шести или семи лет; кто доживает до восьми, считается глубоким стариком. Эти пигмеи не имеют себе равных в работе с шелком и хлопком и прочими такими вещами. Они враждуют с местными птицами, и те часто их пожирают. Эти коротышки не возделывают полей и виноградников, но там есть люди такого же роста, что и мы, и они-то и работают на земле. Пигмеи обходятся с ними свысока, как мы бы обходились с пигмеями, если бы они жили среди нас...»95
Прочитав о презрительном отношении пигмеев к людям «такого же роста, что и мы», Меноккио, должно быть, в очередной раз испытал чувство растерянности. Книга Мандевиля познакомила его с поразительным разнообразием верований и обычаев, и это пробудило в нем вопросы об основах своей веры, своего места в жизни. Рассказы об этих сказочных островах дали ему ту архимедову точку, с которой он смог обозреть мир, где он родился и вырос. «Разные народы и разные веры», «много островов и на всяком из них люди живут на свой манер», «из стольких и таких разных народов кто верит так, а кто иначе» — раз за разом в ходе процесса Меноккио возвращался к этой мысли. В эти же годы перигорский дворянин Мишель Монтень испытал похожий релятивистский шок, знакомясь с сообщениями о жизни туземцев Нового Света96.
Но Меноккио не был Монтенем, он был всего лишь мельником-самоучкой. Кроме своего родного селения он мало что видел. Он не знал ни греческого, ни латинского (разве что какой-нибудь отрывок из молитвы); читал мало и чтение его было случайным. Зато то, что читал, зачитывал до дыр. Думал над прочитанным годами, годами книжные слова и фразы ворочались у него в голове. Вот пример этой долгой и трудной работы. В главе CXLVIII путешествий Мандевиля озаглавленной «Об острове Дондина97, где местные жители, когда не могут спастись, съедают друг друга, о могуществе здешнего царя, который правит еще пятьюдесятью четырьми островами, и о разных видах людей, которые живут на этих островах», Меноккио мог прочитать следующее:
«На этом острове обитают странные народы и у них в обычае, что отец поедает сына, сын — отца, муж — жену и жена — мужа. Когда отцу или матери или еще кому-либо из близких случится заболеть, сын тут же отправляется к священнику здешней веры, чтобы тот поспрашивал своего идола; идол, устами которого говорит дьявол, ему отвечает и говорит, что болящему в этот раз не суждено умереть, и указывает, как его надобно лечить; сын возвращается и исполняет то, что идол ему наказал, пока болящий не поправляется. Так же обходятся мужья с женами и товарищи друг с другом; если же идол говорит, что болящему пришло время умереть, тогда священник идет с сыном или женой или товарищем и они накладывают плат на уста болящего и, удушив его, рубят его тело на части и потом зовут всех своих родных и знакомцев, чтобы они поели от мертвого тела, а также призывают дудочников, сколько только возможно, и так поедают тело с великим торжеством и весельем. И поев, берут кости и хоронят их с песнопениями и ликованием и музыкой; те же их родичи и товарищи, что не были на празднестве, ото всех имеют поношение и великий срам и не почитаются более за товарищей. И они говорят, что делается это, дабы избавить проставляющегося от мук; если мясо слишком жесткое, они укоряют себя, что согрешили, причинив ему лишние муки; если мясо жирное, они говорят, что все совершили во благовременье и болящий, не мучаясь без нужды, отправился прямо в рай...»
Этот рассказ о ритуальной антропофагии сильно поразил Меноккио (еще раньше он поразил Леонардо, который извлек из него дополнительные аргументы для обличения рода человеческого)98 — это со всей очевидностью следует из материалов заседания, состоявшегося 22 февраля. Генеральный викарий в очередной раз спросил Меноккио: «Назовите ваших сообщников, которые были с вами одних мыслей». Меноккио в ответ: «Господин, я никогда никого не встречал, кто был бы тех же убеждений, что и я; до этих мыслей я дошел своим умом. Правда, я читал книгу, которую дал мне наш капеллан, мессер Андреа да Марен, что ныне проживает в Монтереале; эта книга называется «Кавалер Зуанне де Мандавилла» — думаю, что она французская, но отпечатана на нашем народном наречии, — и дал он мне ее пять или шесть лет назад, но уже два года, как я ее возвратил. И рассказывалось в ней о путешествии в Иерусалим и о несогласиях греков с папой, а еще — о великом хане, о граде Вавилоне, о пресвитере Иоанне, об Иерусалиме и о многих островах и на всяком из них люди живут на свой манер. И еще — как этот кавалер отправился к султану и тот спрашивал его о священниках, кардиналах, папе и духовенстве и говорил, что Иерусалим раньше был у христиан, но Бог за дурное правление христиан и папы его у них отнял. А еще в одном месте там говорилось, что когда кто-то умирал...» Тут инквизитор не выдержал и прервал Меноккио, спросив, «не было ли в этой книге написано что-либо о хаосе». «Нет, господин, — ответил Меноккио, — об этом я читал в «Цветах Библии», но до остального, что я говорил о хаосе, я дошел своим умом». И тут же вернулся к тому, на чем его прервали: «Все в той же книге кавалера Мандавиллы говорилось, что когда кто-то заболевал и был близок к смерти, то шел к священнику, и тот заклинал идола, и идол говорил, пора ему умирать или нет, и если было пора, священник его душил и все вместе его съедали: если был хорош на вкус, грехов на нем не было; если был дурен, значит, грешил много и зря его так долго не трогали. И отсюда ко мне пришла та мысль, что со смертью тела умирает и душа, ведь из стольких и таких разных народов кто верит так, а кто иначе».
В очередной раз в воспаленной памяти Меноккио перемешались, переставились, переплавились слова и фразы. Покойник со слишком жестким мясом стал дурен (на вкус), с мясом жирным — хорош (опять же на вкус). Двусмысленность этих понятий (хороший, дурной), относящихся и к сфере гастрономии, и к сфере морали, помогла установить связь с идеей греха, сместив ее с убийц на жертву. Тот, кто был хорош (на вкус), понимается как негрешивший, кто был дурен — как грешник. В этот момент заработала логика Меноккио: того света не существует, нет ни посмертных наказаний, ни посмертного блаженства, рай и ад находятся на земле, душа смертна. Как обычно, Меноккио решительным образом искажал текст (конечно, не отдавая себе в этом отчета). Его вопросы к книге никогда не исчерпывались ее содержанием. Но в данном случае роль книги была отнюдь не второстепенной: «И отсюда ко мне пришла та мысль, что со смертью тела умирает и душа, ведь из стольких и таких разных народов кто верит так, а кто иначе».
22. «Бог по своей природе»
Разнообразие обычаев и верований — не единственная тема книги Мандевиля. Ей сопутствует интерес к тому, что пребывает неизменным во всей этой разноголосице — к рациональному началу, проявляющемуся в виде идеи Бога-правителя мира, «Бога по своей природе». Так, рассказав об идолопоклонниках с острова Канне, Мандевиль делает следующее замечание: «Да будет вам известно, что те, кто поклоняются идолам, делают это, дабы выразить почтение к какому-либо великому человеку, каким был Геркулес и многие другие, совершавшие в свое время достойные изумления дела; и они знают и говорят, что эти великие люди не боги, что есть один Бог по своей природе, который все сотворил и пребывает на небесах, и те люди не смогли бы совершить своих подвигов, если бы не произволение Божие, и поклоняются они им, потому что Бог их возлюбил. И так же они говорят о солнце, которое дает тепло и пропитание всему на земле, но такая его сила происходит от того, что Бог возлюбил его более всего другого и поставил его превыше всего на свете; потому мудро поступает тот, кто чтит его и воздает ему почести...»
«Мудро поступает тот...» В нейтральном тоне почти что этнографического описания Мандевиль перечисляет диковинные порядки и обычаи, показывая, что за их внешней чудовищностью или нелепостью скрывается рациональное ядро. Что до того, что жители острова Канне поклонялись полубыку-получеловеку? Они считали быка «самым чистым из животных и самым полезным», а человека — «самым благородным из созданий земных и господином над ними»; и разве некоторые христиане не приписывают отдельным животным благотворных или зловредных качеств? «Так что же удивляться, если язычники, не имеющие иного знания, кроме натурального, по своему простодушию еще более крепко тому веруют?» Жители острова Хонгамара, сообщает Мандевиль, все как один, мужчины и женщины, «имеют собачьи головы и зовутся потому киноцефалами», но, добавляет он тут же, «все люди здравомыслящие и разумные»99. Поэтому в заключительной главе книги, завершая рассказ о своих удивительных странствиях, Мандевиль мог торжественно объявить читателям: «Да будет вам ведомо, что во всей этой стране [Китае] и на всех островах, о которых я вам поведал, со всеми их различными народами и различными верами нет такого народа, наделенного хоть искрой разума, который хотя бы в малой степени не разделял с нами понятий о вере и не имел бы в своей вере ни малейшего доброго начала: так, они веруют в Бога, сотворившего мир, и называют его «иретаргом», то есть Богом по природе, ибо сказано у пророка «et metuent eum omnes fines terrae»* и в ином месте: «omnes gentes servient ei etc»**. Но они не знают, как правильно именовать Бога-Отца и Сына и Духа Святого, не знают ничего о Библии и особенно о «Книги Бытия» и других книгах Моисеевых, об «Исходе» и о пророках, ибо некому им все это изъяснить, и все, что они знают, они извлекают из своего природного разумения...» По отношению к этим народностям Мандевиль призывал проявлять терпимость: «И хотя эти люди [жители островов Мезидерата и Геносаффа100] не во всем веруют так, как мы, тем не менее я думаю и уверен, что за их добрую природную веру и за их добрый умысел Бог их любит и служению их благоволит, как любил и благоволил Иову. Ведь Господь наш говорил через пророка Осию: «ponam eis multiplices leges meas»***, — и в другом месте гласит Писание: «qui totum subdit orbem legibus»****. Подобное же говорил Господь наш в евангелии: «alias oves habeo quae non sunt ex hoc ovili»*, — то есть что есть у него и другие слуги, а не только те, что исполняют закон христианский... Нельзя ненавидеть и гнушаться никаким христианским народом из-за отличия веры его, но надо молить за него Бога; нам неведомо, кого Бог любит, а кого ненавидит, ибо нет в нем ненависти ни к кому из его созданий...»
Тем самым «Путешествия» Мандевиля, этот простодушный рассказ, изобилующий фантастическими вымыслами, переведенный на множество языков, тиражированный во множестве изданий, служил тем каналом, через который отголоски средневековой веротерпимости доходили до эпохи религиозных войн, отлучений и аутодафе. Возможно, эта книга была также и одним из источников, питавших народные движения, склонные к веротерпимости: некоторые свидетельства существования таких движений в XVI веке имеются, но вообще они изучены крайне мало101. Еще одним подобным источником была пользовавшаяся неубывающей популярностью средневековая легенда о трех кольцах102.
23. Три кольца
На Меноккио знакомство с ней произвело очень сильное впечатление: во время своего второго процесса (12 июля 1599 года) он даже подробно изложил ее судье, которым в тот раз был францисканец Джероламо Астео103. Признав, что говорил кому-то («но кому, не помню»): «кто родился христианином, тот хочет оставаться христианином, но кто родился турком, тот турком и хотел бы остаться», — Меноккио добавил: «Послушайте меня, господин, ради Бога. Жил однажды знатный господин, который сказал, что его наследником будет тот, кому он отдаст свое драгоценное кольцо; и когда пришел его смертный час, велел изготовить два кольца, таких же как первое, и каждому из своих сыновей, а у него их было трое, дал по кольцу; каждый из сыновей думал, что наследство досталось ему, потому что он получил настоящее кольцо, но так как кольца были похожи, точно узнать этого было нельзя. Таким же образом у Бога есть несколько любимых сыновей, это христиане, турки и евреи, и им всем он дозволил жить по их вере, и никто не знает, какая из них правильная. Поэтому-то я и говорил, что, родившись христианином, хочу оставаться христианином, но если бы родился турком, хотел бы оставаться турком». «По-вашему выходит, — спросил инквизитор, — что нельзя узнать, какая вера истинная?». «Да, господин, — стоял на своем Меноккио, — каждый думает, что только его вера хороша, но какая правильная, узнать нельзя. Но раз мой дед, мой отец и все мои родичи были христиане, я хочу оставаться христианином и думать, что эта вера самая правильная».
Удивительная ситуация даже для этого процесса, удивительного с начала до конца. Стороны поменялись ролями: Меноккио взял инициативу в свои руки, попытался переубедить судью: «Выслушайте меня, ради Бога». Кто представляет здесь высокую культуру, кто — культуру народную? Сразу и не ответишь. Дополнительную парадоксальность вносит сюда проблема источника, из которого Меноккио почерпнул историю с тремя кольцами. Он сказал, что прочитал ее в книге, — «не помню в какой». Только на следующем заседании инквизитор добился уточнения: «это запрещенная книга». И лишь почти месяц спустя Меноккио открыл ее название: «я прочитал ее в книге Боккаччо, называющейся «Сто новелл», — и признался, что одолжил ее у Николо Мелькиори — возможно, речь идет о художнике Николе из Порчии, у которого Меноккио, согласно показаниям одного свидетеля, «набрался своих богопротивных мыслей».
Но все нам уже известное о Меноккио доказывает, что он никогда и ничего не повторял, как попугай, за другими. Его подход к книгам, его причудливые умозаключения — все говорит о напряженной умственной работе. Она, безусловно, не происходила в пустоте. Все отчетливее становится заметно, что его умственный багаж питался и ученой, и народной традицией — как они сочетались нужно еще уточнить. Есть основания полагать, что именно от Николы из Порчии Меноккио получил, помимо «Сна Каравии», также и экземпляр «Декамерона». Эта книга или, по крайней мере, одна из ее новелл — третья новелла Первого дня, где рассказывается легенда о трех кольцах, — произвела на Меноккио сильное впечатление. О том, каким было его впечатление от других новелл, мы, к сожалению, ничего не знаем. Но в новелле о Мельхиседеке он не мог не найти подтверждения своей позиции в области религии, своему неприятию всякой конфессиональной ограниченности. Не случайно, именно рассказ Боккаччо о трех кольцах стал жертвой контрреформационной цензуры, относившейся к местам, сомнительным в религиозном отношении, куда более нетерпимо, чем к пресловутым непристойностям104. Меноккио, должно быть, имел дело с каким-то старым изданием, по которому еще не прошлись цензорские ножницы. Противостояние Джероламо Астео, инквизитора и знатока церковного права, и мельника Доменико Сканделла, известного по прозвищу Меноккио, — противостояние, поводом для которого послужила декамероновская новелла с ее апофеозом веротерпимости, представляется в какой-то степени символическим. Католическая церковь вела в то время войну на два фронта; против старой и новой высокой культуры, не укладывающейся в поставленные Контрреформацией рамки, и против культуры народной. И между двумя этим врагами церкви, столь непохожими друг на друга, обнаруживались, как мы сможем убедиться, скрытые от глаз схождения.
Ответ Меноккио на вопрос инквизитора: «По-вашему выходит, что нельзя узнать, какая вера истинная?», — был совсем не таким уж наивным: «Да, господин, каждый думает, что только его вера хороша, но какая правильная, узнать нельзя». Такой же была точка зрения защитников веротерпимости: Меноккио, подобно Кастеллионе105, распространял ее действие не только на представителей трех великих исторических религий, но и на еретиков. И опять же как у современных Меноккио теоретиков веротерпимости, его позиция заключала в себе положительный смысл: «Господь Бог всем уделил от духа святого, и христианам, и еретикам, и туркам, и иудеям, он всех любит, и все могут спастись». Речь здесь идет уже не столько о веротерпимости, сколько об открытом провозглашении равенства вер перед лицом некоей упрощенной, избавленной от догматических и вероисповедных примет религии. Она в чем-то похожа на религию «Бога по природе», которую Мандевиль обнаруживал у всех народностей, самых отдаленных, самый странных и чудовищных, — похожа несмотря на то, что Меноккио, как мы еще увидим, вообще отрицал идею Бога как творца вселенной.
Но у Мандевиля сохранялось представление о превосходстве христианства над другими религиями, не владевшими всей полнотой истины. В очередной раз Меноккио шел дальше, чем позволял ему его книжный источник. Его религиозный радикализм лишь отчасти подпитывался традицией средневековой веротерпимости: в значительно более близком родстве он находился с рафинированными религиозными теориями современных вольнодумцев из гуманистической среды.
24. Письменная и устная культура
Итак, мы узнали, как Меноккио читал книги — как выхватывал из них отдельные слова и фразы, которые при этом не могли не искажаться, как соединял разведенные в источнике места, устанавливая между ними неожиданные аналогии. Каждый раз, сопоставляя текст и реакцию на него со стороны этого читателя, мы не могли не заметить, что Меноккио подходил к книге с особым ключом и вовсе не контакты с той или иной группой инакомыслящих давали ему этот ключ106. Меноккио осмыслял и переосмыслял прочитанное вне какой-либо данной ему извне системы идей. А самые его поразительные утверждения возникали в результате знакомства с такими невинными текстами, как «Путешествия» Мандевиля или «История Страшного Суда». Не книга сама по себе, а встреча книжного слова и устной традиции рождала в голове Меноккио гремучую смесь.
25. Хаос
Теперь мы можем вернуться к космогонии Меноккио, которая поначалу показалась нам неподдающейся расшифровке, и попытаться разобраться в ее структуре. Меноккио с самого начала решительно отходит от рассказа «Книги Бытия» и его ортодоксальных интерпретаций, утверждая, что началом всего был предвечный хаос: «Я говорил, что мыслю и думаю так: сначала все было хаосом, и земля, и воздух, и вода, и огонь — все вперемежку...» (7 февраля). На следующем заседании генеральный викарий, как мы помним, прервал Меноккио, рассуждавшего о «Путешествиях» Мандевиля, вопросом «не было ли в этой книге написано что-либо о хаосе». Меноккио ответил отрицательно, и в ответе его содержится указание (на этот раз вполне сознательное) на отмеченное нами пересечение письменной и устной культуры: «Нет, господин, об этом я читал в «Цветах Библии», но до остального, что я говорил о хаосе, я дошел своим умом».
Меноккио спутал: в «Цветах Библии» прямо о хаосе ничего не говорится. Вместе с тем библейский рассказ о сотворении мира предваряется там, без особой заботы о композиционной логике, несколькими главками, содержание которых заимствовано в основном из «Светильника» Гонория Августодунского: метафизика в них перемешана с астрологией, а теология — с учением о четырех темпераментах. Четвертая глава «Цветов Библии», озаглавленная «Как Бог сотворил человека из четырех элементов», начинается так: «Как сказано, Бог в начале всего сотворил грубую материю, не имевшую ни формы, ни обличья, и сотворил ее столько, чтобы ее хватило на все с избытком, и, разделив ее и расчленив, извлек из нее человека, составленного из четырех элементов...» Здесь, как легко заметить, постулируется некая предначальная нерасчлененность мировых элементов, что исключает возможность творения ex nihilo*, но о хаосе не сказано ни слова. Не исключено, что Меноккио обнаружил этот ученый термин в «Прибавлении к прибавлениям к хроникам» августинца Якопо Филиппо Форести — книге, которую он упомянул мимоходом во время второго процесса (но с которой был уже знаком в 1584 году). Эта хроника, написанная в конце XV века, но сохранившая ярко выраженные средневековые черты, берет начало с рассказа о сотворении мира. Приведя цитату из Августина, патрона своего ордена, Форести пишет: «И сказано: в начале сотворил Бог небо и землю — это не значит, что они сразу произошли на свет, но лишь могли произойти, ибо затем говорится о сотворении неба вновь. Так, взирая на семя древесное, мы говорим, что в нем уже содержатся и корни, и кора, и ветви, и плоды, и листья, — это не значит, что они уже есть, но что они будут. Так и Бог сотворил в начале как бы семена и неба и земли, ибо материя неба была еще смешана с материей земли, но так как Бог ведал, что отсюда произрастут и небо, и земля, эта материя и была так названа. Эту пространную форму, лишенную какого-либо облика, наш Овидий в начале своего наиглавнейшего труда, а с ним вместе и другие философы, именовали хаосом, и Овидий так в том же труде об этом говорит: «Природа, пока не возникли земля, море и небо, простертое над ними, имела единый лик по всему миру: его философы звали хаосом. Это была грубая и нерасчлененная материя, косная и неопределенная масса, где находились разнородные семена слабо связанных между собою вещей»107.
Пытаясь согласовать между собой Библию и Овидия, Форести в итоге нарисовал картину космогонического процесса, больше напоминающую овидиевскую. И этот образ предначального хаоса, «грубой и нерасчлененной материи», глубоко поразил Меноккио. Неустанно над ним размышляя, он постепенно «дошел своим умом» и до «остального».
«Остальное» Меноккио пытался довести до сознания своих односельчан. «Я слышал, как он говорил, — сообщает Джованни Поволедо, — что в начале ничего не было, а потом море взбилось в пену и затвердело как сыр, и в нем появилось множество червей, и эти черви стали людьми, а самый сильный и мудрый стал Богом; и все ему подчинились...»
Речь в данном случае идет о свидетельстве косвенном, из третьих рук: Поволедо пересказывал то, что ему сообщил его приятель неделю назад «по дороге в Порденоне на ярмарку», а приятель в свою очередь рассказывал то, что узнал от своего приятеля, лично говорившего с Меноккио. Действительно, в устах Меноккио во время первого слушания все это выглядело несколько иначе. «Я говорил, что мыслю и думаю так: сначала все было хаосом... И все это сбилось в один комок, как сыр в молоке, и в нем возникли черви и эти черви были ангелы. И по воле святейшего владыки так возникли Бог и ангелы; среди ангелов был также Бог, возникший вместе с ними из того же комка...» Очевидно, что космогония Меноккио, переходя от одного рассказчика к другому, не могла избежать искажений. «Хаос» — трудное слово, и оно исчезло, вытесненное более привычным выражением: «в начале ничего не было». Последовательность «сыр — черви — ангелы — святейший владыка — Бог как самый могущественный из людей-ангелов» сократилась, уступив место последовательности «сыр — черви — люди — Бог как самый могущественный из людей».
С другой стороны, в версии Меноккио вообще исчезло упоминание о море, взбивающемся в пену. Вряд ли Поволедо это просто выдумал. В ходе процесса выяснилось, что Меноккио, сохраняя свою космогоническую картину в целом, легко менял в ней детали. Например, в ответ на вопрос генерального викария: «Кто был этот святейший владыка?», — он дал такое разъяснение: «Я думаю, что этим святейшим владыкой был Дух Божий, который был всегда». На следующем заседании он внес уточнение: в судный день люди предстанут перед «тем святейшим владыкой, о котором я говорил раньше, и он был прежде хаоса». В еще одном варианте Бог заменил «святейшего владыку», а Святой Дух — Бога: «Я думаю, что вечный Бог взял из того хаоса, о котором я говорил, наилучший свет, как из сыра берется наилучший, и из этого света сотворил тех духов, которых мы называем ангелами, а из них избрал самого благородного и дал ему все свое знание, всю свою волю и все свое могущество: его мы называем Святым Духом, и Бог поставил его над всем миром...» Свое мнение о том, кто был раньше — Бог или хаос, Меноккио также в очередной раз изменил: «Бог пребывал в хаосе, как если что-то находится в воде и в ней не помещается или если что-то не помещается в лесу; так и этот разум, узнав себя, ищет простора и сотворяет мир». «Так значит, Бог был вечен и вечно пребывал с хаосом?» — спросил инквизитор. «Я думаю, — ответил Меноккио, — что они всегда были вместе и никогда не пребывали отдельно, ни хаос без Бога, ни Бог без хаоса». Столкнувшись с этой головоломкой, инквизитор решил, прежде чем закрывать процесс, хоть как-то в ней разобраться. Это было 12 мая.
26. Диалог108
ИНКВИЗИТОР. Из ваших предыдущих показаний следует, что вы говорите о Боге противоречиво, ибо в одном вы утверждаете, что Бог вечен наравне с хаосом, а в другом — что Он возник из хаоса. Поэтому изложите ясно этот пункт и каких вы на этот счет мыслей.
МЕНОККИО. Мнение мое таково, что Бог существовал вечно, как и хаос, но не знал себя и не обладал жизнью: когда же Он себя узнал, то это и есть то, что я называю «возникнуть из хаоса».
ИНКВИЗИТОР. Раньше вы говорили, что у Бога есть разум: почему же Он не знал самого себя и по какой причине он начал себя сознавать? Изъясните также, какое совершилось в Боге прибавление, из-за которого Он обрел жизнь, не будучи прежде жив.
МЕНОККИО. Я думаю, что с Богом было так же, как происходит со всеми вещами, которые становятся совершенными из несовершенных: к примеру, ребенок, пока находится в животе у матери, ничего не знает и не живет, но когда выйдет из живота, начинает жить, а подрастая, приобретает знание. Так и Бог, пока пребывал с хаосом, был несовершенен, не имел познания и жизни, а потом, раздвигаясь в этом хаосе, начал жить и иметь познание.
ИНКВИЗИТОР. В этом начальном состоянии божественный разум был способен познавать все расчлененно и по порядку?
МЕНОККИО. Он знал все вещи, которые должны были появиться, а также людей и что от них должны были родиться другие люди, но всех тех, которые должны родиться, Он не знал; так известно, что в стаде будет приплод, но неизвестно точно, какой он будет. Так и Бог видел все, но не знал во всех подробностях того, что должно произойти.
ИНКВИЗИТОР. Откуда божественный разум в этом начальном состоянии имел представление о всех вещах — из самого себя или иным путем?
МЕНОККИО. Божественный разум все получал из хаоса, в котором были смешаны все вещи, а потом дал ему порядок и строй. И мы точно также узнаем, что такое земля, вода, воздух и огонь, а потом устанавливаем между ними различение.
ИНКВИЗИТОР. Обладал ли Бог волей и могуществом прежде, чем сотворил все?
МЕНОККИО. Когда росло в нем познание, вместе с ним росли воля и могущество.
ИНКВИЗИТОР. В Боге воля и могущество одно или разное?
МЕНОККИО. Разное, как и в нас: мало хотеть что-нибудь сделать, надо и мочь. Например, столяр хочет смастерить лавку, но без струмента и досок это его хотение напрасно. Также и для Бога: мало хотеть, надо и мочь.
ИНКВИЗИТОР. В чем состоит могущество Бога?
МЕНОККИО. Действовать посредством артели.
ИНКВИЗИТОР. Те ангелы, которые, по-твоему, помогают Богу в устроении мира, сотворены Богом или кем-нибудь еще?
МЕНОККИО. Они произведены природой из наилучшего в мире вещества, как в сыре производятся сами собой черви; когда же они появляются на свет, то от Бога по его благословению им даются воля, разум и память.
ИНКВИЗИТОР. Мог ли Бог сотворить все сам, без помощи ангелов?
МЕНОККИО. Да, ведь когда кто-нибудь строит дом и нанимает плотников и других рабочих, то все равно говорят, что дом построил он; так и для постройки мира Бог привлекает ангелов, но говорят, что это Он его сотворил. И как тот нарядчик при постройке дома мог все сделать сам, но потратил бы больше времени, так и Бог при постройке мира мог все сделать сам, но за большее время.
ИНКВИЗИТОР. Если бы не было того вещества, из которого произошли ангелы, если бы не было хаоса, мог бы Бог самолично создать все мировое устройство?
МЕНОККИО. Я думаю, что ничего нельзя сделать без материи и даже Бог не мог бы этого сделать.
ИНКВИЗИТОР. Этот дух или высший ангел, которого вы называете Святым Духом, он одной природы и сущности с Богом?
МЕНОККИО. Бог и ангелы все по своей сущности относятся к хаосу, но между ними есть разница в совершенстве, и вещество Бога более совершенно, чем у Святого Духа, ибо Бог — более совершенный свет; и то же самое можно сказать о Христе, который по веществу ниже и Бога, и Святого Духа.
ИНКВИЗИТОР. Святой дух обладает равным могуществом с Богом? Христос столь же могуществен, как Бог и как Святой дух?
МЕНОККИО. Святой Дух не так могуществен, как Бог, и Христос не так могуществен, как Бог и Святой Дух.
ИНКВИЗИТОР. Тот, которого вы зовете Богом, он сотворен и произведен кем-либо другим?
МЕНОККИО. Он никем не произведен, но приводится в движение движением хаоса и развивается от несовершенного к совершенному.
ИНКВИЗИТОР. А хаос кто приводит в движение?
МЕНОККИО. Он сам.
27. Мифические и реальные черви
Вот таким языком, сочным, испещренным метафорами, почерпнутыми из знакомого ему быта, Меноккио спокойно и уверенно излагал свои космогонические представления изумленным и заинтересованным (иначе зачем бы понадобился столь подробный допрос?) инквизиторам. Во всем этом коловращении теологических терминов кое-что пребывало неизменным: Меноккио отказывался считать божество творцом мира и упорно возвращался к самому своеобразному из приводимых им образов и сравнений — к сравнению с сыром, с червями, появляющимися в сыре.
Может быть, здесь не обошлось без реминисценции из Данте («...только черви мы, в которых зреет мотылек нетленный». — Чистилище, X, 124–125), тем более что комментарию Веллутелло к этим стихам почти тождественно другое космогоническое высказывание Меноккио. «Нетленный, сиречь божественный, что значит: сотворенный Богом, чтобы заполнить седалища, опустевшие после изгнания с небес черных ангелов», — так комментировал Веллутелло109. «И Бог затеям создал Адама и Еву и много других людей, чтобы заполнить места изгнанных ангелов», — так говорил Меноккио. Два совпадения на одной странице — это многовато. Но если Меноккио действительно читал Данте110 — и в таком случае, разумеется, как кладезь религиозных и нравственных истин, — почему именно этот стих («только черви мы, в которых зреет мотылек нетленный») отпечатался в его памяти?
На самом деле Меноккио нашел свою космогонию не в книгах111. «Они произведены природой из наилучшего в мире вещества, как в сыре производятся сами собой черви; когда же они появляются на свет, то от Бога по его благословению им даются воля, разум и память» — из этого ответа Меноккио ясно, что он так настойчиво возвращался к образам сыра и червей лишь затем, чтобы посредством аналогии сделать свою мысль более ясной. Меноккио видел не раз и не два, как в сгнившем сыре появляются черви, и опирался на этот опыт, чтобы объяснить, как живые существа — первые и лучшие, ангелы — возникают из хаоса, из «грубой и нерасчлененной материи», без всякого участия Бога. Прежде хаоса был только «святейший владыка», никак иначе не определенный; из хаоса возникли первые живые существа: ангелы и старший из ангелов, Бог, — возникли посредством самозарождения, «произведены природой». Космогония Меноккио была по своей сути материалистической и по своей тенденции — научной. Теория самозарождения жизни в неживой материи, которой придерживались все ученые умы того времени (она будет поколеблена только век спустя экспериментами Реди)112, имела более научный характер, чем креационистская доктрина церкви, опиравшаяся на первые главы «Книги Бытия». Уолтер Ралей, например, сравнивал молочницу, занимающуюся изготовлением сыра (опять сыр!), с натурфилософом: оба знают, что сычужина способствует свертыванию молока, но не знают, почему это происходит113.
Однако отсылка к бытовому опыту объясняет не все; может быть, вообще ничего не объясняет. Аналогия между молоком, створоживающимся в сыр, и туманностью, сгущающейся в земной шар, может показаться очевидной нам — она не казалась таковой Меноккио. Мало того: устанавливая эту аналогию, он воспроизводил, сам того не подозревая, некоторые весьма древние мифы114. В индийском мифе, который встречается уже в ведах, происхождение космоса объясняется сгущением — похожим на сгущение молока — вод предначального океана: его пахтают боги-творцы. Согласно калмыцкому мифу, в начале времен воды моря покрылись твердой пленкой, похожей на ту, что образуется на поверхности молока, и из нее произошли растения, животные, люди и боги. «В начале ничего не было, а потом море взбилось в пену и затвердело, как сыр, и в нем появилось множество червей, и эти черви стали людьми, а самый сильный и мудрый стал Богом» — примерно такими (с учетом возможных искажений, о которых уже говорилось) были и представления Меноккио.
Совпадение удивительное, даже какое-то тревожное — для тех, у кого нет наготове объяснений неприемлемых (вроде коллективного бессознательного) или слишком легких (вроде случайности). Конечно, Меноккио имел в виду вполне реальный, ничуть не мифический сыр — сыр, за процессом изготовления которого он множество раз наблюдал (и возможно, сам принимал в нем участие). Алтайские скотоводы, в отличие от него, превратили аналогичный опыт в космогонический миф. Но несмотря на это различие, которое нельзя недооценивать, совпадение остается совпадением. Нельзя исключать, что оно является одним из свидетельств — фрагментарным и полустертым — существования многовековой космологической традиции, соединявшей миф и науку, несмотря на все различие их языков115. Любопытно, что спустя столетие после суда над Меноккио метафора вращающегося сыра встретится в вызвавшей оживленную полемику книге английского богослова Томаса Барнета, пытавшегося согласовать Священное писание с наукой своего времени116. Быть может, здесь мы имеем дело с реминисценцией — не исключено, что допущенной невольно, — той древней индийской космологии, которой Барнет посвятил несколько своих страниц. Но в случае Меноккио речь может идти лишь о прямой передаче — передаче устной, из поколения в поколение. Не такая уж фантастическая гипотеза, если вспомнить о распространенности в том же Фриули и в те же годы культа «бенанданти» — шаманского по своей сути117. Именно из этой почти еще неизученной почвы культурных взаимосвязей и миграций выросла космогония Меноккио.
28. Монополия на знание
В высказываниях Меноккио, как в археологическом раскопе, обнаруживаются глубинные культурные слои — столь диковинные, что задача их научного анализа кажется невыполнимой. И в данном случае, в отличие от разобранных прежде, речь идет не столько о реакции на книжное слово, сколько о самопроявлении устной культуры. Чтобы эта иная культура получила возможность заявить о себе, нужно было совершиться Реформации и появиться книжному станку118. Благодаря Реформации простой мельник мог решиться высказать свое мнение о церкви и мироустройстве. Благодаря книгопечатанию у него появились слова, чтобы облечь в них смутные, неоформившиеся мысли, которые роились у него в голове. Выхваченные из книг слова и фразы помогли ему сформулировать те идеи, которые он отстаивал в течение многих лет сначала перед односельчанами, а затем перед судьями во всеоружии их учености и авторитета.
Он пережил на своем личном опыте гигантский по историческому резонансу сдвиг: от языка устной культуры с ее жестом, шепотом и криком до языка культуры письменной — лишенного интонаций и затвердевшего на книжном листе119. Первый — почти телесен, второй — продукт разума. Победа письменности над устностью — это в первую очередь победа абстракции над эмпирией. В возможности пренебречь частностью кроется основа той прочной связи, что всегда соединяла владение письмом и владение властью. Примеры Египта и Китая, где жреческие и чиновничьи касты в течение тысячелетий обладали монополией на иероглифическое и идеографическое письмо, говорят сами за себя. Изобретение алфавита, произошедшее за пятнадцать веков до Христа, разбило эту монополию, но этого оказалось недостаточным, чтобы сделать письменное слово доступным для всех. Только книгопечатание сделало такую перспективу реальной.
Меноккио сознавал оригинальность своих идей и гордился ею: именно поэтому он хотел высказать их высшим церковным и светским властям. В то же время он чувствовал необходимость овладеть культурой своих противников. Он понимал, что письмо, позволяющее сохранять культуру и передавать ее, является источником власти. Поэтому он не ограничился обличением тех, кто «обманывает бедняков», используя латинский язык в бюрократической практике (и в церковной службе)120. Его критика имела более широкий смысл. «Ясное дело, инквизиторы не хотят, чтобы мы знали то, что знают они», — через много лет после событий, о которых мы рассказываем, такие слова вырвались у него в разговоре с односельчанином, Даниэлем Якомелем. «Мы» и «они» — противопоставление более чем четкое. «Они» — это «те, кто наверху», власть имущие, причем не только в церкви. «Мы» — крестьяне. Почти наверняка Даниэль был неграмотным (на его показаниях, данных в ходе второго процесса, нет подписи). Меноккио, напротив, умел читать и писать, но при этом отнюдь не считал, что его многолетняя борьба с властью касается его одного. «Раздумывать о высоком» — эта цель, от которой он в Портогруаро двенадцатью годами раньше перед лицом инквизитора несколько двусмысленно отрекся, продолжала казаться ему не только законной, но и доступной для всех. Незаконным, более того абсурдным ему должно было казаться стремление духовенства сохранять монополию на знание, которое можно было приобрести у венецианского книготорговца «за два сольдо». Изобретением книгопечатания по концепции культуры как привилегии был нанесен серьезный (хотя пока и не смертельный) удар.
29. Читая «Цветы Библии»
Именно в «Цветах Библии», купленных в Венеции «за два сольдо», Меноккио нашел те ученые термины, которые фигурируют в его показаниях рядом со словами, знакомыми ему из повседневного быта. Так, в протоколе от 12 мая мы видим «ребенка в животе у матери», «стадо», «столяра», «лавку», «артель», «сыр», «червей», но видим также и «несовершенный», «совершенный», «вещество», «материю», «волю, разум и память». Похожее сочетание высокой и низкой лексики характерно и для «Цветов Библии», особенно для их первой части. Заглянем в главу третью «О том, что Бог не может ни желать зла, ни совершать его», и читаем следующее: «Бог не может ни желать зла, ни допускать его, ибо он дал такое устройство всем элементам, что они не составляют помехи друг другу, и так будет до скончания мира. Есть, правда, такие, которые говорят, что мир будет длиться вечно, и указывают при этом, что когда прекращается жизнь в теле, плоть и кости обращаются вновь в ту материю, из которой они возникли... И мы видим, как природа исправляет свою службу, когда сводит воедино несогласные между собой вещи, так что все их различие уничтожается и они соединяются в едином теле и едином веществе; и еще соединяет их в растениях и семенах, а через соединение мужчины и женщины порождает новые создания согласно природному распорядку. Иные создания порождает Юпитер и посредством Юпитера — природа, следуя своему порядку. И отсюда заключаем, что природа подчиняется Богу...»
«Материя», «природа», «единое», «элементы», «вещество», происхождение зла, влияние звезд, отношения между творцом и творением. Примеры можно умножить. Даже из такого жалкого и беспорядочного компендиума, как «Цветы Библии», можно было составить представление о некоторых центральных понятиях и некоторых ведущих темах культурной традиции древности и Средневековья. Важность его для Меноккио трудно переоценить. Он почерпнул отсюда, во-первых, те понятийные и лексические инструменты, посредством которых он смог сформулировать свой взгляд на мир. Кроме того, принятая здесь схоластическая манера — не только опровержение, но и изложение ошибочной точки зрения — наверняка подогревала его жадное интеллектуальное любопытство. Сокровищница знаний, которую монтереальский священник представлял как нечто недоступное для непосвященных, оказывалась открытой для столкновения самых разнообразных мнений. В главе двадцать шестой «Как Бог вкладывает души в тела» Меноккио мог, например, прочитать следующее: «Многие философы заблуждались и придерживались ложных мнений касательно происхождения души. Одни говорили, что души вечны. Другие говорят, что душа одна и что элементов всего пять: четыре сказанные выше и еще один, который они называют orbis*; они утверждают, что из этого orbis Бог сотворил душу в Адаме и во всех прочих. И из этого они выводят, что миру никогда не будет конца, ибо, умерев, человек обращается в составляющие его элементы. Еще есть такие, которые говорят, что души образуют павшие с небес злые духи: они входят в тела человеческие, и когда этот человек умирает, то входят в другого, и совершают такое, пока не спасутся — в конце времен все они будут спасены. Иные же говорят, что мир пребудет вечно и через тридцать четыре тысячи лет жизнь обновится и всякая душа вернется в свое тело. И все это ложь, и те, кто говорили такое, суть язычники, еретики, схизматики, враги правды и веры, не ведающие божественного откровения. Отвечая первым, утверждающим...» Но Меноккио был не тот человек, которого было легко запугать проклятиями. Он и по этому вопросу имел что сказать. Пример «многих философов» не только не убедил его склониться перед ортодоксальной точкой зрения, но придал дополнительную пишу его раздумьям о «высоком», укрепил его в верности своим идеям.
Из множества разнородных элементов, разной степени древности, слагалась новая конструкция. В стене угадывался еле различимый фрагмент капители или полустертый абрис стрельчатой арки, но общий план строения был начертан одной рукой — рукой Меноккио. Без всякого стеснения он пользовался осколками чужих мыслей, как каменщик — кирпичами, выломанными из руины. Но понятийный и лексический инструментарий121, который ему доставался, не был нейтральным и безобидным. Здесь источник большей части его противоречий, его неточности и непоследовательности. На языке, не отделимом от христианских, неоплатонических, схоластических систем мысли, Меноккио пытался выразить идеологию примитивного, инстинктивного материализма, выработанную поколениями его крестьянских предков.
30. Что делать с метафорами?
Чтобы в мыслях Меноккио добраться до их живой сердцевины, нужно сорвать нарост этой терминологии. Что Меноккио действительно имел в виду, когда говорил о Боге, о святейшем владыке, о духе божием, о Святом Духе, о душе?
Начинать надо с языка, с самой яркой его особенности — метафорической насыщенности. Метафоры Меноккио основаны на использовании понятий из повседневного быта: «ребенок в животе у матери», «стадо», «столяр», «сыр» и т.д., — мы об этом уже говорили. Образы, которые встречаются в «Цветах Библии», служат одной цели — дидактической, то есть иллюстрируют посредством понятных читателю примеров те идеи, которые требуется ему внушить. У метафор Меноккио другая цель — в каком-то смысле, противоположная. В его интеллектуальном и лингвистическом универсуме, основанном на принципе абсолютного буквализма, даже метафоры следует понимать буквально. Случайными они не бывают; только через них можно понять истинное, не выраженное впрямую, содержание мысли Меноккио.
31. «Хозяин», «управляющий» и «артель»
Начнем с Бога. Для Меноккио это, прежде всего, отец. Игра метафор возвращает этому давно стершемуся определению изначальную содержательность. Бог — отец всех людей, «все мы божьи дети и того же естества, что и распятый». Все — христиане, еретики, турки, иудеи, «он всех любит, и все могут спастись». Хотят они того или нет, все они остаются его сыновьями: «Он всех зовет одинаково, турок, иудеев, христиан, еретиков, и никому не дает предпочтения, подобно отцу, у которого много сыновей и он всех их зовет сыновьями, и даже те, которые этого не хотят, все равно они его дети». Любовь отца не может стать меньше, даже если ее оскорбляют: оскорбление «причиняет зло» только тебе, а не ближнему твоему, как если бы был у меня плащ и я его разодрал, то причинил бы зло только себе и никому другому, а кто не делает зла ближнему своему, тот не грешит; все мы — сыновья Божий, если не делаем зла друг другу, наподобие того, как если бы у одного отца было несколько сыновей и один бы проклял своего отца, то отец его простил бы, но если один сын разобьет голову другому, то его не прощают, а наказывают; вот поэтому я сказал, что богохульство это не грех, потому что никому не делает зла».
Этим примером Меноккио, как мы помним, обосновывает свое утверждение, что важнее любить ближнего своего, чем Бога: и «ближнего», которого он имеет в виду, надо понимать в самом буквальном и конкретном смысле. Бог — отец любящий, но далекий от своих детей с их повседневными жизненными заботами.
Но Бог для Меноккио не только отец, он также является воплощением высшего авторитета122. Меноккио неоднократно упоминает о «святейшем владыке», то различая его и Бога, то отождествляя с «духом божьим» или с самим Богом. Кроме того, Бог сравнивается с «великим капитаном»: «своим посланником на земле он назначил своего сына». Он сравнивается также с дворянином: в раю «тот, кто воссядет на эти сиденья, захочет видеть все перед собой, как дворянин, который требует показать ему все его имущество». «Господь Бог», тем самым, господь в самом прямом смысле, господин, синьор: «Я говорил, что Иисус Христос, если он был Бог, то зачем он дал себя схватить и повесить; в этом пункте я не был уверен и колебался, потому что мне казалось это невозможным, что Господь позволил себя схватить, и потому я думал, что раз его распяли, то это был не Бог...»
Господин... Но главный признак господина — то, что он не работает, потому что всегда есть, кому за него работать. Бог — именно такой господин. «А что до индульгенций, я думаю, им можно верить, ведь если человек, которого Бог поставил за себя, а именно папа, дарует прощение, — то это все равно как будто его дарует Бог, ведь оно дано его управляющим или вроде того». Папа у Бога не единственный управляющий; Святой Дух тоже «вроде как управляющий у Бога, и этот Святой Дух избрал потом четырех капитанов, или еще можно сказать управляющих, из тех ангелов, которые были сотворены...» Люди были созданы «Святым Духом по воле божией и другими его помощниками; управляющий ведь во всяком деле не обходится без помощников, но и Святой Дух тут приложил руку».
Бог, следовательно, не только отец, но и хозяин — землевладелец, которому нет нужды работать в поте лица, ибо он может переложить работу на своих управляющих. Но и они в свою очередь только изредко «прикладывают руки»: Святой Дух, к примеру, создал землю, деревья, животных, человека, рыб и всех других тварей земных «с помощью своих работников-ангелов». Правда, Меноккио не отрицает (в своем ответе на прямой вопрос инквизиторов), что Бог мог сотворить мир даже без помощи ангелов: «Когда кто-нибудь строит дом и нанимает плотников и других рабочих, то все равно говорят, что дом построил он; так и для постройки мира Бог привлекает ангелов, но говорят, что это Он его сотворил. И как тот нарядчик при постройке дома мог все сделать сам, но потратил бы больше времени, так и Бог при постройке мира мог все сделать сам, но за большее время». Бог обладает «могуществом»: «Мало хотеть что-нибудь сделать, надо и мочь. Например, столяр хочет смастерить лавку, но без струмента и досок это его хотение напрасно. Также и для Бога: мало хотеть, надо и мочь». Но это «могущество» состоит в том, что он действует «посредством артели».
Эти постоянные метафоры указывают, разумеется, на желание приблизить, сделать более понятными главных религиозных персонажей, рассказав о них языком повседневного опыта. Естественно в таком случае, что человеку, чье занятие, как он объявил своим судьям, было — помимо работы на мельнице, — «плотницкое, столярное, выкладывать стены», Бог будет напоминать столяра или каменщика. Но за этим изобилием метафор стоит и другой смысл. «Постройку мира» опять же надо понимать буквально — как физическое действие, как работу («Я думаю, что ничего нельзя сделать без материи и даже Бог не мог бы этого сделать»). Но Бог — это господин, а господа не работают. «По-вашему, Бог сам по себе сделал, создал, сотворил хоть что-либо?» — допытывались судьи. «Он распорядился, чтобы появилось хотение это сделать», — ответил Меноккио. При всем своем сходстве с плотником или каменщиком Бог все же имеет под своим началом «артель» и «работников». Лишь однажды в пылу полемики против почитания образов Меноккио обмолвился об «одном Боге, который сотворил небо и землю». На самом деле, по его убеждению, Бог не сотворил ровным счетом ничего также точно, как и его «управляющий», Святой Дух. Кто действительно потрудился своими руками, так это ангелы — «артель», «работники»123. А кто сотворил ангелов? Природа — «они произведены природой из наилучшего в мире вещества, как в сыре производятся сами собой черви...»
В «Цветах Библии» Меноккио мог прочитать о «первых сотворенных в мире существах, которыми были ангелы, и поскольку они были сотворены из самой что ни на есть благородной материи, они исполнились гордыни и были изгнаны со своих мест». Но он мог прочитать также и следующее: «И отсюда следует, что природа подначальна Богу, как молот и наковальня подначальны кузнецу, который мастерит то, что пожелает — будь то меч или нож или иное подобное; но хотя он не может обойтись без молота и наковальни, тем не менее не молот сделал эти вещи, но их сделал кузнец», С этим, однако, Меноккио не мог согласиться. Созданная им картина мира с ее принципиальным материализмом не оставляла места для Бога-творца. Существования Бога он не отрицал, но это был далекий Бог — подобный хозяину, который поручил свои владения заботам управляющих и «работников».
Далекий и в то же время близкий — воплотившийся в стихиях, тождественный мирозданию. «Я думаю, что весь мир, то есть воздух, земля и все красоты мира — это Бог...; ведь говорится, что человек создан по образу и подобию Божию, а человек — это воздух, огонь, земля и вода, и отсюда следует, что воздух, земля, огонь и вода — это Бог».
И отсюда следует: в очередной раз мы видим, с какой поразительной легкостью Меноккио извлекал из находящихся под рукой текстов — из Писания, из «Цветов Библии» — то, что диктовала ему его собственная логика.
32. Одна гипотеза
В разговорах с односельчанами Меноккио ограничивался куда более жесткими формулировками. «Что такое Господь Бог? В Писании один обман и предательство, а если Бог есть, почему он никому не показывается?»; «что, по-вашему, Бог? Бог — это малое дуновение и все то, что люди воображают»; «что такое этот Святой Дух?... нет никакого Святого Духа». Когда в ходе процесса ему предъявили это заявление, сообщенное свидетелем, Меноккио не мог сдержать негодования: «Никогда такого не было, чтобы я говорил, что Святого Духа не существует; наоборот, если я во что и верю, так это в Духа Святого — это слово Божие, которое просвещает весь мир».
Налицо явное противоречие между показаниями жителей Монтереале и показаниями самого Меноккио на процессе. Можно его разрешить, объяснив поведение Меноккио во время суда страхом, желанием смягчить приговор инквизиции. «Настоящим» Меноккио в таком случае был бы тот, кто в разговорах на улицах Монтереале отрицал существование Бога, а Меноккио на суде — обманщиком. Но такое объяснение встречается с серьезными трудностями. Если Меноккио действительно хотел утаить от судей самые свои крамольные мысли, почему он так настойчиво говорил о смертности души? Почему упорно продолжал отрицать божественность Христа? И вообще, исключая отдельные недомолвки на первом заседании, кажется, что поведение Меноккио во время процесса определялось чем угодно, но только не осторожностью.
Попробуем найти другое объяснение, следуя тому, что содержится в высказываниях самого Меноккио. Он знакомил односельчан с упрощенной, экзотерической версией своих взглядов: «Если бы я мог говорить, я бы сказал многое, но я не хочу говорить». Более сложная, эзотерическая версия предназначалась для светских и религиозных властей, перед которыми он так страстно хотел высказаться. «Я говорил, — заявил он в Портогруаро судьям, — что, доведись мне повидать папу или короля или князя, я бы много чего сказал, и пусть меня потом хоть расказнят, мне это безразлично». Наиболее полную картину мировоззрения Меноккио дают, следовательно, его показания на процессе. Но соглашаясь с этим, надо объяснить, в чем причина их расхождений с тем, что он говорил своим соседям по Монтереале.
К сожалению, единственное объяснение, которое мы можем предложить, носит гипотетический характер и состоит в следующем: Меноккио был знаком из вторых рук с «De Trinitatis erroribus»* Сервета или читал его впоследствии утраченный итальянский перевод, сделанный около 1550 года Джорджо Филалетто по прозвищу Турк или Турчонок124. Это, безусловно, довольно смелая гипотеза, поскольку речь идет об очень непростом тексте, с множеством философских и теологических терминов, много более трудном для понимания, чем те книги, которые читал Меноккио. Но все же следы знакомства с ним, слабые, искаженные, едва заметные, можно, пожалуй, различить в высказываниях Меноккио.
Пафосом первой книги Сервета является утверждение человеческой природы Христа — ее обожествление происходит только в Святом Духе125. И Меноккио на первом допросе говорил: «Мне думалось, что... он не был Богом, но каким-нибудь пророком, каким-нибудь великим человеком, которого Бог послал на землю для проповеди». Впоследствии он внес такое уточнение: «Я думаю, он был человеком, как мы, родившимся, как мы, от отца и матери, и в нем не было ничего, что бы он не получил от отца и матери, но Бог через Духа Святого избрал его себе в сыновья».
А чем был Святой Дух для Сервета? Сервет первым делом перечисляет все значения этого слова, которые встречаются в Священном писании: «Nam per Spiritum sanctum nunc ipsum Deum, nunc angelum, mine spiritum hominis, instinctum quendam, seu divinum mentis statum, mentis impetum, sive halitum intelligit, licet aliquando differentia notetur inter flatum et spiritum. Et aliqui per Spiritum sanctum nihil aliud intelligi volunt, quam rectum hominis intellectum et rationem»*126. Почти весь этот спектр значений встречается в показаниях Меноккио: «Я думаю,... это Бог... Это ангел, который действует по воле Божией... Я думаю, что Господь Бог даровал им свободу воли и в тело вложил Дух Святой... Дух исходит от Бога, и когда нам нужно что-либо сделать, это он внушает нам, делать это или нет».
Сервет предпринял свои терминологические изыскания для доказательства того, что Святой Дух в качестве лица, отличного от Бога-Отца, не существует: «quasi Spiritus sanctus non rem aliquam separatam, sed Dei agitationem, energiam quandam seu inspirationem virtutis Dei designet»**. В основе его пантеизма лежало представление об активном всеприсутствии Духа. «Dum de spiritu Dei erat sermo, — писал он, вспоминая о тех временах, когда он разделял с философами их заблуждения, — sufficiebat mini si tertiam illam rem in quodam angulo esse intelligerem. Sed nunc scio quod ipse dixit: «Deus de propinquo ego sum, et non Deus de longinquo». Nunc scio quod ampiissimus Dei spiritus replet orbem terrarum, continet omnia, et in singulis operatur virtutes; cum propheta exclamare libet «Quo ibo Domine a spiritu tuo?» quia nee sursum nee deorsum est locus spiritu Dei vacuus»***. «Что, повашему, Бог? Все, что мы видим, — это Бог, — твердил Меноккио своим соседям. — «Небо, земля, море, воздух, бездна и ад — все это Бог».
Чтобы подорвать философско-теологическую конструкцию, продержавшуюся целое тысячелетие, Сервет использовал все подручные средства: греческий и еврейский языки, филологический метод Баллы и каббалу, материализм Тертуллиана и номинализм Оккама, теологию и медицину. Отбрасывая одно за другим смысловые наслоения, образовавшиеся вокруг слова «дух», Сервет добирался до его первоначальной этимологии. Разница между словами «spiritus», «flatus» и «ventus» представилась ему в конце концов не более чем лингвистической, условной. «Дух» и дыхание глубоко родственны друг другу: «Omne quod in virtute a Deo fit, dicitur eius flatu et inspiratione fieri, non enim potest esse prolatio verbi sine flatu spiritus. Sicut nos non possumus proferre sermonem sine respiratione, et propterea dicitur spiritus oris et spiritus labiorum... Dico igitur quod ipsemet Deus est spiritus noster inhabitans in nobis, et hoc esse Spiritum sanctum in nobis... Extra hominem nihil est Spiritus sanctus...»* А теперь Меноккио: «Что, по-вашему, Бог? Бог — это малое дуновение...»; « воздух — это Бог...»; «мы тоже боги...»; «я думаю, что [Святой Дух] обитает во всех людях...»; «что такое этот Святой Дух?... нет никакого Святого Духа».
Разумеется, дистанция между идеями испанского врача и фриульского мельника огромна. При этом известно, что в XVI веке в Италии труды Сервета пользовались большой популярностью и не только в кругу образованных людей127; не исключено, что по высказываниям Меноккио можно судить, как эти труды читались, воспринимались, преломлялись в ином сознании. Приняв эту гипотезу, мы сможем объяснить противоречие между свидетельствами жителей Монтереале и показаниями обвиняемого. Это не противоречие, а допущенная намеренно разница в уровне сложности. В резких определениях, которые Меноккио бросал односельчанам, нужно видеть осознанную попытку перевести высокоумные положения серветовской доктрины (в той мере, в какой они оказались доступны для самого Меноккио) в понятную для невежественного собеседника форму. А полное изложение, передающее всю сложность учения, предназначалось для других: для папы, короля, князя или, за неимением лучшего, — для инквизитора из Аквилеи и подеста Портогруаро.
33. Религия крестьянина
Подход Меноккио к книге предполагает наличие некоего кода; в основе этого кода, как мы установили, лежит прочная традиция устной культуры, которая по крайнем мере в одном случае — космогонических воззрений Меноккио — прямо выходит на свет. Наше предположение, что идеи Меноккио в некоторой своей части имеют своим отдаленным источником такой отнюдь не легкодоступный текст, как «De Trittitatis erroribus»*, вовсе не означает, что мы пошли в обратном направлении по уже проделанному пути. Эти гипотетические реминисценции надо рассматривать как перевод на язык народного материализма (дополнительно упрощенного в версии, предназначенной для односельчан) философской теории, недвусмысленно склоняющейся к материализму. Бог, Святой Дух, душа не существуют в качестве самостоятельных субстанций; существует только материя, наделенная божественными атрибутами, только вечный круговорот четырех стихий. В очередной раз выходит на поверхность из своего подполья устная культура Меноккио.
Его материализм был религиозным. Такие его высказывания, как, например, «в Писании один обман и предательство, а если Бог есть, почему он никому не показывается?», направлены против Бога священников и Бога книг, написанных священниками. Бога Меноккио можно видеть повсюду: «что такое Господь Бог? Это земля, вода и воздух», — утверждал он согласно все тому же свидетелю, отцу Андреа Бионима. Бог и человек, человек и мир, соединенные нерасторжимыми связями, раскрывались навстречу друг другу — «Я думаю, что [люди] созданы из земли, но из наилучшего из металлов, и это видно из того, что человек жаждет этих металлов и больше всего — золота. Мы состоим из четырех элементов и причастны семи планетам; каждый причастен одной планете больше, чем другой, и потому в ком-то больше от Меркурия, а в ком-то от Юпитера». В этой действительности, пронизанной божественными токами, находилось место даже для церковных благословений: «бес может проникнуть в любую вещь и испоганить ее», «вода, благословенная священником, изгоняет бесов», — при этом, правда, Меноккио не мог не заметить, что «всякая вода благословенна Богом» и «если б мирянин знал нужные слова, они были бы не хуже, чем слова священника, потому что Бог дал от своей силы всем поровну, а не так чтобы одному больше, а другому меньше». Перед нами, одним словом, религия крестьянина, решительно непохожая на ту религию, которой священник учил с амвона128. Конечно, Меноккио исповедовался (не в своей церкви, однако), причащался, наверняка крестил своих детей. И вместе с тем он отвергал сотворение мира, воплощение, искупление первородного греха; отрицал, что таинства нужны для спасения души; утверждал, что любить ближнего важнее, чем любить Бога; был уверен, что все мироздание — это Бог.
Только душа не укладывалась в это столь последовательное мировоззрение.
34. Душа
Вернемся к проводимому Меноккио отождествлению Бога и мира: «Ведь говорится, что человек создан по образу и подобию Божию, а человек — это воздух, огонь, земля и вода, и отсюда следует, что воздух, земля, огонь и вода — это Бог». Источником для этого высказывания Меноккио послужили «Цветы Библии». Здесь он нашел уходящую вглубь времен мысль о взаимной соотнесенности человека и мира, микрокосма и макрокосма (но внес в нее один существенный корректив). «...И потому мужчина и женщина, сотворенные последними, были сотворены из земли и праха, дабы достигали неба не гордыней своей, а смирением; земля — самый низкий из элементов, каждодневно попираемый ногами, и находится в окружении иных элементов, которые соединены и сдавлены вместе, подобно яйцу, где в середине умещается желток, его окружает белок, а снаружи — скорлупа; и вот так расположены элементы в мироздании. И под желтком разумеется земля, под белком — воздух, под тонкой пленкой, что отделяет белок от скорлупы, — вода, под скорлупой — огонь: все составлены вместе, дабы холод с теплом и сухость с влагой взаимно умеряли друг друга. И из этих же элементов состоят наши тела: наша плоть и кости это земля, кровь — это вода, дыхание — это воздух, теплота — это огонь. Вот из этих элементов состоят наши тела. Тело наше принадлежит миру, но душа подначальна одному лишь Богу, ибо она сотворена по образу Его и состоит из более благородной материи, чем тело...» Меноккио же, отождествляя человека с миром, а мир с Богом, не допускал присутствия в человеке нематериального начала, отличного от тела и его функций, — души. «Когда человек умирает, он словно скот, словно муха», — говорил он односельчанам, вторя — трудно сказать, намеренно или нет — «Екклесиасту»: «умирает человек, умирает и душа и с ней все»129.
В начале процесса Меноккио, однако, отрицал, что говорил нечто подобное. Он пытался, правда, без особого успеха, соблюдать осторожность, как советовал его старый друг, викарий из Польчениго. И на вопрос: «Что случается с душами добрых христиан?» — ответил: «Я говорил, что наши души возвращаются к божьему величию и там получают по делам своим, как Бог решит: добрых он посылает в рай, злых в ад, а некоторых в чистилище». Меноккио казалось, что лучшего укрытия, чем ортодоксальная церковная доктрина (которую он нимало не разделял) ему не найти. На самом деле, он сам себя завел в тупик.
35. «Я не знаю»
Во время следующего допроса (16 февраля) генеральный викарий первым делом потребовал разъяснений по поводу «божьего величия» и тут же взял быка за рога: «Вы говорите, что души возвращаются к божьему величию, но утверждаете при этом, что Бог — это воздух, земля, огонь и вода; каким же образом возвращаются души к божьему величию?» Противоречие было кричащим, Меноккио не знал, что сказать: «Это правда, я говорил, что воздух, земля, огонь и вода — это Бог, этого я не могу отрицать; а что же до душ, то они исходят из духа Божьего и потому должны возвратиться к духу Божьему». И генеральный викарий, не ослабляя хватки: «Дух Божий и Бог — одно и то же? Этот дух Божий тоже воплощен в четырех элементах?»
«Я не знаю», — ответил Меноккио. Немного помолчал. Устал, может быть. Или ему было непонятно, что значит «воплощен». Наконец, он сказал: «Я думаю, что у всех людей есть дух Божий, и он радуется, если мы поступаем хорошо, а если плохо — печалится».
«Вы разумеете тот дух Божий, что возник из хаоса?»
«Я не знаю».
«Говорите по правде, — не отступал викарий, — и ответьте на этот вопрос: если вы веруете, что души возвращаются к божьему величию, а Бог это воздух, вода, земля и огонь, то как они возвращаются к божьему величию?»
«Я думаю, что наш дух, который и есть душа, возвращается к Богу, который нам его дал».
До чего же был упрям этот крестьянин. Но Джамбатиста Маро, генеральный викарий, доктор обоих прав, вооружившись терпением, вновь призвал его говорить правду и только правду.
«Я говорил, — ответил Меноккио, — что все в мире — это Бог, и я думаю, что наши души возвращаются в мир и радуются по воле Божией». И помолчав еще немного: «Они словно ангелочки, которых рисуют подле Господа Бога, и те, которые достойны, остаются близ него, а других, которые творили злое, он посылает блуждать по миру».
36. Два духа, семь душ, четыре стихии
Допрос завершился, и перед нами очередное противоречие Меноккио. Высказав мысль, которую за неимением лучшего термина можно назвать пантеистической130 («все в мире — это Бог») и которая никак не сочеталась с перспективой личного бессмертия («наши души возвращаются в мир»), Меноккио, по всей видимости, был охвачен сомнением. Страх или неуверенность заставили его на некоторое время замолчать. Потом ему припомнилось изображение, увиденное в церкви, должно быть, в какой-нибудь сельской часовне: Бог в окружении ангельских хоров. Может быть, это то, о чем хотел услышать генеральный викарий?
Но генеральному викарию мало было беглого намека на традиционный образ рая (к тому же в сопровождении вполне нехристианского, народного по своему происхождению представления о душах мертвых, которые «блуждают по миру»)131. На следующем слушании он тут же прижал Меноккио к стенке, предъявив ему все его заявления, отрицающие бессмертие души: «Поэтому говорите по правде и более обстоятельно, чем делали это прежде». Меноккио в ответ выступил с неожиданным утверждением, идущим прямо вразрез тому, что он говорил на двух предыдущих допросах. Он признал, что беседовал о бессмертии души с некоторыми из своих приятелей (Джулиано Стефанутом, Мелькиорре Джербасом, Франческой Фассетой), но прибавил: «Я говорил, и это мои доподлинные слова, что со смертью тела умирает душа, но дух остается».
До этого момента Меноккио ничего похожего не говорил; более того, говорил прямо обратное — «наш дух, то есть душа». Теперь же в ответ на недоуменный вопрос викария: «Считаете ли вы, что в человеке есть тело, душа и дух и что они отличны друг от друга и что одно составляет душу, а иное — дух?» — он уверенно заявил: «Да, господин, я думаю, что душа — это одно, а дух — другое. Дух исходит от Бога, и это то, что, когда мы что-нибудь делаем, побуждает нас это делать или не делать». А душа или, скорее, души (как он пояснил в дальнейшем) — это всего лишь различные проявления интеллекта, которым суждено погибнуть вместе с телом. «Я скажу так: в человеке есть разум, память, воля, мысль, рассудок, вера и надежда — эти семь даров Бог дал человеку, их мы называем душами и они направляют нас в наших поступках, и это то, о чем я сказал, что со смертью тела умирает душа». Дух же «от человека отделен, у него та же воля, что у человека, и он управляет этим человеком»; после смерти он возвращается к Богу. Таков добрый дух: «Я думаю, — объяснил Меноккио, — что всем людям дается искушение, потому что наше сердце состоит из двух частей, одной светлой и одной темной: в темной обитает злой дух, а в светлой — добрый».
Два духа, семь душ, наконец, тело, в котором сливаются четыре стихии: спрашивается, как у Меноккио могла возникнуть такая сложная и хитроумная антропология?132
37. Судьба одной идеи
О существовании различных «душ», также как и о теле, состоящем из четырех стихий, Меноккио мог прочитать в «Цветах Библии». «Справедливо также, что у души столько имен, сколько у нее имеется телесных проявлений: поскольку душа животворит тело, она зовется субстанцией, поскольку желает — сердцем, поскольку тело дышит — духом, поскольку душа сознает и ощущает — разумом, поскольку представляет и мыслит — воображением или памятью; разумение для того помещается в самой высокой части души, облагороженной размышлением и познанием, чтобы человека не без причины именовали образом Божиим...» Этот реестр душ лишь частично совпадает с данным Меноккио, но общей их основы отрицать невозможно. Самое серьезное расхождение в том, что в «Цветах Библии» дух фигурирует на равных правах с другими наименованиями души, и к тому же в согласии с этимологией он отождествлен с дыханием как телесной функцией. Откуда же досталась Меноккио мысль о различении смертной души и бессмертного духа?
Путь, который она проделала, был долгим и непрямым133. Для начала нам нужно обратиться к спорам о бессмертии души, которые велись в начале XVI века в кругах итальянских аверроистов, то есть главным образом среди профессоров Падуанского университета, находившихся под влиянием идей Помпонацци134. Эти философы и врачи открыто полагали, что со смертью тела индивидуальная душа — не тождественная аверроистскому активному интеллекту — должна погибнуть. Разрабатывая эти идеи в религиозном ключе, францисканец Джироламо Галатео (учившийся в Падуе и затем по обвинению в ереси приговоренный к пожизненному заключению) утверждал, что души, которым уготовано блаженство, после смерти спят вплоть до Страшного суда. Возможно, следуя за ним, бывший францисканец Паоло Риччи, более известный под именем Камилло Ренато, защищал теорию сна душ, вводя различение между «anima», обреченной на гибель вместе с телом, и «animus», которому суждено воскреснуть в конце времен. Под прямым влиянием Ренато, жившего в изгнании в Вальтеллине, эта теория была воспринята, хотя и не без некоторого сопротивления, венетскими анабаптистами135, полагавшими, «что душа это жизнь и что, когда человек умирает, тот дух, который поддерживает в человеке жизнь, отправляется к Богу, а жизнь идет в землю, и там спит, не сознавая ни добра, ни зла, пока не наступит судный день и все не воскреснут по воле Господа»136, — кроме отверженных, для которых никакой будущей жизни не существует. Поэтому «нет иного ада, кроме могилы»137.
Профессора Падуанского университета и фриульский мельник — связь между ними кажется невозможной и все же она есть, при всей ее исторической уникальности. В этой цепи влияний и контактов нам даже известно последнее звено — священник из Польчениго, Джован Даниэле Мелькиори, друг Меноккио с детства. В 1579–1580 годах, за несколько лет до процесса Меноккио, он также был привлечен к инквизиционному суду в Конкордии и оставлен под подозрением в еретических мыслях. Обвинения в его адрес со стороны прихожан были многочисленны и разнообразны: от «сводничества и распутства» до неуважительного отношения к предметам культа (например, к освященным гостиям). Но для нас интересно другое: в разговоре, на деревенской площади Мелькиори утверждал, что души «отправляются в рай только в судный день». На суде Мелькиори эти слова отрицал, но признал другое, а именно, что указывал на разницу между смертью телесной и смертью духовной, основываясь на прочитанной им книге «одного священника из Фано» — имени автора он не помнил, а книга называлась «Руководство к чтению проповедей». И воспользовавшись случаем, Мелькиори не без некоторого апломба прочел инквизиторам самую настоящую проповедь: «Я хорошо помню, как говорил о смерти телесной и духовной и о том, что есть два вида смерти, весьма друг от друга отличающихся. Ибо телесная смерть постигает каждого, духовная же смерть — лишь лиходеев; телесная смерть похищает у нас. жизнь, духовная — жизнь и благодать; телесная смерть разлучает нас с друзьями, духовная — со святыми и ангелами; телесная смерть отлучает нас от благ земных, духовная — от небесных; телесная смерть лишает нас земных прибытков, духовная — всех даров Иисуса Христа, спасителя нашего; телесная смерть изгоняет нас из царства земного, духовная — из царства небесного; телесная смерть оставляет нас без ощущений, духовная — без ощущений и разума; телесная смерть обрекает нас на телесную неподвижность, духовная — превращает в подобие камня; в телесной смерти издает зловоние тело, в духовной — душа; телесная смерть отдает тело земле, духовная — душу аду; смерть нечестивых зовется наигорчайшею, как читаем в псалме Давида: «mors peccatorum pessima»*, смерть праведных — драгоценною, как читаем там же: «pretiosa in conspettu Domine mors sanctorum ems»**; смерть нечестивых именуется смертью, смерть праведных — сном, как читаем у Иоанна-евангелиста: «Lazzarus amicus noster dormit»***, — и в другом месте: «non est mortua puella sed dormit»****, нечестивые боятся смерти и не хотят умирать, праведные не боятся смерти, но говорят вслед за св. Павлом: «cupio dissolvi et esse cum Christo*****». И о таковом различии между смертью телесной и смертью духовной я рассуждал и проповедовал; ежели я в этом ошибался, то готов покаяться и вину свою искупить».
Хотя Мелькиори не имел под рукой книги, на которую ссылался, он превосходно помнил ее содержание. Его речь почти слово в слово воспроизводит тридцать четвертую проповедь из «Руководства к чтению проповедей во утверждение христианского жития», весьма популярного учебника для проповедников, написанного монахом-августинцем (священником он не был) Себастьяно Аммиани из Фано138. При этом за игрой невинных риторических оппозиций совершенно пропало высказывание, которое вполне можно было квалифицировать как еретическое: «смерть нечестивых именуется смертью, смерть праведных — сном». Без сомнения, Мелькиори, утверждавший, что души «отправляются в рай только в судный день», отдавал себе отчет в его неортодоксальности. Инквизиторы же определенно испытывали замешательство. К какой ереси причислить воззрения Мелькиори? О затруднениях судей свидетельствует и текст обвинения: Мелькиори вменялось в вину, что он склоняется к «ad perfidam, impiam, eroneam, falsam et pravam hereticorum sectam... nempe Armenorum, nee non Valdensium et Ioannis Vicleff»*139. Об анабаптистских корнях учения о сне душ инквизиторы из Конкордии явно не подозревали. Столкнувшись с подозрительными, но незнакомыми им мыслями, они вытащили из своих справочников определения вековой давности. То же самое, как мы увидим в дальнейшем, произошло и с Меноккио.
В материалах процесса Мелькиори ни слова не говорится о раздельности смертной «души» и бессмертного «духа», а ведь как раз на этой их раздельности держится тезис о душах, спящих вплоть до Страшного суда. Идею о тем, что «душа» и «дух» не одно и то же, Меноккио должен был почерпнуть из бесед с польченигским викарием.
38. Противоречия
«Я думаю, что наш дух, который и есть душа, возвращается к Богу, который нам его дал», — сказал Меноккио 16 февраля (на втором допросе). «Со смертью тела умирает душа, но дух остается», — поправился он 22 февраля (на третьем допросе). Утром 1 мая (шестой допрос) он вроде бы вернулся к первоначальному утверждению: «душа и дух — одно и то же».
Его спросили о Христе: «Кто был Сын Божий — человек, ангел или истинный Бог?». «Человек, — ответил Меноккио, — но в нем был дух». И добавил: «В Христе либо была душа одного из ангелов, рожденных в древние времена, либо его душа была сызнова создана Святым Духом из четырех элементов, либо произошла из природы. Нельзя ничего сотворить доброго, иначе как втроем, и потому Бог как Святому Духу, так и Христу даровал знание, волю и могущество, так что им было отрадно вместе... Когда двое в чем-то несогласны, то и третий туда же, а когда согласны двое, то заодно с ними и третий; и потому Отец даровал волю, знание и могущество Христу, чтобы и он имел суждение...»
Уже перевалило за полдень: вскоре объявят перерыв и допрос возобновится после обеда. Меноккио говорил без остановки, сыпал пословицами и цитатами из «Цветов Библии», захлебывался в словах. Он устал. Он уже несколько месяцев провел в тюрьме и надеялся, что суд вскоре закончится. Но при этом его опьяняло сознание того, что его с таким вниманием слушают ученые монахи (и есть даже нотарий, который записывает его ответы) — до сих пор его аудиторию составляли полуграмотные крестьяне и ремесленники. Инквизиторы это, конечно, не папа, не король, не князья, перед которыми он мечтал высказаться, но тоже неплохо. Меноккио повторялся, добавлял новые подробности, забывал о том, что говорил раньше, запутывался в противоречиях. Христос «был человеком, как мы, родившимся, как мы, от отца и матери..., но Бог через Духа Святого избрал его себе в сыновья... Бог избрал его своим пророком и даровал ему великую мудрость через Духа Святого, и я думаю, что он творил чудеса... Я думаю, что у него был такой же дух, как у нас, потому что душа и дух — одно и то же». Но что это значит: душа и дух — одно и то же? «Раньше вы говорили, — прервал его инквизитор, — что со смертью тела умирает и душа; потому ответьте, умерла ли душа Христа с его смертью?» Меноккио засуетился, начал перечислять души, которые Бог дал человеку: разум, память и т.д. На вечернем заседании судьи вернулись к этому вопросу: у Христа со смертью тела погибли также его разум, Память и воля или нет? «Да, погибли, потому что на небесах нет надобности в их работе». Так значит, Меноккио отказался от идеи неподвластного смерти духа и полностью отождествил его с душой, обреченной на гибель вместе с телом? Нет, не отказался: вскоре, заговорив о Страшном суде, он скажет, что «эти сиденья были заняты духами небесными, а будут заняты духами земными, избранными из наилучших», и среди них будет дух Христа, «потому что у Христа, сына его, дух земной». И как все это понимать?
Полностью распутать все эти головоломки невозможно, да, наверное, не надо и пытаться. Но дело в том, что за противоречиями словесными у Меноккио скрывалось противоречие по существу.
39. Рай
Он никак не мог отказаться от мысли о жизни после смерти. В том, что человек, умерев, распадается на элементы, составляющие его тело, он был уверен. Но какое-то непобедимое чувство влекло его к образам посмертного существования. Именно поэтому в его голове зародилось туманное противопоставление смертной «души» и бессмертного «духа». Потому-то и прямой вопрос генерального викария: вы «утверждаете..., что Бог — это воздух, земля, огонь и вода; каким же образом возвращаются души к божьему величию?», — лишил его, столь словоохотливого, на какое-то время речи. Конечно, воскресение плоти казалось ему делом невозможным, немыслимым. «Нет, господин, я не думаю, что в судный день мы воскреснем вместе с телами, потому что, если это случится, тела наши заполнят все небо и землю; просто Бог будет видеть наши тела в своем разуме, подобно тому как мы, закрывая глаза и желая представить себе некую вещь, помещаем ее в свой разум и так посредством разума ее видим». Ад же ему казался поповской выдумкой. «Когда людей наставляют жить в мире, это мне нравится, когда же проповедуют об аде — Павел сказал так, Петр сказал эдак, — то по-моему, это барышничество, это вымысел тех, кто думает, что все на свете знает. Я читал в Библии, — прибавил он, намекая на то, что настоящий ад находится на земле, — что Давид сочинил свои псалмы, когда его преследовал Саул». Но потом, впадая в явное противоречие, он признал действенность индульгенций («я думаю, им можно верить») и молитв за усопших («Бог даст ему немного лучшее место и прибавит ему разумения»), С особенной охотой он воображал себе рай: «Я думаю, что это такое место, которое окружает весь мир, и оттуда все на земле можно видеть, даже рыб в море, и у тех, кто находится в этом месте, словно бы праздник...» Рай — это праздник, конец работы, конец каждодневных забот. В раю «разум, память, воля, мысль, рассудок, вера и надежда», то есть «семь даров», которые «Бог дал человеку, словно бы плотнику, которому надо что-то смастерить, и как плотник делает свою работу топором, пилой и рубанком, так и Бог дал человеку то, чем ему делать его работу», — эти «семь даров» в раю уже не нужны: «на небесах нет надобности в их работе». В раю материя становится послушной и прозрачной: «Этими телесными очами нельзя увидеть все, а очи разума проникают всюду, проникают сквозь горы, стены и все на свете...»
«Словно бы праздник». Крестьянский рай Меноккио напоминает не столько христианское, сколько мусульманское загробье, привлекательное описание которого имеется в книге Мандевиля. «Рай — это Прелестное место, здесь в любое время года произрастают всевозможные плоды, здесь реки текут молоком, медом, вином и сладчайшей водой..., дома здесь прекрасные и благородные по заслугам тех, кто в них обитает, и украшены самоцветами, золотом и серебром. Здесь много красавиц, и всякий с ними поступает по своей охоте, и они становятся все прекраснее...» Однако инквизиторам, допытывавшимся, верит ли Меноккио в земной рай, он ответил с горьким сарказмом: «По-моему, земной рай это у дворян, у которых всего в избытке и они живут в ус не дуя».
40. «Новое устройство всей жизни»
Меноккио, не ограничиваясь картинами рая, мечтал о «новом мире»: «Дух мой был объят гордыней, — говорил он инквизиторам, — я желал нового мира и нового устройства всей жизни, я думал, что церковь идет по неправому пути и хулил ее за роскошество». Что означали эти слова?
В обществах, не знающих письменной культуры, коллективное сознание не принимает изменений, пытается их скрыть от самого себя140. Относительной изменчивости материальной жизни противопоставляется подчеркнутая неизменность прошлого. Всегда было так, как сейчас, мир таков, как он есть. И только в периоды резких социальных сдвигов возникает мифический в своей основе образ иного и лучшего прошлого, по отношению к которому настоящее предстает как время упадка и вырождения. «Когда Адам пахал и Ева пряла, кто был дворянином?»141 Борьба за изменение социального порядка превращается в таком случае в целенаправленную попытку вернуть это мифическое прошлое.
И Меноккио сравнивал богатую и погрязшую в пороках церковь, которая была у него перед глазами, с первоначальной церковью, бедной и непорочной:142 «Я бы хотел, чтобы в церкви была любовь, как было устроено Иисусом Христом..., здесь эти роскошные мессы, Иисус Христос не хочет роскошества». Но он умел читать в отличие от большинства своих односельчан и потому мог составить себе более сложный образ прошлого. И в «Цветах Библии» и особенно в «Прибавлении к прибавлениям к хроникам» Форести он встречался с рассказами об исторических событиях, от сотворения мира до современности, где соединялись священная и профанная история, мифология и теология, описания битв и описания стран, имена государей и философов, еретиков и художников. Мы не знаем, что чувствовал Меноккио, знакомясь с этими рассказами. Разумеется, он не был ими «измучен», как при чтении Мандевиля. Кризис этноцентризма определялся в XVI веке (и еще много времени спустя) не историей, а географией, пусть даже сказочной143. И все же одно, едва различимое указание на переживания, испытанные Меноккио во время чтения хроники Форести, у нас имеется.
«Прибавление» многократно переводилось на итальянский и переиздавалось как до, так и после смерти автора (в 1520 году). У Меноккио в руках находился, скорее всего, посмертно вышедший перевод; неизвестный редактор дополнил его материалами, относящимися к событиям последнего времени. Среди прочего этот редактор — видимо, собрат Форести по августинскому ордену — поместил в хронику рассказ о расколе «Мартина, прозывавшегося Лютером, инока из ордена св. Августина». Тон рассказа был вполне благожелательный и лишь под конец брали верх резко негативные оценки. «Причиной такового лютерова нечестия мнится сам папа римский (что ложно), но на самом деле проистекло оно от неких лиходейных и зломысленных людишек, которые, корча из себя святых, творили дела великого непотребства». Этими людишками были францисканцы, которым Юлий II и вслед за ним Лев X поручили распространение индульгенций. «И по своему невежеству, которое есть матерь всех пороков, и по алчности к злату, ими сверх всякой меры овладевшей, сказанные иноки впали в такое безумие, что породили великое нестроение среди тех народов, где они промышляли этими индульгенциями. И особливо свирепствовали они в Германии, и когда мужи, славные ученостью и добрыми нравами, обличали таковую их дурь, они в ответ отлучали их от лица церкви. Среди таковым манером отлученных был и Мартин Лютер, муж, весьма в науках искушенный...» Тем самым причиной раскола, по мнению безымянного продолжателя хроники, была «дурь», проявленная представителями соперничающего монашеского ордена, которые ответили отлучением на справедливые упреки Лютера. «Потому-то сказанный Мартин Лютер, рожденный от знатных родителей и у всех пребывавший в почете и уважении, начал прилюдно говорить против этих индульгенций, именуя их обманными и нечестивыми. И от этого вскорости пошло в народе большое смятение. И поскольку миряне и до этого негодовали на духовенство, захватившее все их богатства, то тем охотнее пошли за Лютером, и так было положено начало расколу в католической церкви, Лютер же, увидев себя окруженным сторонниками, полностью отпал от католической церкви и учинил новую секту и новое устройство всей жизни, где все стало иное и небывалое. Отсюда и воспоследовало, что большая часть этих стран бунтует против католической церкви и не покорствует ей ни в чем...»
«Учинил новую секту и новое устройство всей жизни» — «я желал нового мира и нового устройства всей жизни, я думал, что церковь идет по неправому пути и хулил ее за роскошество». Открывая свои, внушенные ему «гордыней», мысли о необходимости религиозной реформы (к тому, что означают слова о «новом мире», мы вернемся чуть позже), Меноккио следовал — трудно решить, намеренно или бессознательно, — сказанному о Лютере в хронике Форести. Конечно, он не воспроизводил его богословские идеи, о которых, впрочем, в хронике говорилось скупо — только осуждалось «новое учение», выдвинутое Лютером. Но с чем он определенно не мог согласиться, это с уклончивым и в какой-то степени двусмысленным выводом автора хроники: «И вот так он прельстил простой народ, а люди ученые примкнули к нему, услышав о винах духовного сословия и не сообразив, что следующее умозаключение ложно: духовенство и клирики ведут дурную жизнь, значит нехороша и римская церковь. Не верно это: церковь остается благодатной, даже если служители ее недостойны, и вера христианская остается совершенной, даже если христианам далеко до святой жизни». «Законы и повеления церкви» Меноккио, вслед за Каравией, считал «барышничеством», выдумкой попов, которым нужно лишь набивать себе мошну: нравственное очищение духовенства и обновление религиозного учения были для него неотделимы друг от друга. Прочитав о Лютере в хронике Форести, он увидел в нем религиозного бунтаря, сумевшего объединить в борьбе против духовных властей «простой народ» и «людей ученых», используя их «негодование» против церкви, «захватившей все их богатства». «Церковь и попы все захватили», — заявил Меноккио инквизиторам. И кто знает, может быть, он в мыслях своих сравнивал положение во Фриули с тем, что происходило за Альпами, в странах, где Реформация победила.
41. «Убивать попов»
Мы не знаем, за одним исключением, к которому обратимся позже, имел ли Меноккио какие-либо контакты с «людьми учеными». Хорошо известно, с другой стороны, как упорно он пытался ознакомить со своими взглядами «простой народ». Но похоже, сторонников он приобрести не сумел. В приговоре, вынесенном судом, эта его неудача расценивалась как проявление божьей воли, не допустившей, чтобы злотворное влияние коснулось простых душ обитателей Монтереале.
Один из них, правда, слушал рассказы Меноккио во все уши — Мелькиорре Джербас, плотник, не знавший грамоты и всеми в деревне считавшийся за «малоумного». О нем говорили, что он «богохульствует по трактирам и кричит, что Бога нет», и не один свидетель связывал его имя с именем Меноккио, поскольку Джербас «говорил худые и непотребные слова о церкви». Тогда генеральный викарий пожелал выяснить, в каких он был отношениях с Меноккио, только что заключенным в тюрьму. Сначала Мелькиорре утверждал, что у них не было ничего общего, кроме работы («он мне дает древесину для разных работ, и я за нее плачу»), но потом признал, что хулил Бога в монтереальских трактирах, повторяя слова, услышанные от Меноккио: «Меноккио мне говорил, что Бог — это воздух, и я тоже так думаю...»
В чем причина такого слепого подчинения, понять нетрудно. Умение Меноккио читать, писать, вести беседы должно было окружать его в глазах Мелькиорре почти магическим ореолом. Одолжив ему Библию, имевшуюся в его доме, Мелькиорре ходил потом по деревне и сообщал всем с таинственным видом, что у Меноккио есть книга, с помощью которой тот может «делать всякие чудеса». Но разница между ними была для всех очевидна. «Этот способен на всякое еретичество, но ему далеко до сказанного Доменего», — как заметил один свидетель, говоря о Мелькиорре, А по словам другого, «он все это говорит, потому что не своем уме и когда бывает пьян». Генеральный викарий также быстро понял, что плотнику далеко до мельника. «Когда вы утверждали, что Бога нет, верили в это в душе своей?» — спросил он его без всякой суровости. Мелькиорре ответил, нимало не задумываясь: «Нет, падре, я верю, что есть Бог на земле и на небесах и что он может меня умертвить, когда захочет, а эти слова я говорил, потому что научился им от Меноккио». Ему назначили нетяжелое покаяние и отпустили восвояси. Таков был единственный — во всяком случае, единственный сознавшийся — последователь Меноккио в Монтереале.
С женой и детьми Меноккио откровенных разговоров не вел: «Боже их сохрани иметь такие мысли». Несмотря на свою кровную связь с деревней, Меноккио должен был чувствовать себя изгоем. «В тот вечер, — признался он, — когда отец инквизитор сказал мне: «Завтра приходи в Маниаго», — я пал духом и хотел бежать, куда глаза глядят, и пуститься во все тяжкие... Я хотел убивать попов и поджигать церкви и творить всякое зло. Но я подумал о двух своих крошках и удержался...» Этот взрыв бессильного отчаяния лучше всяких слов говорит об его одиночестве. Другого ответа на несправедливость, кроме разбоя, он не видел — правда, тут же от него отказался. Отомстить преследователям, разрушить символы их власти, стать вне закона...144 Поколением раньше крестьяне жгли замки фриульских нобилей. Но времена изменились.
42. «Новый мир»
Теперь ему оставались лишь мечты о «новом устройстве мира». Эти слова истерлись со временем как монета, прошедшая через множество рук. Нам надо вспомнить их первоначальный смысл.
Меноккио, как мы убедились, не верил в сотворение мира Богом. Помимо того, он открыто отрицал учение о первородном грехе, утверждая, что человек «начинает грешить, когда начинает пить молоко матери, выйдя из ее чрева». Христос был для него человеком и только. Естественно, что ему были чужды какие-либо милленаристские идеи. В своих показаниях он ни разу ни словом не обмолвился о втором пришествии. «Новый мир», о котором он мечтал, представлял собой поэтому явление сугубо земное — нечто, что человек может достичь с помощью собственных сил.
Во времена Меноккио это выражение сохраняло всю свою смысловую наполненность и еще не успело превратиться в расхожую метафору. Если оно и было метафорой, то метафорой в квадрате. В начале века под именем Америго Веспуччи было напечатано послание, адресованное Лоренцо ди Пьетро Медичи и носившее именно такое название — «Mundus novus»*145. Его переводчик с итальянского на латынь, Джулиано ди Бартоломео Джокондо, сопроводил название специальным пояснением. «Superioribus diebus satis tibi scrips! de reditti meo ab novus illis regionibus... quasque novum mundum appellare licet, quando apud maiores nostros rmlla de ipsis fuerit habita cognitio et audientibus omnibus sit novissima res»**. He Индия, следовательно, как считал Колумб, и не просто неизведанные земли, но самый настоящий новый мир. «Licet appellare»*** — метафора была новой с иголочки, и за нее приходилось почти что просить извинения у читателя. В этом значении она быстро распространилась и вошла во всеобщее употребление. Меноккио, однако, употреблял это выражение в другом смысле, относя его не к новому континенту, а к новому обществу, которое еще только предстояло создать.
Мы не знаем, кто впервые осуществил этот сдвиг смысла. Ясно, что за ним просматривается образ быстрого и решительного общественного переустройства. В 1527 году в письме к Буцеру Эразм Роттердамский с горечью указывал на общественные потрясения, которыми сопровождается лютеровская Реформация, отмечая, что первым делом во избежание их следовало искать поддержки у церковных иерархов и светских властей и что многое, в первую очередь мессу, надо было реформировать со всяческой осторожностью146. Сейчас немало таких людей — писал он в заключении, — которые отвергают всякую традицию («quod receptum est»), как будто новый мир можно создать в мгновение ока («quasi subito novus mundus condi posset»). Медленные и постепенные перемены с одной стороны, быстрый и крутой переворот (революция, сказали бы мы сейчас) с другой — противопоставление очень четкое. Но никакого географического подтекста в выражении «novus mundus» у Эразма нет; единственный дополнительный смысловой оттенок вносится словом «condere», обозначающим, как правило, основание города.
Перенесение метафоры из географического контекста в социальный происходит в совершенно другой литературной отрасли — в жанре утопии, причем на самых разных уровнях. Вот, к примеру, «Капитоло, где рассказывается о новом мире, обретенном в море Океане, сочинение приятное и усладительное» — оно издано без имени автора в Модене в середине XVI века. Это очередная вариация на тему страны Кокань147 (она прямо поименована в предваряющей «Капитоло» «Шутейной речи о всяких чудачествах»), которая в данном случае помещается на новооткрытых заокеанских землях:
Разведчики неведомых земель Открыли за пустынным океаном Прекрасную и новую страну.В описании страны присутствуют характерные для этой грандиозной крестьянской утопии мотивы:
Там высится гора среди равнины Из сыра тертого, и с той горы Сбегает вниз молочная река, Текущая затем по всей округе В творожных берегах... Король тех мест зовется Бугалоссо. Велик и толст подобно стогу сена, Он королем назначен оттого, Что трусостью никто ему не равен. Из задницы он манну извергает, Плюется марципаном, и плотва Наместо вшей в его башке клубится.Этот «новый мир» отличается не только изобилием, но и полным отсутствием каких-либо социальных обязательств. Здесь нет семьи, потому что царит полная сексуальная свобода:
Там нет нужды ни в юбках, ни в накидках. Рубашек и штанов никто не носит. Все голые, и девки и мужчины. Ни холода там нету, ни жары, И всяк любого видит, сколько хочет. О, счастье, не имеющее равных... Детей они заводят, не считая, О пропитаньи им не нужно думать: С дождем там выпадают макароны. Отцов, как выдать замуж дочерей, Забота не гнетет: там каждый Устраивается по своей охоте.Здесь нет собственности, потому что не надо трудиться и все принадлежит всем:
Чего захочешь здесь, то и имеешь. А одного, кто вздумал говорить, Что надобно всем сообща трудиться, Повесили немедленно всем миром... Здесь нет ни мужиков, ни бедняков, Любой богат, любой преизобилен. По всем полям навалены пожитки. Земля не размежевана никем, Владей, чем хочешь, и селись, где знаешь: Свобода здесь поэтому царит.Эти мотивы, которые замечаются (хотя и не с такой отчетливостью) почти во всех произведениях данного времени, посвященных стране Кокань, имеют по всей вероятности в своей основе те впечатления, которые первооткрыватели заокеанских земель составили о них и об их обитателях: нагота, сексуальная свобода, отсутствие частной собственности и социального неравенства, и все это на фоне приветливой и благодатной природы148. Средневековому мифу о стране изобилия тем самым сообщались черты некоей элементарной утопии. Здесь в принципе допускалось любое вольномыслие, которое надежно маскировалось буффонадой, парадоксом, гиперболой149, — всеми этими совами, которые испражняются меховыми шубами, и ослами в упряжи из сосисок, — вкупе с ритуальной иронической концовкой:
Хотите знать, как вам туда добраться? В шутейной гавани найдите вы корабль, На нем по морю врак скорей пускайтесь, Как приплывете — будете дурак.Совсем другой язык использовал Антон Франческо Дони, автор одной из первых и самых известных итальянских утопий XVI века: его диалог, включенный в книгу «Миров» (1552), так и называется — «Новый мир»150. Тон здесь серьезный, содержание также резко изменилось. Утопия Дони уже не крестьянская, подобно «Стране Кокань»151, место ее действия — город, имеющий в плане форму звезды. Обитатели его «нового мира» в своих привычках умеренны («мне весьма по душе указ, покончивший с бичом повального пьянства..., с этим обыкновением проводить за столом по полдня») и ничуть не похожи на коканьских забулдыг. Но и у Дони античный миф о золотом веке соединяется с картиной первобытной чистоты и невинности, характерной для первых рассказов об Америке152. Правда, прямых ссылок на них нет: мир, описываемый Дони, именуется им просто «новый мир, отличный от нашего». Благодаря некоторой уклончивости этого выражения модель идеального общества впервые в утопической литературе могла быть размещена во времени, в будущем, а не в пространстве, в неведомых землях153. Но из донесений путешественников (а также из «Утопии» Мора, публикацию которой Дони осуществил лично, сопроводив ее предисловием) сюда перешли наиболее характерные черты этого «нового мира», а именно общность женщин и имущества154. Мы видели, что они свойственны также образу страны Кокань.
Об открытиях, сделанных в Америке, Меноккио мог кое-что узнать из скупых упоминаний в «Прибавлении» Форести. Может быть, их он имел в виду, когда утверждал с обычной для себя безапеляционностью: «я читал, что людей есть много всякого сорта, и потому думаю, что их еще больше в различных частях света». С «новым миром» Дони, городским и благопристойным155, он, скорее всего, знаком не был, а о крестьянском и карнавальном мире «Капитоло» или других подобных ему сочинений мог кое-что слышать. Во всяком случае в обоих он нашел бы нечто себе по вкусу. В мире, описанном Дони, — религию, обходящуюся без обрядов и церемоний несмотря на то, что храм помещен здесь в центре города и доминирует над ним156; религию, ограниченную предписанием «знать Бога, благодарить его и любить ближнего»157, — к тому же самому призывал на суде и Меноккио. В мире, описанном в «Капитоло», — представление о счастье, основанном на изобилии, на наслаждении материальными благами, на отсутствии труда. Правда, Меноккио в ответ на обвинение в нарушении поста сказал, что считает пост полезным для здоровья («Пост нужен для рассудка, чтобы не разгорячался сверх меры от жидкостей; по мне, есть надобно трижды или четырежды в день, а вина не пить вовсе, потому что оно разгорячает жидкости»). Но эта апология трезвости завершилась полемическим выпадом, адресованным, видимо (в протоколе тут есть пропуски), непосредственно монахам, составляющим инквизиционный трибунал: «И не надобно следовать тем, кто за один присест съедает больше, чем другие за весь день». В мире, где царит социальная несправедливость, где ни на миг не отступает угроза голода, призыв к трезвости и воздержанности звучал как протест.
В земле мы роемся, как мыши: Всяк корешок годится в пищу. Но брюхо воет смертным воем: От голода избавь нас, Боже.— читаем мы в современной «Жалобе бедняка на бескормицу»158.
Праздник к нам пришел, ребята, Будем радоваться вместе: Нас не мучит больше голод, Отпустила нас недоля... Хлеба вдоволь, вдоволь каши — Урожай собрали знатный. Воспоем ему мы славу, Он вернул надежду нам... После тьмы приходит солнце, После горя — ликованье. Закрома полны доверху, Изобилье наступает. Наше солнце, наше счастье — Белый, сладкий, чудный хлеб.— подает ответную реплику помещенная немедленно следом «Всеобщая радость по случаю изобилия». Этот стихотворный «контраст» дает нам реалистическую поправку к гиперболическим фантазиям о стране Кокань. По сравнению с «корешками» периода недорода «белый, сладкий, чудный хлеб» в период изобилия — это «праздник». «Словно бы праздник», сказал Меноккио о рае; праздник без конца, избавленный от периодической смены «тьмы» и «солнца», недородов и богатых урожаев, поста и карнавала159. Страна Кокань по ту сторону океана — это тоже праздник, всеобщий и непрекращающийся. Наверное, «новый мир», о котором думал Меноккио, был на нее похож.
Во всяком случае, в словах Меноккио приоткрываются на мгновение глубокие народные корни всяких утопий, обращенных как к простому, так и к ученому читателю и до сих пор очень часто понимаемых как чисто литературные упражнения160. Вполне вероятно, что в образе «нового мира» многое шло от прошлого, от представлений о мифически далекой эпохе благоденствия161. Этот образ, иначе говоря, не вступал в противоречие с циклической картиной истории, типичной для эпохи, которая жила мифами возрождения, реформации, нового Иерусалима162. Это все, повторяю, исключать нельзя. Но факт есть факт: образ более справедливого общества вполне сознательно переносился в будущее, и будущее не эсхатологическое. Не Сын Человеческий, сошедший с небес163, а борьба людей, подобных Меноккио — хотя бы тех его односельчан, которых он безуспешно пытался сделать своими единомышленниками, — должна была утвердить на земле «новый мир».
43. Окончание допросов
Допросы закончились 12 мая. Меноккио отправили обратно в тюрьму, где он провел еще несколько дней. 17 мая он отказался от предложенного ему адвоката и передал судьям длинное письмо, в котором просил прощения за свои ложные мнения, — тремя месяцами ранее его сын тщетно добивался от него такого письма.
44. Письмо судьям
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я, Доменего Сканделла, прозываемый Меноккио из Монтереале, крещенный в христианской вере, всегда жил по-христиански и дела мои были, как пристало христианину, я всегда, сколько было в моих силах, повиновался начальникам и моим духовным отцам и всегда утром и вечером осенял себя святым крестным знамением со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — и читал «Отче наш» и «Аве Мария» и «Верую» с одной молитвой господней и одной — Богоматери; верно также, что я, как было на меня показано, в помышлениях и на словах преступал заповеди Божьи и святой нашей церкви. Я совершал это, подстрекаемый злым духом, который ослепил мне разум, память и волю с тем, чтобы я думал, верил и говорил по лжи, а не по истине; я сознаюсь в том, что думал, верил и говорил по лжи, а не по истине, и то были мои мнения, но они не имели в себе истины. Я хочу для примера вспомнить в кратких словах об Иосифе, сыне Иакова, как он рассказал отцу и братьям о некоторых своих снах, которые означали, что все должны будут ему поклониться; и братья за это схватили его и хотели убить, но Бог не пожелал, чтобы его убили, и они продали его купцам из Египта, которые отвели его в Египет, и там он за некие провинности попал в тюрьму, а потом царю Фараону приснился сон, в котором он увидел семь жирных коров и семь тощих, и никто не мог объяснить ему этого сна. Тогда ему сказали, что в тюрьме есть один юноша, который умеет толковать сны, и его взяли из тюрьмы и отвели к царю, и он сказал царю, что жирные коровы означают семь лет великого изобилия, а семь тощих — семь лет великого голода, когда зерна нельзя будет найти ни за какие деньги. И царь ему поверил и сделал его князем и управителем всего царства египетского, и вот наступило изобилие, и Иосиф собрал зерна больше, чем на двадцать лет; потом наступил голод и зерна нельзя было найти ни за какие деньги, а Иаков узнал, что в Египте можно купить зерно, и он послал десять своих сыновей с вьючными животными в Египет, и брат их узнал и с дозволения царя послал забрать отца своего со всем семейством и со всем его добром. И они жили все вместе в Египте, но братья боялись Иосифа, потому что они его продали, и Иосиф, заметив это, сказал им: «Не бойтесь, что продали меня, ибо не вы всему этому причиной, а Бог, который хотел, чтобы я помог вам в вашей нужде; радуйтесь, ибо я прощаю вам от всего сердца». И также и я говорил с моими братьями и духовными отцами, и они меня обвинили, словно бы продали, почтеннейшему отцу-инквизитору, и он приказал отвести меня в тюрьму, но я их не виню, потому что это была воля Божья, я всех их, будь то братья или, может быть, духовные отцы, прощаю, и пусть Бог меня простит также, как я прощаю их. Есть четыре причины, почему Бог пожелал, чтобы меня доставили в эту святую инквизицию: первое — чтобы я покаялся в своих прегрешениях, второе — чтобы я понес за них наказание, третье — чтобы избавить меня от злого духа, четвертое — чтобы дать урок моим детям и всем моим духовным собратьям, да не впадут в подобные же вины. И потому если я в помышлениях, на словах или на деле погрешал против заповедей Бога и святой церкви, я сокрушаюсь и скорблю, раскаиваюсь и сожалею, я говорю: «я — грешник, великий грешник», и во избавление меня от грехов я прошу милости и снисхождения у святейшей Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, затем у преславной Девы Марии и всех святых из рая, а также у вашего святейшего и превозвышеннейшего суда, чтобы он милосердно даровал мне прощение; и еще я прошу во имя страстей Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы судили меня без гнева и строгости, но с любовью, жалостью и милосердием. Вам известно, что Господь наш Иисус Христос был милосерден и жалостлив и таким всегда будет: он простил Марии Магдалине, которая грешила много, простил св. Петру, который от него отрекся, простил разбойнику, которого казнили за воровство, простил иудеям, которые его распяли, простил св. Фоме, который не верил, пока не увидел и не дотронулся; и я твердо верую, что он и меня простит и будет иметь ко мне снисхождение. Я нес покаяние в темнице сто четыре дня со стыдом и позором и с разорением и плачем дома моего и детей моих; и потому прошу вас ради Господа нашего Иисуса Христа и матери его преславной Девы Марии не лишать меня вашей любви и милосердия и не разлучать меня с близкими моими и с детьми моими, данными мне на радость и на утешение; я обещаю никогда впредь не впадать в подобные вины и провинности, но покорствовать моим начальникам и духовным отдам и ни в чем не отклоняться от того, что они мне прикажут. Я ожидаю вашего святейшего и превосходительного приговора и наставления в христианском житии, чтобы и я мог наставить детей моих. И вот каковы были причины моих прегрешений: первое — я верил, что есть только две заповеди: любить Бога и любить ближнего, и этого довольно; второе — то, что я читал эту книгу Мандавилла, где говорится о разных народах и разных верах, и она всего меня измучила; третье — я думал, что я до всего могу дойти своим умом и памятью; четвертое — злой дух, который меня преследовал и внушал мне ложные помышления; пятое — раздор, который у меня вышел с нашим священником; шестое — что я день-деньской работал и падал с ног от усталости и потому не мог исполнять в точности все заповеди Бога и святой церкви. И на том моя защита заканчивается; я уповаю, что обратятся на меня ваши жалость и милосердие, но не гнев и строгость, и прошу у Господа нашего Иисуса Христа и у вас не гнева и строгости, а жалости и милосердия. И не поставьте мне в вину мои лжи и невежество».
45. Риторические фигуры
Исписанные рукой Меноккио листы, где буквы поставлены друг подле друга, почти без связок (что свойственно, как утверждает руководство по каллиграфии того времени, «заальпийским народам, женщинам и старикам»)164, показывают, что этот мельник был не в больших ладах с пером. Совершенно иначе выглядит нервный и беглый почерк дона Курцио Челлина, монтереальского нотария, который окажется во время второго процесса Меноккио среди его обвинителей.
Школа, которую Меноккио посещал, была, конечно, из самых элементарных, и выучиться писать ему, наверняка, стоило большого труда. Это был и физический труд, что видно по некоторым буквам, которые кажутся скорее вырезанными на дереве, чем написанными на бумаге. К чтению у него явно было больше привычки. Даже находясь «в темнице сто четыре дня» и не имея, конечно, доступа к книгам, он воспроизвел по памяти читанные, наверное, не раз и обдумываемые подолгу фразы из истории Иосифа, как она рассказывается в Библии и в «Цветах Библии». В стиле адресованного инквизиторам послания дает о себе знать хорошее знакомство с книжными текстами.
В письме Меноккио можно выделить следующие темы: 1) автор утверждает, что вел жизнь доброго христианина, хотя и признает, что нарушал заповеди Бога и установления церкви; 2) указывает, что причиной тому «злой дух», который понуждал его думать и говорить «по лжи»; эти свои «мнения» он теперь истинными не считает; 3) сравнивает себя с Иосифом; 4) называет четыре причины своего заключения в тюрьму; 5) уподобляет судей Христу прощающему; 6) умоляет судей о снисхождении; 7) перечисляет шесть причин своих заблуждений. Эта продуманная композиция имеет опору в языке послания, насыщенном внутренними перекличками, аллитерациями, риторическими фигурами, такими, как анафора и деривация165. Достаточно взглянуть на первую фразу: «Я... крещенный в христианской вере, всегда жил по-христиански и дела мои были, как пристало христианину...»; «всегда жил..., всегда... повиновался..., и всегда утром и вечером осенял себя святым крестным знамением...» Разумеется, Меноккио использовал риторические фигуры, об этом не подозревая, как не подозревал он и том, что первые четыре «причины», им указанные, относятся к числу финальных, а шесть других причин — к числу действительных. В то же время высокая риторическая плотность его послания была не случайной: он искал такой язык, который бы прочно впечатывался в память. Он наверняка подолгу обдумывал каждое слово прежде, чем перенести его на бумагу. Но он с самого начала мыслил их как слова письменной речи. «Разговорная речь» Меноккио — насколько мы можем о ней судить по протоколам инквизиционного суда — была иной, чего стоит хотя бы ее метафорическое богатство. В послании к инквизиторам метафоры полностью отсутствуют.
Сравнение самого себя с Иосифом и судей с Христом (в первом случае выступающее как данность, а во втором — как пожелание) не является метафорическим. В Писании содержатся «примеры» (exempla), в соответствии с которыми организуется или должна организовываться действительность. Формула «примера» выявляет, вне зависимости от прямых намерений Меноккио, скрытый смысл его послания. Меноккио уподобляет себя Иосифу не только потому, что является, как и он, невинным страдальцем, но и потому, что способен прозревать истины, скрытые от других. Те же, кто, как монтереальский священник, своими преследованиями довели его до темницы, подобны братьям Иосифа, вовлеченным помимо своей воли в исполнение таинственных замыслов провидения. Но главным героем остается Меноккио-Иосиф. Именно он прощает злодеев-братьев, явившихся слепыми орудиями вышней воли. Этот параллелизм лишает смысла мольбы о снисхождении, которыми завершается письмо. Меноккио сам почувствовал эту неувязку: «братья или, может быть, духовные отцы», — добавил он, пытаясь установить со своими судьями отношения сыновьей почтительности, которые всем его поведением решительно отрицались. Его собственный сын через приходского священника советовал ему обещать «во всем покорность святой церкви», но Меноккио этому совету последовал не до конца. Признавая свои заблуждения, он, с одной стороны, помещал их в некоторую провиденциальную перспективу, а с другой — объяснял их причинами, которые, за исключением ссылки на «злого духа», никак не могли прийтись инквизиторам по нраву. Порядок перечисления этих причин идет, скорее всего, по нисходящей. Сначала две отсылки к текстам: одна, скрытая, — к евангельской заповеди (Матфей, 22, 36–40), воспринятой в ее буквальном смысле, и другая, явная, — к «Путешествиям» Мандевиля, понятым в совершенно особом духе (о чем мы уже говорили). Затем две причины внутреннего характера: уверенность в собственных «уме и памяти» и искушение со стороны «злого духа», который, как сказал Меноккио в ходе процесса, обитает в «темной» части человеческого сердца. И, наконец, два внешних обстоятельства: вражда с приходским священником и физическая немощь, на которую он и раньше ссылался, чтобы оправдать свое несоблюдение поста. Итак, книги — впечатления от книг («я верил, что есть две заповеди...», «она всего меня измучила»), — выводы, извлеченные из книг, — жизненные обстоятельства. Этот список причин только на первый взгляд кажется хаотичным, в нем есть логика. Несмотря на отчаянную мольбу в конце («И не поставьте мне в вину мои лжи и невежество»), Меноккио продолжал спорить и искать доказательства.
46. Первый приговор
В тот день, когда Меноккио послал судьям свое письмо, они собрались для вынесения приговора. По ходу процесса их отношение к делу постепенно менялось. Сначала они пытались указать Меноккио на его противоречия; затем — направить на верный путь; наконец, убедившись в его непреклонности, отказались от каких-либо увещеваний и ограничились наводящими вопросами с тем, чтобы составить себе полную картину его заблуждений. И теперь в один голос они объявили Меноккио «non modo formalem hereticum... sed etiam heresiarcam»*. Приговор был оглашен 17 мая.
Поражает, прежде всего, его длина: обычно приговоры бывали вчетверо, впятеро короче. Это показатель того значения, которое случай с Меноккио приобрел в глазах инквизиторов, а также — трудностей, с которыми они столкнулись, пытаясь уложить его неслыханные заявления в привычные для такого рода документов формулы. Изумление судей дает о себе знать даже в сухом юридическом жаргоне: «Invenimus te... in nrultiplici et fere inexquisita heretica pravitate deprehensum»**. Этот исключительный процесс заканчивался тем самым не менее исключительным приговором (который сопровождался формулой отречения, также очень пространного).
С первых строк судьи подчеркивали, что обвиняемый делился своими еретическими взглядами, оскорбляющими католическую церковь, «non tantum cum religiosis viris, sed etiam cum simplicibus et idiotis»***, тем самым подвергая опасности чистоту их веры. Это явно понималось как отягчающее обстоятельство: во чтобы то ни стало крестьян и ремесленников Монтереале надлежало оградить от столь вредного влияния. Следовало подробное опровержение утверждений Меноккио. Обличение дерзости и упрямства обвиняемого выливалось в самое настоящее риторическое крещендо — вещь, совершенно невиданная в такого рода практике. «Ita pertinacem in istis heresibus», «indurato animo pennansisti», «audacter negabas», «profanis et nefandis verbis... lacerasti», «diabolico animo affirmasti», «intacta non reliquisti sancta ieiunia», «nonne reperimus te etiam contra sanctas condones latrasse?», «profano tuo iudicio... damnasti», «eo te duxit malignus spiritus quod ausus es affirmare», «tandem polluto tuo ore... conatus es», «hoc nefandissimum excogitasti», «et ne remanerit aliquod impollutum et quod non esset a te contaminatum... negabas», «tua lingua maledica convertendo... dicebas», «tandem latrabas», «venenum aposuisti», «et quod non dictu sed omnibus auditu horribile est», «non contentus fuit malignus et perversus animus tuus de his omnibus... sed errexit cornua et veluti gigantes contra sanctissimam ineffabilem Trinitatem pugnare cepisti», «expavescit celum, turbantur omnia et contremescunt audientes tarn inhumana et hombilia quae de Iesu Christo filio Dei profano ore tuo locutus es»*. Нет сомнения, что судьи посредством таких сугубо литературных приемов выражали свои вполне реальные чувства: изумление и ужас перед лицом этой тьмы неслыханных ересей, которые должны были им казаться извержением самой преисподней.
Впрочем, не такие уж они были «неслыханные». Конечно, нашим инквизиторам в течение десятков процессов, которые они вели во Фриули против лютеран, «бенанданти», ведьм, богохульников, даже против анабаптистов, не разу не пришлось сталкиваться ни с чем подобным. Только в связи с утверждением Меноккио, что для совершения исповеди достаточно признаться в своих грехах пред Богом, они нашли аналогичный пример в воззрениях «еретиков», т.е. сторонников Реформации. В остальном же они обращались в поисках аналогий и прецедентов к более отдаленному прошлому, опираясь на свои теологические и философские познания. Так, высказывания Меноккио о хаосе они сопоставили с учением какого-то прямо не названного античного философа: «In lucem redduxisti et firmiter affirmasti veram fuisse alias reprobatam opinionem illam antiqui filosophi, asserentis eternitatem caos a quo omnia prodiere quae huius sunt mundi»*. Слова о том, что «Бог есть создатель блага, но зла не совершает, а дьявол есть создатель зла и не совершает благого», были расценены как проявление манихейской ереси: «Tandem opinionem Manicheorum iterum in luce revocavit, de duplici principio boni scilicet et mali...»** Аналогичным образом утверждение о равенстве всех вер было возведено к учению Оригена об апокатастасе: «Heresim Origines ad lucem revocasti, quod omnes forent salvandi, Iudei, Turci, pagani, christiani et infideles omnes, cum istis omnibus aequaliter detur Spiritus sanctus...»* Некоторые заявления Меноккио казались судьям не только еретическими, но противоречащими здравому смыслу: например, о том, что «когда ребенок находится в животе у матери, он есть ничто, просто кусок мяса», или другое, о небытии Бога: «Circa infusionem animae contrarians non solum Ecclesiae sanctae, sed etiam omnibus filosofantibus... Id quod omnes consentiunt, nee quis negare audet, tu ausus es cum insipiente dicere "non est Deus"...»**
Отдельные упоминания об учениях манихейцев и Оригена Меноккио мог найти в «Прибавлении к хроникам» Форести. Но представлять их в качестве источников его идей — это, разумеется, явная натяжка. Приговор лишь подтвердил факт, явно обозначившийся в ходе всего процесса: подсудимого и судей разделяла глубочайшая культурная пропасть.
Целью инквизиторов было принудить Меноккио к возвращению в лоно церкви. Он был приговорен к публичному отречению от всех его ересей, к различным духовным наказаниям, к вечному ношению в знак покаяния накидки с вышитым крестом и к пожизненному тюремному заключению на содержании у сыновей («te sententialiter condemnamus ut inter duos parietes immureris, ut ibi semper et toto tempore vitae tuae maneas»***).
47. Тюрьма
Меноккио оставался в тюрьме в Конкордии в течение почти двух лет. 18 января 1586 года его сын Заннуто подал от своего имени, от имени братьев и матери челобитную епископу Маттео Санудо и инквизитору Аквилеи и Конкордии, которым в то время был брат Эванджелиста Пелео. Челобитная была написана самим Меноккио.
«Я, Доменего Сканделла, несчастный узник, уже не раз обращался в святую инквизицию, умоляя ее о милосердии и выражая готовность предаться еще более суровому покаянию. Ныне я вновь, принуждаемый жестокой необходимостью, смиренно указываю, что в течение трех лет я не переступал порог своего дома, заключенный в столь суровом узилище, что и не знаю, как до сих пор жив из-за гнилого воздуха, не видел по отдаленности места дорогой моей жены и не жду ничего, кроме смерти от крайней нужды, ибо дети мои по бедности своей принуждены будут меня оставить. И я, скорбя о своих грехах и раскаиваясь, прошу милости, во-первых, у Господа Бога и, во-вторых, у этого святого суда и умоляю даровать мне свободу, обязуясь великим ручательством жить по заповедям святой римской церкви и исполнять то покаяние, которое мне святой инквизицией будет назначено, и да ниспошлет вам Господь Бог всякое благо».
За стандартизованной смиренностью этих формулировок, очищенных от обычных для Меноккио диалектизмов («церковь», например, называется «chiesa», а не «gesia»), чувствуется перо какого-нибудь стряпчего. Двумя годами раньше в своем оправдательном письме Меноккио выражался иначе. На этот раз епископ и инквизитор решили проявить то милосердие, в котором они отказывали прежде. Первым делом они опросили тюремщика, Джован Баттиста дей Парви. Тот сообщил, что тюрьма, в которой заключен Меноккио, «надежная и крепкая», запоры в ней числом три тоже «надежные и крепкие», так что «другой тюрьмы крепче и грознее, чем эта, в Конкордии нет». Меноккио из нее выходил всего несколько раз: чтобы на соборной паперти зачитать, держа в руке свечу, свое отречение — это было в день вынесения приговора и в день ярмарки св. Стефана, — и чтобы присутствовать на мессе и причаститься (но, как правило, он причащался в тюрьме). По пятницам он обычно постился, «кроме как в то время, когда занедужил так тяжело, что чуть было не помер». После болезни он отказался от постов, «но он мне говорил много раз накануне праздников: «Завтра не приносите мне ничего, кроме хлеба, я хочу поститься, не приносите мне ничего мясного и жирного». «Много раз, — продолжал рассказывать тюремщик, — я тихонько подходил к дверям его камеры, чтобы послушать, что он делает, и слышал, как он читает молитвы». Еще Меноккио был замечен за чтением книги, принесенной ему священником, а также «Службы Богоматери, в которой семь псалмов и другие молитвы»; наконец, он попросил дать ему «образ, перед которым он мог бы молиться, и его сын таковой ему купил». На днях он говорил, что «во всем полагается на Бога и признает, что страдает по заслугам, и видит, что Бог его спас, ибо он не думал протянуть и двух недель в таких муках, какие выпали на его долю в тюрьме, а жив до сих пор». Он часто говорил с тюремщиком «о прошлой своей дури, утверждая, что всегда признавал ее именно за дурь и никогда твердо во все это не верил, но просто ему по искушению диавола западали в голову такие чудные мысли», В общем, казалось, что он искренне раскаялся, хотя (как благоразумно заметил тюремщик), «что там у человека на душе, одному Богу известно». Затем епископ и инквизитор велели привести Меноккио. Простершись ниц и проливая слезы, он униженно молил о прощении: «Я каюсь от всего сердца, что оскорбил Господа Бога моего, я хотел бы, чтобы мои безумные слова никогда не были бы сказаны, я предался этому безумию в ослеплении от диавола и не разумея сам, что говорю... Покаяние и тюрьма были мне не в скорбь, а в великую радость; Бог давал мне такое утешение, когда я обращался к нему с молитвой, что мне казалось, будто я в раю». Если бы не жена и дети, воскликнул он, сложив молитвенно руки и устремив глаза к небу, я бы предпочел остаться в тюрьме всю мою жизнь, только бы искупить мои грехи перед Богом. Но «я — последний из бедняков»: арендую две мельницы и два поля, и на это должен содержать жену, семерых детей и еще внуков. Заключение, «жестокое, под землей, без света, в сырости», подорвало ему здоровье: «Я четыре месяца не вставал с постели, в этом году у меня опухали ноги, а лицо до сих пор раздуто, как вы можете видеть, я почти ничего не слышу, я отупел и сам не знаю уже, на каком я свете». «Et vere, — комментирует судебный нотарий, — cum haec dicebat, aspectu et re ipsa videbatur insipiens, et corpore invalidus, et male affectus»*.
Епископ Конкордии и фриульский инквизитор посчитали это за признаки истинного раскаяния. Посовещавшись с подеста Портогруаро и некоторыми местными нобилями (среди которых был и будущий историк Фриули, Джован Франческо Палладио дельи Оливи), они решили изменить приговор. Местом постоянного пребывания Меноккио была определена деревня Монтереале, с запретом покидать ее пределы. Ему категорически воспрещалось распространять или каким-либо образом объявлять свои еретические мысли. Он должен был регулярно ходить к исповеди и постоянно носить поверх одежды накидку со знаком креста, в ознаменование своего позора. Его друг, Даниэле Биазио, поручился за него, обязуясь уплатить двести дукатов в случае каких-либо нарушений. Измученный телесно и духовно, Меноккио вернулся в Монтереале.
48. Возвращение в деревню
Меноккио вернулся к прежней деревенской жизни. Несмотря на судебное преследование со стороны инквизиции, несмотря на тяготевший над ним приговор, он был в 1590 году вновь назначен старостой церкви Санта Мария в Монтереале. К этому назначению, по всей видимости, приложил руку новый приходской священник, Джован Даниэле Мелькиори, друг Меноккио с детских лет (к тому, какая судьба постигла прежнего священника, того самого Одорико Вораи, который выдал Меноккио инквизиции, мы еще вернемся). Похоже, никто не возмущался тем, что еретик, более того, ересиарх, распоряжается приходским имуществом; впрочем, и сам священник, как мы помним, находился у инквизиции на замечании.
Должность церковного старосты часто поручалась мельникам: видимо, потому, что они были в состоянии авансировать приходу необходимые денежные средства. Старосты не упускали и своей выгоды, задерживая перечисление приходу десятинных выплат. Скажем, когда в 1593 году Маттео Санудо, епископ Конкордии, совершая объезд всей епархии, прибыл в Монтереале и потребовал для проверки приходские счета за последние семь лет, выяснилось, что должников много и среди них есть Доменико Сканделла, то есть наш Меноккио, за которым осталось двести лир долга — самая большая сумма за исключением той, что значилась за Бернард о Корнето. В то время во Фриули это было рядовым явлением; редкая пастырская инспекция его не отмечала. В данном случае епископ (вряд ли связавший церковного старосту с тем человеком, которого осудил девять лет назад) попытался навести в приходских финансах некоторый порядок. Он выразил неудовольствие тем «нерадением, с которым ведутся счета, несмотря на то, что в прошлое наше посещение относительно сего были отданы соответствующие распоряжения, каковые не были исполнены должным образом»; распорядился приобрести «книгу изрядных размеров», в которой приходскому священнику под страхом отстранения от совершения треб надлежало записывать из года в год все получения «по мере их поступления, а напротив их — все расходы, по покупке зерна, по содержанию церкви, а также счета церковных старост»; последним вменялось в обязанность заносить все получения в «отдельную книжицу, а затем — в большую книгу». Старостам, имеющим долги, епископ предписал расплатиться с ними, пригрозив в случае неуплаты запретить им «посещение церкви, а после смерти отказать в церковном погребении»; через полгода священник должен был представить в Портогруаро счета за 1592 год — за неисполнение штраф и опять же отстранение от треб. Расплатился ли Меноккио с долгом, мы не знаем. Похоже, что расплатился, поскольку составленный по результатам следующего посещения епархии, совершенного тем же Санудо в 1599–1600 годах, список задолжавших монтереальских старост открывался 1593 годом.
Один факт, относящийся к тому же периоду (1595 г.), подтверждает, что авторитетом Меноккио среди односельчан по-прежнему пользовался высоким. Между графом Джован Франческо Монтереале и одним его арендатором, Бастианом Мартином, возникла некая «малая неурядица» в связи с двумя клинами земли и деревенским домом. По требованию графа были назначены два оценщика, чтобы определить, какие поправки давались дому предыдущими арендаторами: со стороны графа — Пьеро Зуанна, со стороны арендатора — Меноккио. Случай был непростой, поскольку одной из заинтересованных сторон был местный синьор: к Меноккио, к его способности отстаивать свою точку зрения явно продолжали питать доверие.
В том же году Меноккио вместе со своим сыном Стефано взял в аренду еще одну мельницу, расположенную в месте, которое было обозначено следующим образом: «близ верхнего гумна». Договор был заключен на девять лет; ежегодный взнос арендаторов составляли четыре четверика пшеницы, десять — ржи, два — овса, два — проса, два — риса и еще свинья весом в сто пятьдесят фунтов; в специальном примечании уточнялся денежный эквивалент для перевеса или недовеса (фунт — шесть сольдо). Кроме того, договором предусматривались «гостинцы»: пара каплунов и полштуки льна. Последнее подношение имело символический смысл, поскольку мельница использовалась для того, чтобы мять лен. Арендаторы получали мельницу вместе с двумя ослами «bonis atque idoneis»* и шестью мялками, обязываясь возвратить все это хозяйство «potius melioratum quam deterrioratum»** его владельцам, которыми были опекуны наследников покойного Пьетро Макриса. Им же предыдущий арендатор Флорито Бенедетто, объявленный несостоятельным, должен был выплатить в течение пяти лет все долги по аренде: поручились за него, по его просьбе, Меноккио и Стефано.
Все это говорит, что имущественное положение отца и сына Сканделла на данный момент было довольно прочным. Меноккио принимал активное участие в жизни своей деревни. Все в том же 1595 году он доставляет подеста послание от фриульского губернатора и входит в число комиссии из четырнадцати человек, включая подеста, которой надлежало выбрать ответственных за составление кадастра.
Спустя некоторое время, однако, его положение осложнилось: умер сын (по-видимому, Заннуто), помогавший ему материально. Меноккио стал искать другого заработка: преподавал в школе, играл на гитаре на деревенских праздниках. Теперь его особенно тяготили запрет покидать Монтереале и обязанность всюду появляться в накидке со знаком креста. Он отправился в Удине к вновь назначенному инквизитору, фра Джован Баттиста из Перуджи, с просьбой отменить эти статьи приговора. Относительно накидки ему был дан отрицательный ответ, «ибо, — объяснял инквизитор в письме к епископу Конкордии от 26 января 1597 года, — такое послабление нелегко заслужить», но ему разрешили «свободно бывать в любых местах, кроме находящихся под подозрением, дабы снискать пропитание в бедности своей и своего семейства».
Последствия старого приговора мало-помалу сходили на нет. Меноккио, однако, не подозревал, что тем временем инквизиция вновь обратила на него внимание.
49. Новые доносы
Годом раньше во время карнавала Меноккио, получив разрешение инквизитора, отправился в Удине, Когда прозвонили к вечерне, он встретил на городской площади некоего Лунардо Симона и вступил с ним в беседу. Они свели знакомство на праздниках, куда Лунардо приглашали играть на скрипке; Меноккио же, как мы видели, играл на гитаре. Некоторое время спустя, прознав про недавно изданную буллу против еретиков, Лунардо сообщил в письме к викарию инквизитора Джероламо Астео содержание этого разговора и затем в устном показании подтвердил с некоторыми вариациями свой письменный донос. Беседа на площади в Удине проходила примерно так. «Я слышал, — спросил Меноккио, — что ты решил заделаться монахом, это правда?» — «А чем плохая новость?» — «Это годится только для побирушек». — Лунардо решил отделаться шуткой: «Вот я и пойду в монахи, чтобы побираться». — «Столько было всяких святых, отшельников и прочих, что вели святую жизнь, и что с ними сталось?» — «Богу все эти тайны известны». — «Если бы я был турок, я бы не хотел стать христианином, но раз я христианин, я не хочу становиться турком». — «Beati qui non viderunt, et crediderunt»*. — «Я верю, только если вижу. Я верю, что Бог — отец всему миру и всем в нем заправляет». — «Так веруют и турки с иудеями, но они не верят, что он родился от Девы Марии». — «А почему, когда Христа распяли и иудеи говорили ему: «Если ты Христос, сойди с креста», он не сошел?» — «Чтобы не подчиняться иудеям». — «Потому что не мог». — «Значит, вы не верите евангелию». — «Нет, не верю. Кто, по-твоему, его сочинил, если не попы и монахи, у которых нет другого дела. Они все это выдумали и написали». — «Евангелие не выдумали попы и монахи, оно было написано раньше», — отрезал Лунардо и удалился в убеждении, что его собеседник — «отъявленный еретик».
Бог как отец и хозяин, который «всем заправляет», Христос как человек, евангелие — произведение ленивых попов и монахов, равенство всех религий. Итак, несмотря на судебный процесс, унизительное отречение, тюрьму, публичное покаяние Меноккио вернулся к прежним своим мыслям, от которых, по видимости, он в душе никогда не отказывался. Но Лунардо Симон знал его только по прозвищу («некто по имени Меноккио, мельник из Монтереале»), и несмотря на подозрение, что речь идет о том самом еретике, которого инквизиция осудила за «лютеранство», доносу не был дан ход. Только два года спустя, 28 октября 1598 года, либо по чистой случайности, либо разбирая документы прежних процессов, инквизиторы заподозрили, что Меноккио и Доменико Сканделла — одно и то же лицо. Машина инквизиции пришла в движение. Джероламо Астео, ставший тем временем генеральным инквизитором Фриули, распорядился собрать о Меноккио новые сведения. Выяснилось, что дон Одорико Вораи, автор того первого доноса, который привел Меноккио в тюрьму инквизиции, дорого заплатил за свое усердие: «Он покинул Монтереале, преследуемый родственниками Меноккио». Что же касается самого Меноккио, «общая молва гласит, будто он все тех же мыслей, что и раньше». Инквизитор счел нужным лично приехать в Монтереале, чтобы расспросить нового приходского священника, дона Джован Даниэле Мелькиори. Тот сообщил, что Меноккио перестал носить накидку с крестом и то и дело покидает деревню, нарушая тем самым постановления инквизиции (что, как мы знаем, было верно лишь отчасти). Однако на исповедь и к причастию является регулярно: «я его держу за христианина и человека добрых нравов», — сказал Мелькиори в заключение. Какого о нем мнения односельчане, он не знал. Но уже подписав эти показания, Мелькиори передумал: видимо, боялся так сильно рисковать. К словам «я его держу за христианина и человека добрых нравов» он добавил: «насколько можно судить по внешности».
Дон Курцио Челлина, капеллан церкви Сан Рокко и местный нотариус, был более откровенен. «Я его считаю христианином, потому что видел, как он исповедуется и причащается». Это с одной стороны, но с другой, за внешним исполнением обрядов проглядывает что-то, напоминающее прежнего бунтаря: «На этого Меноккио иногда что-то находит, и посмотрев на луну или звезды или другие планеты или услышав, как гремит гром, он тут же говорит об этом свое мнение; под конец он соглашается с мнением остальных, заявляя, что не хочет спорить со всем миром. И я думаю, что этот его обычай дурного свойства и что соглашается с другими он только из страха». Приговор и тюрьма инквизиции оставили свои следы. Меноккио явно уже не решался, по крайней мере, в своей деревне говорить столь же вольно, как прежде. Но даже страх не мог полностью подавить его интеллектуальную независимость: «он тут же говорит свое мнение». Новой чертой стало горькое и ироническое подчеркивание своего одиночества: «он соглашается с мнением остальных, заявляя, что не хочет спорить со всем миром».
Одиночество его было духовным. Тот же дон Челлина показывал: «Он со всеми в дружбе и в приятельстве». Что же касается самого капеллана, то у него с Меноккио «нет ни особенной дружбы, ни тем более вражды; я его люблю как положено христианину и посылаю за ним, как за всяким другим, когда мне есть надобность в какой-нибудь работе». Внешне Меноккио, как мы могли убедиться, совершенно адаптировался к жизни своей деревни: вторично был избран церковным старостой, вместе с сыном взял в аренду третью мельницу. Но при этом чувствовал себя чужаком — отчасти, возможно, и вследствие недостаточной материальной обеспеченности в последние годы. Одеяние со знаком креста было видимым символом этой его чужеродности. «Я знаю, — говорил Челлина, — что он много времени носил на одежде знак креста, но прятал его под другими одеждами». Меноккио поделился с ним своим намерением «отправиться в инквизицию и попросить, чтобы ему разрешили больше его не носить, потому что, по его словам, из-за этой одежды с крестом люди его избегали и неохотно с ним разговаривали». Тут он преувеличивал: никто его не избегал, все с ним приятельствовали. Но невозможность свободно высказываться его угнетала. Когда он заговаривал о луне и звездах, вспоминал Челлина, «его просили замолчать». Что именно он по этому поводу говорил, Челлина не помнил; не помогла даже подсказка инквизитора, что, быть может, Меноккио приписывал планетам влияние на людей и на их свободную волю. Тем не менее он решительно отрицал, что Меноккио говорил это «в шутку»: «Я думаю, что он говорил всерьез, и мысли у него были дурные».
Дальше этого расследование не пошло. Причины понятны: еретик был принужден к молчанию и внешне никак не проявлял своего инакомыслия. Опасность для односельчан от него больше не исходила. В январе 1599 года совет фриульской инквизиции решил было подвергнуть Меноккио допросу, но и за этим решением ничего не последовало.
50. Ночной разговор с евреем
И все же беседа, пересказанная Лунардо, свидетельствует, что Меноккио своим внешним послушанием по отношению к законам и установлениям церкви лишь маскировал несгибаемую верность прежним идеям. Примерно в тот же период времени некий Симон, крещеный еврей, просивший подаяния Христа ради, забрел в Монтереале и оказался в доме у Меноккио. Хозяин и гость ночь напролет проговорили о религии. Меноккио говорил «страшные вещи о вере»: что евангелие было написано попами и монахами, потому что «им делать нечего», что мадонна прежде, чем выйти замуж за Иосифа, «родила двух других детей, и поэтому св. Иосиф не хотел на ней жениться». Это в сущности те же темы, которые Меноккио обсуждал с Лунардо в Удине: критика духовенства с его паразитизмом, неверие в евангелие, отрицание божественности Христа. Кроме того, он упоминал этой ночью о «прекраснейшей книге», которой, к несчастью, лишился: Симон решил, что речь идет о Коране.
Может быть, в основе интереса Меноккио, как и других еретиков того времени166, к Корану лежит несогласие с основными догматами христианства и, в первую очередь, с догматом о троице. К сожалению, свидетельство Симона не вполне надежно и, к тому же, нам неизвестно, что именно Меноккио почерпнул в этой загадочной «прекраснейшей книге». Ясно одно: он был уверен, что его еретические убеждения рано или поздно станут известны властям. «Он знал, что из-за них он умрет», и сказал об этом Симону. Бежать он не хотел: его кум, Даниэле Биазио, пятнадцать лет назад поручился за него перед инквизицией. «Иначе я бы бежал в Женеву». В общем, он решил не покидать Монтереале. Его часто посещали мысли о смерти: «когда он умрет, лютеране про это прознают и заберут его кости».
Бог весть, о каких «лютеранах» он думал. Возможно, о какой-то секте, с которой поддерживал тайные связи, или о ком-то одном, встреченном давно и потом исчезнувшем из поля зрения? Идея мученичества, которая связывалась для него с мыслями о собственной смерти, наводит на предположение, что все это всего лишь старческие фантазии не без элементов патетики. Впрочем, что еще у него оставалось? Он был один: умерла жена, умер самый любимый сын. С другими детьми он не ладил: «А если мои сыновья решили жить своим умом, добро им», — презрительно отозвался он о них в разговоре с Симоном. Мифичеекая Женева, родина (так ему казалось) религиозного свободомыслия, была далеко. И это, и благодарность другу, оставшемуся ему верным в тяжелый момент жизни, удерживали его от бегства. Заглушить в себе страстный интерес к вопросам религии он явно не мог. И ждал своих палачей.
51 . Второй процесс
Спустя несколько месяцев в инквизицию поступил новый донос на Меноккио. Похоже, что какое-то его очередное богохульство вызвало возмущенные толки во всей округе, от Авиано до Порденоне. Дал показания трактирщик из Авиано, Микеле Турко по прозвищу Пиньол: по его словам, лет семь или восемь назад Меноккио заявил, что «если Христос был в самом деле Бог, он настоящий..., что позволил себя распять»167. «Он этого слова не произнес, — пояснил трактирщик, — но я понял, что он имеет в виду грубое слово... Когда я это услышал, у меня волосы встали дыбом, и я сразу заговорил о другом, чтобы ничего такого не слышать. Он для меня хуже турка». Меноккио, сделал он вывод, «крепко держится за эти свои прежние мысли».
Теперь уже не только жители Монтереале передавали друг другу высказывания Меноккио: известность этого мельника, которого даже тюрьма инквизиции не смогла вернуть на путь истинный, перешагнула границы его родной деревни. Его провокационные вопросы, его кощунственные остроты вспоминались и по прошествии многих лет. «Как это Христос или Господь Бог мог быть сыном Девы Марии, если эта Дева Мария была шлюхой?», «Как это Христос родился от Духа Святого, если он родился от шлюхи?», «Св. Христофор больше Бога, ведь он весь мир нес на себе» (любопытно, что такая же острота имеется в книге, которую Меноккио никак не мог знать — в сборнике эмблем, составленном болонским гуманистом Акилле Бокки и построенном на игре всякого рода вольнодумными двусмысленностями)168. «Я думаю, что он был исполнен дурных мыслей, и не говорил только из страха», — сообщал Заннуто Фассета из Монтереале, видевший Меноккио, когда тот «играл музыку». По-прежнему Меноккио не мог удержаться от искушения поговорить о религии с односельчанами. Однажды по дороге из Менинса в Монтереале он спросил у Даниеля Якомеля: «Как ты думаешь, что такое Бог?». «Не знаю», — ответил тот, смущенный и недоумевающий. «Это воздух и только». Он все время возвращался к былым своим мыслям, не желая признать себя побежденным. «А я тебе скажу: инквизиторы просто не хотят, чтобы мы знали то же, что и они». Сам же он чувствовал себя в силах им противостоять: «Я бы хотел сказать отцу инквизитору пару слов об «Отче наш» и посмотреть, каково ему придется».
На этот раз инквизиция решила, что с нее довольно. В конце июня 1599 года Меноккио был арестован и помещен в тюрьму в Авиано. Через некоторое время его перевели в Портогруаро. 12 июля он предстал перед инквизитором, Джероламо Астео, которому составляли компанию епископский викарий Конкордии, Валерио Трапола, и местный подеста, Пьетро Зане.
52. «Фантазии»
«Eductus e carceribus quidam senex...»*, отметил нотарий. С первого допроса в инквизиции прошло пятнадцать лет, три из них Меноккио провел в тюрьме. Он был уже стариком: худой, с седыми волосами, с седеющей бородой, одетый, как всегда, мельником — в светло-серую накидку и колпак. Ему исполнилось шестьдесят семь лет. После суда он чем только не занимался: «Я плотничал, держал мельницу, держал трактир, школу счета и письма для ребятишек169, на праздниках играю на гитаре». В общем, старался удержаться на плаву, пуская в ход свои умения и способности — в том числе, грамотность, которая немало ему навредила. В самом деле, инквизитору, спросившему, привлекался ли он раньше к суду инквизиции, Меноккио ответил: «Меня вызывали... и спрашивали насчет «Верую» и насчет разных фантазий, которые меня посещали, потому что я читал Библию и голова у меня варит; но я всегда был добрым христианином и остаюсь им».
Желание выказать покорность — «фантазии» — сопровождалось, как обычно, горделивым сознанием своих интеллектуальных возможностей. Подробнейшим образом Меноккио рассказал, как он исполнял возложенные на него епитимии, сколько раз исповедовался и причащался, сказал, что покидал Монтереале только с разрешения инквизиции. Относительно покаянной накидки он дал такое объяснение: «Это правда, на праздники я иной раз надевал ее, а иной — нет, а зимой, когда приходилось работать в морозный день, я надевал ее всегда, но под низ». Дело в том, что, надевая ее, «я терял много из своих заработков, меня не так охотно звали на работу... потому что люди, увидев на мне этот наряд, принимали меня за отлученного от церкви, и поэтому я его не носил». Обращения в инквизицию не принесли результата: «мне не разрешили ее не носить».
Но когда его спросили, имелись ли у него колебания в вере, Меноккио не сумел солгать. Вместо решительного отрицания он фактически признался: «Мне много фантазий приходило в голову, но я не давал им веры и никому их не сообщал». Инквизитор продолжал настойчиво допытываться, «беседовал ли (Меноккио) с кем-нибудь о предметах веры и кто они такие были, и когда, и где». Меноккио ответил, что говорил кое с кем «о предметах святой и истинной веры, но в шутку, а с кем и когда и где не помню, хоть убей». Неосторожный ответ. «Как это вы шутили о предметах веры? Разве допустимо шутить о предметах веры? Что, по-вашему, значит «шутить»?» — «Ну..., я говорил всякие нелепицы», — едва вымолвил Меноккио. «Что за нелепицы? Выражайтесь яснее!» — «Я не помню».
Инквизитор настаивал. «Не знаю, — сказал Меноккио, — может быть, кто-то принял мои слова в дурную сторону, но я ничего противного вере не хотел сказать». Он пробовал защищаться. Нет, он не говорил, что Христу было не под силу сойти с креста: «Я думаю, что ему это было под силу». Он не говорил, что не верит евангелию: «Я думаю, что в евангелии содержится истина». И тут он опять допустил ошибку: «Да, я говорил, что священники и монахи, из тех, что учились, написали евангелие именем Духа Святого». Инквизитор вне себя от негодования: он что, действительно, такое говорил? когда?, где?, кому?, что это за монахи? Меноккио, упав духом: «Откуда же мне знать, я не знаю». — «А почему вы это сказали, раз не знаете?» — «Дьявол иногда подзуживает и говоришь незнамо что...»
В очередной раз Меноккио, пытаясь списать свои сомнения на дьявольское искушение, продемонстрировал их вполне рациональную основу. Из «Прибавления» Форести он узнал, что «было много разных евангелий, таких, как евангелия св. Петра или евангелия св. Иакова, но они были отвергнуты». Вновь в его уме сработал механизм аналогии. Если некоторые евангелия являются апокрифическими, если они созданы людьми, а не Богом, то почему не все? Ясно просматривается связь с его утверждениями пятнадцатилетней давности, с идеей Писания, ограниченного «двумя словами». Очевидно, все это время он не переставал размышлять о все тех же предметах. И теперь ему вновь предоставлялась возможность поделиться итогами этих размышлений с теми, кто был способен (как ему казалось) его понять. И он забыл и думать о какой-либо осторожности. «Я думаю, что Бог сотворил все, то есть землю, воду и воздух». — «А что же огонь? — спросил свысока епископский викарий, — Его кто создал?» — «Огонь, он повсюду, подобно Богу, а другие три элемента это три лица: Отец — воздух, Сын — земля, Святой Дух — вода». И добавил:
«Так мне кажется, но я не знаю, правда ли это, и еще я думаю, что духи, которые в воздухе, бьются друг с другом, и молнии это их битвы». Так, совершая свой трудный путь наперекор историческому времени, Меноккио, сам того не подозревая, заменил христианский космос тем, что создали античные философы. Первоэлементом мироздания этот деревенский Гераклит счел огонь с его вечной подвижностью. По Меноккио, весь мир им исполнен («он повсюду») — мир единый, хотя и разнообразный в своих явлениях, населенный духами, пронизанный божественными силами. Поэтому он утверждал, что огонь — это Бог. Правда, Меноккио прибавил к этому и хитроумную, детализированную аналогию между лицами троицы и остальными тремя стихиями («Я думаю, что Отец — это воздух, потому что воздух — элемент более высокий, чем вода и земля; затем я говорю, что Сын — это земля, потому что Сын произошел от Отца; и как вода происходит от воздуха и земли, так и Святой Дух происходит от Отца и Сына»). Но за этим сопоставлением, от которого Меноккио попытался было тут же и все же слишком поздно откреститься («но я в этих своих мнениях вовсе не хочу упорствовать»), все равно просматривается самое глубокое из его убеждений: что Бог един, и этот Бог есть мир. И именно сюда инквизитор направил свой удар: так что, по-вашему, у Бога есть тело? «Да, я знаю, что у Христа было тело», — ушел Меноккио от ответа. Этого полемиста трудно было прижать к стенке. Инквизитор извлек из своего схоластического арсенала убийственный силлогизм: «Вы говорите, что Святой Дух — вода, вода — это тело, отсюда следует, что Святой Дух — это тело». — «Я говорил все это для сравнения», — ответил Меноккио. Может быть, не без некоторого самодовольства: и он умел спорить, и он мог пустить в ход и логику и риторику.
Но инквизитор на ослаблял натиска: «Вы говорили, и это записано, что Бог — это воздух». — «Такого я не помню, но что Бог — это все вещи, я и правда говорил». — «И вы думаете, что Бог — это все вещи». — «Да, господин, я так думаю». Но что это значит? Инквизитор никак не мог уловить суть. «Я думаю, что Бог — это все, что он захочет», — пояснил Меноккио. — «И значит, Бог может быть камнем, змеем, дьяволом и прочим тому подобным?» — «Бог может быть только чем-то благим». — «Значит, Бог может быть тварью, если есть благие твари?»
«Не знаю, что сказать», — ответил Меноккио.
53. Обманы и суетности
На самом деле, сама идея различения между творцом и творением, идея Бога-творца была ему глубоко чужда. Он прекрасно понимал, что думает не так, как его судьи, но в чем заключается это отличие, не всегда мог выразить. И конечно, логические ловушки, расставляемые Джероламо Астео, не могли убедить его в его неправоте; это не удалось обвинителям и на первом, пятнадцатилетней давности процессе. Впрочем, он немедленно попытался перехватить инициативу и чуть ли не поменяться ролями с судьями: «Послушайте меня, господин, ради Бога...» Как мы уже отмечали, пересказом легенды о трех кольцах Меноккио подтвердил свою верность той идее веротерпимости, которую он отстаивал на первом процессе. Тогда, впрочем, аргументация была чисто религиозной: все веры (включая ереси) объявлялись равными друг другу, поскольку «Бог всем даровал от Духа Святого». Теперь же акцент ставился, скорее, на равенстве отдельных церквей, понятых как общественные установления: «Да, господин, каждый думает, что только его вера хороша, но какая правильная, узнать нельзя. Но раз мой дед, мой отец и все мои родичи были христиане, я хочу оставаться христианином и думать, что эта вера самая правильная». Призыв не изменять религии предков обосновывался ссылкой на легенду о трех кольцах, но можно предположить, что в этих словах Меноккио отразился и его собственный горький опыт как осужденного инквизицией еретика. Лучше уж притворяться, лучше безропотно исполнять те обряды, которые в душе своей считаешь чистым «барышничеством»170. По той же причине Меноккио отодвигал теперь на второй план тему ереси — прямого и сознательного отклонения от официальной религии. И напротив, его теперь больше, чем в прошлом, интересовала религия как явление социальное. Утверждать, что христианами становятся по чистому случаю, по традиции, можно было, лишь отодвинувшись от христианства, располагая дистанцией для его оценки — такой же дистанцией, с которой Монтень в эти же годы мог писать: «Nous sommes Chrestiens a mesme titre que nous sommes ou Perigordins ou Alemans»*, Они оба, и Монтень, и Меноккио, каждый по своему, испытали на собственном нелегком опыте всю относительность как верований, так и общественных установлений.
Эта вполне сознательная верность религии предков ограничивалась, однако, только внешними проявлениями. Меноккио ходил к мессе, исповедовался и причащался, но продолжал держаться все тех же мыслей. Инквизитору он объявил, что считает себя «философом, астрологом и пророком», правда, при этом скромно заметил: «пророки тоже ошибались». Он объяснил, что имеет в виду: «Я считал, что я пророк, потому что нечистый дух внушал мне всякие обманы и суетности, так что я думал, что знаю все о природе небес и о другом тому подобном; я думаю, что пророки говорят то, что им внушают ангелы».
На первом процессе Меноккио никогда не ссылался на сверхъестественные откровения. Теперь же он стал допускать намеки на свой мистический опыт, пусть даже и дезавуируя его в несколько двусмысленных выражениях: «обманы», «суетности». Может быть, это результат знакомства с Кораном, который пророк Магомет написал под диктовку архангела Гавриила (если крещеный еврей Симон правильно опознал Коран в «прекраснейшей книге»). Может быть, именно в апокрифическом диалоге Магомета с раввином Абдалой ибн Салламом, вошедшем в итальянский перевод Корана, в его первую книгу, Меноккио нашел объяснение «природе небес». «Вопрос: продолжай и скажи мне, почему небеса зовутся небесами. Ответ: потому что небеса созданы из дыма, а дым — из паров морских. Вопрос: почему они зеленого цвета? Ответ: от горы Каф, а гора Каф — от небесных изумрудов, и гора эта, опоясывая весь круг земной, поддерживает небо. Вопрос: у небес есть врата? Ответ: врата висячие. Вопрос: от врат есть ключи? Ответ: ключи есть, и они из сокровищницы Божьей. Вопрос: из чего сделаны врата? Ответ: из золота. Вопрос: правду говоришь, но скажи еще: из чего сделано небо? Ответ: первое небо — из зеленой воды, второе небо — из светлой воды, третье небо — из изумрудов, четвертое небо — из червонного золота, пятое небо — из яхонтов, шестое небо — из ярчайшего облака, седьмое небо — из блеска огня. Вопрос: и опять говоришь правду. Но поверх этих семи небес что имеет быть? Ответ: море животворящее, а поверх него — море облачное, и далее по порядку — море воздушное, и море безотрадное, и море мрака, и море радости, и Луна, и Солнце, и имя Божие, и мольба...»171
Это всего лишь предположение. У нас нет доказательств, что «прекраснейшая книга», о которой Меноккио говорил с таким восторгом, это Коран, и даже если бы мы ими располагали, мы все равно не в состоянии решить, что он из него извлек. Столь чуждый его жизненному опыту и его культурному багажу текст должен был предстать перед ним сплошной загадкой и в лучшем случае заставить работать его фантазию. Но какие плоды это принесло, мы опять же не знаем. И вообще об этом периоде умственной жизни Меноккио мы знаем чрезвычайно мало. Под влиянием страха он в отличие от того, что было пятнадцать лет назад, отрицал почти все обвинения, предъявленные ему инквизитором. Но лгать ему по-прежнему было трудно: не сразу и только после некоторых размышлений (aliquantulum cogitabimdus) он заявил, что никогда «не сомневался в том, что Христос — Бог». Впоследствии он это заявление перечеркнул, сказав, что «Христос слабее отца, ибо он плоть человеческая». «Это противоречие», — заметили ему. «Я не помню, чтобы я это говорил, я человек неученый», — ответил Меноккио. В полном смирении он пояснил, что, говоря о том, будто евангелие написано «священниками и монахами, из тех, что учились», он имел в виду евангелистов, «которые, как я думаю, все были ученые». Он пытался угадать, что от него хотят услышать: «Это правда, что инквизиторы и другие наши начальники не хотят, чтобы мы знали, сколько они знают, поэтому нам лучше молчать». Но иногда он не мог удержаться: «Я не верил, что рай есть, потому что не знал, где он находится».
В конце первого заседания Меноккио вручил суду листок, на котором он написал кое-что на тему стиха из «Отче наш» — «et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo»*, — и сказал: «Так и я хочу попросить избавить меня от этих мучений». И перед тем, как его отвели в камеру, поставил свою неуверенную старческую подпись.
54. «Бог великий, всемогущий и святой»
Вот что он написал:
«Во имя Господа нашего Иисуса Христа и его матери Девы Марии и всех святых, что в раю, я прошу помощи и совета.
Бог великий, всемогущий и святой, создатель неба и земли, я взываю к твоей святой благости и бесконечному милосердию: просвети дух мой и душу мою и тело мое, чтобы я думал и говорил и делал угодное твоему божественному величию; и да будет так во имя пресвятой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, аминь. Я, злосчастный Менего Скандела, впал в немилость у всего света и у старших моих на окончательную погибель дома моего, жизни моей и всего моего злополучного семейства, и не знаю я, что мне теперь делать и что говорить, разве что повторять следующие слова. Первое: «Set libera nos a malo et ne nos inducas in tentationem et demite nobis debita nostra sicut ne nos dimitimus debitoribus nostris, panem nostrum cotidianum da nobis hodie»*, — так и я прошу Господа нашего Иисуса Христа и старших моих, чтобы по милосердию своему подали мне малую помощь без всякого для себя урона. А я, Менего Скандела, куда ни пойду, всюду буду увещевать всех добрых христиан исполнять все, что им велит наша мать святая римская католическая церковь и все наши старшие, то есть инквизиторы, епископы и викарии и священники и капелланы и диаконы, чтобы им не пришлось пережить то, что выпало мне на долю. Я, Менего, надеялся, что смерть избавит меня от этих мытарств и я не буду больше никому в тягость, но она все сделала наоборот: она отняла у меня сына, который облегчал мне все мои заботы и тяготы; потом она отняла у меня жену, которая была моей опорой, а те сыновья и дочери, что у меня остались, твердят мне, что я им загубил всю жизнь, и это истинная правда; что бы мне умереть пятнадцать лет назад, я не был бы им теперь в тягость.
А если у меня и бывали иногда дурные мысли или я говорил какую-нибудь нелепицу, то я никогда ничего не думал и не делал против святой нашей церкви, и Господь Бог вразумил меня, что все, что я думал и говорил, было обман и суемудрие.
И в это я воистину верую, и я хочу впредь думать и верить лишь так, как учит наша святая церковь, и поступать, как велят мои отцы и начальники».
55. «Что бы мне умереть пятнадцать лет назад»
В этой «грамотке» имелась приписка, сделанная по просьбе Меноккио монтереальским священником Джован Даниэле Мелькиори и датированная 22 января 1597 года. В ней говорилось, что «si interioribus credendum est per exteriora»*, Меноккио вел жизнь, достойную «истинного христианина». Эта оговорка, как нам известно (и как, по всей видимости, было известно и священнику), была весьма к месту. Но в искренности желания Меноккио покориться церкви сомневаться не приходится. Отвергнутый детьми, которые считали его обузой, опозоренный перед родной деревней, Меноккио мучительно искал примирения с церковью, которая некогда удалила его, заклеймив как преступника. Его письмо — это патетический жест смирения перед «начальниками»: «инквизиторами» (поставленными, что понятно, на первое место) и затем, по нисходящей — «епископами и викариями и священниками и капелланами и диаконами». Бесполезный жест, потому что в то время, когда письмо было написано, инквизиция еще не приступила к расследованию дела. Но неодолимая потребность «раздумывать о высоком» не отпускала Меноккио, уязвляла «мукой» его душу, делала его вечно виновным перед лицом всех (я «впал в немилость у всего света»). И тогда он в отчаянии призывал смерть. Но смерть не откликалась на его призывы: «Она все сделала наоборот: она отняла у меня сына..., потом она отняла у меня жену»172. Тогда он обрушивал проклятия на свою голову: «что бы мне умереть пятнадцать лет назад», то есть в тот момент, когда к несчастью для него и для его семейства он обратил на себя внимание инквизиции.
56. Второй приговор
После второго допроса (19 июля) Меноккио спросили, нужен ли ему адвокат. Он ответил: «Мне нет надобности в другой защите, кроме как умолять о милосердии, но если можно мне иметь адвоката, я бы его взял; но я бедняк». Во время первого процесса был жив Заннуто, готовый все сделать для отца, это он нашел тогда адвоката, но Заннуто умер, а другие дети не хотели пошевелить и пальцем. Меноккио дали адвоката, им стал Агостино Пизенси, и он 22 июля представил суду развернутое слово в защиту «pauperculi Dominici Scandella»*, В нем он доказывал, что свидетельства против Меноккио были взяты из вторых рук, расходились между собой, были очевидным образом пристрастны, и из них явствовала лишь «mera simplicitas et ignorantia»** обвиняемого: адвокат требовал оправдания.
2 августа суд инквизиции собрался для вынесения приговора: Меноккио был единодушно объявлен «relapso», то есть повторно впавшим в ересь. Суд завершился, но Меноккио тем не менее решили подвергнуть пытке, чтобы узнать имена сообщников. Его пытали 5 августа; накануне состоялся обыск в доме Меноккио: в присутствии понятых были открыты все сундуки и изъяты «все книги и писания». К сожалению, что это за «писания», мы не знаем.
57. Пытка
У него потребовали назвать сообщников, иначе он будет подвергнут пытке173. Он ответил: «Господин, я не помню, чтобы я с кем-нибудь об этом говорил». Его раздели и осмотрели, чтобы установить, возможно ли применение к нему пытки — таковы были правила инквизиции. Тем временем продолжался допрос. Меноккио сказал: «Я со столькими говорил, что сейчас и не вспомню». Тогда его связали и снова предложили указать сообщников. Он дал тот же ответ: «Я не помню». Его отвели в камеру пыток, продолжая задавать все тот же вопрос. «Я думал и вспоминал, — сказал он, — с кем я разговаривал, но не могу вспомнить». Его стали готовить к пытке кнутом. «Господи Иисусе Христе, смилуйтесь, я не помню, что с кем-то говорил, убей меня Бог, у меня нет ни товарищей, ни учеников, все, что я знаю, я сам прочитал, смилуйтесь!» Ему дали первый удар. «Иисусе, Иисусе, о, горе мне!» — «С кем вы вели разговоры?» — «Иисусе, ничего я не знаю!» Его призвали сказать все по правде. «Я скажу всю правду, только спустите меня».
Его опустили на землю. После короткого раздумья он сказал: «Я не помню, что я с кем-то говорил, и не знаю никого, кто был таких же мыслей, и вообще ничего не знаю». Приказано было дать ему еще один удар. Когда его вздергивали на дыбу, он крикнул: «Господи Исусе, горе мне, страдальцу!» И потом: «Господин, спустите меня, я кое-что скажу». Встав на ноги, он сказал: «Я говорил с синьором Зуаном Франческо Монтереале и сказал ему, что никто не знает, какая вера истинная». (На следующий день он к этому добавил, что «сказанный синьор Зуан Франческо попенял мне за мои дурачества».) Больше от него ничего не удалось добиться. Его развязали и отвели обратно в тюрьму. Нотарий отметил, что пытка производилась «cum moderamine»*. Продолжалась она полчаса.
Можно только гадать, какие чувства испытывали при этом судьи — в протоколе зафиксировано лишь монотонное повторение одного и того же вопроса. Может быть, это была такая же смесь скуки и отвращения, на которую жаловался в те же примерно годы папский нунций Болоньетти: «что за тоска слушать эти благоглупости, тут же заносимые на бумагу, особенно во время пытки; счастье тому, кто флегматик по натуре»174. Упорное молчание старого мельника должно было казаться судьям необъяснимым.
Итак, даже телесная мука не сломила Меноккио. Он не назвал ни одного имени — вернее, назвал одно, имя синьора Монтереале, но оно могло только отвратить судей от дальнейших и более тщательных расследований. Без сомнения, ему было что скрывать, но когда он говорил, что «все, что я знаю, я сам прочитал», то вряд ли далеко отклонялся от истины.
58. Сколио
Своим молчанием Меноккио хотел продемонстрировать судьям, что его мысли рождались в одиночестве, наедине с книгой. Но как мы не раз могли убедиться, он переносил в книгу то, что почерпнул из устной традиции.
Эта традиция, глубоко укорененная в европейской деревне, лежит в основе своеобразной крестьянской религии, равнодушной к догмам и обрядам, тесно связанной с природным круговоротом, мало затронутой христианством. Нередко можно говорить о полной чуждости христианству, как в случае тех эболийских пастухов, которые в середине XVII века показались изумленным отцам-иезуитам «людьми, на людей похожими только телом, в разумении же и познаниях мало отличными от тех скотов, которых сами же и пасли; не имеющими понятия не только о молитвах или других предметах, до веры относящихся, но и о самом Боге»175. Но и в условиях не такой полной географической и культурной изоляции можно заметить следы этой крестьянской религии, вобравшей в себя и переделавшей на свой лад инокультурные влияния — в том числе, и христианские. Старый английский крестьянин, который говорил о Боге как о «добром старце», о Христе — как о «красивом пареньке», о душе — как о «большой кости, всаженной в тело», о загробном мире — как о «зеленом лужке», куда он отправится, если будет поступать по правде, этот крестьянин не был в совершенном неведении о догмах христианства — просто он переводил их в образы, близкие его жизненному опыту, его чаяниям, его мечтам176.
И в признаниях Меноккио мы имеем дело с таким же переводом. Правда, его случай много сложнее: тут есть промежуточное звено в виде книги, и есть кризис официальной религии, который она переживает под ударами радикальных реформационных течений. Но принцип тот же самый. И случай этот — не исключение.
Лет за двадцать до суда над Меноккио некий выходец из деревни близ Лукки, скрывшийся под псевдонимом Сколио177, поведал о своих видениях в длинной религиозно-дидактической поэме, изобилующей дантовскими реминисценциями178. Поэма, носящая имя «Семерица», никогда не была напечатана. Ее центральная тема, к которой автор постоянно возвращается, заключается в том, что у всех религий есть общее ядро, представленное десятью заповедями. Появляясь перед Сколио на золотом облаке, Бог сообщает ему:
Различных к вам пророков я послал, Ведь разные у вас живут народы, И всякий свой обычай соблюдает. И каждому народу я послал С иным законом моего пророка. Так лекарь снадобья дает свои, Смотря, каков больного склад и норов. Так царь трем воеводам даст войска, Чтоб в Африку вести их и в Европу, И в Азию, где туркам, иудеям И христианам даровать закон. Закон — один, но рознится согласно Обычаям и нравам тех племен. Единое всегда в нем неизменно: Священных десять заповедей, так И Бог един, и в Боге наша вера.Один из «воевод», посланных «царем», это Магомет, «которого клянут все нечестивцы, но он пророк и Божий капитан»179: он замыкает список, в котором имеются Моисей, Илия, Давид, Соломон, Христос, Иисус Навин, Авраам и Ной. Турки и христиане должны прекратить свою вражду и примириться:
Христианину с турком мой декрет: Отныне жить вам надо по-другому. Пусть турок ступит шаг один вперед, Христианин же — на один отступит.Это возможно в силу того, что десять заповедей образуют основу не только трех великих средиземноморских религий (здесь чувствуются отголоски легенды о трех кольцах), но и тех религий, которые создаются теперь или будут созданы с течением времени: четвертой, никак точнее не определенной, пятой, которую «Бог в наши дни изволил нам послать» и которая излагается в книге Сколио, и двух будущих, с которыми число религий достигнет магической цифры семь.
Религиозное содержание пророчества Сколио, как легко убедиться, чрезвычайно просто. Достаточно соблюдать десять заповедей — десять «природы повелений величайших». Все догматы отбрасываются и первым делом — догмат о триединстве:
Лишь Богу поклоняться надлежит, Нет у него товарищей и сына. Тот сын его, товарищ и слуга, Кто заповедь его блюдет ревниво. Нет двух богов, и Дух Святой — не Бог, Единым Богом вера утвердится.Из таинств говорится лишь о крещении и евхаристии. К крещению допускаются только взрослые;
Обрезанье свершится в день восьмой, Крещается же пусть тридцатилетний — Так Бог через пророков приказал, И так Креститель сделал Иисусу.Евхаристия сведена с небес на землю. «Я вам сказал», — поясняет Христос, —
что освященный хлеб Мое есть тело, а вино есть кровь, Лишь оттого, что делом благочестным И Богу угождением пристойным Ту трапезу считал. Но никогда Ее не числил я в ряду законов, Как заповедей десять — их блюсти Вам надобно, а в остальном пусть каждый Располагает, как ему сподручно.Это не только протест против теологических споров о реальном или духовном присутствии в дарах плоти и крови Христовых — устами Христа Сколио отрицает всякий мистический смысл крещения и причащения:
Крещение мое и причащенье И смерть и воскресенье надо вам Не таинством считать, а лишь обрядом, Устроенным в мое поминовенье.Для спасения души нужно лишь соблюдение десяти заповедей, понятых буквально, без «толкований всяческих и глосс», без искажений, привносимых «софизмами и логикою странной». В религиозных церемониях нет никакого толку, богослужение должно быть наипростейшим:
Не надо ни колонн, ни образов, Ни музыки, ни пенья, ни органов, Ни колокольни, ни колоколов, Ни росписи с резьбой, ни украшений. Простым пусть будет все и незатейным, И лишь наказы божий звучат.Так же просто и слово Божие; Бог пожелал, чтобы Сколио написал свою книгу языком не «ученым, темным и витиеватым, но ясным и живым».
Несмотря на некоторые переклички с учением анабаптистов (вряд ли объясняющиеся прямыми контактами, никак, впрочем, не засвидетельствованными), идеи Сколио, скорее, связаны с тем подземным течением крестьянского радикализма, в русле которого располагаются и идеи Меноккио. Сколио не считает папу Антихристом (хотя, в чем мы вскоре убедимся, в будущем его должность не понадобится): власть как таковая не есть для него (в отличие от анабаптистов) нечто, подлежащее безоговорочному осуждению. Правда, те, кто обладает властью, должны проявлять к подданным отеческую заботу:
И если Бог правления бразды Тебе вручил и за себя поставил, Как папу, императора, царя, Ты должен быть и добр, и человечен. Он дал тебе богатство и почет, Чтоб ты отцом был сирым и убогим. Ведь то, что ты имеешь, не твое, Оно — для всех, оно — мое и Бога.Общество, о котором мечтает Сколио, это благочестивое и аскетичное общество крестьянских утопий: в нем не остается места для ненужных профессий («Лишь главные ремесла и уменья Останутся, а все иные прочь. Пустое дело всякие науки, И докторов, и лекарей обман»), главные люди в нем — земледельцы и воины, правитель в нем один — сам Сколио.
...Игрок, распутник, пьяница и шут Исчезнут пусть и сгинут без следа. Искусство земледельца превзойдет И славой и почетом все иные. Достоинством великим облекутся Те, кто за веру жизни не щадят. А чванству, пьянству, роскоши, обжорству — Презренье будет общее в удел. ...Придет конец застольям изобильным, Рассадникам распущенности злой. Умеренность и скромность воцарится В музыке, танцах, банях и в одежде. Один да правит нам государь — Духовным и мирским равно владыка, Единый пастырь и едино стадо.В этом обществе будущего несправедливость исчезнет: вновь наступит «золотой век». Закон, «краткий, ясный и всеобщий», будет
доступен каждому, И добрые произрастут плоды. Народной будет речью он изложен, Чтоб каждый знал, что зло, а что добро.Строгий эгалитаризм уничтожит все следы экономического неравенства:
Любому едоку кусок найдется, Не важно, кто он и каков собой. Излишком же никто владеть не будет Ни в платье, ни в еде, ни в помещенье. Кто властвовать желал бы, будет тот Другому, не переча, подчиняться - Безбожный и бессовестный обычай Себе служить другого заставлять. Никто не раб у Бога и не беден, А ты один быть хочешь богачем? ...И где бы кто на свет не появился, В деревне или в городе иль в замке, И родом был бы низок иль высок, Отличья от других иметь не будет.Но это воздержанное и благонравное общество представляет лишь одно лицо — земное — крестьянской утопии Сколио. Другое, загробное, выглядит совершенно иначе: «Не в этом мире — лишь на небесах Возможны изобилие и радость». Загробный мир, явленный Сколио в одном из его первых видений, это царство изобилия и наслаждения:
Была суббота, Бог меня возвел На гору, где весь мир открыт для взора. Здесь кущи райские, стена вокруг Воздвигнута из пламени и снега. Здесь красотой сияет все: дворцы, Сады, леса, луга, озера, реки. Здесь яства, несравненные на вкус, И вина драгоценные. Покои В шелку и золоте и дорогой парче. Пажи проворные, красавиц целый рой, Диковинные звери и цветы, Плоды, что круглый год свисают с веток.Это очень напоминает изображение рая в Коране, но основа здесь — крестьянский идеал полного материального достатка, находящий выражение в уже встречавшемся нам мифе. Божество, которое является Сколио, — андрогин, «мужчина-женщина». Руки его распростерты, ладони раскрыты, из пальцев, каждый из которых символизирует одну из десяти заповедей, текут реки, и все живые существа утоляют в них жажду:
Одна река течет сладчайшим медом, Вторая — жидким сахаром, а третья — Амброзией, четвертая ж — нектаром. Где пятая — там манна, а в шестой - Чудесный хлеб, во рту он просто тает И мертвого способен воскресить. Один благочестивый человек Сказал, что в хлебе познаем мы Бога. В седьмой — благоуханная вода, Восьмая — масло, белое как снег, В девятой — дичь, отменная на вкус — Такую и в раю подать не стыдно, Десятая — молочная река. На дне у рек сверкают самоцветы, По берегам же лилии цветут, С фиалками и розами обнявшись.Такой рай (и Сколио это было отлично известно) был очень похож на страну Кокань180.
59. Пеллегрино Барони
Сходство между пророчествами Сколио и речами Меноккио очевидно. Только общими источниками — такими, как «Божественная Комедия» и Коран, несомненно известными Сколио и, возможно, известными Меноккио, — его не объяснить. Общей была основа — традиции и мифы, переходившие от одного поколения к другому. В обоих случаях этот глубинный слой устной культуры оживлялся благодаря контакту с письменной культурой, знакомство с которой совершалось в школе. Меноккио посещал какую-то начальную школу, а Сколио писал о себе:
Я был пастух, а после был школяр, Рукомеслом затем решил заняться, Потом опять гонял на луг стада, Опять школяр, ремесленник опять: Все семь искусств ручных я превзошел, — И вновь пастух, а после вновь школяр.«Философ, астролог и пророк» — таково было самоопределение Меноккио; «астролог и поэт и философ», а также «пророк пророков» — самоопределение Сколио. Но разница между ними все же есть. Сколио живет в крестьянской среде, почти совсем лишенной контактов с городом — Меноккио ездит, он не один раз бывал в Венеции. Сколио отрицает какую-либо ценность книги, если это не четыре священные книги, то есть Ветхий и Новый Завет, Коран и его «Семерица»:
Ученым станешь, Господу служа, А не вникая в книжную премудрость. Магистры, сочинители, чтецы, Ораторы, печатники, поэты — Все под запретом будут, кроме тех, Кто издает, читает, изучает Те книги три священных, что назвал я, И эту, что писал не я, а Бог.Меноккио же приобретает «Цветы Библии» и берет почитать «Декамерон» и «Путешествия» Мандевиля; заявляет, что все Писание можно изложить в двух словах, но чувствует потребность овладеть тем багажом знаний, которым располагают его противники, инквизиторы. В случае с Меноккио мы имеем дело, одним словом, с более свободной и агрессивной позицией, прямо противопоставленной культуре господствующих классов; в случае со Сколио — с позицией более закрытой, чей полемический потенциал полностью исчерпывается моральным осуждением городской культуры с точки зрения идеала эгалитарно-патриархального общества181. Хотя конкретные черты «нового мира», как его представлял Меноккио, нам трудно реконструировать, но есть основания полагать, что он отличался от той картины, которую рисует безнадежно анахронистическая утопия Сколио.
Еще большее сходство наблюдается у Меноккио с другим мельником — с Пеллегрино Барони по прозвищу Пигино, «толстяк»182. Он жил в Савиньяно-суль-Панаро — это местечко на склоне Апеннин, близ Модены. В 1570 году его судила инквизиция, но еще девятью годами раньше он был вынужден отречься от некоторых своих ложных мнений о предметах веры. Земляки считали его «дурным христианином», «еретиком», «лютеранином», кое-кто говорил, что он «витает в облаках и не от мира сего», или прямо называл его человеком «без царя в голове». На самом деле, Пигино был кто угодно, но не дурак: во время суда он держался очень достойно, продемонстрировав не только стойкость духа, но и незаурядный и цепкий ум. Недовольство жителей местечка и негодование священника понять нетрудно. Пигино не признавал заступничества святых, исповеди, церковных постов — пока все это укладывается в рамки некоего абстрактного «лютеранства». Но кроме того он утверждал, что все таинства, включая евхаристию (и исключая, по-видимому, крещение), установлены не Христом, а церковью, и что спастись можно и без них. В раю «все будут равны, и малый будет столь же блажен, как и великий»; Дева Мария «родилась от прислуги»; «нет ни ада, ни чистилища, все это выдумали попы и монахи из алчности»; «если Христа распяли, то за дело»; «со смертью тела погибает и душа»; «все веры хороши, если их исправно соблюдать». Неоднократно подвергнутый пытке, Пигино упорно отрицал наличие каких-либо сообщников и стоял на том, что к этим своим мыслям его привело озарение, посетившее его после чтения евангелия на народном языке — одной из четырех книг, им прочитанных. Другие три были «Псалтирь», грамматика Доната и «Цветы Библии».
Судьба Пигино сложилась иначе, чем у Меноккио. По суду ему назначили в качестве вечного места жительства Савиньяно, но враждебность местных жителей вынудила его бежать; он, однако, сразу явился в феррарскую инквизицию, к своим преследователям, и умолял о прощении. К этому моменту он был уже сломленным человеком. Инквизитор проявил по отношению к нему снисходительность и даже определил прислужником к моденскому епископу.
Развязка для этого мельника оказалась другой, но во всем остальном сходство поразительное. И быть может, здесь мы имеем дело не просто с редкостным совпадением.
В доиндустриальной Европе пути сообщения были развиты слабо и поэтому почти каждый населенный пункт, как бы он ни был мал, не обходился без своей ветряной или водяной мельницы. Профессия мельника относилась к числу самых распространенных. Большое количество мельников среди членов средневековых раскольнических сект, и особенно среди анабаптистов, не должно поэтому вызывать удивления183. И все же, когда в середине XVI века Андреа да Бергамо, уже упоминавшийся нами поэт-сатирик, говорил, что «наполовину лютеранин всякий мельник», он имел в виду нечто более конкретное.
Традиционная вражда крестьянина и мельника породила образ человека хитрого, вороватого, плутоватого, обреченного по определению на адские муки184. Этот негативный стереотип в изобилии засвидетельствован фольклором — легендами, пословицами, сказками, быличками. «Антихриста в аду я повстречал», — говорится в тосканской народной песне, —
И вижу: в бороду его вцепился мельник, И под ногами немец угнездился, А с боку — целовальник и мясник. Его спросил: «Какой их них всех хуже?» А он мне: «Слушай и на ус мотай. Вот этот, что руками загребает, Он в белом колпаке у вас ходил. А этот, что цепляется когтями, В четыре гарнца мерял четверик. Таких воров, как мельник, больше нету»185.Клеймо еретика прекрасно сочеталось с этим образом. Ко всему прочему, мельница в закрытом и неподвижном обществе была местом, где люди могли встретиться друг с другом, где осуществлялись социальные контакты. И таким местом, разумеется, где они могли обменяться мыслями, — подобным в этом плане трактиру или лавке торговца. Крестьяне, столпившиеся у дверей мельницы, месившие грязь на месте, где «мочатся все лошади деревни» (мы вновь слышим голос Андреа да Бергамо)186, о чем только не говорили. Мельник тоже не молчал. Нет ничего необычного в такой сцене, что однажды разыгралась на мельнице у Пигино187. Обращаясь к группе крестьян, он стал бранить «попов и монахов», пока один из этой группы, Доменико Масафиис, не призвал всех разойтись: «Послушайте меня, ребята, лучше оставим в покое попов и монахов и пусть служат свои службы, а Пеллегрино Толстяк пусть мелет своим языком». Сами условия деятельности формировали из мельников, равно как из хозяев постоялых дворов, трактирщиков, бродячих торговцев, профессиональную группу, восприимчивую к новым идеям и способную активно их распространять188. Кроме того, мельникам, жившим обычно вне населенных пунктов, вдали от любопытных взглядов, было весьма с руки предоставлять кров для всякого рода подпольных собраний. Случай в Модене, где в 1192 году преследование катаров привело к разрушению «molendina paterinorum»*, вряд ли был исключением189.
Благодаря своему необычному социальному положению мельник в своей общине стоял особняком. К враждебному отношению крестьян, о котором мы уже упоминали, надо добавить и прямую зависимость от местных феодалов, которые по традиции владели привилегией на обмолот зерна190. Мы не знаем, так ли обстояло дело в Монтереале: к примеру, мельница с мялкой, арендованная Меноккио на паях с сыном, находилась в частной собственности. Вместе с тем попытка на примере новеллы о трех кольцах убедить местного синьора, Джован Франческо графа Монтереале, что «никто не знает, какая вера истинная», была возможна только ввиду особого социального положения Меноккио. Профессия резко выделяла Меноккио на фоне безликой толпы крестьян, ни с одним из которых Джован Франческо ди Монтереале никогда бы не подумал вступать в религиозную дискуссию. Но Меноккио занимался в том числе и крестьянским трудом: «крестьянин, одетый во что-то белое» — так его описывал бывший адвокат Алессандро Поликрето, встретившийся с ним случайно незадолго до суда. У Меноккио были сложные отношения с земляками. Хотя никто, за исключением Мелькиорре Джербаса, не относился с одобрением к его мыслям (при этом надо учитывать, что вряд ли ктонибудь стал заявлять о своем одобрении на инквизиционном процессе), все же прошло очень много времени, чуть ли не тридцать лет, прежде чем об этих мыслях стало известно религиозным властям. И автором доноса был местный священник, подстрекаемый еще одним священником. Несмотря на всю необычность высказываний Меноккио они не должны были казаться монтереальским крестьянам чем-то совершенно чуждым их жизненному опыту, их верованиям, их надеждам.
60. Два мельника
В истории мельника из Савиньяно-суль-Панаро связи с более высокими социальными кругами были еще прочнее. В 1565 году фра Джероламо да Монтальчино, совершая за моденского епископа поездку по епархии, столкнулся с Пигино, на которого ему указали как на «склоняющегося к лютеранству». В отчете о поездке фра Джероламо описал его как «неимущего и немощного крестьянина, малого роста и безобразного на вид» и заметил: «В разговоре с ним я немало изумлялся, ибо он говорил слова ложные, но хитроумные, так что я решил, что он понабрался их в доме какого-нибудь дворянина». Пять лет спустя, оказавшись под судом феррарской инквизиции, Пигино сообщил, что прислуживал в дому у нескольких болонских дворян, в том числе у Натале Каваццони, Джакомо Мондино, Антонио Бонасоне, Винченцо Болоньетти, Джованни д'Аволио. Его спросили, велись ли в этих домах беседы о религии, но он это решительно отрицал, даже под угрозой пытки. Тогда его свели для очной ставки с монахом, встречавшимся с ним раньше в Савиньяно. Фра Джероламо показал, что при той встрече Пигино говорил, будто набрался этих «ложных, но хитроумных» мыслей в доме одного болонского дворянина, от некоего человека, который читал там какие-то «лекции». Монах хорошо не помнил, прошло слишком много времени. Он забыл как имя дворянина, так и имя «лектора», который, как ему казалось, был вроде бы священником. Но Пигино стоял на своем: «Ваше преподобие, я ничего такого не помню». Даже под пыткой огнем (от пытки кнутом его освободили, так как у него была грыжа), он ни в чем не признался.
В том, что ему было, что скрывать, сомневаться не приходится, и, может быть, нам удастся кое-что здесь прояснить. На следующий день после очной ставки с монахом (11 сентября 1570 года) инквизиторы вновь потребовали у Питано назвать имена болонских дворян, в домах которых он служил. Пигино вновь их перечислил, но внес одну поправку, на которую никто не обратил внимания: вместо Винченцо Болоньетти назвал Винченцо Бонини. Можно предположить, что именно Болоньетти был тот дворянин, которого Пигино не хотел выдавать. Если это так (но это не более чем предположение), то кем мог быть человек, чьи «лекции» так поразили воображение Питано?
Им мог быть знаменитый еретик Паоло Риччи, более известный под именем Камилло Ренато. Риччи (носивший тогда гуманистический псевдоним Лизиа Филено) приехал в Болонью в 1538 году и оставался там два года, пестуя сыновей знатных болонских горожан: Данези, Ламбертини, Манцоли, Болоньетти191. Упоминание Болоньетти имеется в одном месте его «Апологии», написанной в 1540 году в ответ на обвинения инквизиции192. В этом своем сочинении Филено, отталкиваясь от наивного антропоморфизма крестьянства и простонародья, которые приписывают Богоматери такое же могущество, как Христу, или даже большее, проповедовал религию чистого христоцентризма, свободную от каких-либо суеверий. «Iterum rustic! fere omnes et cuncta plebs, et ego his meis auribus audivi, flrmiter credit parem esse divae Mariae cum lesu Christo potestatem in distribuendis gratiis, alii etiam maiorem. Causa est quia inquiunt: terrena mater non solum rogare sed etiam cogere filium ad praestandum aliquid potest; ita namque ius maternitatis exigit, maior est filio mater. Ita, inquiunt, credimus esse in coelo inter beatam Virginem Mariam et Iesum Christum filium»*. К этому месту Филено сделал сноску: «Bononiae audita MDXL in domo equitis BoJognetti»**193. Речь идет, следовательно, о вполне конкретном воспоминании. Быть может, один из «rustici»***, встречавшийся Филено в доме Болоньетти, был как раз Пигино? В таком случае не слышится ли в уклончивых признаниях, сделанных в феррарской инквизиции этим мельником из Савиньяно, эхо бесед, которые с ним вел Филено тридцать лет назад? Правда, сам Пигино указывал более близкую дату возникновения своих еретических убеждений: сначала одиннадцать, затем двадцать и наконец двадцать два года назад — это дата его первого знакомства с евангелием на народном языке. Но это колебание в отношении датировки может говорить о сознательном желании сбить инквизиторов со следа. А то, что Паоло Риччи, он же Лизиа Филено, был не священником, как казалось фра Джероламо да Монтальчино, а монахом-расстригой, вообще не должно нас смущать, поскольку в случае с фра Джероламо речь идет о простой догадке. Конечно, доказать факт общения рафинированного гуманиста Лизиа Филено и мельника Пигино Барони, прозванного «толстяком», мы не можем — это всего лишь предположение, хотя и весьма соблазнительное. Однако достоверно известно, что в октябре 1540 года Филено был схвачен в окрестностях Модены, ибо «подстрекал чернь» — так писал Джованни Доменико Сидживальди кардиналу Мороне. У Филено был товарищ, который столь же усердно «оказывал себя в лютеранстве»: «прозвание ему Турчонок, либо отец, либо мать его были из турок»194. По всей вероятности, речь идет о Джорджо Филалетто по прозвищу Турок, авторе несохранившегося итальянского перевода серветовского «De Trinitatis erraribus», читателем которого мог быть Меноккио. Всякий раз мы наталкиваемся на тончайшие нити, которые связывали в этот исторический период еретически мыслящих гуманистов и раскольников из крестьянской среды.
Но после всего, что уже было сказано, вряд ли есть необходимость вновь доказывать несводимость этого крестьянского религиозного радикализма к посторонним влияниям. Отношение Пигино к темам, особенно популярным среди религиозно инакомыслящих, также не было пассивным. Самые оригинальные из его высказываний — о низком происхождении Девы Марии, о равенстве в раю «великих» и «малых» — отмечены тем же крестьянским эгалитаризмом, что и написанная в те же годы «Семерица» Сколио. Точно также в основе убеждения, что «со смертью тела погибает и душа», лежит стихийный крестьянский материализм. Правда, у этой его идеи более сложная предыстория. Прежде всего, смертность души противоречит тезису о всеобщем райском равенстве. Инквизитор указал Пигино на это противоречие, на что последовал такой ответ: «Я думал, что блаженные души будут долго находиться в раю, но однажды, по Божьему велению, они без всяких мук и страданий превратятся в ничто». Несколько раньше он говорил, что, по его мнению, душа должна когда-нибудь умереть и превратиться в ничто, и на это указывает Господь в таких своих словах: «Небо и земля пройдут, но слово мое не прейдет вовеки», откуда я и заключал, что если небу когда-нибудь настанет конец, то тем более настанет конец душе». Все это заставляет вспомнить учение о сне души после смерти, которое Филено, как явствует из его «Апологии» 1540 года, пропагандировал среди своих болонских адептов195. Если это так, то предложенная нами идентификация таинственного «учителя» Питано получает дополнительный аргумент в свою пользу. Весьма любопытно, что формулировка Питано оказывается более материалистической, чем самые радикальные идеи современных ему религиозных диссидентов: она предполагает небытие как итог существования блаженных душ, а не душ трешников, что утверждали венетские анабаптисты, обещая праведникам воскресение их душ в судный день. Весьма вероятно, что Питано по прошествии стольких лет не твердо помнил содержание речей, слышанных им в Болонье; они, к тому же, вряд ли излагались простым и общепонятным языком. Но в любом случае допущенные им искажения заслуживают внимания, как и его ссылки на Священное писание. Филено в «Апологии» утверждал, что в своем учении о сне душ опирается не только на патристику, но и на Писание, правда, не уточняя, на какие именно места. Питано мог обратиться к посланию Павла, в котором апостол, ободряя собратьев из церкви Фессалоникийской, говорит о будущем воскресении «спящих» во Христе196, но он привел значительно менее очевидную цитату, в которой душа вообще не упоминается. С какой стати нужно выводить окончательную табель душ из гибели мира? Но возможно, что Питано основывался в данном случае на некоторых местах из «Цветов Библии» — одной из немногих книг, им прочитанных (поначалу он утверждал, видимо, из предосторожности, что эта книга у него была, но он ее не читал)197.
«Все то, что Бог сотворил из ничего, — утверждают «Цветы Библии», — пребывает и будет пребывать вечно; такой вечной жизнью обладают ангелы, свет, мир, человек, душа». Раньше, однако, утверждалось нечто иное: «Всякая вещь, имеющая начало, будет иметь конец: таковы мир и все видимые и сотворенные вещи. Есть и другие, которые имеют начало, но не имеют конца: таковы ангелы и наши души, которые не подвластны смерти». Далее, как мы уже могли видеть, в числе «ложных мнений», которых в отношении души придерживались «многие философы», упоминалось следующее: «Что душа одна и что элементов всего пять: четыре сказанные выше и еще один, который они называют orbis; они утверждают, что из этого orbis Бог сотворил душу в Адаме и во всех прочих. И из этого они выводят, что миру никогда не будет конца, ибо, умерев, человек обращается в составляющие его элементы». Если душа бессмертна, то мир вечен, утверждали философы (аверроисты), с которыми спорил автор «Цветов Библии»; если мир тленен (как следовало из одного места в тех же «Цветах»), то душа смертна, «заключал» Пигино. Такое полярное обращение смысла указывает на тип чтения, хотя бы отчасти похожий на практиковавшийся в отношении того же источника Меноккио: «Я думаю, что весь мир, то есть воздух, земля и все красоты мира — это Бог...; ведь говорится, что человек создан по образу и подобию Божию, а человек — это воздух, огонь, земля и вода, и отсюда следует, что воздух, земля, огонь и вода — это Бог». Из подобия человека и мира, состоящих из одних и тех же элементов, Меноккио вывел («и отсюда следует») подобие мира и Бога. Вывод Пигино («откуда я и заключал») — от временности мира к смертности души — основывался на подобии человека и мира. О связи Бога и мира Пигино, более осторожный, чем Меноккио, ничего не говорил.
Может быть, у нас нет достаточных оснований говорить, что Пигино подходил к «Цветам Библии» с тех же позиций, что и Меноккио. Но нельзя обойти вниманием тот факт, что они оба впали в одно и то же противоречие, немедленно отмеченное инквизиторами, как во Фриули, так и в Ферраре: какой смысл говорить о рае, если при этом отрицаешь бессмертие души? Мы видели, как, отвечая на это замечание, Меноккио окончательно запутался в противоречиях. Пигино вышел из затруднения, заявив, что рай существует, пока не произойдет окончательное уничтожение душ.
Можно утверждать, что два этих мельника, жившие далеко друг от друга и никогда в жизни не встречавшиеся, говорили на одном и том же языке и представляли одну и ту же культуру. «Я не читал других книг, кроме тех, что я назвал, и у меня не было в этих заблуждениях никакого наставника, но мне просто являлись в голове всякие мысли или дьявол мне их подсказывал. Он много раз ко мне подступал и являлся мне в разных видениях, и ночью и днем, и я сражался с ним как будто с человеком. Под конец я понимал, что это дух». Это слова Пигино. А вот что говорил Меноккио: «Я никогда не имел дела ни с каким еретиком, но я не без смысла в голове, и я хотел разузнать великое и неизвестное... Но это мной говорилось во искушение..., это во мне говорил нечистый дух, он принуждал меня так думать... Это было мне искушение от дьявола или кого-нибудь там еще... Злой дух... меня преследовал и внушал мне ложные помышления... Я считал себя пророком, потому что злой дух внушал мне всякие обманы и суетности... Убей меня Бог, у меня нет ни товарищей, ни учеников, все, что я знаю, я сам прочитал...» И вновь Пигино: «Я имел в виду, что всякому человеку нужно блюсти свою веру, будь то иудейская, турецкая или любая другая вера». Меноккио: «Вот, к примеру, сражаются четыре солдата, двое на двое, и один переходит на другую сторону — разве он не предатель? Потому-то я и думал, что если турок бросает свою веру и делается христианином, то поступает плохо, и также плохо поступает иудей, если делается турком или христианином, и любой, оставляющий свою веру...» Согласно одному из свидетелей, Пигино утверждал, что «нет ни ада, ни чистилища, все это выдумали попы и монахи из алчности». Инквизиторам он объяснил это так: «Я никогда не говорил против рая, я сказал вот что: «Бог мой, где же могут быть ад и чистилище?» — потому что мне казалось, что под землей только земля и вода и нет места для ада и чистилища, но что они на земле, там, где мы живем...» И снова Меноккио: «Когда людей наставляют жить в мире, это мне нравится, когда же проповедуют об аде — Павел сказал так, Петр сказал эдак, — то по-моему, это барышничество, это вымысел тех, кто думает, что все на свете знает... Я не верил, что рай есть, потому что не знал, где он находится».
61. Культура господствующая и культура угнетенных
Мы уже не раз наталкивались на поразительные аналогии между фундаментальными особенностями крестьянской культуры, которую мы пытались реконструировать, и некоторыми передовыми тенденциями высокой культуры того времени, и это несмотря на глубочайшее различие их языков. Нельзя считать достаточным объяснением этих аналогий процесс диффузии высокой культуры — это значило бы, что идеи способны вырабатывать только господствующие классы. Мы отказываемся от этого упрощенного объяснения, будучи сторонниками иной гипотезы, которая более сложным образом описывает отношения, сложившиеся в этот период между культурой господствующих и культурой угнетенных классов.
Это гипотеза не только более сложная, но и отчасти недоказуемая. Массив документов, которыми мы располагаем, определяется, как можно было предполагать, состоянием межклассовых отношений. Почти исключительно устная культура, каковой была культура угнетенных классов доиндустриальной Европы, не оставляла о себе свидетельств или эти свидетельства бывали искажены до неузнаваемости. Отсюда важность такого пограничного случая, как случай Меноккио. Он ставит нас лицом к лицу с проблемой, все значение которой только сейчас начинает осознаваться — с проблемой народных истоков высокой европейской культуры в эпоху Средневековья и Возрождения198. Рабле и Брейгель, быть может, не были только блистательными исключениями. Но они завершали эпоху плодотворных, хотя и скрытых от глаз взаимоконтактов официальной и народной культуры. Для следующего периода было характерно, с одной стороны, все более жесткое отграничение культуры господствующих классов от культуры крестьянства и городского плебса, а с другой — подъем, строго регулируемый, образовательного уровня народных масс199. Хронологический раздел между двумя этими периодами падает на вторую половину XVI века, красноречиво совпадая с ужесточением социальных барьеров, происходящим под влиянием революции цен. Но решающий кризис случился несколькими десятилетиями ранее, во время крестьянской войны и прихода анабаптистов к власти в Мюнстере200. Тогда перед правящими классами предстала драматическая задача: либо они возвращают себе идеологический контроль над народными массами (сохраняя, более того, увеличивая социальные дистанции), либо утрачивают над ними всякий контроль.
Это движение, направленное на восстановление пошатнувшейся гегемонии, принимало разные формы в разных частях Европы, но и евангелизация деревень, проводившаяся иезуитами, и всепроникающая религиозная организация населения, осуществленная в рамках каждой семьи протестантскими церквями, определяются одним импульсом201. Им соответствует, в ином плане, начало массовой охоты на ведьм и введение жесткого контроля над маргинальными группами, вроде цыган и вообще всякого рода бродяг202. Подавление и уничтожение народной культуры — именно на этом фоне разворачивается история Меноккио.
62. Письма из Рима
Несмотря на то, что суд над Меноккио был завершен, его история еще не закончилась: более того, самое удивительное началось именно сейчас. Убедившись, что свидетельств против Меноккио набирается более чем достаточно, инквизитор Аквилеи и Конкордии направил в Рим, в Конгрегацию по делам св. инквизиции письмо с изложением всех обстоятельств дела. 5 июня 1599 года кардинал Сайта Северина, один из самых влиятельных членов данной конгрегации203, в ответном послании потребовал, чтобы «сказанного человека из Конкордской епархии, отрицавшего божественность Христа, Господа нашего», как можно быстрее заключили в тюрьму, «ибо преступление его из наитягчайших и, ко всему прочему, он был уже осужден однажды за ересь». Он настаивал также на конфискации всех книг Меноккио и всех его «писаний». Конфискация была произведена; при этом обнаружились и некие «писания» — какие неизвестно. Учитывая интерес, проявленный Римом к этому делу, фриульский инквизитор направил в конгрегацию копии трех доносов на Меноккио. 14-ым августа датировано еще одно письмо кардинала Санта Северина: «этот вновь впавший в ересь... по тщательному разбирательству оказывается явным атеем»204; необходимо, «пустив в ход надлежащие инструменты дознания, обнаружить его сообщников»; преступление относится к числу «наитягчайших» и потому «Вашему Высокопреподобию надлежит послать в Рим копию судебных протоколов или, по крайней мере, извлечение из них». В следующем месяце в Риме получили известие о том, что Меноккио вынесен смертный приговор; он еще, однако, не был приведен в исполнение. Фриульский инквизитор медлил: может быть, в нем заговорила жалость — слишком поздно. 5 сентября он направил в конгрегацию письмо (до нас не дошедшее) с изложением своих сомнений. 30 октября в ответном послании кардинал Санта Северина от имени конгрегации со всей решительностью потребовал покончить с промедлениями: «Во имя Господа нашего призываю вас поступать со всяческим усердием, к которому обязывает тяжесть содеянного, ибо столь гнусные и мерзостные преступления не могут остаться безнаказанными, а заслуженная и справедливая кара должна послужить всем добрым уроком; посему приступайте к исполнению ее, нимало не медля и с твердым духом, ибо того требует важность дела и такова воля Его Святейшества». Глава всего католического мира, сам Климент VIII, обращал свои взоры на Меноккио, негодного члена тела Христова, и требовал его смерти. В это же время в Риме завершался процесс против бывшего монаха Джордано Бруно. Католическая церковь вела войну на два фронта, насаждая доктрину, сформулированную Тридентским собором. В этом причина странного ожесточения, проявленного в отношении старого мельника. Вскоре, 13 ноября, кардинал Санта Северина повторил свои настоятельные требования: «Пусть Ваше Высокопреподобие предпримет все положенное в отношении того крестьянина из Конкордской епархии, уличенного в оскорблении приснодевства блаженнейшей Девы Марии, божественности Христа, Господа нашего, и промысла Божьего, как я уже вам писал по самоличному указанию Его Святейшества: дела таковой важности, вне всякого сомнения, подлежат ведению святой инквизиции. Исполните с мужественным сердцем все, что требуется правосудием». Сопротивляться далее столь сильному давлению было невозможно, и какое-то время спустя Меноккио был казнен205. Мы знаем это из донесения некоего Донато Серотино, который 6 июля 1601 года сообщал уполномоченному фриульского инквизитора о своем посещении Порденоне вскоре после того, как там «был казнен по решению инквизиции... Сканделла»; здесь же он слышал от хозяйки постоялого двора о «некоем человеке, по имени Маркато или Марко, утверждавшем, что со смертью тела гибнет также и душа». О Меноккио мы знаем много. Об этом Маркато или Марко и о множестве, подобных ему, что жили и умерли, не оставив никакого следа, мы не знаем ничего.
Примечания - Введение
1
Обычный человек, писал Висенс Вивес, «se ha convertido en el principal protagonista de la Historia» («превратился в главного героя истории». Цит. по: Chaunu P. Une histoire religieuse serielle // Revue d'histoire moderae et contemporaine. XII. 1965. P. 2).
Цитата из Брехта взята из Fragen eines Lesenden Arbeiters // Hundert Gedjchte, 1918–1950. В., 1951, S. 107–108. To же стихотворение использовано в качестве эпиграфа в работе Kaplow J. The Names of Kings. The Parisian Laboring Poor in the Eighteenth Century. N. Y., 1973. Ср. также: Enzensberger H. M. Letteratura come storiografia // И Menabo. No 9. 1966. P. 13.
Я использую термин Грамши «угнетенные классы», поскольку он указывает на широкий круг явлений действительности, но не имеет патерналистских коннотаций, более или менее явно присутствующих в термине «низшие классы». О проблемах, вошедших в научный оборот после публикации заметок Грамши о фольклоре и угнетенных классах, см. дискуссию, в которой участвовали Э. Де Мартино, Ч. Лупорини, Ф. Фортини и др. (перечень выступлений см. в кн.: Lombardi Satriani L. M. Antropologia culturale e analisi delia cultura subalteraa. Rimini, 1974. P. 74). О современной постановке этих проблем, в значительной мере предвосхищенной в работе Hobsbawm J. Per lo studio delle classi subalterai // Societa. XVI. 1960. P. 436–439, см. ниже.
(обратно)2
Документы процессов против Меноккио содержатся в архиве архиепископской курии в Удине: Anno integro 1583 а п. 107 usque ad 128 incl., proc. n. 126; Anno integro 1596 а п. 291 usque ad 306 incl., proc. n. 285. (Указания на конкретные тома архивных дел в русском издании сняты — примеч. переводчика.) Единственный исследователь, который о них упоминает (но прямо к ним не обращается) — Battistella А. II S. Officio e la riforma religiosa in Friuli. Appunti storici documentati. Udine, 1895. P. 65 (он ошибочно полагает, что Меноккио избежал казни).
(обратно)3
Библиография предмета чрезвычайно обширна. Для общей ориентации полезны: Cirese A. M. Alterita e dislivelli interni di cultura nelle societa superiori // Folklore e antropologia tra storicismo e marxismo. Palermo, 1972. P. 11–42; Lombardi Satriani L. M. Antropologia culturale. Op. cit.; II concetto di cultura. I fondamenti teorici della scienza antropologica. A cura di P. Rossi. Torino, 1970. Грамши с некоторыми колебаниями также воспринял концепцию фольклора как «бессвязной мешанины идей»: Letteratura e vita nazionale. Torino, 1950. P. 215 sgg. (ср. также: Lombardi Satriani. Op. cit. P. 16 sgg.).
(обратно)4
См. по этому поводу: Bermani С. Dieci anni di lavoro con le fonti orali // Primo Maggio, 5, primavera 1975. P. 35–50.
Мандру (Mandrou R. De la culture populaire aux XVII et XVIII siecle: la Bibliotheque bleue de Troyes. P., 1964) первым делом замечает, что «народная культура» и «массовая культура» отнюдь не синонимы. (Надо сказать, что французский и итальянский термин «массовая культура» соответствуют англо-американскому выражению «popular culture», что служит источником многих недоразумений). «Народная культура» в традиционном «популистском» понимании обозначает «la culture qui est l'oeuvre du peuple» («культуру, создаваемую народом»). Мандру предлагает более «широкое» толкование этого термина (на самом деле, принципиально иное): la culture des milieux populaires dans la France de l'Ancien Regime, nous l'entendons..., ici, comme la culture accepte, digeree, assimilee, par ces milieux pendant des siecles» («под культурой народных масс старорежимной Франции мы понимаем... культуру воспринятую, ассимилированную, переработанную этими массами в течение долгого времени» (с. 9–10). Тем самым народная культура фактически отождествляется с массовой, что является явным анахронизмом: массовая культура в современном смысле предполагает существование культурной индустрии, которой, разумеется, в дореволюционной Франции не было (см. также с. 174). Употребление термина «надстройка» (с. 11) также порождает двусмысленность — лучше в ракурсе данного исследования говорить о ложном сознании. О литературе «коробейников» как литературе ухода от действительности и вместе с тем отражении мировоззрения народных масс см. с. 162–163. Во всяком случае Мандру ясно видит границы своего исследования, которое несмотря ни на что остается новаторским и заслуживает всяческого уважения.
Из работ Боллем укажем на следующие: Bolleme G. Litterature populaire et litterature de colportage au XVIII siecle // Livre et societe dans la France du XVIII siecle. P., 1965, I. P. 61–92; Les Almanachs populaires aux XVII et XVIII siecle, essai d'histoire sociale. P., 1969; La Bibliotheque Bleue: la litterature populaire en France du XVI au XIX siecle. P., 1971; Representation religieuse et themes d'esperance dans la'Bibliotheque Bleue». Litterature populaire en France du XVII au XIX siecle // La societa religiosa nell'eta moderaa. Atti del convegno di studi di storia sociale e religiosa. Napoli, 1973. P. 219–243. He все эти работы одинакового достоинства. Лучшая — это предисловие к антологии «Голубой библиотеки» (где на с. 22–23 мы находим замечание о типах восприятия этих текстов), но и здесь содержатся утверждения вроде следующего: «a la limite, l'histoire qu'entend ou lit le lecteur n'est que celle qu'il veut qu'on lui raconte... En ce sens on peut dire que l'ecriture, au meme titre que la lecture, est collective, faite par et pour tous, diffuse, diffusee, sue, dite, echangee, non gardee, et qu'elle est en quelque sorte spontanee» («B принципе история, которая сообщается слушателю или читателю, это всегда та история, которую он хочет услышать... В этом смысле можно говорить, что текст в момент его создания, равно как и в момент восприятия, всегда есть продукт коллективной работы, предназначенный для всех, нечто диффузное, размытое, всем известное, у всех на устах, всем доступное, никому не принадлежащее и в некотором роде спонтанное» — там же). Неприемлемые натяжки христианско-популистского толка, которыми изобилует статья «Representation religieuse», все как один вытекают из подобных софизмов. В это трудно поверить, но А. Дюпрон упрекал Боллем за то, что она пыталась отыскать «l'historique dans ce qui est peut-etre l'anhistorique, maniere de fonds commun quasi «indatable» de traditions» («историческое начало в том, что историческим не является, что не поддается датировкам и составляет общий фон всех традиций») — Dupront A Livre et culture dans la societe frangaise du XVIII siecle // Livre et societe. Op. tit. P. 203–204.
Из новейших публикаций о «народной литературе» следует отметить главу Printing and the People в книге Davis N. Z. Society and Culture in Early Modern France. Stanford, 1975. P. 189–206 — ее автор исходит из предпосылок, близких к нашим.
Из работ, посвященных периоду, следующему за промышленной революцией, можно указать следующие: James L. Fiction for the Working Man, 1830–1850. L., 1974 (1 ed. — Oxford, 1963); Schenda R. Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der popularen Lesestoffe (1770–1910). Frankfurt am Main, 1970 (является частью серии, посвященной Triviallitteratur); Darmon J. J. Le colportage de librairie en France sous le second Empire. Grands colporteurs et culture populaire. P., 1972.
(обратно)5
С книгой Бахтина я знаком по французскому переводу: L'oeuvre de Frangois Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance, P., 1970. Сходные идеи развиваются в работе А. Береловича (в кн.: Niveaux de culture et groupes sociaux. P. — La Haye, 1967. P. 144–145).
(обратно)6
Le Roy Ladurie E. Les paysans de Languedoc. P., 1966, I. P. 394 sgg.; Davis N. Z. The Reasons of Misrule: Youth Groups and Charivaris in Sixteenth-Century France // Past and Present. No 50, 1971. P. 41–75; Thompson E. P. «Rough Music»: le Charivari anglais // Annales ESC, XXVII, 1972. P. 285–312 (и еще на ту же тему: Gauvard Cl., Gokalp A. Les conduites de bruit et leur signification a la fin du Moyen Age: le Charivari // Ibid. 1974. No 29, P. 693–704). Эти работы имеют в своем роде показательный характер. О месте культурных моделей доиндустриальной эпохи в культуре промышленного пролетариата см.: Thompson E. P. Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism // Past and Present. 1967. No 38. P. 56–97; Idem. The making of the English Working Class. L., 1968; Hobsbawm E J . Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movement in the XIX and XX Centuries. Manchester, 1959; Idem. Les classes ouvrieres anglaises et la cultures depuis les debutes de la revolution industrielle // Niveaux de culture. Op. cit. P. 189–199.
(обратно)7
См.: De Certeau M., Julia D., Revel J. La beaute du mort: le concept de «culture populaire» // Politique aujourd'hui, XII. 1970. P. 21.
В своей книге Folie et deraison. Histoire de la folie a l'age classique (P., 1961) Фуко утверждает, что «faire l'histoire de la folie, voudra done dire: faire une etude structural de l'ensemble historique — notions, institutions, mesures juridiques et policieres, concepts scientifiques — qui tient captive une folie dont l'etat sauvage ne peut jamais etre restitue en lui-meme; mais a defaut de cette inaccessible purete primitive, l'etude structurale doit remonter vers la decision qui lie et separe a la fois raison et folie» («написать историю безумия — это значит создать структурное исследование некоего исторического конгломерата, куда входят представления, институции, юридические и полицейские установления, научные знания — безумие находится у них в плену и никогда не предстает перед нами в своем истинном виде; поскольку этот его изначально чистый образ недоступен, в исследовательском решении должны быть одновременно связаны и разделены разум и безумие». — с. VII). Вот почему в этой книге нет безумцев: их отсутствие объясняется отнюдь не только — и даже не в первую очередь — редкостью соответствующих исторических материалов. В библиотеке Арсенала хранятся тысячи страниц с изложением бреда одного полуграмотного лакея: этот буйный помешанный, живший в конце XVII века, не имеет, по мнению Фуко, никакого права на место в «составе нашего дискурса», его случай «непоправимо меньше истории» (с. V). Трудно сказать, могли бы подобные материалы пролить свет на «изначально чистый образ» безумия: быть может, в конце концов он не так уж и «недоступен». Во всяком случае, последовательность Фуко в этой его книге, гениальной, несмотря на все вызываемое ею раздражение, не подлежит никакому сомнению (несмотря на отдельные противоречия — ср. с. 475–476). В том, что касается инволюции Фуко от «Истории безумия» (1961) к «Словам и вещам» (1966) и «Археологии знания» (1969) см.: Villar P. Histoire marxiste, histoire en construction // Faire de l'histoire. P., 1974, I. P. 188–189. О критике Деридда см.: Julia D. La religion — Histoire religieuse // Ibid., II. P. 145–146. О деле Ривьера: Moi, Pierre Riviere, ayant egorge ma mere, ma soeur et mon frere. P., 1973. Относительно «изумления», «молчания», отказа от каких-либо интерпретаций см.: с. 11, 14, 243, 314, 348. О круге чтения Ривьера: с. 40, 42, 125. Пассаж о блуждании в лесу находится на с. 260. Упоминание о каннибализме — с. 249. Характерные популистские деформации в статье Фуко «Les meurtres qu'on raconte». P. 265–275. Об этой проблеме в целом: Huppert G. Divinatio et Eruditio: Thoughts on Foucault // History and Theory, XIII. 1974. P. 191–207.
(обратно)8
Le Goff J. Culture clericale et traditions folkloriques dans la civilisation merovingienne // Annales ESC, XXII. 1967. P. 780–791; Culture ecclesiastique et culture folklorique au Moyen Age: Saint Marcel de Paris et le dragon // Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo. Napoli, 1970, II. P. 53–94.
(обратно)9
Lanteraari V. Antropologia e imperialismo. Torino, 1974. P. 5 sgg.; Wachtel N. L'acculturation // Faire de l'histoixe. Op. cit., I. P. 124–146.
(обратно)10
Ginzburg С I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra '500 e '600. Torino, 1974.
(обратно)11
О «количественной» истории см.: Livre et societe. Op. cit. О «серийной» истории религии см.: Chaunu P. Une histoire religieuse. Op. cit; Vovelle M. Piete baroque et dechristianisation en Provence au XVIII siecle. P., 1973. Взгляд на проблему в целом: Furet F. L'histoire quantitative et la construction du fait historique // Annales ESC, XXVI, 1971. P. 63–75 — этот автор справедливо замечает, что у метода, скрадывающего всякого рода переломы (и революции в том числе) в долгом времени и в устойчивости системы, имеются определенные идеологические импликации. Ср. в связи с этим исследования Шоню, а также статью А-Дюпрона в цитированном сборнике Livre et societe (I. P. 185 sgg.), где среди туманных рассуждений о «коллективной душе» мы встречаем похвалу благим качествам такого исторического метода, который позволяет изучать французский XVIII век, полностью игнорируя его революционный финал — что дает нам свободу оттирании «исторической эсхатологии» (с. 231).
(обратно)12
Furet F. Pour une definition des classes inferieures a I'epoque moderne // Annales ESC, XVIII, 1963. P. 459—474, особенно с. 459.
(обратно)13
Ср.: Romano R. A propos de l'edition italienne du livre de F. Braudel // Cahiers Vilfredo Pareto, 15, 1968. P. 104–106.
(обратно)14
Имеются в виду следующие исследования: Brunner О. Vita nobiliare e cultura europea. Bologna, 1972 (ср. также: Schorske С. New Trends in History // Daedalus. No 98. 1969. P. 963) и Macfarlane A. The Family Life of Ralph Josselin, a Seventeenth Century Clergyman. An Essay in Historical Anthropology. Cambridge, 1970 (ср. замечания Томпсона: Thompson E. P. Anthropology and the Discipline of Historical Context // Midland History, I. No 3, 1972. P. 41–45).
(обратно)15
Ср., что по этому поводу говорится в работе: Bogatyrev P., Jakobson R. II folklore come forma di creazione autonoma // Strumenti critici, I, 1967. P. 223–240. Известные соображения Д. Лукача о «возможном сознании» (см.: Lucacs G, Storia e coscienza di classe. Milano, 1968. P. 65 sgg.), хотя и возникшие в другом контексте, также приложимы к нашему случаю.
(обратно)16
Ср.: Cantimori D. Prospettive di storia ereticale italiana del Cinquecento. Ban, 1960. P. 17.
(обратно)17
Ср.: Julia D. La religion — Histoire religieuse // Faire de fhistoire. Op. cit., 11. P. 147.
О соотношении количественных и качественных методов исследования см.: Le Roy Ladurie E. La revolution quantitative et les historiens franchise: bilan d'une generation (1932–1968) // Le temtoire de I'historien. P., 1973. P. 22. В числе «многообещающих и новаторских» дисциплин Ле Руа Ладюри упоминает и «историческую психологию». Высказывание Томпсона цитируется до: Anthropology. Op. cit. P. 50.
(обратно)18
См.: Diaz F. Le stanchezze di Clio // Rivista storica italiana, LXXXIV, 1972, в особенности с. 733–744, а также того же автора: Metodo quantitative e storia delle idee // Ibid., LXXVIII, 1966. P. 932–947 (о работах Боллем — с. 939–941). Заслуживают внимания также критические замечания Вентури: Venturi F. Utopia e riforma neirilluminismo. Torino, 1970. P. 24–25.
О проблеме чтения см. примеч. 82 к основному тексту.
(обратно)19
Об истории ментальностей см.: Le Goff J. Les mentalites: une histoire ambigue // Faire de l'histoire. Op. cit., III. P. 76–94 (приведенная нами цитата — с. 80). Ле Гофф характерным образом замечает: «Eminemment collective, la mentalite semble soustraire aux vicissitudes des luttes sociales. Ce serait pourtant une grossiere erreur que de la detacher des structures et de la dynamique sociale... II a des mentalites de classes, a cote de mentalites communes. Leur jeu reste a etudier» («ментальность, будучи в основе своей коллективной, не причастна к коллизиям классовой борьбы. Вместе с тем было бы грубой ошибкой отрывать ее от социальных структур и социальной динамики... Наряду с общей ментальностью имеется ментальность классовая. Их соотношение еще предстоит изучить». С. 89–90).
(обратно)20
Febvre L. Le problems de l'incroyance au XVI siecle. La religion de Rabelais. P., 1968. Как известно, в этом исследовании Февр, начав с вполне конкретной задачи — спор с А. Лефранком, который считал, что Рабле в «Пантагрюэле» (1532) выступает как сторонник атеизма — постепенно выходит на все более широкую проблематику. Третья часть, посвященная границам антирелигиозности того времени, отличается наибольшей новизной в плане методологии, но вместе с тем наименьшей конкретностью и убедительностью — это, возможно, почувствовал сам автор (см. с. 19). На коллективную ментальность «людей шестнадцатого века» произвольно переносятся характеристики, с помощью которых Леви-Брюль («наш учитель» с. 17) описывал первобытное мышление. (Забавно, что Февр, иронизируя над такими понятиями, как «средневековый человек», сам через несколько страниц говорит о «людях шестнадцатого века» или о «человеке Возрождения», хотя и уточняет, что в последнем случае речь идет всего лишь об «удобной, при всей ее избитости» формуле — см. с. 153–154, 142, 382, 344). Упоминание о крестьянах на с. 253; уже Бахтин отмечал (L'oeuvre de Frangois Rabelais. Op. cit. P. 137), что Февр здесь отталкивается исключительно от материалов официальной культуры (Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965, с. 145. — прим. пер.). Сравнение с Декартом на с. 393, 425, passim — в связи с этим см, также: Schneider G. II libertino. Per una storia sociale della cultura borghese nel XVI e XVIII secolo. Bologna, 1974 — и выводы (не во всем приемлемые) на с. 7 и далее. О рафинированной тавтологии, которую грозит породить метод Февра см.: Cantimori D. Storia e storici. Torino, 1971. P. 223–225.
(обратно)21
Geremek В. II pauperismo nell'eta preindustriale (secoli XIV— XVIII) // Storia d'ltalia. Torino, 1973. Vol. V. T. I. P. 669–698: II libro dei vagabondi. A cura di P. Camporesi. Torino, 1973.
Что касается «исследования индивидуальных казусов», большой интерес представляет объявленное к публикации исследование Валерио Маркетти о сиенских ремесленниках XVI века.
(обратно)22
Эта позиция не имеет ничего общего ни с реакционной ностальгией по прошлому, ни со столь же реакционным восхвалением пресловутой внеисторичности «крестьянской культуры».
(обратно)23
Беньямин цитируется по изд.: Angelus novus. Saggi e frammenti. Torino, 1962. P. 73.
(обратно)Сноски - Введение
*
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965; Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981; Он же. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
(обратно)*
Ginzburg С. I benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cinquecento e Seicento. Torino, 1966 (2 ed. — 1974; 3 ed. — 1979).
(обратно)*
Ginzburg С. Op. cit. P. XV, XVI. Странно в этой связи выглядит утверждение А.Я. Гуревича (Проблемы средневековой народной культуры. С. 146), будто «предположение о том, что ведовские шабаши были связаны с древним культом плодородия, ныне наукой отвергнуто». Во всяком случае исследования Гинзбурга, которым нельзя отказать в том, что они относятся к «нынешней науке», убедительно доказывают обратное.
(обратно)**
Горфункель А.Х. «Молот ведьм» — средневековье или Возрождение? // Культура Возрождения и общество. М., 1986. С. 162–171.
(обратно)*
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 134, 135; Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. С. 145; Лотман Ю.М. «Оде, выбранной из Иова» Ломоносова // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1983. Т. 42. No 3. С. 253.
(обратно)**
Ginzburg С. Storia nottuma. Una decifrazione del sabba. Torino, 1989.
(обратно)*
См. в этой связи: Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. С. 361, 362.
(обратно)**
Ginzburg С. II nicodemismo. Simulazione e dissimulazione religiosa neil'Europa dell'500. Torino, 1970.
(обратно)***
Ginzburg G, Prosperi A. Giochi di pazienza. Un seminario sul «Beneficio di Cristo». Torino, 1975.
(обратно)*
Укажем некоторые наиболее важные его публикации: Cantimon D. Eretici italiani del Cinquecento. Firenze, 1939; Idem. Studi di storia. Torino; Roma, 1959; Idem. Prospettive di storia ereticale del Cinquecento. Ban, I960. О Кантимори как историке итальянского реформационного движения см.: Кудрявцев О.Ф. Изучение итальянского реформационного движения в зарубежной историографии (XIX — первая половина XX в.) // Средние века. М., 1983. Вып. 46 (С. 229–247). С. 239–245; Он же. Послевоенная историография итальянского реформационного движения // Средние века. М, 1986. Вып. 49 (С. 166–182). С. 174–180.
(обратно)*
Туревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. С. 337.
(обратно)*
См. о них: Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М., 1977.
(обратно)*
В этой связи см.: Tenenti A. L'utopia nel Rinascimento (1450–1550) // Studi storici. 1966. VII. No 4. P. 689–707; Кудрявцев О.Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991. С. 270–273.
(обратно)*
Весьма убедительно преемственную связь между радикальными реформационными доктринами Италии и духовным наследием гуманизма продемонстрировал Делио Кантимори: Cantimori D. Eretici italiani del Cinquecento. Firenze, 1939.
(обратно)*
У Гинзбурга названы в качестве таковых книгопечатание и Реформация; к ним можно было бы добавить социальные потрясения, столкновение культурных традиций.
(обратно)*
Культура и общество в средние века: методология и методика зарубежных исследований. М., 1982. С. 62–79, 112–125.
(обратно)*
Гинзбург К. Образ шабаша ведьм и его истоки. Перевод Е.Ю. Симакова // Одиссей. Человек в истории. М., 1990. С. 132–146.
(обратно)**
Гинзбург К. Опыт истории культуры: философ и ведьмы. Перевод Ю.Л. Бессмертного // Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов». М., 1993. С. 29–40.
(обратно)***
Он же. Германская мифология и нацизм. Об одной старой книге Жоржа Дюмезиля. Перевод С. Козлова // Новое литературное обозрение. 1998. No 31. С. 73–93.
(обратно)****
Он же. Приметы: Уликовая парадигма и ее корни. Перевод С. Козлова // Новое литературное обозрение. 1994. No 8. С. 32–61.
(обратно)*
Гинзбург К. Предисловие к книге «Сыр и черви. Образ мира у мельника XVI века» // Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 40–53.
(обратно)*
«Историю событий» (фр.).
(обратно)Примечания
1
Меноккио он зовется в документах инквизиционного процесса. В иных источниках его имя звучит как Менок или Меноки.
(обратно)2
Сейчас это место называется Монтереале Челлина, это городок на холме (317 метров над уровнем моря), в самом начале Валь Челлина. В 1584 году приход состоял из шестисот пятидесяти человек.
(обратно)3
«Indutus vestena quadam et desuper tabaro ac pileo aliisque vestimentis de lana omnibus albo colore» («на нем была накидка поверх одежды, колпак на голове, вся одежда"из шерсти белого цвета» — лат.). Это одеяние мельников все еще употреблялось в XIX в. Ср.: Cantu С. Portafoglio d'un operaio. Milano, 1871. P, 68.
(обратно)4
Об арендных договорах в этот период см.: Giorgetti G. Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi. Torino, 1974. P. 97 sgg. В данном случае мы не знаем, идет ли речь о «вечной» аренде или об аренде на определенный срок (например, на двадцать девять или, что более вероятно, на девять лет). О запутанности терминологии в контрактах того времени, не всегда позволяющей различать между собой различные формы аренды, см.: Chittolini G. Un problema aperto: la crisi della proprieta ecclesiastica fra Quattro e Cinquecento // Rivista storica italiana, LXXXV, 1973. P. 370. Местонахождение двух этих участков земли мы можем предположительно установить из более позднего документа — из кадастра, составленного в 1596 г. по требованию венецианского наместника, — но топонимы, в них упоминаемые, не поддаются точной идентификации и, кроме того, нет полной уверенности, что речь идет о тех же участках, о которых упоминал двенадцатью годами раньше (в 1584 г.) Меноккио. Следует заметить, что в кадастре 1578 г. имя Доменико Сканделла вообще не упоминается, но зато несколько раз встречается Бернардо Сканделла (были ли они родственниками, неизвестно: отца Меноккио звали Джованни). Фамилия Сканделла, заметим в скобках, и сейчас встречается в Монтереале.
(обратно)5
Ср.: Tagliaferri A. Struttura e politica sociale in una communita veneta del '500 (Udine). Milano, 1969. P. 78, где говорится об аренде мельницы с жилым помещением в Удине — в 1571 г. арендная плата составляла шестьдесят один четверик пшеницы и два окорока. См. ниже (с. 167–168) договор об аренде новой мельницы, заключенный Меноккио в 1596 г.
Жениха звали Даниэле Колусси, контракт был подписан 26 января 1600 г. Цифры приданых, фигурирующие в документах этого времени: 390 лир и 10 сольдо, 340 лир, 300 лир, 247 лир и 2 сольдо, 182 лиры и 15 сольдо. Незначительность суммы в последнем случае объясняется тем, что для невесты, Маддалены Гастальдионе ди Гриццо, это был второй брак. К сожалению, нам ничего не известно об общественном положении и профессиях лиц, заключавших эти брачные контракты. Приданое Джованны Сканделлы состояло из следующих предметов:
Кровать с новым тюфяком, с парой льняных простынь подержанных, с подушками и наволочками новыми, с новым покрывалом, которое сер Стефано обязуется купить — 69 лир 4 сольдо;
Кожаная рубашка новая — 5 лир 10 сольдо;
Сукно кафтанное с вышивкой — 4 лиры;
Поддевка сермяжная — 11 лир;
Штука саржи — 12 лир;
Такая же штука саржи — 12 лир;
Поддевка сермяжная ношеная — 10 лир;
Штука саржи с каймой из бумазеи и бахромой понизу — 12 лир 10 сольдо;
Саржевая рубашка — 8 лир 10 сольдо;
Пара рукавов из светло-желтого сукна с шелковыми шнурками — 4 лиры 10 сольдо;
Пара рукавов из серого сукна — 1 лира 10 сольдо;
Пара рукавов хлопчатых с подкладкой — 1 лира;
Простыни новые полотняные, три штуки — 15 лир;
Простыня тонкотканая подержанная — 5 лир;
Наволочки новые, три штуки — 6 лир;
Сукно кафтанное, шесть отрезов — 4 лиры;
Сукно кафтанное, четыре отреза — 6 лир;
Платки новые, три штуки — 4 лиры 10 сольдо;
Платки ношеные, четыре штуки — 3 лиры;
Фартук вышитый — 4 лиры;
Сукно кафтанное, три отреза — 5 лир 10 сольдо;
Отрез хлопчатый — 1 лира 10 сольдо;
Фартук ветхий, отрез суконный и отрез хлопчатый — 3 лиры;
Платок головной новый вышитый — 3 лиры 10 сольдо;
Носовые платки, пять штук — 6 лир;238
Мантилья ношеная — 3 лиры;
Чепцы новые, две штуки — 1 лира 10 сольдо;
Рубашки кожаные новые, пять штук — 15 лир;
Рубашки ношеные, три штуки — 6 лир;
Шнурки шелковые всех цветов, девять штук — 4 лиры 10 сольдо;
Пояски разноцветные, четыре штуки — 2 лиры;
Фартук холщовый новый — 15 сольдо;
Сундук без замка — 5 лир.
Итого — 256 лир 9 сольдо.
(обратно)6
Работа D'Orlandi L., Perusini G. Antichi costumi friulani — Zona di Maniago. Udine, 1940 осталась мне недоступной.
(обратно)7
Следует иметь в виду, что говорит М. Беренго (Berengo M. Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento. Torino, 1965) о луккской деревне: в малых коммунах «исчезает всякая социальная дифференциация, ибо все как один добывают средства к жизни, обрабатывая общинные земли. И если здесь, как и везде, имеются богатые и бедные..., то все же никого нельзя с полным правом назвать сельским жителем и тем более — крестьянином»; особый случай представляют мельники, «без которых не обходится ни одно сколько-нибудь заметное поселение, ...где они выделяются своим богатством, очень часто выступают в качестве заимодавцев в отношении отдельных лип и всей коммуны, при этом не принимают участия в обработке земли» (С. 322, 327). Об общественном положении мельника см.: С. 137–139.
(обратно)8
В 1581 г. Андреа Коссио, удинский дворянин, направил «potestati, iuratis, communi, hominibus Montisregalis» («подеста, присяжным, коммуне и жителям Монтереале» — лат.) требование о выплате ему арендных платежей. 1 июня требование было передано «Dominico Scandellae vocato Menochio de Monteregali... potestati ipsius villae («Доменико Сканделла по прозвищу Меноккио из Монтереале, подеста этой деревни» — лат.). В письме сына Меноккио Заннуго (см. ниже) говорится, что тот был «подеста и управляющим пяти деревень» и старостой прихода.
(обратно)9
Ср.: Perusini G. Gli statuti di una vicinia rurale friulana del Cinquecento // Memorie storiche forogiuliesi, XLIII. 1958–1959. P. 213–219. «Вичиния» (т.е. совет глав семейств) крошечного селения Буэрис близ Тричезимо в 1578 г. состояла из шести человек,
(обратно)10
Ср.: Marchetti G. I quaderni dei camerari di s. Michele a Gemona // Ce fastu? 38. 1962. P. 11–38. Маркетти утверждает (с. 13), что старостами избирались лица, не относящиеся ни к клиру, ни к нотариату, т.е. к «образованным» сословиям; по большей части ими становились «бюргеры или пополаны, имевшие возможность посещать коммунальное училище»; автор приводит, по-видимому, исключительный случай избрания на эту должность в 1489 г. неграмотного кузнеца (с. 14).
(обратно)11
Ср.: Chiuppaai G. Storia di una scuola di grammatica dal Medio Evo fino al Seicento (Bassano) // Nuovo archivio veneto, XXIX, 1915. P. 79. В Авиано, возможно, преподавал гуманист Леонардо Фоско, бывший родом из Монтереале (см: Fattorello F. La cultura del Friuli nel Rinascimento // Atti dell'Accademia di Udine. I. 1934–1935. P. 160). Этих сведений, однако, нет в биографии Фоско, написанной А-Бенедетти (II Popolo, settimanale della diocesi di Concordia — Pordenone, 8 giugno 1974), Исследование о коммунальных училищах этого времени было бы крайне желательным. Иногда даже совсем маленькие поселения имели свои училища (Rustici A. Una scuola rurale della fine del secolo XVI // La Romagna, I, 1927. P. 334–338). О школьном обучении в луккской деревне см.: Berengo M. Nobili e mercanti. Op. pit. P. 322.
(обратно)12
Джованни Поволедо сначала сказал, что знает Меноккио уже сорок лет, но потом говорил о двадцати пяти и тридцати. Единственное указание на дату содержится в показаниях Антонио Фассета: «Мы возвращались с Меноккио с гор, а было это тогда, когда к нам приезжала императрица, и разговаривая о ней, он сказал: «Эта императрица главнее Девы Марии». Императрица Мария Австрийская посещала Фриули в 1581 г. (см.: Palladio degli Olivi G. F. Historie della Provincia del Friuli. Udine, 1660, II. P. 208).
(обратно)13
Это подтверждается словами самого Вораи (протокол от 1 июня 1584 г.), выразившего сожаление, что не сделал этого раньше.
(обратно)14
Ср. похожий случай в том же Фриули — Miccoli G. La vita religiosa // Storia d'ltalia. Torino, 1974. Vol. II. T. I. P. 994.
(обратно)15
О судебном процессе против Мелькиори и его отношениях с Меноккио см. ниже, с. 134–136. Мелькиори и Поликрето привлекались к суду инквизиции (соответственно в марте и в мае 1584 г.) по обвинению в том, что своими советами они помогали Меноккио избежать обвинения. Оба своей вины не признали. Дело Мелькиори закончилось тем, что его обязали находиться в распоряжении суда; на Поликрето была наложено церковное покаяние. Благоприятные для Поликрето показания дали подеста Порденоне Джероламо Грегори и представитель местного нобилитета Джероламо Попаити. Поликрето был связан родственными узами с семейством Мантика-Монтереале, к которому принадлежали также местные синьоры. В 1583 г. он был третейским судьей (сменив в этой роли своего отца, Антонио) в споре Джакомо и Джован Баггиста Мантика, с одной стороны, и Антонио Мантика, с другой.
(обратно)16
Проявления религиозного инакомыслия со стороны простых людей часто рассматривались как признаки умственного расстройства. См.: Miccoli G. La vita religiosa. Op. cit. P. 994–995.
(обратно)17
Foucault M. Folie et deraison. Op. cit. P. 121–122 (история Бонавентюра Форкруа). Р. 469 (в 1733 г. один человек попал в больницу Сен-Лазар, потому что его обуревали «удивительные чувства»).
(обратно)18
И письмо Заннуто адвокату Трапполе, и письмо священника, написанное по настоянию Заннуто, сохранились в материалах первого процесса против Меноккио. В то же время показания Заннуто и священника об обстоятельствах написания письма (дающие их несходные, но и не взаимоисключающие версии) содержатся в материалах процесса против самого священника. Вораи предъявлялись следующие обвинения (кроме обвинения в самом факте написания письма с изложением тактики защиты): он десять лет не доносил на Меноккио, считая его все это время еретиком, и он заявил в разговоре с Николо и Себастьяно — графами Монтереале, что воинствующая церковь, хотя и ведомая Святым духом, может ошибаться. Суд, продолжавшийся очень недолго, приговорил Вораи к каноническому покаянию. На допросе 19 мая 1584 г. он сказал среди прочего: «Я написал это письмо из страха за свою жизнь, ибо сыновья этого Сканделлы, когда оказывались рядом, всячески показывали свое недовольство и не здоровались со мной, как прежде, и друзья меня предупредили, чтобы я был настороже, потому что ходит слух, что это я донес на сказанного Доменего, и мне могут за это сделать какую-нибудь неприятность...» Среди тех, кто обвинял Вораи в доносительстве, был тот Себастьяно Себенико, который советовал Заннуто выдать Меноккио за безумца или одержимого.
(обратно)19
Судя по всему, на эту мысль отца навел все тот же Заннуто.
(обратно)20
См.: Ginzburg С. I benandanti. Op. cit., указатель имен.
(обратно)21
Paschini P. Venezia e l'lnqusizione Romana da Giulio III a Pio IV. Padova, 1959. P. 51 sgg.; Stella A. Chiesa e Stato nelle relazioni del nunzi pontifici a Venezia. Citta del Vaticano, 1964. P. 290–291.
(обратно)22
Ср.: Псалтирь, 82, 6.
(обратно)23
Критика Меноккио обращена на дополнительную регламентацию брака, введенную Тридентским собором. Ср.: Jemolo A. C. Riforma tridentina nell'ambito matrimoniale // Contributi alia storia del Concilio di Trento e della Controriforma. — Quademi di Belfagor. I. 1948. P. 45 sgg.
(обратно)24
О Фриули в этот исторический период помимо Паскини (Paschini P. Storia del Friuli. Udine, 1954, II), который занимается только политическими событиями, см. многочисленные работы Лейхта: Leicht P. S. Un programma di parte democratica in Friuli nel Cinquecento // Studi e frammenti. Udine, 1903. P. 107–121; La rappresentanza dei contadini presso il veneto Luogotenente della Patria del Friuli // Ibid. P. 125TM144; Un movimento agrario nel Cinquecento // Scritti van di storia del diritto italiano. Milano, 1943. I. P. 73–91; II parlamento friulano nel primo secolo della dominazione veneziana // Rivista di storia del diriLLo italiano. XXI. 1948. P. 5–50; I contadini ed i Parlamenti dell'eta intermedia // IX Congres International des Sciences Historique... Etudes presentees à la Commission Internationale pour l'histoire des assemblees d'etats. Louvain, 1952. P. 125–128. Из работ последнего времени см.: Ventura A. Nobilta e popolo nella societa veneta del 400 e '500. Ban, 1964. P. 187–214; Tagliaferri A. Struttura. Op. cit.
(обратно)25
Ср.: Battistella A. La servitu di masnada in Friuli // Nuovo archivio veneto. XI. 1906. P. II. P. 5–62; XII. 1906. P. I. P. 169–191. P. II. P. 320–331; XIII. 1907. P. I. P. 171–184. P. II. P. 142–157; XIV. 1907. P. I. P. 193–208; XV. 1908. P. 225–237. Последние следы этого института исчезают к 1460 г., но даже век спустя во фриульских законоуложениях встречаются такие статьи, как «De nato ex libero ventre pro libero reputando» («кто рождается от свободного, тот считается свободным» — лат.) с характерным уточнением «quicumque vero natus ex muHere serva censeatur et sit servus cuius est mulier ex qua natus est, etiam si pater eius sit liber» («кто же родится от рабыни, становится рабом ее хозяина, даже если отец его свободный» — лат.) или «De servo communi manumissio» («об отпущении общинных рабов на свободу» — лат.). Ср. также: Sassoli G. La scomparsa della servitu di masnada in Friuli // Ce Fastu? 32. 1956. P. 145–150.
(обратно)26
Ср,: Relazioni dei rettori veneti in Terraferma, I: La Patria del Friuli (luogotenenza di Udine). Milano, 1973 (и рецензию на это издание; Berengo M. // Rivista storica italiana. LXXXVI. 1974. P. 586–590).
(обратно)27
См.: Perusini G. Vita di popolo in Friuli. Patti agrari e consuetidini tradizionali. Firenze, 1961. P. XXI — XXII.
(обратно)28
О событиях 1511 г. см.: Leicht P. S. Un movimento agrario. Op, cit.; Ventura A. Nobilta e popolo. Op. cit.
(обратно)29
О крестьянской управе см.: Leicht P. S. La rappresentanza dei contadini. Op. cit. Надо заметить, что отсутствие современного исследования этой темы дает о себе знать.
(обратно)30
См.: Constitutions Patriae Foriiulii cum additionibus noviter impressae. Venetiis, 1524, cc. LXv, LXVIIIv. Те же статьи сохраняются в издании 1565 г.
(обратно)31
Ср.: Leicht P. S. I contadini ed i Parlamenti. Op. cit., — автор подчеркивает исключительность фриульской ситуации: ни в какой другой стране Европы нет подобного представительного органа крестьянства, который бы сосуществовал с парламентом или генеральными штатами.
(обратно)32
См.: Leggi per la Patria. Op. cit. P. 638 sgg., 642 sgg., 207 sgg.
(обратно)33
Perusini G. Vita di popolo. Op. cit. P. XXVI; Giorgetti G. Contadini e proprietari. Op. cit. P. 97 sgg.
(обратно)34
Tagliafem A. Struttura. Op. cit. P. 25 sgg.
(обратно)35
Relazioni. Op. cit. P. 84, 108, 115.
(обратно)36
Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII. Venezia—Roma, 1961; Crisis and Change in the Venetian Economy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. L., 1968.
(обратно)37
См. прекрасную работу: Ossowski S. Struttura di classe e coscienza sociale. Torino, 1966, в особенности с. 23 и далее.
(обратно)38
К сожалению, мы не располагаем инвентарным списком церковных владений для Фриули на данный период. Подобный список, весьма показательный, был составлен в 1530 г. по распоряжению венецианского наместника Джованни Базадона (здесь есть перечень лиц, арендующих земли, принадлежащие монтереальской церкви Сайта Мария, но среди них не фигурирует ни один Сканделла).
(обратно)39
Stella A La proprieta ecclesiastica nella Repubblica di Venezia dal secolo XV al XVTI // Nuova rivista storica. XLII. 1958. P. 50–77; Ventura A Considerazioni suU'agricultura veneta e sulTaccumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII // Studi storici. IX. 1968. P. 674–722; Chittolini G. Un problema aperto. Op. cit. P. 353–393.
(обратно)40
Библиография вопроса чрезвычайно обширна. О религиозном радикализме в общем плане см.: Williams G. H. The Radical Reformation. Philadelphia, 1962. Об анабаптизме см.: Clasen C. P. Anabaptism. A Social History (1525–1618): Switzerland, Austria, Moravia, South and Central Germany. Ithaca — L., 1972. О ситуации в Италии см. материалы, приводимые в работах: Stella A. Oairanabattismo al socianesimo nel Cinquecento veneto. Padova, 1967; Idem. Anabattismo e antitrinitarismo in Italia nel XVI secolo. Padova, 1969.
(обратно)41
Ср.: Stella A. Dall'anabattismo al socianesimo. Op. cit. P. 87 sgg.; Idem. Anabattismo e antitrinitarismo. Op. cit. P. 64 sgg. Ср.-также: Ginzburg С. I costituti di don Pietro Manelfi. Firenze — Chicago, 1970.
(обратно)42
О религиозной ситуации во Фриули см.: Paschini P. Eresia e Riforma cattolica al confine orientale d'ltalia // Lateranum, XVII. No 1–4, Romae, 1951; De Biasio L. L'eresia protestante in Friuli nella seconda meta del secolo XVI // Memorie storiche Forogiuliesi. LII. 1972. P. 71–154. О ремесленниках из Порчии см.: Stella A. Anabattismo e antitrinitarismo. Op. cit. P. 153–154.
(обратно)43
Вот что, к примеру, писал в 1552 г. Марко-красильщик, отрекшийся от анабаптистской ереси: «они (анабаптисты) убеждали меня, что нельзя верить папским отпущениям, потому что они гроша медного не стоят».
(обратно)44
См.: Stella A. Anabattismo e antitrinitarismo. Op. cit. P. 154. Ср. также, что говорил тряпичник из Бергамо Вентура Боничелло, которого судили за приверженность к анабаптистской ереси: «Другие книги, кроме Священного писания, мне мерзки».
(обратно)45
Andrea da Bergamo [P. Nelli]. II primo libro delle satire alia carlona. In Vinegia, 1566. C. 31r.
(обратно)46
Tacchi Venturi P. Storia della Compagnia di Gesu in Italia. Roma, 1938. I. P. 455–456.
(обратно)47
Chabod F. Per la storia religiosa dello Stato di Milano // Chabod F. Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V. Torino, 1971. P. 335–336.
(обратно)48
Крайне редко можно встретить свидетельства, подобные тому, которое мы находим в донесении М. Дандоло, венецианского посла в Риме (14 июня 1550 г.); «братья-инквизиторы... сообщают удивительные известия из Брешии и еще более удивительные из Бергамо, в том числе о мастеровых, которые по праздникам ходят по деревням и, забравшись на деревья, проповедуют лютеранскую ересь крестьянам» (Paschini P. Venezia. Op. cit. P. 42).
(обратно)49
Этой тематики я касался в одной из предыдущих работ (Folklore, magia e religione // Storia d'ltalia. Torino, 1972. I. P. 645 sgg., 656 sgg.) и надеюсь вернуться к ней в будущем.
(обратно)50
Нижеследующий параграф отчасти конкретизирует, отчасти исправляет сказанное мной в указанной в предыдущей сноске работе (с. 645).
(обратно)51
Я не склонен преувеличивать значение терминологических тонкостей, но считаю нужным подчеркнуть, что вполне сознательно предпочел этот термин всем другим («народный рационализм», «народная Реформация», «анабаптизм»), 1) Термин «народный рационализм» был введен Беренго (Nobili e mercanti. Op. cit. P. 435 sgg.) для описания явлений, в принципе идентичных тем, которые меня здесь интересуют. Однако они мало походят на то, что мы сейчас понимаем под проявлениями «разума» (взять, к примеру, видения Сколио, о которых ниже), и потому мне этот термин представляется малоудачным. 2) Крестьянский радикализм, которым я занимаюсь, является, без сомнения, одной из составных частей «народной Реформации», о которой писал Мачек («эти независимые течения в европейской истории XV—XVI веков можно считать радикальной народной Реформацией» — Macek J. La Riforma popolare. Firenze, 1973. P. 2; курсив мой). Надо, однако, иметь в виду, что он много старше XV века (см. следующее прим.) и его значение не ограничивается внесением народного элемента в движение Реформации. 3) Термин «анабаптизм» в качестве обобщенного понятия, охватывающего все проявления религиозного радикализма в данный период, был предложен Кантимори (Eretici italiani del Cinquecento. Firenze, 1939. P. 31 sgg.), который, правда, затем от него, под влиянием критики Риттера, отказался. Недавно к нему вернулся Ротондо; для него анабаптизм — это «некая смесь профетизма, антицерковного радикализма, антитринитаризма и эгалитаризма..., популярная среди нотариусов, врачей, преподавателей грамматики, среди монахов и купцов, среди городских ремесленников и крестьян» (I movimenti ereticali nell'Europa del Cinquecento // Rivista storica italiana. LXXVTII. 1966. P. 138–139). Такое расширительное толкование представляется неоправданным, ибо не учитывает глубоких различий, существовавших между народной религиозностью и религиозностью образованных слоев, между религиозным радикализмом деревни и религиозным радикализмом города. Мало помогают делу и всякого рода туманные «типологии», о которых говорит А. Оливьери (Sensibilita religiosa urbana e sensibilita religiosa contadina nel Cinquecento veneto: suggestioni e problemi // Critica storica. IX. 1972. Р. 631–650): под знаменем анабаптизма здесь объединяются явления совершенно разнородные, вплоть до крестных ходов в честь Богоматери. Главная на данный момент исследовательская задача состоит в том, чтобы выявить скрытые связи между различными составными частями «народной Реформации» и должным образом оценить значение религиозной и культурной традиции, носительницей которой являлась итальянская и европейская деревня, — той самой традиции, которая лежит в основе мировоззрения Меноккио. Для определения ее я ввел понятие «крестьянского радикализма», имея при этом в виду не столько «радикальную Реформацию» Уильямса (в отношении которой см. справедливые замечания Мачека), сколько высказывание Маркса о радикализме, который «во всем добирается до самых корней» — метафора, чрезвычайно уместная в контексте нашего исследования.
(обратно)52
См. интересную статью Вейкфилда (Wakefield W. L. Some Unorthodox Popular Ideas of the Thirteenth Century // Medievalia et Humanistica. No 4. 1973. P. 25–35), который, исследуя материалы тулузской инквизиции, выявил в показаниях обвиняемых «statements often tinged with rationalism, skepticism, and revealing something of a materialistic attitude. There are assertions about a terrestrial paradise for souls after death and about the salvation of unbaptized children; the denial that God made human faculties; the derisory quip about the consumption of the host; the identification of the soul as blood; and the attribution of natural growth to the qualities of seed and soil alone» (P. 29–30; «утверждения, зачастую окрашенные рационализмом, скептицизмом и подводящие к тому, что можно назвать материалистической позицией. Здесь можно встретить высказывания о том, что души после смерти попадают в земной рай, и о возможности спасения некрещеных младенцев; несогласие с тем, что все способности человека является порождением Бога, сарказмы по поводу причастия, отождествление души с кровью, отношение к плодородию как к независящему ни от чего, кроме свойств семян и почвы» — англ.). Все эти идеи автор вполне резонно отказывается связывать с влиянием катаров и относит к вполне самостоятельной традиции. (Движение катаров могло в лучшем случае пробудить к жизни эту традицию или привлечь к ней внимание инквизиторов и тем самым сделать ее известной). Любопытно, что еретическое утверждение, вменявшееся в вину одному нотарию, в конце XIV в. принадлежавшему к секте катаров — «quod Deus de celo non facit crescere fructus, fruges et herbas et alia, quae de terra nascuntur, sed solummodo humor terre» («плоды, злаки, травы и все прочее, произрастающее на земле, рождается не по велению Бога с небес, а производится земляными соками» — лат.), — прямо перекликается со словами фриульского крестьянина, жившего тремя веками позже: «Когда священники благословляют поля и кропят их святой водой на Богоявление, то от этого ни винограда, ни фруктов не прибавится, если не приложить труда и не прибавить навоза» (см. соответственно: Serena A. Fra gli eretici trevigiani // Archivio veneto-tridentino, III, 1923, P. 173; Ginzburg C. I benandanti. Op. cit. P. 38–39). Понятно, что в последнем случае катары ни при чем. Речь, скорее, идет об идеях, что «may well have arisen spontaneously from the cogitations of men and women searching for explanations that accorded with the realities of the life in which they were enmeshed» (Wakefield W. L. Some Unorthodox. Op. cit. P. 33; «спонтанно рождаются у людей, нуждающихся в таких объяснениях природных явлений, которые не расходились бы с их жизненным опытом» — англ.). Похожие примеры можно легко умножить. Именно эту культурную традицию, которая дает о себе знать на протяжении многих веков, мы обозначаем термином «крестьянский (или «народный») радикализм». К его компонентам, перечисленным Вейкфилдом — рационализм, скептицизм, материализм, — надо добавить утопизм, основанный на принципе всеобщего равенства, и натурализм в подходе к религии. Сочетание всех или почти всех вышеуказанных компонентов рождает на свет явления крестьянского «синкретизма» (который выступает по отношению к ним в качестве их всеобщего субстрата); ср., к примеру, археологические материалы, указываемые в кн.: Bordenave J., Vialelle M. Aux racines du mouvement cathare: la mentalite religieuse des paysans de l'Albigeois medieval. Toulouse, 1973.
(обратно)53
В известных мне работах о фриульской живописи имя Николы из Порчии не упоминается. Антонио Форниз, специально занимающийся этим вопросом, любезно уведомил меня (в письме от 5 июня 1972 г.), что не обнаружил никаких следов ни «Николы из Порчии», ни «Николы Мелькиори» (см. ниже). Надо заметить, что художник и мельник могли соприкасаться не только по религиозным, но и по профессиональным мотивам. Случаи, когда живописцы, скульпторы и архитекторы обращались в соответствующее венецианское ведомство за привилегией на постройку мельницы, весьма нередки. Иногда среди таковых попадаются известные имена — например, скульптора Антонио Риччо или архитектора Джорджо Амадео или Якопо Бассано. Двое первых получили в сенате такую привилегию в 1492 г., Бассано — в 1544. Ср.: Mandich G. Le privative industriali veneziane (1450–1550) // Rivista del diritto commercials XXXIV. 1936. P. I. P. 538, 541, 545. Для последующего периода существование аналогичных случаев устанавливается на основе архивных документов, любезно предоставленных в мое распоряжении Карло Пони.
(обратно)54
В материалах суда над этой группой из Порчии не фигурирует никакой Никола.
(обратно)55
В доме Рорарио Никола расписывал мебель.
(обратно)56
На колофоне значится: In Vinegia, nelle case di Giovanni Antonio di Nicolini da Sabbio, ne gli anni del Signore, MDXLI, dil mese di maggio. Специальных исследований «Сна» не существует; относительно самого Каравии и того литературного течения, к которому его «Сон» отчасти принадлежит, см: Rossi V. Un aneddoto della storia della Riforaia a Venezia // Scritti di critica letteraria. Ill: Dal Rinascimento al Risorgimento. Firenze, 1930. P. 191–222; и предисловие к кн.: Novelle dell'altro mondo. Poemetto buffbnesco del 1513. Bologna, 1929. О хождениях в ад буффонов и других народных комических персонажей см; Bachtin M. L'oeuvre de Francois Rabelais. Op. cit. P. 393 (русское цит. изд.: с. 430–431 — прим. пер.).
(обратно)57
Хотя гравюра на фронтисписе ничем особенным не отличается от принятого в иконографии того времени изображения «меланхолии», зависимость от рисунка Дюрера, хорошо известного в Венеции, представляется несомненной. Ср.: Klibansky R., Saxl F., Panofsky E. Saturn and Melancholy. Studies in the History of Natural Philosophy, Religion and Art. L., 1964.
(обратно)58
Занполо не описывает чистилище; лишь в одном месте он довольно туманно упоминает о муках, в «аду чинимых, в чистилище то бишь».
(обратно)59
На этом Каравия делает особенный упор, осуждая среди прочего грандиозное строение школы Сан Рокко.
(обратно)60
О написанном им после «Сна» см.: Rossi V. Un aneddoto. Op. cit. В 1557 г. Каравиа попал под суд инквизиции, на котором среди материалов обвинения фигурировал также и «Сон», написанный, как утверждалось на процессе, «в насмешку над религией» (см.: Ibid. P. 220; весьма характерное завещание Каравии от 1 мая 1563 г. приводится на с. 216–217).
(обратно)61
Как уже говорилось, датировать начало отхода Меноккио от ортодоксальной религии не представляется возможным. Правда, он сам говорил, что не соблюдает посты в течение двадцати лет — это дает нам дату, почти точно совпадающую с временем его изгнания из Монтереале. Меноккио вполне мог вступить в контакт с лютеранами во время своего пребывания в Карнии: в этой пограничной области реформациионные идеи имели широкое хождение.
(обратно)62
Ср.: Chabod F. Per la storia. Op. tit. P. 299 sgg.; Cantimori D. Eretici italiani del Cinquecento. Firenze, 1939. P. 10 sgg.; Reeves M. The Influences of Prophecy in the Later Middle Ages. A Study in Joachimism. Oxford, 1969; Tognetti G. Note sul profetismo nel Rinascimento e la letteratura relativa // Bullettino delflstituto storico italiano per il Medio Evo. No 82, 1970. P. 129–157. О Джорджо Сикуло см.: Cantimori D. Eretici. P. 57 sgg.; Ginzburg С Due note sul profetismo cinquecentesco // Rivista storica italiana. LXXVIII. 1966. P. 184 sgg.
(обратно)63
«Inveni quosdam libros qui non erant suspecti neque prohibiti, ideo R. p. inquisitor sibi restitui» («я обнаружил (это пишет нотарий) несколько книг, среди которых не было ни подозрительных, ни запрещенных, и по приказанию инквизитора их возвратил» — лат.).
(обратно)64
Судя по библиографии, составленной Г. Спини, это не перевод Бручоли (La Bibliofilia. XLII. 1940. P. 138 sgg.).
(обратно)65
См.: Suchier H. Denkmaler Provenzalischer Literatur und Sprache. Halle, 1883. I. P. 495 sgg.; Rohde P, Die Quellen der Romanische Weltchronik // Ibid. P. 589–638; Zambrini F. Le opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV. Bologna, 1884. Col. 408. В разных изданиях объем труда варьируется: иногда хроника заканчивается рождением Христа, иногда детством или страстями. Я просматривал издания, вышедшие в свет в период между 1473 и 1552 гг., почти все они венецианские (правда, я не ставил себе целью просмотреть все). Когда Меноккио купил «Цветы», мы точно не знаем. Книга долго оставалась популярной: «Flores Bibliorum et doctorum» фигурируют в индексе 1569 г. (см.: Reusch F. H. Die Indices libromm prohibitorum des sechszehten Jahrhunderts. Tubingen, 1886. P. 333). В 1576 г. комиссар Священного Дворца, фра Дамиано Рубео, отвечая на запрос болонского инквизитора, рекомендовал ему изъять «Цветы Библии» из обращения (см.: Rotondd A. Nuovi documenti per la storia deir»Indice dei Hbri proibiti» (1572–1638) // Rinascimento. XIV. 1963. P. 157).
(обратно)66
Меноккио сначала говорил о «Светильнике Богоматери», затем поправился: «Я точно не помню, как называлась эта книга — «Розарий» или «Светильник», — но она была печатная». Мне известны не менее пятнадцати изданий «Розария» Альберто да Кастелло, вышедшие в свет в 1521–1573 гг. (но и в этом случае я не проводил систематических разысканий). Если в руках у Меноккио был именно этот «Розарий» (как будет сказано ниже, уверенности в этом нет), остается непонятным, почему он называл его «Светильником»: не исключено, что он спутал его с каким-нибудь «Светильником», ведущим свое происхождение от одноименной книги Гонория Августодунского (о литературе такого рода см.: Lefevre Y. L'Elucidarium et les lucidaires. P., 1954).
(обратно)67
Возможно, и эта оговорка объясняется знакомством с каким-нибудь «Светильником» (см. предыдущее прим.). Переводы «Золотой легенды» известны в огромном количестве изданий. Меноккио мог видеть, к примеру, венецианское издание 1565 г.
(обратно)68
См.: La poesia religiosa. I cantari agiografici e le rime di argomento sacro. A cura di A. Cioni L. Firenze, 1963. P. 253 sgg. Это целая группа текстов, где «кантаре» о Страшном суде, с которым был знаком Меноккио, предварялся более краткой поэмкой о пришествии Антихриста (начинавшейся строкой: «К тебе взываю, вечный Жизнетворец»). Мне известны четыре экземпляра этого издания. Три из них хранятся в Тривульцианской библиотеке в Милане (Sander M. Le Hvre a figures italien depuis 1467jusqu'a 1530. Milano, 1942. II. No 3178, 3180, 3181), четвертый — в Болонской университетской библиотеке (Opera nuova del giudicio generate, qual tratta della fine del mondo. Stampato in Parma, et ristampato in Bologna, per Alexandra Benacci, con licentia della Santissima Inquisitione, 1575; об этом экземпляре см. ниже: примеч. 81). Во всех четырех имеется парафраза слов Христа из евангелия от Матфея (см.: с. 82–84), которая, однако, отсутствует в более краткой версии, сохранившейся в Марчианской библиотеке в Венеции (Segarizzi A. Bibliografia delle stampe popolari italiane della R. Biblioteca nazionale di S. Marco di Venezia, Bergamo, 1913. I. No 134, 330).
(обратно)69
Об этом произведении имеется обширная литература. См., к примеру, последнее из известных мне изданий: Mandeville's Travels. Oxford, 1967, — а также дискуссию в кн.: Letts M. H. I. Sir John Mandeville. The Man and His Book. L., 1949 и Bennett J. W. The Rediscovery of Sir John Mandeville. N. Y., 1954 (в последней предпринята малоубедительная попытка доказать, что Мандевиль был историческим лицом). «Путешествия», переведенные сначала на латинский, а затем и на другие европейские языки, переписывались и издавались в огромном числе экземпляров. В Британском музее только итальянский перевод имеется в двадцати изданиях (между 1480 и 1567 гг.).
(обратно)70
О «Сне Каравии» см. работы В. Росси, цитированные выше.
(обратно)71
Мне известно не менее пятнадцати изданий хроники Форести, опубликованных в 1488–1581 гг. Об авторе см.: Pianetti E. Fra' Iacopo Filippo Foresti e la sua opera nel quadro della cultura bergamasca // Bergomum. XXXIII. 1939. P. 100–109, 147–174; Azzoni A. I libri del Foresti e la biblioteca conventuale di S. Agostino // Ibid. LIII. 1959. P. 37–44; Lachat P. Une ambassade ethiopienne aupres de Clement V, a Avignon, en 1310 // Annali del pontificio museo missionario etnologico gia lateranensi. XXXI. 1967. P. 9.
(обратно)72
Сандер (Le Hvres a figures. Op. cit. II. No 3936–3943) указывает восемь изданий этой книги, опубликованных в 1509–1533 гг.
(обратно)73
О том, что у Меноккио имелось издание, которое не затронула контрреформационная цензура, см. ниже о. 101. См. о них: Reusch F. H. Der Index der verboten Bucher. Bonn, 1883. I. P. 389–391; Rotondo A. Nuovi document! Op. cit. P. 152–153; De Frede С Tipografi, editori, librai italiani del Cinquecento coinvolti in process! d'eresia // Rivista di storia della chiesa in Italia, XXIII, 1969. P. 41; Brown P. Aims and Methods of the Second «Rassettatura» of the Decameron // Studi secenteschi. VIII. 1967. P. 3–40. О церковной цензуре в общем плане см.: Rotondo A. La censura ecclesiastica e la cultura // Storia d'ltalia. Torino, 1973. Vol. V. T. II. P. 1399–1492.
(обратно)74
De Frede C. La prima traduzione italiana del Corano sullo sfondo dei rapporti tra Cristianita e Islam nel Cinquecento. Napoli, 1967.
(обратно)75
См.: Tagliaferri A. Struttura. Op. cit. P. 89.
(обратно)76
См.: Chiuppani G. Storia di una scuola. Op. cit. В связи с отсутствием современных исследований на эту тему не утеряла значения старая работа: Manacorda G. Storia della scuola in Italia. I: Medioevo. Milano-Palermo-Napoli, 1914.
(обратно)77
История распространения грамотности пока еще делает первые шаги. Общая картина, набросанная Чиполлой (Cipolla С. Literacy and Development in the West. L., 1969) уже устарела. Среди исследований последних лет можно указать следующие: Stone L. The Educational Revolution in England, 1560–1640 // Past and Present. No 28. 1964. P. 41–80; Idem. Literacy and Education in England, 1640–1900 // Ibid. No 42. 1969. P. 69–139; Wyczanski A. Alphabetisation et structure sociale en Pologne au XVI siecle // Annales ESC. XXIX. 1974. P. 705–713; Furet F., Sachs W. La croissance de l'alphabetisation en France — XVIII— XIX siecle // Ibid. P. 714–737. В плане сопоставления с нашим материалом особенно интересным представляется исследование Вышанского. Рассмотрев архивы краковского фиска за 1564–1565 гг., он установил, что из фигурирующих в этих документах крестьян двадцать процентов умели поставить свою подпись. Автор подчеркивает большую вероятность ошибки в связи со скудостью статистического материала — в общей сложности восемнадцать человек, большинство из которых, к тому же, относится к категории зажиточных и занимавших какие-то видные должности в своих общинах (та же картина, что и в случае с Меноккио); тем не менее он считает возможным утверждать, что «элементарное школьное обучение не было слишком большой редкостью в деревне» (Wyczanski A. Alphabetisation. P. 710). Интересных результатов можно ожидать от еще не завершенных исследований: Bonnin В. Le livre et les paysans en Dauphine au XVII siecle; Meyer J. Alphabetisation, lecture et ecriture: essai sur I'instruction populaire en Bretagne du XVI au XIX siecle.
(обратно)78
Ср.: «Respondit («ответ»): «Я знаю «верую», я слышал, как читают «верую» во время мессы, и сам подпевал в монтереальской церкви.» Interrogatus («вопрос»); «Если вы, как утверждаете, знаете «верую», то относительно таковых слов «et in Iesum Christum filium eius unicum dominum nostrum qui conceptus est de Spiritu santo, natus ex Maria virgine» («и в Иисуса Христа, единородного сына Божьего, зачатого от Духа Святого и рожденного от Девы Марии»), что вы в прошлом говорили и думали и что думаете в нынешнее время?» Et ei dicto («и на вопрос»): «Вам понятны слова «qui conceptus est de Spiritu santo, natus ex Maria virgine» («зачатого от Духа Святого и рожденного от Девы Марии»), — respondit («он ответил»): «Да, господин, я их понимаю». Сам ход диалога, зафиксированного нотарием инквизиции, указывает, что Меноккио удается понять смысл латинских слов, только когда ему их повторяют и, может быть, медленно. Ничего не меняет тот факт, что он знал также и «Отче наш». Менее очевиден случай с процитированными им словами Христа («hodie mecum ens in paradiso» — «ныне же будешь со мною в раю»), но вряд ли возможно на этом основании предполагать, что он в достаточной мере владел латынью.
(обратно)79
К сожалению, пока не существует систематических разысканий, посвященных книжным интересам угнетенных классов Италии в этот период, точнее говоря — их грамотной прослойки, составлявшей безусловное меньшинство. Исследование всякого рода завещаний, посмертных описей имущества (подобное проведенному Беком в отношении купечества), материалов инквизиционных процессов могло бы дать интересные результаты. См. документацию, собранную в кн.: Martin H.-J. Livre, pouvoir et societe a Paris au XVIII siecle (1598–1701). Geneve, 1969. I. P. 516–518 и для последующего периода: Sole J. Lecture et classes populaires a Grenoble au XVIII siecle: le temoignage des inventaires apres deces // Images du peuple au XVIII siecle. P., 1973. P. 95–102.
(обратно)80
В отношении Форести см.; Leonardo da Vinci. Scritti letterari. A cura di A,Marinoni. Milano, 1974. P. 254 (речь идет о гипотезе, но в достаточной мере обоснованной). В отношении Мандевиля см.: Solmi E. Le fonti dei manoscritti di Leonardo da Vinci // Giornale storico della letteratura italiana, 1908. Suppl. No 10–11. P. 205 (что касается впечатлений, вынесенных Леонардо из чтения Мандевиля см. ниже, с. 95). Вообще на тему «Леонардо и книги» см.: Garin Е. II problema delie fonti del pensiero di Leonardo // La cultura filosofica del Rinascimento italiano. Firenze, 1961. P. 388 sgg.; Dionisotti C. Leonardo uomo di lettere // Italia medievale e umanistica. V. 1962. P. 183 sgg. (последняя работа представляет интерес и в методологическом плане).
(обратно)81
Речь идет об экземпляре «Нового сочинения о страшном суде», хранящемся в Болонской университетской библиотеке. На его фронтисписе имеется надпись: «Ulyssis Aldrovandi et amicorum». Другие надписи на фронтисписе и на последнем листе сделаны, как представляется, другой рукой, не Альдрованди. О его отношениях с инквизицией см.: Rotondo A. Per la storia delTeresia a Bologna nel secolo XVI // Rinascimento. XIII. 1962. P. 159 sgg.
(обратно)82
О проблеме чтения, которая почти всегда, как ни странно, игнорируется исследователями, см. точные замечания Эко, в значительной степени перекликающиеся со сказанным здесь (Eco U. II problema della ricezione // La critica tra Marx e Freud. A cura di A. Ceccaroni e G. Pagliano Ungari. Rimini, 1973. P. 19—27). Интересные результаты дают опросы: Rossi A., Piccone Stella S. La fatica di leggere. Roma, 1963. О значении «ошибки», в том числе и в методологическом плане (что демонстрирует и пример Меноккио), см.: Ginzburg С. A proposito della raccolta dei saggi storici di Marc Bloch // Studi medievali. VI. 1965. P. 340 sgg.
(обратно)83
Цитирую по венецианскому изданию 1575 г. (appresso Dominico de'Franceschi, in Frezzaria al segno della Regina, с 42r).
(обратно)84
Furlan J. II Calderari nei quarto centenario della morte // II Noncello. No 21. 1963. P. 3–30. Настоящее имя художника было Джованни Мариа Заффони. Не знаю, обращал ли ктонибудь внимание, что женская группа справа, в сцене сватовства Иосифа и других женихов, следует образцу, данному Лотто в Трескоре, на фреске, изображающей облачение св. Клары.
(обратно)85
Цитирую по венецианскому изданию 1566 г. (appresso Girolamo Scotto. P. 262). Заметим в скобках, что среди сцен, написанных Кальдерари в Сан Рокко, есть и сцена смерти Богоматери.
(обратно)86
Цитирую по венецианскому изданию 1517 г. (per Zorzi di Rusconi milanese ad instantia de Nicolo dicto Zopino et Vincentio compagni, с. О w).
(обратно)87
Цитирую, исправляя некоторые опечатки, по изд.: Iudizio universal overo finale. In Firenze, appresso alle scale di Badia (s.d., но 1570–1560) — экземпляр этого издания находится в Тривульцианской библиотеке. Болонское издание почти ему идентично.
(обратно)88
Stella A. Anabattismo. Op. cit. P. 75.
(обратно)89
In Vinegia per Stephano da Sabbio, 1537. О Криспольди см.: Prosper! A. Tra evangelismo e Controriforma: G.M. Giberti (1495–1543). Roma, 1969. О его книге: Ginzburg С, Prosperi A. Giochi di pazienza. Un seminario sul «Beneficio di Cristo». Torino, 1975.
(обратно)90
Alcune ragioni del perdonare. С 34r-v.
(обратно)91
См.: Ibid., cc. 29 sgg. и особенно cc. 30v—31r: «И все они (солдаты и государи), и люди всякого состояния и положения, и все республики и монархии достойны того, чтобы их непрестанно терзали войны и не было бы им никакого покоя, если забыли они о прощении и ни во что не ставят тех, кто прощает обидчикам своим. Достойны они, чтобы всякий творил суд и расправу по воле своей и не было бы там ни судей, ни управляющих, дабы увидели они на собственном горьком опыте, каково приходится людям там, где каждый сам себе господин; ведь даже у язычников хранить мир и блюсти спокойствие поручалось лицам, к тому приспособленным, даже у них почиталась достойным делом прощать обиды, особливо когда это служило на благо государству или даже частному его гражданину — как, к примеру, благим дело считалось даровать прощение отцу, дабы дети его не остались без вспомоществования. А ведь и Бог нас к тому понуждает: неужели и его заветы пребудут втуне? О том, как благоустроенно жить в обществе, писали многие и подробнейшим образом». Ср. XI-XV главы первой книги макьявеллиевских «Рассуждений» (впервые опубликованных в 1531 г.).
(обратно)92
См.: Atkinson G. Les nouveaux horizons de la Renaissance frangaise. P., 1935. P. 10–12.
(обратно)93
Цитирую по венецианскому изданию 1534 г.: Joanne de Mandavilla. Qual tratta delle pid maravegliose cose, с 45v.
(обратно)94
Канне — это Тхана, город к северу от Бомбея. (В идентификации географических названий я опираюсь на комментарий к изд.: Mandeville's Travels. Op. cit.).
(обратно)95
Об этом месте как о возможном источнике Свифта см.: Bennett J. W. The Rediscovery. Op. cit. P. 255–256.
(обратно)96
О релятивизме Монтеня см.: Landucci S. I filosofi e i selvaggi, 1580–1780. Ban, 1972. P. 363–364.
(обратно)97
Возможно, один из Андаманских островов.
(обратно)98
См.: Solmi E. Le fonti dei manoscritti di Leonardo da Vinci. Op. cit. P. 205.
(обратно)99
Описание киноцефалов заимствовано из «Исторического зерцала» Винцента из Бове.
(обратно)100
Речь идет о местах обитания известных из классической традиции оксидраков и гимнософистов. С данными рассказами Мандевиля можно сопоставить сцены, изображенные на портале церкви св. Магдалины в Везле, где среди спасенных фигурируют люди с огромными ушами и ногами (Male E. L'art religieux du XII siecle en France. P., 1947, P. 330; ср. также с иконографией св. Христофора-псеглавца: Reau L. L'iconographie de l'art chretien. P., 1958. Vol. III. T. I. P. 307–308; обоим этим указаниям я обязан любезности Кьяры Сеттис Фругони) — здесь, однако, акцент ставится на проникновение слова Христова даже к отдаленным и диковинным народам.
(обратно)101
Ср., к примеру: Vivanti С. Lotta politica e pace religiosa in Francia fra Cinque e Seicento. Torino, 1963. P. 42.
(обратно)102
Penna P. La parabola dei tre anelli e la tolleranza nel Medio Evo. Torino, 1953; Fischer U. La storia dei tre anelli: dal mito alTutopia // Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa — Classe di Lettere e Filosofia. 3. 1973. P. 955–998.
(обратно)103
См.: Ginzbirg C. I benandanti. Op cit., указатель имен.
(обратно)104
Эта новелла (третья Первого дня: «Еврей Мельхиседек рассказом о трех перстнях устраняет большую опасность, уготованную ему Саладином») лишилась всякого упоминания о кольцах в изданиях Джунти, подготовленных Сальвиати (Firenze, 1573; Venezia, 1582). В издании, «исправленном Луиджи Грото, слепцом из Адрии» (Venezia, 1590. Р. 30–32), не только исчезла главная мысль («То же скажу я, государь мой, и о трех законах, которые Бог Отец дал трем народам и по поводу которых вы поставили вопрос: каждый народ полагает, что он владеет наследством и истинным законом, веления которого он держит и исполняет, но который из них им владеет это такой же вопрос, как и о трех перстнях» — (пер. А.Н. Веселовского), но и вся новелла была полностью переписана, начиная с заглавия («Юный Полифил рассказом о трех перстнях прекращает великую претензию, предъявленную ему тремя дамами»).
(обратно)105
Ср.: Cantimori D. Castellioniana (et Servetiana) // Rivista storica italiana. LXVII. 1955. P. 82.
(обратно)106
В том, что касается «контактов» и «влияний», см. замечания Февра, имеющие общеметодологический смысл: Febvre L. Le origini della Rifonna in Francia e il problema delle cause della Riforma // Studi su Rifonna e -Rinascimento e altri scritti su problemi di metodo e di geografia storica. Torino, 1966. P. 5–70.
(обратно)107
Я цитирую венецианское издание 1553 г.
(обратно)108
Я привожу его полностью, только заменяю именами собеседников стандартные формулы «interrogates» («вопрос») — «respondit» («ответ»).
(обратно)109
Dante con l'espositioni di Cristoforo Landino et d'Alessandro Vellutello. Venezia, 1578. С. 201г. О сотворении человека как о мере, направленной на восстановление гармонии после падения ангелов, говорится также в «Рае», XXX, 134 и далее. Ср. в связи с этим: Nardi В. Dante e la cultura medievale. Nuovi saggi di filosofia dantesca. Bad, 1949. P. 316–319.
(обратно)110
Пример восприятия Данте в народной среде (правда, городской и, к тому же, флорентийской) см.: Rossi V. Le lettere di un matto // Scritti di critica Ietteraria, II: Studi sul Petrarca e sul Rinascimento. Firenze, 1930. P. 407 sgg., в особенности р. 496 sgg. К Меноккио ближе другой читатель Данте из простонародья, звавшийся Сколио и живший близ Лукки (о дантовских реминисценциях в его поэме см. с. 189).
(обратно)111
Мы не знаем, читал ли Меноккио какой-либо из многочисленных переводов на народный язык «Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского: впрочем, в открывающей эту книгу главе ни слова о сыре не говорится, хотя происхождение живых существ и связывается с процессами гниения. О судьбе этой мысли будет сказано ниже. Мы знаем, однако, что у Меноккио в руках были «Прибавления» Форести, где он мог найти беглый обзор космологических учений древности и Средневековья. «Обо всем этом говорится в «Книге Бытия» и каждый истинно верующий легко может уразуметь всю тщету языческого богословия: посредством сравнения он увидит, что это скорее нечестие, чем богословие. Некоторые из язычников утверждали, что Бога нет; иные думали и говорили, что неподвижные звезды на небе являются огнями, и почитали их заместо Бога; другие же говорили, что мир не божьим промыслом, но разумной природой управляется; иные полагали, что у мира не было начала, но он существовал извечно, либо начало имел не от Бога, но от случая и фортуны; наконец были такие, кто думали, что мир состоит из атомов и искр и малых одушевленных частичек...» Мир, возникший случайно, запомнился Меноккио (вряд ли это реминисценция дантовского «Ада», IV, 136) — об этом мы знаем из показаний, данных 16 марта приходским священником Польчениго Джован Даниэле Мелышори. Пятнадцать лет назад, рассказывал он, один человек — по всей видимости, сам священник, — прогуливаясь, воскликнул: «Велика благость Господа, сотворившего эти горы, эти поля и все это, столь прекрасное мироздание!» Меноккио, который шел рядом с ним, спросил: «Кто, по-вашему, создал этот мир?» — «Бог». — «Вы ошибаетесь, этот мир создан случайно; если бы я мог говорить, я бы сказал многое, но я не хочу говорить».
(обратно)112
В 1688 г. Реди доказал, что в органической материи, не соприкасающей с воздухом, не происходят процессы гниения и, следовательно, нет и «самозарождения».
(обратно)113
См.: Haydn H. The Counter-Renaissance. N. Y., 1960. P. 209.
(обратно)114
Harva U. Les representations religieuses des peuples altai'ques. P., 1.959. P. 63 sgg.
(обратно)115
Ср.: De Santillana G., Von Deghend H. Hamlet's Mill. L., 1970. P. 382–383, где утверждается, что исчерпывающее исследование этой космологической традиции могло бы вылиться в целую книгу. Поскольку эти авторы уже написали одну, и весьма увлекательную, о мельничном колесе как образе небесной сферы, не исключено, что они усмотрели бы определенную закономерность в том факте, что древние космогонические представления отразились в рассуждениях некоего мельника. К сожалению, я недостаточно компетентен, чтобы оценивать такое исследование, как «Мельница в деревне». Очевидно, что многие его предпосылки отличаются некоторой шаткостью, а многие выводы строятся на песке. Но ведь только ставя под сомнение набившие оскомину очевидности, можно добиться успеха в изучении длительных культурных традиций.
(обратно)116
«Tellurem genitam esse atque ortum olim traxisse ex Chao, ut testatur antiquitas tam sacra quam profana, supponamus: per Chaos autem nihil aliud intelligo quam massam materiae exolutam indiscretam et fluidam... Et cum notissimum sit liquores pingues et macros commixtos, data occasione vel libero aeri expositos, secedere ab invicem et separari, pinguesque innatare tenuibus; ut vedemus in mistione aquae et olei, et in separatione floris lactis a lacte tenui, allisque plurimus exemplis: aequm erit credere, hanc massam liquidorum se partitam esse in duas massas, parte ipsiius pinguiore supernatante reliquae...» (Burnet T. Telluris theoria sacra, originem et mutationes generales orbis nostri, quas aut jam subiit, aut olim subiturus est, complectens. Amstelaedami, 1699. P. 17—22; «Мы полагаем, что земля ведет свое происхождение и начало от хаоса, как свидетельствуют древние авторы, священные наравне со светскими; под хаосом же я понимаю некую жидкую и нерасчлененную материю... Хорошо известно, что маслянистые и нежирные жидкости, будучи смешаны, в соприкосновении с воздухом расходятся и разделяются, причем так, что маслянистые оказываются поверх нежирных это мы можем наблюдать, когда смешиваем масло с водой или при отделении сливок от молока и во многих других случаях; надо полагать, что подобным образом и та жидкая масса разделилась надвое и ее маслянистая часть покрыла прочие..» — лат.). Горячо благодарю Николу Бальдони, указавшему мне это место. Отсылки к индийской космогонии см.: Ibid. P. 344–347, 541–544.
(обратно)117
См.: Ginzburg С. I benandanti. Op. cit. P. XIII. Я предполагаю более широко осветить эту тему в одном из будущих исследований.
(обратно)118
О связи этих двух явлений см. из последних работ: Eisenstein E. L. L'avenement de rimprimerie et la Reforme // Annales ESC, XXVI, 1971. P. 1355–1382.
(обратно)119
См. фундаментальное исследование: Goody J., Watt J. The Consequences of Literacy // Comparative Studies in Society and History. V. 1962–1963. P. 304–305, — авторы, однако, странным образом игнорируют ту историческую цезуру, которая возникла благодаря изобретению книгопечатания. О возможностях самообучения, появившихся в результате этого открытия, см.: Eisenstein E. L. The Advent of Printing and the Problem of the Renaissance // Past and Present. No 45. 1969. P. 66–68.
(обратно)120
Следует отметить, что в 1610 г. венецианский наместник А. Гримани отдал распоряжение, чтобы делопроизводство на всех судебных процессах во Фриули, к которым причастны лица крестьянского сословия, велось на народном языке. См.: Leggi per la Patria. Op. cit. P. 166.
(обратно)121
Я опираюсь здесь (хотя и в несколько иной перспективе — см. сказанное по этому поводу в предисловии) на понятие «outillage mental» («умственного инструментария»), введенное Февром (Le probleme de l'incroyance. pp. cit. P, 328 sgg.).
(обратно)122
Оба эти образа являются традиционными. См.: Thomas К. Religion and the Decline of Magic. L., 1971. P. 152.
(обратно)123
Если Меноккио, как мы предположили, действительно был знаком с комментариями к Данте Кристофоро Ландино и Алессандро Веллутелло, то мог прочитать следующее пояснение Ландино к девятой песни «Ада»: «Менандриане называются так по имени волхва Менандра, ученика Симона. Они утверждают, что мир сотворен не Богом, а ангелами». Искаженный отголосок этой фразы слышится в следующих словах Меноккио: «В этой книге Мандавилла я вроде бы читал, что был такой Симон волхв, который умел превращаться в ангела». На самом деле у Мандевиля не говорится ни слова о Симоне-волхве. Может быть, это не совсем случайная ошибка. Заявив, что он много почерпнул из «Путешествий» Мандевиля, которые читал «лет пять—шесть назад», Меноккио тут же услышал от инквизитора: «Достоверно известно, что вы в этих мыслях пребываете уже лет тридцать». Припертый к стенке Меноккио не нашел ничего лучшего, как приписать Мандевилю сведения, почерпнутые им из иного источника и, вероятно, много раньше, и тут же заговорить о другом. Впрочем, это не более чем предположение.
(обратно)124
См.: Stella A. Anabattismo. Op. cit. P. 7, 135–136.
(обратно)125
О Сервете см.: Cantimori D. Eretici italiani. Op. cit. P. 36–49; Autour de Michel Servet et de Sebastien Castellion. Haarlem, 1953; Bainton R. H. Michel Servet heretique et martyr. Geneve, 1953.
(обратно)126
Serveto M. De Trinitatis erroribus. Haguenau, 1531 (rist. anast. Frankfort am Main, 1965). С. 224
(обратно)127
Ср., например, историю с псевдомеланхтоновым посланием, направленным в 1539 г. в венецианский сенат (об этом см.: Benrath К. Notiz uber Melanchtons angeblichen Brief an den venetianischen Senat (1539) // Zeitschrift fur Kirchengeschihte. I. 1877, S. 469—471); или случай с мантуанским золотобитом Этторе Донато, который познакомившись с латинским текстом «Тринитарных заблуждений», заявил: «Это так написано, что я ничего не понял» (Stella A. Anabattismo. Op. cit. P. 135). О популярности идей Сервета в Модене см.: Tedeschi J. A., Von Henneberg J. Contra Petrum Antonium a Cervia relapsum et Bononiae concrematum // Italian Reformation Studies in Honor of Laelius Socinus. Firenze, 1965. P. 252.
(обратно)128
В романе Карло Леви «Христос остановился в Эболи» читаем: «В мире, где живут крестьяне, нет места для разума, религии и истории. Нет места для религии потому, что все в нем так или иначе причастно божественному началу, все божественно и в самом что ни на есть реальном плане, отнюдь не символически — небеса и звери, Христос и козы. Все проникнуто натуральной магией. Даже церковные таинства превращаются в языческие обряды, совершаемые во имя бесчисленных деревенских божков».
(обратно)129
Ср.: «Dixi in corde meo de filliis hominum, ut probaret eos Deus et ostenderet similes esse bestiis. Idcirco unus interitus est hominum et iumentorum, et aequa utriusque conditio. Sicut moritur homo, sic et ilia moriuntur» (Екклесиаст, 3, 18–19: «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог и чтобы они видели, что они сами по себе животные: потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна; как те умирают, так умирают и эти...» — лат.). Можно в связи с этим обратить внимание, что в числе обвинений, предъявленных десятью годами раньше порденонскому дворянину Алессандро Мантике (приговор инквизиции оставил его под «сильным подозрением» в еретичестве, при том что доказательств такового не нашлось), фигурировало также отрицание бессмертия души, которое обвиняемый подкреплял теми же стихами «Екклесиаста». В приговоре, вынесенном 29 мая 1573 г., говорилось среди прочего: «И принимая во внимание, что сказанному Алессандро как человеку просвещенному не подобало с людьми неучеными обсуждать многократно слова «участь сынов человеческих и участь животных — участь одна» и приводить их в доказательство того, что разумная душа смертна...» Что одним из этих «неученых людей» был Меноккио, гипотеза, конечно, привлекательная, но недоказуемая и в конечном счете необязательная. Заметим, что в это время семейство Мантика находилось в родстве с семейством Монтереале; см.: Benedetti A. Document! inediti riguardanti due matrimoni fra membri dei signori casteHani di Spilimbergo e la famiglia Mantica di Pordenone. S. I., s.d. (ma Pordenone, 1973).
(обратно)130
Термин «пантеизм» был введен Джоном Толандом в 1705 г. (см.: Kristeller P. O. La tradizione classica nel pensiero del Rinascimento. Firenze, 1965. P. 87).
(обратно)131
Ginzburg C. I benandanti. Op. cit. P. 92.
(обратно)132
См. В СВЯЗИ С ЭТИМ точные замечания Февра: Febvre L. Le probleme de Гшсгоуапсе. Op. cit. P. 163–194.
(обратно)133
См.: Ibid. P. 178 в связи с предложенным Постелем разграничением между «animus» (по франц. «anime») и «anima» (по франц. «âme»). Следует отметить, однако, что для Постеля с духом связана последняя, a «anime» — с разумом.
(обратно)134
См. об этом: Williams G. H. The Radical Reformation. Op. cit., указатель на слово «psychopannychism»; Idem. Camillo Renato (c. 1500–1575) // Italian Reformation Studies. Op. cit. P. 106 sgg., 169–170, passim; Stella A. Dairanabattismo al socianesimo. Op. cit. P. 37–44.
(обратно)135
См. материалы процесса одного последователя Ренато из Вальтеллины по имени Джованбаттиста Табаккино (объявившего, что «верует» также, как Ренато); он был в дружеских отношениях с анабаптистом из Виченцы Якометто (см.: Stella A. Anabattismo e antitrinitarismo. Op. cit., указатель на имя «Табаккино»). Отпадают тем самым сомнения, высказывавшиеся по этому поводу Ротондо (см.: Renato C. Opere, documenti e testimonianze. A cura di A. Rotondd. Firenze — Chicago, 1968. P. 324). Сохранившаяся в архивах венецианской инквизиции рукопись под названием «Откровение» до сих пор приписывается Якометто, но на самом деле создана Табаккино (Stella A. Dall'anabattismo al socianesimo. Op. cit. P. 67–71; Ginzburg С I costituti di don Pjetro Manelfi. Firenze— Chicago, 1970. P, 43). Это сочинение, предназначенное собратьям по вере, укрывшимся в Турции, заслуживает более серьезного анализа ввиду близких связей его автора с Ренато. До сих пор считалось, что Ренато не связан с антитриюдариями (Renato С. Op. cit. P. 328), но «Откровение» Табаккино все выдержано в антитринитарном духе.
(обратно)136
Stella A. Anabattismo e antitrinitarismo. Op. cit. (курсивы мои — К. Г.).
(обратно)137
См.: Ginzburg С. I costituti di don Pietro Manelfi. Op. cit. P. 35.
(обратно)138
Цитирую по венецианскому изданию 1589 г, (С. 46/—v). Впервые книга была издана в 1562 г. О Аммиани или Амиани (он был секретарем своего ордена и принимал участие в Тридентском соборе) см. статью Г. Альбериго в: Dizionario biografico degli italiani. Roma, 1960. II. P. 776–777. Здесь указывается, что Аммиани не был сторонником антипротестантской кампании и поддерживал тех, кто призывал вернуться к патристической традиции. Эта его позиция чувствуется и в «Руководстве к чтению проповедей» (к которому он через несколько лет прибавил еще две части) — открытой полемике с лютеранами здесь посвящена только одна проповедь, сороковая («О том, что содеял негодный Лютер и присные его»).
(обратно)139
Упоминание Виклифа в документах инквизиции за данный период представляется беспрецедентным.
(обратно)140
См.: Goody J., Watt J. The Consequences of Literacy. Op. cit.; Grans F. Social Utopies in the Middle Ages // Past and Present. No 38. 1967. P. 3–19; Hobsbawm EJ. The Social Function of the Past: Some Questions // Ibid. No 55. 1972. P. 3–17; Halbwachs M. Les cadres sociaux de la memoire. P., 1952 (1 ed. 1925).
(обратно)141
«When Adam delved and Eve span / Who was then a gentleman?», знаменитое присловье, появившееся во время восстания английских крестьян в 1381 г. (ср.: Hilton R. Bond Men Made Free. Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381. L., 1973. P. 222–223).
(обратно)142
См. освещение вопроса в целом: Miccoli G. Ecclesiae primitivae forma // Cliiesa gregoriana. Firenze, 1966. P. 225 sgg.
(обратно)143
См.: Landucci S. I filosofi e i selvaggi. Op. cit.; Kaegl W. Voltaire e la disgregazione della concezione cristiana della storia // Meditazioni storiche. Ban, 1960. P. 216–238.
(обратно)144
Ср.: Hobsbawm E J . I banditi. Torino, 1971.
(обратно)145
Mundus novus, s.l., s.d. (1500?), без пагинации (курсив мой — К.Г.).
(обратно)146
Opus epistolarum Des. Erasmi... Oxonii, 1928. VII. P. 232–233.
(обратно)147
Ср.: Graus F. Social Utopies in the Middle Ages. Op. cit. P. 7 sgg. (где, однако, явно недооценивается распространенность этой тематики и ее отголосков в народной среде). О проблеме в целом см. книгу Бахтина о Рабле. (Можно мимоходом заметить, что «nouveau monde», обнаруженный рассказчиком во рту Пантагрюэля, сильно напоминает страну Кокань, на что справедливо обратил внимание Ауэрбах. См.: Auerbach E. Mimesis. II realismo nella Ietteratura occidentale. Torino, 1970. II. P. 3 sgg., в особенности Р. 9. (русс. изд.: Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., 1976. С. 272–273)). В отношении итальянского материала сохраняет значение: Rossi V. II paese di Cuccagna nella letteratura italiana // Le lettere di messer Andrea Calmo. Torino, 1888. P. 398–410. Полезные сведения содержатся в статье Г. Кокьяры в сборнике: II paese di Cuccagna. Torino, 1956. P. 159 sgg. Французский материал см.: Huon A. «Le Roy Sainct Panigon» dans Fimagerie populaire du XVI siecle // Frangois Rabelais. Ouvrage publie pour le quatrieme centenaire de sa mort. Geneve-Lille, 1953. P. 210–225. Общий обзор см.: Ackermann E. M. «Das Schlaraftenland» in German Literature and Folksong... with an Inquiry into its History in European Literature. Chicago, 1944.
(обратно)148
См., к примеру, цитированную выше статью Коккьяры, в которой, однако, данные мотивы не соотносятся с описаниями жизни американских туземцев (об отсутствии у них частной собственности см.: Romeo R. Le scoperte americane nella coscienza italiana del Cinquecento. Milano-Napoli, 1971. P. 12 sgg.). О связях утопий с заокеанскими открытиями см.: Ackermann E. M. «Das Schlaraffenland» in German Literature and Folksong. Op. cit. P. 82, 102.
(обратно)149
Можно вспомнить о том, какой смысл вкладывал Фрейд в понятие остроумия: оно «подрывает те общественные установления, моральные или религиозные принципы, мировоззренческие позиции, которые пользуются таким непререкаемым авторитетом, что какой-нибудь протест против них возможен лишь в превращенной форме острословия, и к тому же прикрытого маской серьезности» (Orlando F. Per una teoria freudiana della letteratura. Torino, 1973. P. 46 sgg.). Так, в течение XVI века «Утопия» Томаса Мора разошлась по сборникам фривольных и легкомысленных парадоксов.
(обратно)150
См.: Grendler P. F. Critics of the Italian World (1530–1560). Anton Francesco Doni, Nicolo Franco and Ortensio Lando. Madison, Wisconsin, 1969. Я использовал издание «Миров», опубликованное в 1562 г. (Mondi celesti, terrestri et inferaali de gli academici pellegrini...); диалог о «Новом мире» находится на с. 172–184.
(обратно)151
Ср.: Graus F. Social Utopies in the Middle Ages. Op. cit. P. 7, который утверждает, что идеология страны Кокань не городская в принципе. Своего рода исключением из этого правила представляется «Новая история страны Кокань», опубликованная в Сиене в конце XV в.; на нее ссылается Росси (Le lettere di messer Andrea Calmo. Op. cit. P. 399), мне не удалось разыскать этот текст.
(обратно)152
Ср.: Lovejoy A. O., Boas G. Primitivism and Related Ideas in Antiquity. Baltimore, 1935; Levin H. The Myth of the Golden Age in the Renaissance. L., 1969; Kamen H. Golden Age, Iron Age: a Conflict of Concepts in the Renaissance // The Journal of Medieval and Renaissance Studies. 1974. No 4. P. 135–155.
(обратно)153
Об этом разграничении см.: Frye N. Varieeies of Literary Utopias // Utopias and Utopian Thought. Cambridge (Mass.), 1966. P. 28.
(обратно)154
Ср.: «Все было общим, и крестьяне одевались также, как горожане, ибо каждый доставлял в город плоды своего труда и брал все, что ему было надобно. И попробовал бы ктонибудь продавать, перепродавать, покупать и закупать» (Doni A. Mondi. Op. cit. P. 176).
(обратно)155
О содержании городской утопии Дони см. замечания (довольно поверхностные): Simoncini G. Citta e societa nel Rinascimento. Torino, 1974. I. P. 271–273.
(обратно)156
См.: Grendler P. F. Critics of the Italian World. Op. cit. P. 175–176. Выводы Грендлера не всегда представляются убедительными: к примеру, говорить применительно к Дони о материализме — явная натяжка (хотя у Грендлера на этот счет имеются некоторые колебания — см. С. 135 и 176). Так или иначе религиозные сомнения Дони не подлежат сомнению; похоже, их не учитывает Тененти (Tenenti A. L'utopia nel Rinascimento (1450–1550) // Studi storici. VII. 1966. P. 689–707), который в связи с «Новым миром» предпочитает говорить об «идеальной теократии» (С. 697).
(обратно)157
Doni A. Mondi. Op. cit. P. 194. Грендлер (с. 176) считает, что речь идет о «orthodox religious coda» («ортодоксальной религиозной коде»); на самом деле в этих словах отражается упрощенное понимание религии, столь характерное для Дони.
(обратно)158
Lamento de uno poveretto huomo sopra la carestia, con I'universale allegrezza dell'abondantia, dolcissitno intertenimento de spiriti galanti. S. I., s.d. (я просматривал экземпляр, хранящийся в Болонской коммунальной библиотеке).
(обратно)159
Бахтин совершенно справедливо подчеркивает пафос всеобщего круговорота, присущий народным утопиям. В то же время, вступая с этой идеей в некоторое противоречие, он приписывает ренессансному карнавальному мироощущению стремление к решительному разрыву со старым феодальным порядком (Op. cit. P. 215, 256, 273–274, 392; см. рус. цит. изд.: с. 223, 258–259, 278, 368–369). В этом противопоставлении двух образов времени — линеарного и циклического — чувствуется некоторая натяжка, связанная с попыткой выдвинуть на первый план революционные тенденции народной культуры. Это, может быть, самая спорная сторона замечательного исследования Бахтина. Ср.: Camporesi P. Caraevale, cuccagna e giouchi di villa (Analisi e documenti) // Studi e problemi di critica testualeio No 10. 1975. P. 57 sgg.
(обратно)160
См.: Ibid. P. 17, 20–21, 98–103, passim (но ср. предыдущее примеч.). В отношении Кампанеллы эту проблему рассматривает Фирпо: Firpo L. La cite ideale de Campanella et Je culte du Soleil // Le soleil a la Renaissance. Science et mythes. Bruxelles, 1965. P. 331.
(обратно)161
Bachtin M. Op. cit. P. 89—90.
(обратно)162
См.: Ibid. P. 218, 462 (русс. изд.: С. 223, 441–442) и в особенности: Ladner G. B. Vegetation Symbolism and the Concept of Renaissance // De artibus opuscula XL. Essays in Honor of Erwin Panofsky. N. Y., 1961. I. P. 303–322. Ср. также: Idem. The Idea of Reform: Its Impact on Christian Thought and Action in the Age of the Fathers. Cambridge (Mass.), 1959. He утратило своего значения: Burdach К. Riforma — Rinascimento — Umanesimo. Firenze, 1935. P. 3–71.
(обратно)163
Даниил 7, 13 и далее. Это один из основополагающих текстов для милленаристской литературы.
(обратно)164
Scalzini М. II secretario. Venezia, 1587. P. 39.
(обратно)165
Ср.: Valesio P. Strutture dell'alliterazione. Grammatica, retorica e folklore verbale. Bologna, 1967 (в особенности с. 186 — об аллитерациях в языке религии).
(обратно)166
Stella A. Anabattismo e antitrinitarismo. Op. cit. P. 29; Idem. Guido da Fano eretico del secolo XVI al servizio dei re d'Inghilterra // Rivista di storia della Chiesa in Italia. XIII. 1959. P. 226.
(обратно)167
Речь идет о довольно распространенном богохульстве, что следует, в частности, из свидетельских показаний, полученных в 1599 г. против некоего Антонио Скуделларио по прозвищу Форназьер, жившего неподалеку от Вальвазоне.
(обратно)168
Bocchi A. Symbolicarum quaestionum... libri quinque. Bononiae, 1555. С. LXXX-LXXXI.
(обратно)169
Соответствует первой ступени школьного обучения. Об этом эпизоде в жизни Меноккио у нас, к сожалению, нет других сведений.
(обратно)170
Ср.: Ginzburg С. II nicodemismo. Simulazione e dissimulazione religiosa nell'Europa del '500. Torino, 1970.
(обратно)171
L'Alcorano di Maometto, nel qual si contiene la dottrina, la vita, i costumi et le leggi sue, tradotto nuovamente dall'arabo in lingua italiana. Venezia, 1547. С. 194
(обратно)172
Эта персонализация бросает свет на отношение к смерти простых людей того времени, о чем мы до сих пор знаем крайне мало. Немногочисленные свидетельства, как правило, доходят до нас деформированными господствующим стереотипом, как в том случае, о котором говорится в: Mourir autrefois. P., 1974. P. 100–102.
(обратно)173
Ср.: Fiorelli P. La tortura giudiziaria nel diritto comune. Milano, 1953–1954. V. 1–2.
(обратно)174
См.: Stella A. Cliiesa e Stato nelle relazioni dei nunzi pontifici a Venezia. Op. cit. P. 290–291. Донесение Болоньетти датировано 1581 г.
(обратно)175
См.: Ginzburg С. Folklore. Op. cit. P. 658. Об аналогичных случаях в Англии см.: Thomas К. Religion and the Decline of Magic. Op. cit. P, 159 sgg.
(обратно)176
Ibid. P. 163 и комментарий Томпсона (Thompson E. P. Anthropology and the Discipline of Historical Context. Op. cit. P. 43), который я здесь воспроизвожу почти буквально. На активное, творческое отношение народных масс к религии указывает Н.З. Дэвис, оспаривая мнение тех ученых, которые в своем подходе к народной религии принимают точку зрения господствующих классов (или попросту духовенства) и не видят в ней ничего, кроме искаженного варианта официальной религии с некоторыми элементами примитивной магии (см.: Davis N. Z. Some Tasks and Themes in the Study of Popular Religion // The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion. Leiden, 1974. P. 307 sgg.). Эта проблематика в общем плане обсуждается в предисловии к настоящей книге, в разделе, посвященном концепциям «народной культуры».
(обратно)177
См. прекрасное исследование Донадони (Donadoni E. Di uno sconosciuto poema eretico della seconda meta del Cinquecento di autore lucchese // Studi di letteratura italiana. II. 1900. P. 1–142), который, однако, напрасно пытается установить формальную близость поэмы Сколио к учениям анабаптистов. Беренго, опираясь на это исследование (Berengo M. Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento. Op. cit. P. 450 sgg.), не отменил подобную постановку вопроса, хотя и несколько смягчил выводы: он утверждает, с одной стороны, что «бессмысленно пытаться связать этот с каким-нибудь конкретным религиозным течением», а с другой — помещает Сколио в контекст «народного рационализма». Это совершенно неоправданно (и к тому же сам термин вызывает серьезные сомнения: см. что по этому поводу говорится в примеч. 51). В отношении автора поэмы интересную гипотезу выдвинул Донадони, предположивший, что под именем Сколио скрывается сыровар Джован Пьеро ди Децца, совершивший публичное отречение от ереси в 1559 г. (см.: Donadoni E. Di uno sconosciuto poema eretico. P. 13–14). Сочинение поэмы, как сообщает сам ее автор на последней странице, длилось, начиная с 1563 г., семь лет (отсюда ее название); окончательная отделка заняла три года.
(обратно)178
Помимо прямой отсылки к Данте см., к примеру, такие стихи: «На лестнице — святая Беатриче» или «Кто на земле в жары и холода» (ср.: Рай, XXI, 116; ср. также: Donadoni E. Di uno sconosciuto poema eretico. Op. cit. P. 4).
(обратно)179
Donadoni E. Di uno sconosciuto poema eretico. Op. cit. P. 21. Ha последней странице рукописи Сколио поместил подробное отречение от своей поэмы: «ибо когда я ее писал, я был вне себя и как бы принужден к писанию, и был подобно глухонемому, и не помню ничего...» В тексте это отречение сказалось многочисленными исправлениями и пометками на полях (они сопровождают большинство цитируемых здесь мест).
(обратно)180
Ср.: Donadoni E. Di uno sconosciuto poema eretico. Op. cit. P. 128–130. Осведомленность Сколио явствует из одного из примечаний, которым он сопроводил описание рая: «Я как пророк и король дураков попал в величайший рай всех дураков, олухов, сущеглупых и простофиль, в рай всех услад или всех ослов, и мне казалось, что я все это в нем видел, но ныне я от этого отрекаюсь». Это отречение, двусмысленное и не совсем уверенное, лишь подтверждает, какое влияние на крестьянское воображение имел миф о стране Кокань. Что касается гипотетических связей этого мифа с магометанским раем, см.: Ackermann E. M. «Das Schlaraffenland» in German Literature and Folksong. Op. cit. P. 106.
(обратно)181
Я не касаюсь здесь некоторых трудных для понимания мотивов, например, неоднократно встречающейся в поэме апологии людоедства, которое допускается как на небе, так и на земле. Донадони не слишком убедительно толкует эти места как иносказательное описание содомии (см.: Donadoni E. Di uno sconosciuto poema eretico. Op. cit. P. 127).
(обратно)182
За более подробными сведениями об этом персонаже я отсылаю к находящейся в печати работе А-Ротондо.
(обратно)183
См.: Heresies et societes dans l'Europe preindustrielle (11–18 siecles). P. — La Haye, 1968. P. 185–186, 278–280; Clasen C-P. Anabaptism. A Social History. Op. cit. P. 319–320, 432–435.
(обратно)184
См. В особенности: Bennet R., Elton J. History of Corn Milling. Ill: Feudal Laws and Customs. L., 1900. P. 107 sgg., passim; см. также подборку текстов в: Fenwick Jones G. Chaucer and the Medieval Miller// Modem Language Quarterly. XVI. 1955. P. 3–15.
(обратно)185
D'Ancona A La poesia popolare italiana. Livorno, 1878. P. 264,
(обратно)186
Andrea da Bergamo [P. Nelli]. II primo libro delle satire alia carlona. Op. cit. C. 35v.
(обратно)187
Уже на процессе 1561 г. один свидетель сообщал, что Пигино на своей мельнице «всячески охаивал мессу».
(обратно)188
На этой мысли особенно настаивает Р. Мандру: Heresies et societes. Op. cit. P. 279–280.
(обратно)189
Ibid. P. 186.
(обратно)190
См.: Bloch M. Avenement et conquete du moulin a eau // Melanges historiques. P., 1963. II. P. 800–821.
(обратно)191
См.: Rotondo A. Per la storia dell'eresia a Bologna nel secolo XVI // Rinascimento. XIII. 1962. P. 109 sgg.
(обратно)192
Renato C. Opere, documenti e testimonialize. Op. cit. P. 53.
(обратно)193
Сначала Ротондо предположил, что речь идет о Франческо Болоньетти (Rotondo A. Per la storia dell'eresia a Bologna nel secolo XVI. P. 109), но этот Болоньетти сделался сенатором лишь много лет спустя, в 1555 г. (ср.: Fantuzzi G. Notizie degli scrittori bolognesi. Bologna, 1782. II. P. 244). В издании сочинений Ренато Ротондо отказался от этой гипотезы. Если же предположить, что имеется в виду Винченцо Болоньетти, то подобных трудностей не возникает, так как последний уже в 1534 г. числился среди старейшин и гонфалоньеров (см.: Pasquali Alidosi G. N. I signori anziani, consoli e gonfalonieri di giustizia della citta di Bologna. Bologna, 1670. P. 79).
(обратно)194
Предположение Ротондо, что речь идет о фра Томмазо Палуйо из Апри по прозвищу Грек, представляется неубедительным. На возможность идентификации с Джорджо Филалето «Турком» или «Турчонком» мне указала Сильвана Зейдель Менки, которой я приношу искреннюю благодарность.
(обратно)195
См.: Renato С. Ореге, document! e testimonialize. Op. cit. P. 64–65; Rotondd A. Per la storia delTeresia a Bologna nel secolo XVI. Op. cit. P. 129 sgg.
(обратно)196
«He хочу же оставить вас, братия, в неведении о умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» (1 Поел, к Фессалоникийцам, 3, 13–14). (В латинском тексте Нового Завета «умершие во Христе» именуются «спящими», «dormientibus», «qui dormieiunt per Iesum» — прим. пер.).
(обратно)197
«Цветы Библии» были помещены в Индекс запрещенных книг.
(обратно)198
См. книгу Бахтина о Рабле.
(обратно)199
Общую картину см.: Delumeau J. Le cathoHcisme entre Luther et Voltaire. P., 1971, в особенности с. 256 и далее. На интересные исследовательские перспективы наводит Bossy J. The Counter-Reformation and the People of Catholic Europe // Past and Present. No 47. 1970. P. 51–70. Периодизации, подобной нашей, придерживается Hennigsen G. The European Witch — Persecution. Copenhagen, 1973. P. 19.
(обратно)200
Крайне не хватает исследования, посвященного историческим последствиям этого события, в том числе отдаленным и непрямым.
(обратно)201
Сопоставительный разбор см.: Bossy J. The Counter-Reformation and the People of Catholic Europe. Op. cit.
(обратно)202
Относительно бродяг см. библиографические указания в примеч. 21 во введении к настоящей работе. О цыганах: Asseo H. Marginalite et exclusion: le traitement administratif des Bohemiens dans la societe frangaise du XVII siecle // Problemes socioculturels en France au XVII siecle. P., 1974. P. 11–87.
(обратно)203
Санторо, кардинал Санта Северина, едва не стал папой на том конклаве, который завершился избранием Климента VIII — препятствием оказалась его репутация человека крайней суровости и непреклонности.
(обратно)204
Т.е. он не просто отрицал божественность Христа, как представлялось поначалу. Об этих терминологических разграничениях см.: Busson H. Les noms des incredules au XVI siecle // Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance. XVI. 1954. P. 273–283.
(обратно)205
Брачный контракт Джованны Сканделлы (см.: примеч. 6) был заверен нотарием 26 января 1600 г. в «domi heredum quondam ser Dominici Scandelle» («доме, перешедшем по наследству от сера Доменико Скандедлы» — лат.). Сведения Паскини (Paschini P. Eresia e Riforma cattolica al confine orientate d'ltalia. Op. cit. P. 82), который утверждает, что во Фриули по приговору инквизиции состоялась только одна казнь (некий кузнец-немец, в 1568 г.), тем самым оказываются неточными.
(обратно)Сноски
*
Все интересное протекает в тени... Мы ничего не знаем о настоящей истории людей. Селин (фр.).
(обратно)*
«О запрещении крестьянам носить оружие» (лат.).
(обратно)*
«что есть оправдание» (лат.).
(обратно)*
Тренто по лат. — Tridentum; здесь заседал церковный собор, получивший имя Тридентского. — Прим. пер.
(обратно)*
«настольной книги» (фр.).
(обратно)*
«религии как орудия государственной власти» (лат.).
(обратно)*
«Да убоятся его все пределы земли» (лат. — Псалтирь, 67, 8).
(обратно)**
«Все народы будут служить ему» (лат. — Псалтирь, 72, 11).
(обратно)***
«Написал я ему важные законы Мои» (лат. — Осия, 8, 12).
(обратно)****
«Я буду управлять народами, и племена покорятся мне» (лат. — Премудрость Соломона, 8, 14).
(обратно)*
«Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора» (лат. — Иоанн, 10, 16).
(обратно)*
«Из ничего» (лат.).
(обратно)*
«мир» (лат.).
(обратно)*
«О заблуждениях в отношении Троицы» (лат.).
(обратно)*
«Под Святым духом здесь понимается то Бог, то ангел, то человеческий дух, иногда же некое вдохновение или состояние божественного разума, его стремление или воздыхание, если можно усмотреть какую-нибудь разницу между духом и дыханием. Есть и такие, которые считают Святой дух ничем иным, как здравым человеческим рассудком» (лат.).
(обратно)**
«Словно Святым духом именуется не отдельная сущность, но некое движение в Боге, его энергия, некое проявление божественных качеств» (лат.).
(обратно)***
«Когда речь заходила о Святом Духе, то я ограничивался тем, что помещал третью эту субстанцию куда-нибудь подальше. Но ныне я понимаю, почему Он сказал: «Разве Я Бог только вблизи, а не Бог и вдали?» Ныне я знаю, что безбрежный дух Божий объемлет весь круг земной, вбирает в себя все, но проявляется и в отдельных качествах; пророк потому мог воскликнуть; «Куда пойду от Духа Твоего?», что нигде в целом мире нет места, где не пребывал бы дух Божий» (лат.).
(обратно)*
«Все, что исходит от Бога, именуется его дыханием или ниспосланным им вдохновением, ибо невозможно произнести слово без участия духа. Так и мы произносим свои речи не без помощи дыхания, потому и говорится о духе уст или губ... Я же утверждаю, что и сам Бог есть дух наш, пребывающий в нас, и он же есть в нас Святой дух... Вне человека Святой дух есть ничто» (лат.).
(обратно)*
«О тринитарных заблуждениях» (лат.).
(обратно)*
«путь нечестивых погибнет» (лат.). — Псалтирь, 1, 6.
(обратно)**
«дорога в очах Господних смерть святых Его» (лат.). — Псалтирь, 116, 15.
(обратно)***
«Лазарь, друг наш, уснул» (лат.). — Иоанн, 11, 11.
(обратно)****
«не умерла девица, но спит» (лат.). — Матфей, 18, 24.
(обратно)*****
«имею желание разрешиться и быть со Христом» (лат.). — К Филиппинцам, 1, 23.
(обратно)*
«к нечестивому, беззаконному, лживому, неправедному, безбожному расколу..., именуемому армянским, а также вальденским или Иоанна Виклифа» (лат.).
(обратно)*
«новый мир» (лат.).
(обратно)**
«В предыдущие дни я подробно написал тебе о моем возвращении из этих новых стран.., которые можно называть новым миром, поскольку у предков наших мы не находим о них никаких известий и для читателей все, о них сообщаемое, внове» (лат.).
(обратно)***
«можно называть» (лат.).
(обратно)*
«не только явным еретиком, но и ересиархом» (лат.).
(обратно)**
«Ты уличен в том, что погряз в многочисленных и неслыханной нечестивости ересях» (лат.).
(обратно)***
«не только со священнослужителями, но и с людьми неумудренными и неучеными» (лат.).
(обратно)*
«и так упорствуя в этих заблуждениях», «выказывал неподатливость духа своего», «дерзостно отрицал», «изрыгал кощунственные и гнусные речи», «утверждал во имя диавола», «и на святой пост осмелился посягнуть», «разве не уличили тебя в том, что и против святых соборов ты изрыгал хулу?», «мирским своим разумом осуждал», «и до такой степени тобой овладел нечистый дух, что ты осмелился утверждать», «нечистыми своими устами дерзнул», «сие нечестие измыслил», «и не осталось ничего, что не было бы тобой осквернено и опорочено», «твой ядотворный язык обращая», «и наконец изрыгал хулу», «ядом своим напитал», «не был всем этим удовольствован твой злотворный и беззаконный дух, но воздвиг рог свой и подобно гигантам против святой и неизреченной Троицы ополчился», «затуманились небеса, омрачилось все сущее, содрогнулись слышавшие те непотребные слова, что своими нечестивыми устами сказал ты об Иисусе Христе, сыне Божием» (лат.).
(обратно)*
«Ты возродил и твердо считал за истинное давно осужденное мнение древнего философа, полагавшего хаос вечным и из него выводившего все сущее в мире» (лат.).
(обратно)**
«и наконец ты впал в заблуждение манихейцев о двойном первоистоке добра и зла» (лат.).
(обратно)*
«ты предался ереси Оригена, утверждавшего, что все будут спасены — иудеи, турки, язычники, христиане и все неверные, ибо всем равно уделено от Духа Святого» (лат.).
(обратно)**
«В отношение присутствия души в теле ты противишься не только святой церкви, но и мнению всех философов. В том, в чем все согласны и никто не осмеливается утверждать иного, ты дерзаешь, подобно безумцу, говорить: «несть Бога» (лат.).
(обратно)***
«Приговариваем тебя к заключению в четырех стенах, где тебе нерушимо и все время твоей жизни пребывать надлежит» (лат.).
(обратно)*
И действительно, когда он таковое говорил, вид у него был нездоровый, тело немощное и изнуренное недугом» (лат.).
(обратно)*
«крепких и сподручных к делу» (лат.).
(обратно)**
«в лучшем, а не в худшем состоянии» (лат).
(обратно)*
«Блаженны невидевшие и уверовавшие» (лат.). — Иоанн, 20, 29.
(обратно)*
«Из темницы привели некоего старца» (лат.).
(обратно)*
«Мы — христиане на тех же основаниях, что перигорцы или немцы» (фр.). — Монтень М. Опыты, II, XII «Апология Раймуцца Сабундского».
(обратно)*
«И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» (лат.). — Матфей, 6, 13.
(обратно)*
«И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; хлеб наш насущный дай нам на сей день» (лат.). — Матфей, 6, 13, 12, 11.
(обратно)*
«если по внешнему можно судить о внутреннем» (лат.).
(обратно)*
«бедняка Доменико Сканделла» (лат.).
(обратно)**
«простодушие и невежество» (лат.).
(обратно)*
«с умеренностью» (лат.).
(обратно)*
«мельниц патаренов» (лат.).
(обратно)*
«Многие крестьяне и почти все люди простого звания твердо убеждены — и это я слышал собственными ушами, — что Дева Мария обладает той же властью в распределении даров благодати, что и Иисус Христос или даже большей. А о причине они так говорят: на земле матери могут не только просить, но и приказывать своим сыновьям что-нибудь сделать, и по праву, ибо мать главнее сына. Так же, говорят они, мы думаем, обстоит дело и на небесах у блаженной Девы Марии и сына ее Иисуса Христа» (лат.).
(обратно)**
«Слышал в Болонье, в 1540 г., в доме сенатора Болоньетти» (лат.).
(обратно)***
«крестьян» (лат.).
(обратно)
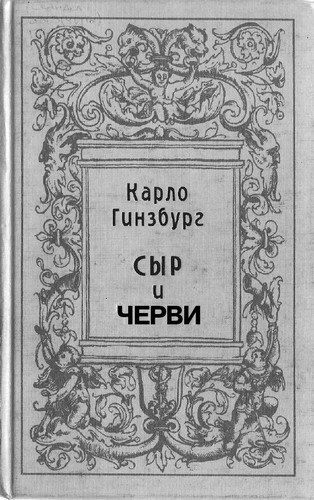



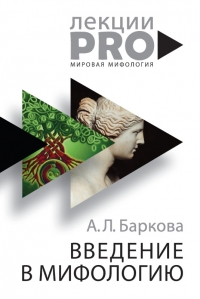
Комментарии к книге «Сыр и черви. Картина мира одного мельника жившего в XVI веке», Карло Гинзбург
Всего 0 комментариев