МАРК БЛОК ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ФРАНЦУЗСКОЙ АГРАРНОЙ ИСТОРИИ
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Автором книги, перевод которой предлагается вниманию советского читателя, является один из крупнейших французских историков XX века и, возможно, наиболее своеобразный среди них по оригинальности мысли и необычности биографии.
Выдающийся исследователь истории феодальной Франции и феодализма в целом, написавший ряд книги множество статей, профессор Страсбургского, а затем Парижского университета, Марк Блок (1886–1944) создал в науке свою школу. Немало больших и серьезных работ посвящали и посвящают его памяти, и при внимательном взгляде в большинстве из них вы различаете ценные качества учителя, воплощенные в учениках в том или ином индивидуальном преломлении. В качестве основателя (в 1929 году) и редактора (совместно с Люсьеном Февром), а также неутомимого сотрудника журнала «Анналы экономической и социальной истории» Блок сыграл роль видного организатора французской исторической науки, да и не только французской, поскольку в журнале печатались работы ученых других стран.
Прогрессивный буржуазный историк, Марк Блок не состоял ни в одной политической партии, но его взгляды характерны для передовой буржуазной интеллигенции Франции. Он был горячим патриотом и пламенным антифашистом. Когда Франция была оккупирована гитлеровской армией, он нашел свое место в рядах деятелей движения Сопротивления. Ученый стал борцом. Своим мужеством он завоевал любовь и уважение товарищей и всех патриотов Франции. В июне 1944 года гестаповцы расстреляли его.
* * *
В предисловии Л. Февра, предваряющем второе, посмертное, издание книги Марка Блока «Характерные черты французской аграрной истории», рассказана история создания этого исследования, считающегося во французской исторической литературе классическим. Время отвело ему такое почетное место недаром. Среди многих предшествующих и последующих работ на эту тему книга Блока составила своего рода эпоху. Дело не только в том, что в ту пору чрезвычайного увлечения узкими локальными темами автор отважился на обзор аграрного строя всей страны и, кроме того, дал его на широком сравнительном фоне европейского феодализма в целом, использовав для этого богатейший фактический материал, накопленный в трудах европейских историков. Главное достоинство этой книги заключается в глубине и остроте исследовательской мысли Блока, в его упорном стремлении разобраться в сущности исследуемых проблем, в новом подходе к ним. Все эти качества в сочетании с тщательной добросовестностью в анализе источников привели к тому, что во многих случаях Блок смог остроумно подметить и объяснить важные черты французской аграрной истории, то есть, в сущности говоря, особенности французского феодализма. Те же качества позволили Блоку выйти из русла традиционной во французской исторической литературе антиобщинной концепции аграрных феодальных порядков и дать интересную и продуманную картину роли общины во французской деревне. Поэтому содержание этого труда полно интереса для советского читателя. Специалист-историк оценит по достоинству и исследовательское мастерство автора, сумевшего при ограниченном размере книги выбрать из огромного материала наиболее яркие факты.
Нельзя не отметить и блестящей формы изложения. Книгу отличают продуманная конструкция, сжатость и четкость. Блок обладает своеобразным, увлекательным стилем. Его язык, образный, точный, хотя и не всегда легкий, хорошо гармонирует с оригинальностью мысли, с ее зачастую неожиданными поворотами. Это французская книга в лучшем смысле слова.
Исследовательские установки Блока очень четко изложены им самим во «Введении». Он выступает в качестве ревностного приверженца «обратного метода» в исследовании исторических явлений, при котором историк обязан точно определить связи прошлого и настоящего (опасность извращения и модернизации угрожает при этом лишь недобросовестным или поверхностным авторам) и выяснить основные черты того или иного явления в его развитом состоянии, чтобы искать затем его корни и первоначальные формы в более отдаленной эпохе. Надо признать, что в руках такого крупного ученого, каким был Блок, этот метод дал интересные результаты. Весьма специальному и сухому по материалу исследованию он придал редкостную жизненность и красочность. История французской деревни — от раннего средневековья и до конца XVIII века, а в некоторых случаях почти до наших дней — оказалась связанной в единую живую цепь непрерывного исторического развития.
Интересна и оригинальна структура книги Блока. В ней как бы перекрещиваются два плана исследовательской мысли — логический и хронологический. Из массы проблем, связанных с аграрной историей, автор отобрал лишь те, которые, по его мнению, определяли ход развития французской деревни. Так выступили на первый план важнейшие темы: процесс земледельческого освоения территории Франции (гл. 1),типы «аграрных цивилизаций», по существу — общинные порядки (гл. II), история сеньории вплоть до буржуазной революции (гл. III–IV), история крестьянства (гл. V), зарождение капитализма в сельском хозяйстве (гл. VI), пережитки общинных порядков и судьбы крупной и мелкой земельной собственности в новое время (гл. VII).
Изложение материала почти во всех главах подчинено хронологическому принципу. Поэтому автор несколько раз проводит своего читателя от раннего средневековья до XVIII–XIX веков, раскрывая перед ним то одну, то другую сторону исследуемого им исторического процесса. Это увлекательное, но не всегда легкое путешествие даже для соотечественника Блока: так насыщено его изложение реальностями французской жизни, так часто он уверен в том, что читатель-француз поймет его с полуслова. В то же время нередко мысль его предельно лаконична и требует к себе напряженного внимания.
Отсюда вытекает необходимость не только разбора и критической оценки главных положений Блока, но и реальных комментариев к его книге.
* * *
Рассмотрим по главам основные положения Блока, отмечая попутно их сильные и слабые стороны.
В первой главе Блок устанавливает фазы земледельческого освоения французской земли. Первый этап, заканчивающийся в IX веке, вместе с крушением каролингской империи, заполнен расчистками местного характера, вновь вернувшими земледелию прежние культурные земли, запустевшие в конце Римской империи и во время варварских завоеваний. Второй, самый важный этап начинается около середины XI века и заканчивается к XIV веку: это период крупных расчисток, период наступления на большие лесные массивы; он привел к появлению множества новых поселений, многие из которых превратились затем в города. Блок подчеркивает, что крестьянство сыграло в этих расчистках главную роль, хотя его «медленная и терпеливая работа оставила в источниках менее яркие следы, чем основание новых поселений». Прекращение расчисток в XIV веке Блок объясняет необходимостью сохранить значительные пространства пастбищ и лесов для нужд самого же крестьянского хозяйства, главным образом для животноводства. Он приводит данные о борьбе крестьян против таких расчисток, которые угрожали их интересам в этом плане. Следовательно, по его мысли, к XIV веку во Франции завершился в основном процесс внутренней колонизации, закончилось возможное при том уровне агротехники освоение земледельческих площадей. Последующие столетия, вплоть до XVIII века, не внесли существенных перемен.
Нарисованная Блоком в этой главе картина представляется нам в своей фактической основе убедительной. Рассмотрим даваемые автором объяснения.
Блок отмечает, что для средневековой Франции характерна интенсивность именно внутренней колонизации. За исключением первых крестовых походов и незначительного отлива населения юго-западных областей в Испанию, Франция не участвовала в имевшем общеевропейское значение колонизационном движении в соседние страны. Доискиваясь причин этого явления, Блок не считает возможным ограничиться указанием на заинтересованность сеньоров в освоении лесов и увеличении числа держателей. Этим обстоятельством можно было бы объяснить лишь развитие процесса, но не его корни. Главной причиной мог быть только значительный рост населения, объясняющий и многие другие явления XII–XIII веков, — развитие городов и т. д. Весьма характерно для Блока, что в противовес многим буржуазным историкам, видящим в росте населения движущую силу исторического развития, он требует объяснения и этому явлению. Однако именно здесь, почти подойдя к первопричине, то есть к росту производительных сил, он останавливается в недоумении. Увидеть эту первопричину он не в состоянии. Его методологическая ограниченность мешает ему осмыслить до конца и обобщить им же подобранный и прекрасно изложенный материал.
Этот недостаток сказывается и во второй главе, занимающей в книге — по важности темы и выводов — центральное, на наш взгляд, место. В главе рассмотрены типы севооборотов и «аграрной цивилизации». Учитывая закономерность эволюции от временной запашки через двуполье к трехполью, Блок вместе с тем энергично настаивает на необходимости детального рассмотрения факта стойкого сосуществования во Франции всех трех типов вплоть до XIX века, а отчасти и до наших дней. Он устанавливает, что временная запашка (пашня в течение 2–8 лет, затем пастбище на 8–10 лет, затем снова пашня) получила распространение лишь на скудных почвах (главным образом в предгорьях, в ландах и т. д.), причем наряду с ней имеется как правильный севооборот на лучших землях, так и небольшие участки сильно удобряемой и никогда не отдыхающей пашни. Двуполье царствует почти на всем юге с его сухим климатом; на севере трехполье существует наряду с двупольем. Ход развития трехполья на севере таков: будучи там очень древним севооборотом (возможно, еще с дофранкских времен), оно постепенно распространялось на все большую площадь, не вытесняя, однако, двуполья и не завоевывая юга.
Рассматривая это явление в общеевропейском плане, Блок правильно подчеркивает, что Франция является как бы стыком двух главных типов севооборотов. Юг страны относится к старой средиземноморской системе двуполья, обусловленной климатическими и почвенными условиями Южной Европы, север — к царствующей в большинстве стран Северной Европы системе трехполья.
Далее он переходит к исследованию трех различных типов землепользования. К первому он относит открытые длинные поля с чересполосицей, ко второму — открытые поля неправильной формы, более или менее приближающейся к квадрату, к третьему — огороженные поля. Характеризуя первый тип — распространенные «а севере и на востоке страны открытые длинные поля с присущими им принудительным севооборотом и принудительным выпасом, — Блок отмечает «удивительную согласованность» элементов этой системы и ее чрезвычайную живучесть в некоторых местах северной Франции вплоть до наших дней. Ее происхождение он ищет в большой плотности населения и в «.ярко выраженном общинном мировоззрении». Он дает точное и полное описание марки (не называя ее, впрочем, этим словом) и указывает на ее широкое распространение в Англии, Германии, Польше и России, подчеркивая, что причины этого явления могут быть поняты только в общеевропейском плане.
Сосуществование этой системы с двумя другими Блок считает спецификой Франции. Вторая система, распространенная на юге Роны, в Лангедоке, на Гаронне, в Пуату, Берри и т. д., а также в Италии, сочетается лишь с принудительным выпасом. Блок подчеркивает ее родство с системой открытых длинных полей (запрещение огораживаний для осуществления принудительного выпаса) и считает, что разница между ними заключается в том, что другие сервитута (общественное стадо и, возможно, принудительный севооборот) исчезли на полях неправильной формы потому, что там не было такой прочной опоры для «социального принуждения», как присущая длинным полям чересполосица. Таким образом, и это одно из наиболее ценных положений в его книге, Блок рассматривает вторую систему как стадию разложения первой.
Далее Блок развивает гипотезу, которая должна объяснить разницу между двумя системами. Эту гипотезу он в конце концов отвергает, но самый ход его мысли представляет большой интерес, так как он тем самым отказывается от одного из положений, широко распространенных в буржуазной историографии.
Привлекая очень любопытный материал, Блок проверяет, правильно ли мнение о связи галльского колесного плуга (charrue) с открытыми длинными полями, а более древнего легкого бесколесного плуга (araire) — с открытыми полями неправильной формы. Не определяет ли тип плуга характер полей, а тем самым и социальную структуру деревни? Как будто бы многое связывает воедино систему полей с преобладанием того или иного типа основного сельскохозяйственного орудия. Но Блок тут же подчеркивает, что- колесный плуг, определяя большую длину поля, тем не менее не может определить чересполосицу. Такой плуг не противоречит длинным и вместе с тем большим полям, составляющим единый комплекс пахотной земли у каждого хозяина. Чересполосица обязана своим появлением не тяжелому плугу, а необходимости уравнять шансы каждого хозяина путем предоставления ему полос земли различного качества. «Эти идеи, — пишет Блок, — …глубоко укоренившиеся в крестьянском сознании… оказывали свое воздействие на распределение владений». Он формулирует это еще резче: «Без общинных обычаев было бы невозможно употребление колесного плуга»; длинные поля и колесный плуг связаны со «стойкими обычаями общинной жизни».
Как видим, Блок вплотную подходит к понятию марки как основы хозяйственных распорядков в деревне. Он точно определяет происхождение чересполосицы. И все же в окончательном счете верх берет идеалистическая концепция, ибо Блок не в состоянии поставить вопрос: откуда же берутся эти глубоко укоренившиеся в сознании крестьян привычки коллективного и уравнительного распорядка? В силу этого все его правильные и зачастую остроумные частные выводы не получают общего завершения.
Очень интересен — в смысле материала и выводов — анализ третьей системы, то есть огороженных полей. Анализ Блока отличается большим мастерством и тонкостью; он показывает, что распространенные в западных провинциях, на Центральном массиве, Юре, Пиренеях и в других горных областях огороженные поля представляют собой своеобразную эволюцию тех же принципов, которые лежат в основе обеих систем открытых полей. На огороженных полях нет принудительных севооборота и выпаса. Но они не представляют собой проявления индивидуализма. Они возможны лишь при обязательном наличии наряду с ними обширных общинных пустошей, используемых общиной в строго установленном порядке не только для выпаса, но и под временную запашку. Огороженные поля не случайно сочетаются с временной запашкой, они вызваны к жизни наличием скудных почв и малочисленностью населения.
Блок подробно анализирует эту систему на примере Бретани, восстанавливая исторический ход ее развития. Он приходит к интересному выводу, что в системе огороженных полей «коллектив смог отказаться от своих прав на пашню только потому, что он сохранил их на большей части земель, по отношению к которым регулярно засеваемая площадь составляла лишь очень незначительную долю».
Ценность и интерес этого положения очевидны. Оно делает систему огороженных полей (которая является для буржуазных историков своего рода бастионом полной частной собственности) частью общей картины общинного происхождения всех имевшихся во Франции систем землепользования. Последние являются, таким образом, лишь различными модификациями единой по происхождению марковой системы.
Однако сам Блок не делает этого общего вывода. Он ограничивается характеристикой различных типов «аграрной цивилизации», определяет области их распространения и т. д. Он отрицает мнение, будто они были созданы различными расами. Он понимает, что они оказали глубокое воздействие на общее развитие страны. Но он не может вывести их происхождение не из общинного «мировоззрения», но из самой общины как таковой.
Третья и четвертая главы содержат историю сеньории. В этих главах Блок наименее оригинален, и в методологическом отношении они мало удачны, хотя материал зачастую очень интересен.
Блок дает определение и анализ структуры сеньории, ее происхождение и историю вплоть до буржуазной революции, ставя вопрос о причинах, определивших ее эволюцию. Он исходит из анализа каролингской сеньории VIII–IX веков (по этому периоду имеется достаточно источников), определяя ее как территорию, большая часть доходов с которой поступает одному хозяину, являющемуся главой зависимого населения. С экономической точки зрения сеньория на этой стадии представляет собой сочетание в одном организме крупного и мелкого хозяйств.
Узость этого определения бросается в глаза. Именно она и мешает автору правильно поставить вопрос о причинах эволюции сеньории. Вместе с тем присущая ему острая наблюдательность и прекрасное знание источников позволяют сделать ряд правильных частных выводов.
Корни сеньории Блок ищет в далеком прошлом, еще в галльскую эпоху, когда галльская родовая знать облагала натуральными повинностями своих соплеменников. Развитие крупного землевладения проходило в галльский, римский и франкский периоды, несмотря на все перипетии и конфискации, но лишь в эпоху Каролингов сеньория, объединив под своей властью большинство мелких аллодов, получила наибольшее распространение. Таким образом, для Блока не существует коренного переворота, внесенного германской маркой в аграрный строй Галлии, хотя он правильно отмечает некоторые новые черты во франкском обществе. Так, он указывает на роль традиции в установлении фиксированных повинностей и считает, что эта традиция (кутюма сеньории), распространяясь уже не только на колонов, но на все население страны, в том числе и на рабов, укрепила наследственность рабских держаний. Он рисует в общих чертах картину утраты мелкими аллодистами своих земель, но не дает точного определения аллода. Лишь мельком проскальзывает у него мысль, что аллодист, помимо обязанностей по отношению к королю и его представителям, был подчинен общинным порядкам, являвшимся «основой аграрной жизни».
Дав общую картину хозяйственных распорядков сеньории в VIII–IX веках с характерным для этого периода господством барщины, Блок переходит к следующему этапу в развитии сеньории с конца XII — начала XIII веков. Он констатирует для этого времени отсутствие аллодов, полный иммунитет сеньоров, господство серважа и наличие новых повинностей (баналитеты, десятина, талья), которые, по его мнению, возникли в результате усиления судебной и политической власти сеньоров. Это верное соображение Блок сопровождает кратким, но весьма интересным очерком истории тальи. Он указывает, что взимание произвольной тальи нередко бывало причиной восстаний и что ее фиксация в течение XIII века явилась результатом непрерывных усилий сельских коммун. В изложении Блока история сеньориальной тальи в XII–XIII веках предстает как первый этап развития денежной ренты, но сам автор этого так не формулирует.
Страницы, посвященные серважу, вопросу, специально интересовавшему Блока, можно назвать образцовыми по ясности и последовательности изложения. Рассмотрены источники серважа, отличия серва от виллана, характеристика основных черт французского серважа, наконец история термина. Блок подчеркивает, что уже в каролингскую эпоху под античной этикеткой servus скрывался на деле «один из главных элементов изменившейся социальной системы». Тем самым он признает коренную перемену в положении непосредственных производителей, происшедшую во франкскую эпоху (еще ранее он довольно полно и точно описал экономический кризис античного рабовладения), но он не распространяет эту перемену на весь общественный строй в целом.
Очерк о серваже Блок заканчивает очень интересным замечанием. Он считает, что серваж давал сеньору, в сущности, лишь ограниченные возможности использования труда крестьян, ибо последние развивали свою хозяйственную активность по преимуществу на держаниях, а повинности были фиксированы. Однако это интересное соображение (к которому он в дальнейшем возвращается в другой связи) не развито и не положено в основу понимания процесса исчезновения барщины, к изложению которого автор сразу же и переходит. С полным основанием, ссылаясь на фактический материал, Блок отвергает мысль, что во Франции исчезновение барщины было связано с развитием товарно-денежных отношений. Он считает, что к началу XII века, когда барщина утратила прежнее значение, города и торговля были развиты еще недостаточно. Блок полагает, что причина заключалась в каких-то общих глубоких процессах, происходивших в сеньории, но он ищет их в хозяйственных затруднениях феодалов и не может нащупать убедительного решения вопроса. Он очень интересно излагает фактическую сторону дела, указывает на общеевропейский характер явления, отмечает некоторое запаздывание в этом отношении Германии и резкое отставание Англии (Италии и Испании, где больше аналогий с Францией, он в данном случае не касается) и, наконец, признается в том, что не может объяснить причину этих различий между странами. Так, уже второй раз на протяжении первой сотни страниц своей книги, дойдя до самого существа проблемы, то есть до развития производительных сил, Блок заявляет о невозможности вскрыть основную причину описываемых явлений.
В четвертой главе, посвященной сеньории XIV–XVIII веков, рассмотрены две основные проблемы: упадок сеньориальных доходов в XIV–XV веках и реконструкция сеньории в XVI–XVII веках. Автор начинает с утверждения, что кризис XIV–XV веков отнюдь не сокрушил «старой основы сеньории», что права сеньоров на крестьян и на их участки, по существу, сохранились вплоть до революции. Новым является лишь упадок сеньориальной юрисдикции и исчезновение серважа. Последний процесс Блок излагает на основе обширных данных, собранных им в книге «Короли и сервы» (Париж, 1920), и связывает его с развитием городов. Он подчеркивает интенсивность этого процесса вблизи больших центров и его замедленность в отсталых областях.
Очень много внимания Блок уделяет обеднению феодального дворянства. Первым этапом этого процесса он считает XIV–XV века, когда во всей Европе наблюдается экономический упадок и сокращение населения вследствие войн и эпидемий. Дворянство разорялось в результате обесценения денег, которое проявилось в XIV–XV веках в форме «ослабления» монеты, то есть сокращения в ней доли драгоценного металла. Приводимый Блоком материал очень интересен, но автор, на наш взгляд, переоценивает его значение для решения проблемы в целом. Падение реальной стоимости денежного ценза, исследуемое к тому же вне общей картины развития товарно-денежных отношений, является, по мнению Блока, главной причиной ухудшения материального положения дворянства. Это слишком узкое, однобокое рассмотрение вопроса заслоняет от Блока картину развития товарного производства в крестьянском хозяйстве. Он лишь констатирует, что после Столетней войны крестьянам удалось сохранить наследственность своих держаний при уплате низкого ценза, и объясняет эту «удачу» крестьян тем, что они имели дело с ослабевшим феодальным классом. Однако сам факт подобного ослабления нуждается во всестороннем и более глубоком анализе, которого в книге нет.
В XVI веке разорение дворянства усилилось благодаря революции цен. Реальная стоимость денежного ценза катастрофически падает в результате обесценения самих драгоценных металлов. Массовая продажа фьефов приводит к обновлению феодального класса. Вместо старого дворянства в сеньориях появляются аноблированные выходцы из буржуазии и чиновничества. Главную перемену, происшедшую в сеньории в связи с переходом земельной собственности в другие руки, Блок совершенно правильно усматривает в восстановлении барской земли (домена), которая создавалась в XVI–XVII веках заново из скупленных крестьянских участков. При описании всех этих процессов Блок имел возможность опереться на обширный фактический материал, собранный в трудах французских историков. Следует указать, что многие исследования, появившиеся после 1931 года, когда вышло первое издание книги Блока, подтверждают и развивают дальше его положения. Однако, прекрасно описывая процесс «собирания» земли новыми дворянами, Блок уделяет очень мало внимания экспроприации крестьян. Отмечая причины, побудившие крестьян продавать свои парцеллы, — разорение в результате войны, трудности приспособления к денежному хозяйству, необходимость найти деньги для уплаты налогов и ренты и т. д., — он возводит их только к кризису кредита, к денежным затруднениям крестьян. Как и для всех буржуазных историков, для него не существует процесса первоначального накопления. В XVI веке он констатирует лишь количественные, а не качественные изменения. Именно это и не позволяет ему правильно решить поставленную им весьма важную проблему о причинах резкого различия в судьбах разных европейских стран, проявившегося в XVI веке. Он отмечает, что, в то время как в Англии и в странах Центральной и Восточной Европы домен поглотил или обескровил крестьянские держания и там было создано крупное барское хозяйство, во Франции этого не произошло. Однако коренной разницы между Англией и странами с крепостническим хозяйством Блок не отмечает, а разницу между Англией и Францией объясняет очень поверхностно — всего лишь различием в юстиции. Английские манориальные суды, еще очень прочные в XIV—XV веках, ущемляли наследственные права копигольдеров, в то время как во Франции королевские суды подточили сеньориальную юстицию и закрепили наследственность крестьянских держаний. Последняя настолько упрочилась, что французские сеньоры не смогли присвоить крестьянскую землю, тем более, что они не обладали политической властью наподобие джентри или юнкеров,-Французская абсолютная монархия смогла поэтому ограничить размеры «феодальной реакции» и не допустить обезземеливания крестьян. Эти суждения Блока кажутся поверхностными и неверными. В одном понятии феодальной реакции он объединяет такие разнородные по своему характеру явления, как английские огораживания, германское крепостничество, обновление французской сеньории. Его выводы к главе в целом очень узки. Все развитие аграрного строя в XVI–XVIII веках сводится для него, в сущности, ко вторичному появлению крупной земельной собственности, которой, по его мнению, суждено было пережить революцию без особого для себя ущерба.
Между тем приводимый в главе весьма интересный фактический материал позволяет сделать и многие другие наблюдения. Блок дает любопытный очерк увеличения сеньориальных поборов, отмечая, что это явление началось в основном с конца XVII века и получило особый размах с середины XVIII века. Тем самым определяется и период действительной феодальной реакции во Франции. Сведения о характере эксплуатации восстановленного в XVI–XVII веках домена говорят о преобладании испольщины (которую Блок объясняет всего лишь обесценением денег в XVI–XVII веках, не понимая ее истинной экономической природы, как переходной формы к [Капиталистической ренте), а также и о появляющейся с середины XVII века крупной капиталистической аренде. Таким образом, фактически Блок дает материал для изучения развития элементов капиталистического уклада во французском сельском хозяйстве еще задолго до «аграрной революции».
Гораздо удачнее пятая глава, Посвященная «социальным группам», то есть крестьянству. В сущности, это тоже глава об общине, как и вторая глава, но с иной тематикой, поскольку речь в ней идет уже не о различных севооборотах и хозяйственных распорядках деревни, а о разложении манса, о сельских коммунах и общинных угодьях. Надо сразу же сказать, что Блок прочно стоит на почве марксовой теории и дает ряд убедительных решений, опираясь при этом на интересно подобранный фактический материал. Он очень пристально рассматривает структуру манса, отказываясь считать его порождением сеньории, то есть феодализма, и возводя его к более далекому, как он пишет — доисторическому, прошлому. Он настаивает на том, что не только сеньориальный режим, но и римская и франкская системы отнюдь не создали манс как хозяйственную ячейку. Они лишь использовали для своих целей уже имевшуюся систему. Блок очень точно описывает марковый надел (не называя его таким образом), не упуская ни одной из его характерных черт. Он предполагает, что первоначально манс представлял собой владение большой патриархальной семьи. По этому образцу были созданы и рабские мансы. На основе мансов были построены кадастры раннефеодального общества. Блок рассматривает судьбу манса в областях с различными типами полей, прослеживая и здесь в общем ту же взаимосвязь, что и при анализе типов севооборота во второй главе. Его.соображения по этому поводу заслуживают самого пристального внимания, а фактический материал — тщательного изучения.
Процесс разложения манса начинается, по мнению Блока, с VI века и в передовых областях Франции заканчивается к XII веку, когда окончательно восторжествовала парцелла. В других провинциях манс держался дольше. Разложение манса Блок ставит в связь с переменами во взимании феодальной ренты (не с манса, а: с отдельного хозяйства) и вообще с изменениями структуры сеньории. Он подчеркивает общеевропейский характер манса, но раннее его разложение считает особенностью французского аграрного строя. Следует сказать, что, проводя в этом плане параллели с Англией и Германией и отмечая их отставание, он снова забывает о Северной Италии, где и в этом отношении было много сходного с” Францией.
Основную причину разложения манса Блок видит не в развитии производительных сил, а в переходе от патриархальной семьи к отцовской. Он пишет: «Все превратности материальных сторон сельской жизни всегда были не чем иным, как отражением перемен, претерпеваемых человеческими группами». Следствие принято за причину, и попытка проанализировать проблему вновь оказывается безуспешной. Верны не коренные, а лишь частичные решения.
Очень интересен приводимый Блоком материал о длительном сохранении в глухих углах Франции большой семьи не только в XVIII веке, но и в наши дни.
При рассмотрении сельских коммун и общинных угодий Блок высказывает ряд весьма ценных соображений. Вопреки господствующему во французской буржуазной историографии мнению он рассматривает всю историю сельских общин, основанных на общности территории и общинных сервитутах, как единый непрерывный процесс. Он проводит прямую линию от общин франкского периода к сельским коммунам XIII века и последующих веков, когда они приобрели права юридических лиц. Никогда сельские коммуны не. были целиком поглощены сеньорией. Перерыв в X–XII веках является мнимым, ибо умолчание источников о коммунах объясняется всего лишь характером источников, поскольку в подавляющей своей части эти источники сеньориального происхождения.
Блок не только считает общину организующим началом сельских порядков, он указывает на ее непрестанную борьбу с феодалами. Коммуны заставили сеньоров признать свое право «а существование. Перечисляя все более или менее крупные крестьянские восстания во Франции с IX века до 1789 года, он называет их «звеньями одной длинной трагической цепи» и подчеркивает, что социальная система характеризуется не только внутренней структурой, но и реакцией на нее. Крестьянские восстания столь же неотделимы от сеньориального режима, как рабочие стачки от крупных капиталистических предприятий. Не понимая роли классовой борьбы как движущей силы исторического процесса, Блок считает, что почти всегда осужденные на разгром крестьянские восстания не могли привести к чему-либо прочному. По его мнению, куда большее значение имело неустанное стремление крестьян оформить свою организацию и заставить феодалов признать ее. Очень интересные страницы Блок посвятил истории оформления (отнюдь не создания!) сельских коммун и анализу их конфедераций, появившихся как на севере, так и на юге в связи с борьбой городов против феодалов. Все выводы по этому разделу главы представляются бесспорными. Автор отмечает, что сельским общинам понадобились века борьбы за свое признание, но разрешения на свое существование они не дожидались. Вся внутренняя жизнь деревни покоилась на базе этой крепко сколоченной группы.
С этих же убедительных позиций подходит Блок и к анализу общинных угодий. Он пишет, что в теории их использование регулировалось сеньором, на практике же это было делом всей деревни, основанным на тысячелетней традиции. Именно поэтому эти правила приобрели силу закона, и крестьяне проявляли при их защите непреодолимую сплоченность, сохранившуюся кое-где во Франции и до наших дней. Борьба за общинные угодья не прекращалась в течение всего средневековья и не раз приводила к восстаниям.
Блок решительно возражает против мнения (особенно отстаивавшегося Фюстель де Куланжем и его последователями), что общинные угодья искони составляли собственность сеньора. «Как будто, — восклицает он, — деревня неизбежно была моложе своего господина!» Он дает сжатый, но чрезвычайно интересный очерк истории узурпации общинных угодий, особенно с XVI века, и подчеркивает общеевропейский характер этого процесса.
При рассмотрении эволюции крестьянства Блок обоснованно выдвигает на первый план не юридический статус отдельных групп, как это обычно делается в буржуазной историографии, а социально-экономическую дифференциацию. И все же этот очерк, несмотря на отдельные интересные соображения, неудачен. Блок не имеет твердой методологической основы для определения понятия класса и поэтому выдвигает неприемлемый тезис о классовой неоднородности крестьянства в течение всего феодализма. В его представлении известные различия в экономическом положении крестьян в период возникновения денежной ренты являются уже проявлением классового неравенства. Характерно, что классом он считает и сеньориальных управляющих XI–XII веков. Идеализирует он и роль монархии, якобы прирожденной покровительницы крестьян, защищавшей их — правда в собственных интересах — от произвола сеньоров. Блок не смог дать истории крестьянства как эксплуатируемого класса феодального общества.
Две последние главы посвящены краткому общему обзору развития французского аграрного строя с середины XVIII века до наших дней, в том числе и агротехническому перевороту (révolution agricole). Несколько подробнее Блок рассматривает борьбу из-за общинных угодий, особенно обострившуюся в 1760–1770 годы и во время Революции. Он дает интересный и в целом убедительный анализ как позиций разных слоев крестьянства в отношении дележа общинных земель, так и аграрного законодательства революционных правительств. Не вызывает возражений и его положение об укреплении в ходе революции мелкой крестьянской собственности. Но жаль, что в этом кратком обзоре нет данных и соображений о роли крестьянства в революции и о ее значении для судеб французского крестьянства в целом.
Заканчивая свой труд, Блок выразил надежду, что ему удалось обнаружить связь прошлого и настоящего, то есть показать исторические корни аграрного строя современной Франции. Действительно, в своем стремлении понять закономерности аграрного развития своей, Страны Блок достиг больших успехов. Во многих случаях он увидел и верно объяснил отдельные стороны исследуемого им процесса, чего не могли сделать его предшественники. И все же у Блока не получилось цельной концепции проблемы. Ему все казалось, что он не может добраться до существа дела из-за недостаточной разработанности того или иного вопроса. Конечно, в ряде случаев такая неразработанность действительно воздвигала на его пути серьезные препятствия. Но основная причина была в другом: в ограниченности исторического мировоззрения Блока.
Несмотря на эти недостатки, знакомство с интересной и красочной книгой Блока принесет советскому читателю большую пользу. Нарисованная с большим умением и знанием жизнь сельской феодальной Франции поможет ему лучше узнать прошлое, а следовательно, и настоящее французского народа.
А.Д. Люблинская.ПРЕДИСЛОВИЕ Л. ФЕВРА К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ
Опубликованная впервые в 1931 году в Осло и одновременно в издательстве «Belles-Lettres» в Париже книга Марка Блока «Характерные черты французской аграрной истории» давно уже разошлась. При жизни Марк Блок имел твердое намерение переиздать ее, он неоднократно говорил мне об этом. Но он не собирался просто воспроизвести без изменений свой первоначальный текст. Он лучше других знал, что историк не может остановить время и что даже самая хорошая историческая работа должна быть через двадцать лет пересмотрена; в противном случае историк не достиг своей цели, не вызвав ни у кого желания проверить его основные положения и уточнив их, превзойти его самые смелые концепции. У Марка Блока не оказалось времени, чтобы переделать свою большую книгу, как он того хотел. Впрочем, действительно ли он переделал бы ее? Мне думается, что этой задаче, немного грустной и наиболее трудной (ибо автор, перерабатывая одно из своих прежних произведений, чувствует себя, несмотря ни на что, пленником своей первоначальной мысли и лишь с великим трудом может от нее освободиться), Марк Блок, вероятно, предпочел бы удовольствие задумать и осуществить новую книгу… Но это неважно. Наш друг унес с собой в могилу эту тайну, как и многие другие. Факт налицо: один из наших классических трудов по истории двадцать лет ждет своего переиздания. Вот оно наконец.
Оно состоит из двух томов. В первом томе оно полностью воспроизводит самый текст, оригинальный текст 1931 года — прекрасную книгу, обязанную своим появлением счастливой инициативе Института сравнительного изучения цивилизаций в Осло. Известно, что в 1929 году, рискнув выйти за пределы привычной для него области, это замечательное учреждение, обращавшееся с просьбой о сотрудничестве к таким людям, как Мейе, Виноградов, Иесперсен, Карльгрен, Магнус Ольсен, Альфонс Допш и другие, возымело счастливую мысль обратиться к Марку Блоку, человеку еще молодому, начинавшему свою карьеру и искавшему свой путь, с просьбой прочесть несколько лекций о характерных чертах французской аграрной истории. И вот эти-то с успехом прочитанные лекции, впервые позволившие Марку Блоку ощутить свои силы и свое крепнущее мастерство, переработанные, углубленные и расширенные, превратились в книгу, которой все мы пользуемся. Эта превосходная книга (как я уже отмечал в «Ревю историк», приветствуя ее появление) написана человеком, который, гоня от себя призрак «научной репутации» и не боясь скомпрометировать себя в глазах педантов (упустив, скажем, в библиографических примечаниях пару книг, вполне достойных полного забвения), сумел твердой рукой подвести итог и наметить программу.
Начинание это было трудным, ибо Франция как таковая является страной, состоящей из областей, сильно отличающихся друг от друга как по географическим условиям, так и по своеобразным чертам, присущим населению, более разнообразному и более смешанному, чем принято считать, а также по воздействию на те земли, которые мы называем французскими, многих материальных и духовных цивилизаций, конкурировавших между собой. Безусловно, нелегко было выявить существенные черты аграрной истории, бесконечно сложной. Но, тем не менее, это было необходимо: Франция — очень старая земледельческая страна, и не придавать ее аграрной истории подобающего значения значило бы обречь себя на плохое понимание прошлого и даже настоящего страны, революции которой очень часто были лишь воскрешением былого. Блок имел смелость первым пойти на такой риск. Он обладал еще и кое-чем другим, и именно благодаря этому «Характерные черты французской аграрной истории» — крупное произведение.
Конечно, еще до 1931 года имелись люди, знающие агротехнику настолько, чтобы описать не без успеха «эволюцию земледельческой Франции» (таково было название заслуживающей всяческого одобрения книге Оже-Ларибе, которая оказала нам в свое время столько услуг). В чисто исторической области также можно было встретить несколько значительных, глубоко продуманных книг: вспомним, например, «Аллод» («LAlleu») Фюстель де Куланжа или, несомненно, более спорную, но живую и побуждающую к исследованиям, к работе, быть может, слишком забытую книгу Жака Флака «О происхождении древней Франции» («Les Origines de lancienne France»). Имелись даже и руководства. (Кто не пользовался тогда, несмотря на ее недостатки — юридизм и слабую связь с жизнью, — книгой Анри Сэ «Сельские классы и домениальный порядок во Франции в средние века»?) Однако для всех этих историков — для всех без исключения — земледельческая техника была закрытой книгой. Я имел основания писать в 1932 году, что «их крестьяне обрабатывали только картулярии, притом хартиями вместо плугов». Никому не приходила мысль, что перед владельцами сеньорий могли, в частности, вставать чисто экономические проблемы. Никому не приходила и другая мысль, хотя, по-видимому, очень простая: что невозможно изучать аграрные проблемы в рамках одной общины или провинции. Все эти проблемы без исключения имеют европейский масштаб. Они представляют собой пищу для историка, пользующегося сравнительным методом.
Именно потому, что Марку Блоку не приходилось писать аграрную историю, не зная, что такое бык, плуг и севооборот, именно потому, что он глубоко понимал тексты и документы и обладал чувством живой экономической действительности, интересом к образу жизни людей прошлого и, наконец, широким и точным знанием работ исследователей Германии, Англии, Бельгии и других стран (начиная от Мейтцена и кончая Де Маре, а между ними — Сибом и Виноградов), которые занимались важнейшими проблемами аграрной истории, именно потому, что он обладал такими способностями и мог дополнить эти различные знания другими, — именно поэтому только он один, молодой профессор французского университета в Страсбурге, смог в то время дать книгу, которой нам так недоставало, и вывестина авторитетно начертанный им путь многих молодых людей, которым посчастливилось найти учителя.
Однако — и Блок это знал лучше, чем кто бы то ни было, — книга 1931 года могла быть полезной лишь в том случае, если бы быстро был обнаружен ее преходящий характер. Она была бы полезной лишь в том случае, если бы мало-помалу она была списана (наши книги для этого и пишутся), усвоена, стала общим достоянием и, более того, вызвала бы бесконечные обсуждения, возражения, поправки и пересмотры. Блок понимал это и с большей страстностью, с большим авторитетом, с большим пониманием, чем кто-либо другой, посвятил себя в первую очередь этому делу обновления. Не будем считать это его моральной заслугой. Нужно быть глупцом, чтобы считать себя непогрешимым. Нужно быть чем-то противоположным историку, чтобы поверить в «окончательную» книгу. Нужно быть крайне ограниченным человеком, чтобы не понимать величия постоянной потребности расширения, углубления и уточнения самых блестящих концепций, самых солидных с виду построений. Можно оказать, что все, что Блок написал между 1931 и 1941 годами в «Анналах» по поводу аграрных проблем, имело лишь одну цель: как можно точнее исследовать явления, которые в книге удалось осветить лишь в общей форме, проверить их обоснование, расширить их познание. Решение переиздать разошедшуюся книгу 1931 года наложило на нас другое обязательство. Поскольку Блока уже не было с нами и он не мог сам заняться этим делом, мы обязаны были по возможности выполнить это за него, не подменяя при этом его мыслей нашими, не пренебрегая ни одной из его мыслей, благоговейно собирая все соображения, исправления и поправки, которые Блок внес с 1931 по 1941 год, за десять лет непрерывной работы, в свою концепцию. Трудная задача. Она предполагала наличие у того, кто за нее возьмется, большого самоотречения и вместе с тем большого умения, не говоря уже о знаниях. Мы обратились с этой просьбой к одному из учеников Марка Блока, Роберу Доверию — историку с пытливым и изобретательным умом, занимающемуся аграрными проблемами и в течение нескольких лет работающему над подготовкой собственной серьезной книги об области Бос[1]. Не нам хвалить его за то, как он понял эту задачу. Скажем, только, что нам хотелось, чтобы эта деликатная работа была выполнена достаточно быстро, чтобы появиться одновременно с переизданием текста Блока и в одной книге. Это объединение оказалось невозможным. Поэтому мы решили опубликовать в первом томе, если можно так выразиться, «голый» оригинальный текст «Характерных черт французской аграрной истории»; второй том{1} принесет завтра нашим читателям элементы прогресса, содержащиеся в написанных после 1931 года статьях, обзорах и рецензиях Марка Блока; располагая ими, мы сможем придать его первоначальному тексту, больше интереса и жизни.
Именно придать и ничего больше. Ибо книга, которую мы переиздаем, оставит нечто крупное и долговечное: сам замысел. «Характерные черты французской аграрной истории», — писал я в 1932 году, — означают появление аграрной истории, которая наряду с историей земледельческой техники, историей домениального режима и историей сравнительной эволюции европейских народов долгое время будет одной из самых плодотворных в исторической науке сфер исследования, одной из тех избранных областей, где легче всего смогут договориться о сотрудничестве историки, заботящиеся а фактах, и географы, интересующиеся проблемами происхождения». И мне приятно, что я оказался таким хорошим пророком «а следующий же день после опубликования «Характерных черт французской аграрной истории», в то время, когда успех этой книги был еще делом будущего.
Мы не могли бы отложить перо, не оказав о том, какую бескорыстную помощь встретило это новое издание при его подготовке. Институт сравнительного изучения цивилизаций в Осло любезно предоставил нам для воспроизведения принадлежавший ему текст. У детей Марка Блока мы еще раз встретили понимание и великодушие. Пусть же будет им воздана здесь надлежащая благодарность от имени тех, кому это начинание принесет пользу.
ВВЕДЕНИЕ. Несколько замечаний относительно метода
Переложить на любезных хозяев ответственность, бремя которой должен нести один автор, значило бы сыграть с ними очень злую шутку. Однако я могу заявить, что, если бы Институт сравнительного изучения цивилизаций не оказал мне минувшей осенью честь, попросив прочесть несколько публичных лекций, эта книга, вероятно, никогда не была бы написана. Историк, знающий трудности своей профессии — самой трудной из всех, по мнению Фюстель де Куланжа, — не решается без колебаний изложить на нескольких сотнях страниц необычайно длинную эволюцию, неясную саму по себе и, кроме того, недостаточно известную. Я поддался искушению познакомить более широкую публику, чем мои благосклонные слушатели в Осло, с некоторыми гипотезами, развить которые и привести все необходимые доказательства я до сих пор не имел возможности, но которые, как мне теперь кажется, могут принести исследователям пользу в смысле указания дальнейшего направления работы. Прежде чем приступить к изложению главного, попытаюсь кратко объяснить, в каком духе я старался его трактовать. Тем более, что некоторые из этих методических проблем выходят, притом значительно, за пределы моей небольшой книги.
* * *
В развитии науки бывают моменты, когда одна синтетическая работа, хотя бы она и казалась преждевременной, оказывается полезнее целого ряда аналитических исследований, иными словами, когда гораздо важнее хорошо сформулировать проблемы, нежели пытаться их разрешить. Аграрная история в нашей стране достигла, по-видимому, этой стадии. Суммарное обозрение горизонта, которое исследователь разрешает себе, прежде чем углубиться в густые дебри фактов, где широкие наблюдения становятся невозможными, — вот все, что я намеревался осуществить. Знания наши скудны. Я старался ничего не утаивать: ни пробелов в исследовании вообще, ни недостаточности моей собственной документации, основанной отчасти на первоисточниках, но полученной от случая к случаю[2]. Однако из опасения сделать изложение неудобочитаемым, я не мог увеличивать число вопросительных знаков в той мере, в какой это было по сути дела необходимо. Впрочем, не следует ли всегда подразумевать, что в науке всякое утверждение является всего лишь гипотезой? Если в тот день, когда благодаря более углубленным исследованиям мой очерк совершенно устареет, я смогу убедиться в том, что, противопоставляя исторической истине свои ошибочные предположения, я все же помог осознать эту истину, я буду считать себя полностью вознагражденным за свои труды.
Только те работы, которые благоразумно ограничиваются узкими локальными рамками, могут дать необходимые фактические данные для окончательных решений. Но они почти неспособны поставить большие проблемы. Для этого нужны более широкие перспективы, где основные контуры не подвергаются опасности затеряться в темной массе мелких фактов. Даже широкий горизонт целой нации иногда недостаточен. Как уловить особенности развития, присущие отдельным районам, не бросив сначала взгляд на Францию в целом? Французское развитие в свою очередь приобретает свой истинный смысл только в том случае, если рассматривать его в общеевропейском плане. Речь идет не о насильственном отождествлении, а напротив — о различении; не о том, чтобы создать, как это получается при совмещении фотоснимков, искаженное общее изображение, условное и туманное, но о том, чтобы выявить путем противопоставления как общие черты, так и особенности. Таким образом, настоящий очерк, посвященный одной из сторон нашей национальной истории, связан также и с теми сравнительными исследованиями, которые я старался осуществить в другом месте и для которых уже столько сделал оказавший мне гостеприимство Институт.
Но упрощения, вызванные самой формой изложения, неизбежно повлекли за собой некоторые искажения, на которые надо честно указать. «Французская аграрная история» — эти слова кажутся совсем простыми. Однако при ближайшем рассмотрении они вызывают много трудностей. По своей аграрной структуре различные районы, составляющие современную Францию, не похожи друг на друга, причем в прошлом они различались между собой гораздо сильнее, чем каждый из них, взятый в отдельности, отличался от пограничных с Францией стран. Правда, мало-помалу поверх этих коренных различий сложилось то, что можно назвать французским сельским обществом, но складывалось оно медленно и посредством поглощения многих обществ или их частей, первоначально принадлежавших к иностранному миру. Называть «французскими» данные, относящиеся, например, к IX и даже (если они исходят из Прованса) к XIII веку, было бы настоящей нелепостью, если бы заранее не было условлено, что это выражение означает просто то, что знание этих старинных явлений, взятых из различных сфер, необходимо для понимания современной Франции, вышедшей, поколение за поколением, из первоначального разнообразия. Одним словом, это определение взято скорее из стадии завершения, нежели из начального этапа или даже из самого хода развития. Такое условие, несомненно, допустимо, лишь бы оно было оговорено.
Сельская Франция — большая и сложная страна, объединяющая в пределах своих границ и одного социального строя стойкие остатки противоположных аграрных цивилизаций. Длинные неогороженные поля вокруг больших лотарингских деревень, огороженные поля и деревушки Бретани, провансальские деревни, подобные античным акрополям, неправильные парцеллы Лангедока и Берри — все эти столь различные картины, которые каждый из нас может мысленно представить себе, выражают очень глубокие человеческие контрасты. Я старался отдать должное как этим, так и многим другим различиям. Однако вынужденная необходимость краткости изложения, а также желание акцентировать внимание в первую очередь на некоторых слишком часто остававшихся в тени крупных общих явлениях, местные оттенки которых надлежит уточнить другим; исследователям, неоднократно заставляли меня настаивать не столько на частном, сколько на общем. Главное неудобство этой установки — затушевывание в известной мере важности географических факторов, ибо условия, навязанные человеческой деятельности природой, если и неспособны объяснить коренные черты нашей аграрной истории, зато выступают во всей своей силе, когда необходимо установить различие между районами. В этом отношении более развернутые исследования не замедлят внести в свое время существенные поправки.
История — прежде всего наука об изменениях. При изучении различных проблем я стремился никогда не терять из виду эту истину. Однако мне пришлось, особенно в отношении различных хозяйственных распорядков, разъяснять очень далекое прошлое» свете значительно более близких к нам времен. «Чтобы повнать настоящее, надо прежде всего от него отвлечься», — сказал недавно Дюркгейм, начиная курс лекций по истории семьи. Согласен. Но бывают также случаи, когда для истолкования прошлого надо рассмотреть сначала настоящее или по крайней мере более близкое к современности прошлое. Таков, в частности (по причинам, о которых пойдет речь ниже), метод, к которому мы вынуждены прибегать при изучении аграрной истории ввиду состояния источников.
* * *
Аграрная жизнь Франции получает в истории подробное освещение начиная с XVIII века, не раньше. До этого писатели, за исключением некоторых специалистов, занятых исключительно выработкой практических советов, почти ею не интересовались, администраторы — тем более. Лишь в некоторых юридических трудах и в некоторых записанных кутюмах имеются сведения о таких основных правилах ведения хозяйства, как обязательный выпас. Без сомнения, мы увидим далее, что из старых документов можно извлечь много драгоценных указаний, но при условии, если вы умеете их обнаруживать. А для этого необходимо прежде всего бросить на предмет общий взгляд, который один только способен подсказать главные линии исследования. До XVIII века осуществить такое обозрение было невозможно, ибо люди так устроены, что замечают только то, что изменяется, притом изменяется резко. В течение долгих столетий аграрные обычаи казались почти неизменными, потому что они действительно менялись мало, а если и менялись, то обычно постепенно. В XVIII веке техника и правила обработки вступили в цикл гораздо более быстрого развития. Больше того, их захотели изменить. Агрономы описывали старые навыки для того, чтобы бороться с ними. Администраторы стали интересоваться положением страны с целью выяснения объема возможных реформ. Три больших обследования, проведенные с 1766 по 1787 год по вопросу об обязательном выпасе и об огораживаниях, рисуют обширную картину, подобной которой до той поры не бывало. Эти обследования были лишь первым звеном длинной цепи, которая была продолжена в следующее столетие.
Карты, почти столь же необходимые, как и сочинения, показывают нам анатомию земель. Самые старые восходят к несколько более раннему времени — к царствованию Людовика XIV. Но число этих прекрасных планов, большей частью сеньориального происхождения, возрастает лишь в XVIII веке. Кроме того, в них много пробелов, местных и даже районных. Чтобы представить себе контуры французских полей во всем объеме, надо обратиться к кадастру времен Первой империи и цензовой монархии[3], сделанному в разгар агротехнического переворота, но еще до его завершения{2}.
Эти документы, относящиеся к сравнительно недавней эпохе, служат для аграрной истории — при этом я имею в виду изучение одновременно и техники обработки и аграрных обычаев, которые более или менее строго регулировали деятельность земледельцев, — обязательным отправным пунктом. Один пример лучше, чем долгие рассуждения, поможет понять необходимость подобного приема.
Около 1885 года один из тех ученых, которым больше всего обязана аграрная история Англии, Фредерик Си-бом, всецело поглощенный изучением распорядков, которые мы в дальнейшем встретим под названием открытых и длинных полей, написал Фюстель де Куланжу, с которым его сближали многие общие концепции относительно происхождения европейских цивилизаций), чтобы узнать, существовал ли в какой-нибудь мере во Франции этот столь ясно проявившийся в Великобритании аграрный тип. Фюстель ответил, что никаких его следов он не обнаружил{3}. Напомнить о том, что Фюстель де Куланж был не из тех, для кого внешний мир представляет большой интерес, вовсе не значит высказать неуважение к его великой памяти. Он, несомненно, никогда не обращал внимания на пашни с такими своеобразными контурами, которые на всем севере и востоке Франции настоятельно вызывают воспоминание об английских открытых полях (open field). He имея особой склонности к агрономии, он остался равнодушным и к прениям об обязательном выпасе, которые велись в палатах как раз в то время, когда он получил письмо Сибома. Чтобы дать справку своему корреспонденту, он исследовал только тексты, притом очень старые. Но их-то он знал превосходно. Как же случилось, что он не нашел в них ничего относительно явлений, о которых все же в них есть некоторые довольно ясные сведения? Мейтленд как-то раз, в несправедливой запальчивости, обвинил его в том, что он, из национального предубеждения, нарочно закрывал на них глаза. Но разве длинные поля обязательно являются германскими? Правильное объяснение — в другом. Фюстель изучал документы только сами по себе, а не в свете более близкого прошлого. Увлеченный, подобно многим другим крупным ученым того времени, больше всего вопросами происхождения, он навсегда остался верен узкой хронологической системе, которая вела его, шаг за шагом, от более древнего явления к более позднему. Если же он и применял противоположный метод, то бессознательно и только потому, что в конце концов волей-неволей историк в некотором роде вынужден обращаться к этому методу. Не является ли неизбежным, что, как правило, самые отдаленные факты в то же время и наиболее неясные? И как избежать необходимости отправляться от более известного к менее известному? Когда Фюстель исследовал далекие корни так называемого феодального порядка, необходимо было, чтобы он имел хотя бы предварительное представление об этих институтах в эпоху их полного расцвета. И можно по праву спросить, не лучше ли было бы, прежде чем погружаться в тайны происхождения, определить черты законченной картины? Историк всегда раб своих документов, и больше всех тот, кто посвятил себя аграрным исследованиям; из опасения не разобраться в непонятном прошлом ему чаще всего приходится читать историю в обратной последовательности.
Но этот способ исследования, противоположный естественному порядку, имеет свои опасности, которые важно точно определить. Кто видит ловушку, тот меньше рискует в нее попасть.
Документы недавнего прошлого будят любознательность. Старые тексты далеко не всегда оставляют ее неудовлетворенной. Исследованные надлежащим образом, они дают значительно больше, чем можно было от них ожидать на первый взгляд, в особенности памятники юридической практики — постановления, акты судебных процессов, — разбор которых, к сожалению, так плохо осуществлен при современном состоянии нашего исследовательского аппарата. И все-таки они могут ответить далеко не на все вопросы. Отсюда искушение сделать на основе данных этих упрямых источников более определенные выводы, чем те, для которых имеются основания, а в результате — ошибки в истолковании источников, забавные образцы которых было бы нетрудно привести.
Но бывает хуже. В 1856 году Вильгельм Маурер писал: «Самый беглый взгляд на графства современной Англии показывает, что наиболее распространенными являются изолированные фермы… Это наблюдаемое в наши дни положение вещей позволяет сделать относительно древней эпохи [речь идет об англо-саксонском периоде. — М. Б.] вывод, что и тогда жили изолированными поселениями». Он забыл ни больше, ни меньше как о революции огораживаний, о глубокой пропасти, которая легла между аграрным прошлым Англии и ее настоящим. «Изолированные фермы» возникли по большей части вследствие объединений парцелл и эвикций, бесконечно более поздних, чем прибытие Хенгиста и Хорзы[4]. Ошибка здесь непростительна, так как речь идет об относительно недавних изменениях, которые легко изучить и оценить. Но истинная опасность кроется в самом принципе рассуждения, ибо он, если не остеречься, способен повлечь за собой много других ошибок, которые гораздо труднее обнаружить. Слишком часто к методу, самому по себе разумному, добавляют совершенно произвольный постулат о неизменности древних аграрных обычаев. Истина совсем в другом. Говоря по правде, правила обработки изменялись в старину меньше, чем в наши дни. Причиной того были материальные трудности, препятствовавшие их изменению, состояние экономики с более медленными реакциями и окружающий традиционализм. Кроме того, документы, рассказывающие нам об изменениях правил обработки в древности, обычно очень скудны и недостаточно ясны. И все-таки, как мы увидим в ходе изложения, эти правила никак не могли претендовать на какое-то мнимое постоянство. Иногда внезапное нарушение ритма деревенской жизни — опустошение, заселение после войны — принуждало проводить борозды по новому плану; иногда, как в новое время[5] в Провансе, община решала сразу изменить дедовский обычай; еще чаще от первоначального порядка уклонялись почти незаметно и, быть может, невольно. Конечно, прекрасная романтическая фраза, в которой Мейтцен выразил почти мучительное чувство, знакомое всем исследователям, посвятившим часть своей жизни изучению аграрных древностей, вполне справедлива: «В каждой деревне мы прогуливаемся среди руин предыстории, более древних, чем романтические остатки бургов или обветшавшие стены городов».
Действительно, на многих землях контуры полей значительно превосходят по древности самые старые камни. Но как раз эти остатки никогда не были руинами в полном смысле слова — они скорее похожи на те сложные сооружения архаической структуры, которые в течение столетий служили жилищами, все время переделываясь. Поэтому они почти совсем не дошли до нас в своем чистом виде. Оболочка деревни очень стара, но на нее часто ставили заплаты. Умышленно пренебрегать этими изменениями и даже отказываться исследовать их означало бы отрицать самую жизнь, которая есть не что иное, как движение. Проследим же, раз это нужно, ход времен в обратном порядке, но будем делать это этап за этапом, оставаясь всегда внимательным к неправильностям и отклонениям кривой и не стремясь перейти одним прыжком (как это слишком часто делают) от XVIII века к неолиту. Обратный метод, разумно применяемый, вовсе не требует от близкого прошлого фотографии, которую затем достаточно проэцировать в неизменном виде, чтобы получать застывшее изображение все более и более отдаленных веков. Он претендует только на то, чтобы, начав с последней части фильма, попытаться затем показать его в обратном порядке, примирившись с тем, что там будет много пробелов, но твердо решив не нарушать его движения.
Страсбург,
10 июля 1931 года.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Нет ничего более трудного, чем разрешить проблему ссылок в книге синтетического характера. Может быть, ради облегчения изложения следовало не давать их совсем? Это значило бы пренебречь тем законом честности, который обязывает каждого историка не выдвигать никаких положений, которые нельзя было бы проверить. Дать ссылки в полном объеме? Тогда примечания поглотили бы большую часть страниц книга. Я остановился на таком решении: во-первых, воздерживаться от всяких ссылок р тех случаях, когда компетентный ученый может легко отыскать указанные факты или тексты (либо потому, что они содержатся в широко известном документе или же источнике, названном по ходу изложения, нахождение которого облегчается хорошими указателями, либо потому, что они заимствованы из работы, название которой фигурирует в нижеследующем библиографическом списке, и при этом сама их сущность ясно указывает, из какой именно книги они взяты); во-вторых, тщательно уточнять источник в тех случаях, когда ясно видно, что без соответствующего указания самый осведомленный читатель был бы не в состоянии его найти. Я не скрываю от самого себя неудобства этого метода: он неизбежно предполагает некоторую долю произвола; он подвергает меня опасности оказаться неблагодарным по отношению к тем историкам, чьи работы я использую гораздо чаще, чем ссылаюсь на них. Но что поделаешь! Необходимо было что-то выбрать.
Следующая ниже «справка» сознательно ограничивается главнейшими работами. В ней упомянуты только работы, относящиеся к Франции. Однако я должен с самого начала указать, хотя бы в двух словах, на ту пользу, которую я извлек из зарубежных работ, посвященных сельской истории других стран: без сравнений, которые они позволяют мне сделать, без черпаемых в них стимулов к исследованию настоящую книгу, по правде сказать, невозможно было бы написать. Указать все работы, которыми я пользовался, значило бы составить библиографию европейского масштаба. Но я должен по крайней мере упомянуть некоторых ведущих ученых: такие имена, как Георг Гансен, Г. Ф. Кнапп, Мейтцен, Градманн в Германии, Сибом, Мейтленд, Виноградов, Тоуни в Великобритании, Де Маре в Бельгии, должны произноситься историком сельского общества с самой горячей признательностью{4}.
I. Работы по истории сельского населения Франции в различные эпохи
Augé-Laribé M., Lévolution de la France agricole, 1912.
Augê-Laribé M., Lagriculture pendant la guerre, s. d. (Histoire économique de la guerre, série française).
Fustel de Coulanges, Lalleu et le domaine rural pendant lépoque mérovingienne, 1889.
Guéraird В., Polyptyque de labbé Irminon, t. I (Prolégomènes), 1844.
Кареев H. И., Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в., М., 1879.
Лучицкий И. В., Состояние земледельческих классов во Франции накануне революции, Киев, 1912.
Sée H., Les classes rurales et le régime domanial en France au moyen âge, 1901.
II. Основные локальные исследования
Allix A., LOisans, étude géographique, 1929.
Arbos Ph., La vie pastorale dans les Alpes françaises, 1922.
De Robillard de Beaurepaire Сh., Notes et documents concernant létat des campagnes de la Haute Normandie dans les derniers temps du moyen âge, 1865.
Вezard Y., La vie rurale dans le sud de région parisienne de 1450 à 1560, 1929. Blanchard R., La Flandre, 1906.
Вrutails A., Etude sur la condition des populations rurales du Roussillon au moyen âge, 1891.
De Сalоnne A., La vie agricole sous lAncien Régime dans le Nord de la France, 1920 («Mém. de la Soc. des Antiquaires de Picardie», 4-e série, t. IX).
Delisle L., Etudes sur la condition de la classe agricole et létat de lagriculture en Normandie pendant le moyen âge, 1851. Demangeon A., La plaine picarde, 1905.
Faucher D., Plaines et bassins du Rhône moyen. Etude géographique, 1927.
Febvre L., Philippe II et la Franche Comté, Etude dhistoire politique, religieuse et sociale, 1911.
Gibert, André, La porte de Bourgogne et dAlsace (Trouée de Belfort), 1930.
Hoffmann Сh., LAlsace au XVIII siècle, 2 vol., 1906.
Latouche R., La vie en Bas-Quercy du XIVe au XVIIIe siècle,. 1923.
Laude V., Les classes rurales en Artois à la fin de lAncien Régime, 1914.
Lefebvre G., Les paysans du Nord pendant la Révolution française, 1924.
Marion M., Etat des classes rurales dans la généralité de Bordeaux, 1902 (и «Revue des études historiques», тот же год; касается XVIII века).
Musset R., Le Bas-Maine, 1917.
Raveau P., LAgriculture et les classes paysannes dans le Haut-Poitou au XVI siècle, 1926.{5}
De Ribibe С h., La société provençale à la fin du moyen-âge daprès des documents inédits, 1897.
Roupnel G., Les populations de la ville et de la campagne dijonnaises au XVIIe siècle, 1922.
Sclafert Th., Le Haut-Dauphiné au moyen-âge, 1985.
Sée H., Etude sur les classes rurales en Bretagne au moyen-âge, 1896 (и «Annales de Bretagne», t. XI et Х1Г).
Sée H., Les classes rurales en Bretagne du XVI siècle à la Révolution, 1906 (et «Annales de Bretagne», t. XXP à XXV).
Siegfried A., Tableau politique de la France de lOuest sous la Troisième République, 1913.
Sion J., Les paysans de la Normandie orientale, 1909.
Théron de Montaugé, Lagriculture et les classes rurales dans le pays toulousain depuis le milieu du XVILIe siècle, 1869.
Verriest L., Le régime seigneurial dans le comté de Hainaut du XIe siècle à la Révolution, 1916–1917.
Глава I. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ
I. Истоки
Когда начался период, который мы называем средними веками, когда медленно начали складываться государство и национальная группа, которые можно назвать французскими, сельское хозяйство имело на нашей земле уже тысячелетнюю давность. Археологические данные недвусмысленно говорят об этом: прямыми предками бесчисленных деревень сегодняшней Франции были поселения земледельцев эпохи неолита; урожай с их полей собирался каменными орудиями задолго до того, как колос стал срезаться металлическим серпом{6}. Эта сельская предыстория сама по себе выходит за рамки рассматриваемой здесь темы, но она доминирует над последней. Если мы так часто затрудняемся объяснить разнообразие бытующих на наших землях основных аграрных режимов, то это потому, что их корни уходят слишком далеко в прошлое; устройство- же обществ, в которых они возникли, нам почти совсем неизвестно.
В римские времена Галлия была одной из крупных сельскохозяйственных областей империи. Но вокруг населенных пунктов и их возделанных полей еще встречались обширные пространства целины. Эти пустующие пространства увеличились к концу эпохи империи, когда в смятенной и обезлюдевшей Римской империи (Romania) повсюду появлялись пустые поля (agri deserti). Много раз в результате раскопок обнаруживали древние развалины на тех участках земли, которые в средние века были заново отвоеваны у кустарников и лесов, или в тех местах, которые и по сей день не заняты нивами или хотя бы домами.
Начались великие вторжения IV–V веков. Варвары не были очень многочисленны, но население самой римской Галлии, особенно в то время, было, несомненно, гораздо меньше современного. Кроме того, оно было распределено неравномерно, а завоеватели в свою очередь также расселились по стране неравномерно; поэтому их вклад, в целом слабый, должен был местами оказаться относительно значительным. В некоторых районах он был настолько велик, что язык побежденного народа был в конце концов заменен языком новых пришельцев. Такова, например, Фландрия, население которой — столь густое в средние века и в наши дни — в римскую эпоху было, по-видимому, довольно редким и где к тому же латинское влияние и латинская культура не имели той поддержки, которую в других местах им оказывали города, малочисленные и слабые во Фландрии. То же можно сказать (но в гораздо меньшей степени) и о Северной Франции, диалекты которой, оставшиеся в основе своей романскими, свидетельствуют своей фонетикой и словарным составом о несомненном германском влиянии; это же относится и к некоторым институтам. Мы очень плохо знаем условия, в которых проходило германское расселение. Одно является несомненным: из опасения подвергнуться самым худшим опасностям варвары не имели возможности рассеиваться. Исследование археологических данных, особенно изучение «варварских кладбищ», доказывает (это было и заранее очевидно), что варвары не совершили этой ошибки. Они жили мелкими группами, каждая из которых, по-видимому, организовывалась вокруг некого главы. Вероятно, эти мелкие коллективы, смешиваясь более или менее с колонами и рабами из покоренного населения, иногда давали начало новым населенным пунктам, выделявшимся из старых галло-римских поместий, которые аристократия должна была волей-неволей разделить со своими победителями{7}. Возможно, что участки, которые до тех пор не были обработаны, а также земли, заброшенные во время варварского вторжения, были в это время впервые или вторично освоены. Названия многих наших деревень возникли в это время. Некоторые из них показывают, что группа варваров иногда представляла из себя настоящий род (fara): таковы названия Fère или La Fère{8}, которым в лангобардской Италии соответствуют совершенно аналогичные формы. Другие названия, гораздо более частые, состоят из личного имени в родительном падеже (имени главы рода), за которым следует обычный термин — villa или villare. Например: Bosonis villa, откуда получился Бузонвилль (Bouzonville). Весьма характерен самый порядок слов (родительный падеж в начале названия, тогда как в римскую эпоху в этих сложных выражениях он стоял на втором месте) и в особенности чисто германская форма личного имени. Это вовсе не означает, что все люди, давшие имена этим поселениям, были германцами. При господстве королей-варваров в старинных местных семьях было модно подражать именам завоевателей. Кем был наш Бозон: сыном франков или готов? Не с большим основанием, чем все сегодняшние перси или вильямы Соединенных Штатов могут считаться сыновьями англо-саксов. Но ясно, что названия этих населенных пунктов моложе, чем варварские вторжения. А сами поселения? Не обязательно. Не вызывает сомнения тот факт, что древние населенные пункты получали иногда новые названия. С этими оговорками надо все же признать, что там, где подобные названия теснятся на карте густыми рядами, приток людей со стороны оказал на освоение земли отнюдь не ничтожное влияние. Так было в различных местностях, расположенных, как правило, в стороне от главных городов, очагов римской цивилизации, особенно в одной области, которая по причине своей засушливости слабо осваивалась доисторическими земледельцами, а ныне является одной из самых богатых хлебом областей Франции — в области Бос.
Все источники франкской эпохи говорят о распашках нови. Григорий Турский сообщает об одном крупном магнате, герцоге Хродине: «Он основал villae (сельские поместья), насадил виноградники, построил дома, создал пашни». Карл Великий предписывал своим управляющим расчищать в королевских лесах под пашню удобные места и ни в коем случае не допускать, чтобы такие поля вновь становились добычей леса. При чтении любого из завещаний богатых собственников (среди других источников эти завещания являются самыми ценными документами по истории того времени) нельзя не найти там упоминаний о недавно возведенных хозяйственных постройках, о землях, пущенных под пашню. Но не нужно заблуждаться: чаще всего речь идет не о настоящем освоении целинной земли, а о повторных распашках после временного местного обезлюдения, столь частого в те смутные времена. Разве Карл Великий и Людовик Благочестивый не приняли, например в Септимании (нынешний Нижний Лангедок), испанских беженцев, которые создали новые земледельческие центры в чащах и лесах? Таков некий Жан, разместивший своих колонов и рабов в Корбьере (Corbières), «в недрах огромной пустыни», сначала по соседству с Источником в камышах (Fontaine aux Joncs), затем около Ключей (Sources) и Хижин угольщиков (Huttes de Charbonniers){9}. Ибо эта отнятая у сарацинов пограничная область была дочиста разорена долгими войнами. В тех же случаях, когда действительно распахивалась новь, эта победа человека над природой, несомненно, лишь с большим трудом могла компенсировать затраты — настолько они были многочисленны и тяжелы. С начала IX века упоминания о незанятых держаниях (mansi absi) в сеньориальных описях возрастают самым тревожным образом: более шестой части всех участков (colonges) Лионской церкви, согласно краткому перечню, составленному около 816 года, находилось в таком состоянии{10}. Борьба с непрерывно возрождавшимися пустошами шла также без передышки, что само по себе является прекрасным доказательством жизнеспособности общества; но трудно поверить, что результат в целом был удачным.
Итак, в конечном счете борьба с природой закончилась провалом. После падения Каролингской империи французские сельские местности предстают перед нами сильно обезлюдевшими, всюду пестреют незанятые земли. Многие ранее обрабатывавшиеся земли перестали быть таковыми. Источники эпохи расчисток (около 1050 пода эта эпоха пришла на смену периоду ограниченных распашек, описываемому нами в настоящий момент) единодушно свидетельствуют о том, что когда принялись за расширение пашни, то прежде всего понадобилось отвоевать потерянную землю. «Мы приобрели (в 1102 году) деревню Мэзон (Maisons) в области Бос, которая поистине была пустыней… Мы взяли ее необработанную, чтобы расчистить под пашню». Этот отрывок, который я случайно нашел в хронике монастыря Мориньи, — типичен для массы аналогичных свидетельств. Совсем в другом районе (в Альбижуа) и уже в более позднее время (в 1195 году) приор Госпиталя, облагая цензом деревню Лакапель-Сегалар (Lacapelle-Ségalar), точно так же заявил: «Когда был сделан этот дар, селение Лакапель было пустынно; здесь не было ни мужчин, ни женщин, оно было давно покинуто»{11}. Представим себе наглядно эту картину: вокруг населенных мест (горсточки домов) — поля незначительной протяженности, между этими оазисами — обширные пространства, никогда не знавшие плуга. Добавьте к этому (мы в этом вскоре сможем убедиться), что эти поля из-за способов обработки вынуждены были в течение каждых двух-трех лет оставаться под паром по меньшей мере на год, а часто и на много лет подряд. Общество X–XI веков базировалось на крайне слабом освоении земли. Это было общество разбросанных ячеек, в котором группы людей, маленькие сами по себе, жили, кроме того, далеко друг от друга. Это основная черта, определяющая многие особенности, присущие цивилизации того времени. Однако непрерывность развития не была нарушена. Правда, то тут, то там деревни исчезали; так было, например, с виллой Пэссон (Paisson) в Тоннеруа[6], поля которой были позднее распаханы жителями соседнего поселения, но сама деревня таи и не была никогда восстановлена{12}. Но большая часть деревень продолжала существовать с более или менее уменьшенными полями. Местами традиции обработки земли на время исчезали: римляне, например, считали удобрение мергелем настоящей специальностью пиктонов; вновь же оно появится в Пуату лишь в XVI веке. Однако в основном старые приемы передавались из поколения в поколение.
II. Эпоха крупных распашек целины
Около 1050 года (в некоторых районах с особо благоприятными условиями, как например в Нормандии или Фландрии, возможно несколько раньше, в других — несколько позже) началась-новая эра, которая закончилась только к концу XIII века, — эра крупных распашек целины, давшая, по всей видимости, наибольшее приращение обработанной площади, когда-либо имевшее место в нашей стране с доисторических времен.
В этом грандиозном усилии борьба с лесом дала наиболее быстро ощутимые результаты.
До тех пор в течение долгого времени пашни не проникали в леса. Земледельцы эпохи неолита (которым, вероятно, благоприятствовал более сухой, чем в наши дни, климат) устраивали свои деревни преимущественно в местах, заросших кустарником или травой, в степях, в ландах{13}, расчистка лесов представляла для их несовершенных орудий слишком трудную задачу. С тех пор, несомненно, была нарушена целость многих густолиственных массивов — и при римлянах, и во франкскую эпоху. Например, в начале IX века «за счет густого леса» (de densitate silvarum) сеньор Танкред освоил землю для совсем новой деревни Ла Нокль (La Node), между Луарой и Аленой{14}. Кроме того, в раннее средневековье лес древней Франции в целом, даже когда в нем не было просек с пашнями, все же не был совсем пустынным и использовался людьми{15}.
Целые толпы лесовиков, часто возбуждавших подозрения у оседлых людей, бродили по лесам или строили там свои хижины. Это были охотники, углежоги, кузнецы, искатели дикого меда и воска (bigres — в древних текстах), добыватели золы, которую использовали для выделки стекла или мыла, обдиралыцики коры, служившей для дубления кож и плетения веревок. Еще в конце XII века дама Валуа держала в своих лесах Вири (Viry) четырех слуг: один из них корчевал деревья (мы имеем уже период расчисток), другой расставлял ловушки, третий был стрелком, четвертый — углежогом. Охота в тени лесов была не только спортом: охотники поставляли кожи городским и помещичьим кожевникам, а также переплетным мастерским монастырских библиотек; охотники поставляли продовольствие для всех столов, даже для войска. В 1269 году Альфонс, граф Пуатье, готовясь к крестовому походу, приказал убить в своих обширных овернских лесах большое количество кабанов, чтобы взять с собой за море солонину. В те времена куда больше, чем теперь, сохранились древние обычаи сбора различных плодов, и лес представлял для жителей соседних с ним мест такое изобилие ресурсов, о каком мы даже не имеем представления. Жители соседних, деревень, разумеется, ходили в лес за деревом, гораздо более необходимым для жизни, чем в наш век каменного угля, нефти и металла. Дерево шло на топливо, факелы, строительный материал, на дранку для крыш, на частокол для укрепленных замков, на изготовление деревянных башмаков, рукояток плугов, различных орудий, на фашины для укрепления дорог. Кроме того, людям нужны были в лесу и все другие виды растительных продуктов: мох и сухие листья — для подстилки, плоды букового дерева, — чтобы выжимать из них масло, дикий хмель, терпкие плоды диких деревьев (яблоки, груши, боярышник, терновые ягоды) и сами эти деревья, груши или яблони, которые вырывали с корнем, — чтобы прививать их потом в фруктовых садах. Но главная экономическая роль леса была в другом — в том, в чем в наше время мы уже отвыкли ее видеть. Свежая листва, молодые побеги, трава подлеска, желуди и плоды буковых деревьев леса были прежде всего кормом для скота. Количество свиней, которое могли прокормить различные части леса, было в течение долгих веков, при отсутствии всякого правильного межевания, наиболее обычным мерилом размеров леса. Жители близких к лесу деревень пасли там свой скот, крупные сеньоры постоянно держали там большие стада и настоящие табуны лошадей. Эти стада животных жили почти в диком состоянии. Еще в XVI веке — так долго придерживались этой практики — сир де Губервилль в Нормандии время от времени отправлялся в свои леса на поиски своих животных и не всегда находил их. Один раз он встретил только быка, который «хромал» и которого «не видели уже два месяца»; в другой раз его слугам удалось изловить «норовистых кобылиц… которых безуспешно пытались поймать в течение двух лет»{16}. Это довольно интенсивное и всегда беспорядочное использование леса постепенно уменьшало густоту высоких лесных массивов. Подумать только, сколько прекрасных дубов было погублено в результате сдирания коры! В XI–XII веках лес, загроможденный мертвыми стволами и нередко заросший кустарником (что делало его труднопроходимым), был, тем не менее, местами довольно редким. Когда аббат Сугерий захотел выбрать в лесу Ивелин (Iveline) двенадцать хороших балок для своей базилики, его лесничие сомневались в успехе своих поисков, да и сам он склонен был приписать чуду счастливую находку, которой в конце концов увенчалось его предприятие{17}.
Так зубы животных и руки лесовиков, уничтожая и портя деревья, издавна подготовили дело расчисток. Однако в раннее средневековье большие лесные массивы находились еще настолько в стороне от жизни общества, что обычно ускользали из-под влияния приходской организации[7], которое распространялось на всю населенную зону.
В XII и XIII веках были сильно озабочены тем, чтобы включить в территорию приходов эти лесные массивы. Повсюду в лесах появлялись участки обработанной земли, которые нужно было обложить десятиной, — ведь там поселялись земледельцы. На равнинах, на склонах холмов, на наносных землях леса атаковали топором, садовым ножом или огнем. Правда, очень редко леса исчезали целиком. Но многие были сведены до небольших участков. Утрачивая свою индивидуальность, зачастую они мало-помалу теряли и свое имя. Когда-то каждое из этих темных пятен на земледельческом ландшафте имело, подобно рекам и главным неровностям рельефа, свое место в географическом словаре, элементы которого во многих случаях восходили к более ранним временам, чем те языки, о которых история сохранила память. Раньше говорили о больших лесах: Бьер (Bière), Ивелин (Iveline), Лэ (Laye), Крюи (Cruye), Лож (Loge). С конца средних веков остатки этих древних массивов стали называть не иначе, как леса Фонтэнбло, Рамбулье, Сен-Жермен, Марли, Орлеана; названия, заимствованные от имени города или охотничьего павильона (ибо лес в этот период особенно привлекал внимание в качестве места королевской или сеньориальной охоты), заменили старые слова, следы забытых языков. Примерно в то же время, когда уничтожался лесной покров равнин, крестьяне долин Дофинз поднялись на штурм альпийских лесов, в глубине которых уже существовали поселения монахов-отшельников.
Было бы, однако, ошибкой думать, что люди, осваивавшие целину, были заняты исключительно корчеванием пней. Они трудились и на болотах, особенно в приморской Фландрии и Нижнем Пуату, а также на многочисленных необработанных пространствах, занятых до тех пор кустарником или дикими травами. При помощи плуга и мотыги крестьяне самоотверженно боролись с густым кустарником, с терновником, с зарослями папоротника и всеми «этими сорными растениями, вцепившимися в недра земли», как рассказывает нам уже цитировавшаяся хроника Мориньи. По-видимому, зачастую расчистка начиналась именно на таких открытых пространствах[8]; война против леса началась лишь во вторую очередь.
Эти завоеватели земли часто создавали новые деревни в самом сердце расчисток. Это были или стихийно возникающие населенные пункты [вроде деревушки Фруадвиль (Froideville) на берегу ручья Орж (Orge), которая, как показывает нам любопытное обследование 1224 года, создавалась дом за домом в течение последних пятидесяти лет{18}], или же, чаще, поселения, возникшие сразу, по инициативе какого-нибудь предприимчивого сеньора. При отсутствии других документов иногда достаточно исследования карты, чтобы определить, что тот или иной населенный пункт возник именно в эти времена: дома группируются по определенному рисунку, более или менее напоминающему шашечное расположение (например, в основанном в 1203 году Гоше де Шатийоном поселении Вильнев-ле-Конт (Villeneuve-le-Comte) в Бри или в бастидах[9] Лангедока). Порой, особенно часто в лесу, дома вместе с огороженными участками вытягивались вдоль специально для того проложенной дороги, а поля располагались наподобие скелета рыбы, по обе стороны от этой центральной оси. Такова деревушка Буа-Сен-Дени (Bois-Saint-Denis) в Тьераше (Thiérache)[10] (рис. 1) или необычные деревни в большом лесу Альермон (Aliermont)[11] в Нормандии, построенные руанскими архиепископами на двух разветвлениях одной бесконечной дороги{19}. Но иногда эти признаки отсутствуют: дома теснятся, как придется, и деревни, по расположению парцелл ничем не отличаются от соседних. Тому, кто не знает, что местечко Вокрессон (Vaucresson), в долине к юту от Сены, было основано Сугерием, расположение парцелл ничего не сказало бы. Часто само название раскрывает суть дела. Не всегда, разумеется. Нередко новые поселения получали свое название от необработанного места, на котором они возникали. Например, Торфу (Torfou) — это было название буковой рощи, в которую Людовик VI направил людей, распахивавших целину. Но обычно выбирали более выразительные названия. Они недвусмысленно напоминали то о самом факте распашки (Essarts-le-Roi), то о недавнем характере поселения (Villeneuve, Neuville),[12] причем часто с определением, указывавшим или на звание сеньора (Villeneuve-lArche-vêque) или же на какую-либо яркую черту пейзажа, иногда идиллическую (Neuville-Chant-dOiseî)[13]. Иногда в названии делался акцент на выгоды, предложенные держателям (Francheville, Sauvetat)[14]. В других случаях основатель поселения крестил свое детище своим собственным именем (Бомарше, Либурн). Или же, как поступали позже многие заморские колонисты, для новой деревни подыскивался какой-нибудь знаменитый крестный отец в древних странах: Дамиата (Дамиетта — название города и битвы), Павия, Флеранс (Флоренция). Подобно тому как в Соединенных Штатах имеется не менее десяти Парижей, а в долине Миссисипи Мемфис граничит с Коринфом, в Беарне в начале XIII века возникла деревня Брюгге рядом с деревней Гент. Примерно в то же время в сырых лесах Пюизэ (Puisaye)[15], между Луарой и Ионной, один сеньор, возможно участвовавший в крестовом походе, построил рядом друг с другом Иерусалим, Иерихон, Назарет и Вифагию{20}.
Некоторые из этих вновь основанных поселений сделались крупными бургами, даже городами. Многие, напротив, остались довольно мелкими деревнями, особенно в старых лесах, — не по причине неспособности к развитию, а потому, что этого требовала сама форма поселения. Передвигаться по лесу было трудно, даже опасно. Часто люди, распахивавшие целину, находили выгодным расселяться небольшими группами, каждая из которых осваивала среди леса участок незначительной протяженности. В безлесные равнины Шампани и Лотарингии с очень плотным населением еще и сегодня мозаикой мелких лесных деревень вклинивается Аргонна[16]. В лесах к югу от Парижа один приход, состоявший из множества мелких поселений, имел одновременно два названия: Magny-les-Essarts и Magny-les-Hameaux[17] (характерное сочетание). По-видимому, к концу римской эпохи, в раннее средневековье, жители значительной части Франции стремились селиться несравненно теснее, чем раньше; среди исчезнувших тогда населенных пунктов многие были мелкими деревушками (viculi), и мы знаем, что в ряде случаев они были покинуты по соображениям безопасности{21}. Большие распашки целины снова привели к рассеянию земледельцев.
Подчеркнем, однако, что, говоря о деревушке, мы имеем в виду групповое поселение, как бы ни была ограниченна эта группа. Совсем другое дело — изолированный дом; он предполагает другой социальный режим, другие привычки, возможность и склонность избежать жизни коллективом, локоть к локтю. Римской Галлии, возможно, был известен изолированный дом; к тому же следует заметить, что разбросанные среди полей виллы (villae) (следы которых обнаружила археология) объединяли, несомненно, довольно значительное число работников, вероятно размещенных в хижинах, расположенных вокруг господского дома. Хижины эти были легкими строениями, следы которых могли очень легко исчезнуть{22}. Во всяком случае, после варварских вторжений эти виллы были разрушены или покинуты. Даже в тех районах, где (как мы увидим дальше), по-видимому, никогда не было больших деревень, крестьяне в раннее средневековье жили мелкими коллективами и их лачуги размещались одна подле другой. Эпохе расчисток выпало на долю увидеть, кроме новых деревень и Деревушек, еще и стоявшие в стороне фермы — granges (слово grange, имевшее тогда более широкий смысл, чем теперь, означало совокупность хозяйственных построек). Многие из них были творением монашеских орденов — не древних бенедиктинских учреждений, строителей деревень, а новых религиозных организаций, порожденных большим мистическим движением, которое наложило свою печать на конец XI века. Монахи этого типа были великими распахивателями нови, ибо они бежали от мира. Часто отшельники, не принадлежавшие к регулярному монастырскому коллективу, начинали возделывать кой-какие участки в лесах, где они укрывались; обычно эти независимые отшельники кончали тем, что вступали в ряды официально признанных орденов. Но сами эти ордена были проникнуты отшельническим духом. Устав самого знаменитого из них, Цистерцианского ордена, может быть назван типичным: никаких сеньориальных рент — «белый монах»[18] должен жить трудом своих рук — и, по крайней мере в начале, сурово соблюдаемое уединение. Так же как само аббатство, строившееся всегда вдали от населенных мест (чаще всего в лесистой ложбине с ручьем, который благодаря надлежащей плотине был источником съестных припасов, необходимых при соблюдении поста), хозяйственные постройки, располагающиеся вокруг аббатства, избегали соседства с крестьянскими жилищами. Они воздвигались в «пустынях», где монахи вместе со своими братьями (конверсами), а вскоре также и с помощью наемных слуг обрабатывали несколько полей. Вокруг тянулись пастбища, ибо орден имел большие стада, главным образом стада овец. Скотоводство в большей степени, чем земледелие, соответствовало обширным хозяйствам, дробить которые на отдельные держания запрещалось монастырскими уставами, а также ограниченному количеству рабочих рук. Но никогда или почти никогда ни хозяйственные постройки, ни сам монастырь не становились центром «новой деревни»: смешение монахов со светскими людьми нарушило бы самую основу ордена цистерцианцев. Так религиозная идея определила тип поселения. В других местах также создавались изолированные хозяйства, возможно как подражание монастырским учреждениям. По-видимому, они никогда не были делом простых людей. По большей части они были созданы богатыми предпринимателями расчисток, менее связанными общинными порядками, чем бедные люди: таков декан аббатства св. Мартина, воздвигнувший в 1234 году в лесу Верну (Vernou), в Бри, прекрасную ферму, снабженную прессом, тщательно обнесенную прочной стеной и защищенную башней (картулярий Собора Парижской богоматери сохранил нам ее красочное описание{23}). Еще сейчас нередко можно встретить около наших деревень, на некотором расстоянии от них, большие фермы, отдельные архитектурные детали которых — ненормально толстая стена, башенка и вырез окна — обнаруживают их средневековое происхождение.
Но думать, что дело расчистки ограничивалось окрестностями новых поселений, значило бы сильно преуменьшить его масштабы. Давно обрабатываемые поля вокруг старых населенных пунктов увеличивались также путем своего рода регулярного отпочкования: к распаханным предками полям присоединялись другие, отвоеванные у пустошей и рощ. Добрейший кюре из Ла Круа в Бри (La Croix-en-Brie), написавший около 1220 года девятую бранш «Романа о Лисе»[19], хорошо знал, что в то время всякий зажиточный виллан имел свою «новую заимку». Но эта медленная и терпеливая работа оставила в источниках менее яркие следы, чем основание новых поселений. Однако ее можно там обнаружить, особенно в свете тех конфликтов, которые были вызваны обложением десятиной этих новых пашен. Несомненно, значительная часть вновь обработанных земель, быть может наиболее значительная, была освоена в районе старых деревень силами, их жителей[20].
Когда появятся детальные исследования, которых пока еще нет, мы сможем, без сомнения, констатировать большие местные различия в этом завоевании лесов плугом: различия в интенсивности и, главное, во времени. Расчистки сопровождались там и тут переселениями: из бедных краев — в богатые, из областей с истощенными землями — туда, где еще имелись в избытке хорошие земли. В XII–XIII веках лимузенцы и бретонцы переселялись в лесистый район на левом берегу нижнего течения Крёза[21], колонисты из Сентонжа направлялись в междуречье Гаронны и Дордони{24}. В настоящее время мы можем лишь подметить некоторые крупные контрасты. Наиболее отчетливо всей остальной Франции противостоит юго-запад. Здесь, по-видимому, расчистки начались позже и продолжались значительно дольше, чем, например, в областях Сены и Луары. Почему? По всей видимости, разгадку следует искать по ту сторону Пиренеев. Чтобы заселить огромные пустые пространства Иберийского полуострова, особенно на границах прежних мусульманских эмиратов, испанские государи должны были прибегнуть к помощи иноземцев. Многие французы, привлеченные выгодами, которые предлагались им в хартиях poblaciones[22], переправились через горные перевалы и ущелья. Большинство их, несомненно, ушло из непосредственно пограничных областей, главным образом из Гаскони. Этот отлив рабочей силы в Испанию, естественно, замедлил развитие внутренней колонизации в тех областях, откуда шло переселение.
Итак, — предыдущего наблюдения достаточно, чтобы напомнить об этом, — мы встречаемся здесь с явлением европейского масштаба. Стремительный натиск германских и нидерландских колонистов на славянскую равнину, освоение пустынь Северной Испании, рост городов по всей Европе, распашка во Франции, как и в большинстве соседних стран, обширных пространств, до тех пор не приносивших урожая, — все это аспекты одного и того же человеческого порыва. Характерная черта французского колонизационного движения по сравнению, например, с германским состояла, несомненно, в том, что во Франции (за исключением Гаскони) колонизация была почти исключительно внутренней, если не считать слабую эмиграцию во время крестовых походов и отдельные случаи ухода на земли, завоеванные нормандцами, или в города Восточной Европы, особенно Венгрии. Процесс этот проходил во Франции особенно интенсивно. В целом это ясно. Но в чем причина?
Конечно, нетрудно угадать причины, побуждавшие господствующие силы общества покровительствовать заселению страны. Сеньоры в целом были заинтересованы в этом потому, что они получали с новых или расширенных держаний новые повинности. Отсюда предоставление колонистам всяких льгот и привилегий в качестве приманки и иногда даже развертывание самой настоящей пропаганды (в Лангедоке герольды разъезжали по стране, объявляя во всеуслышание об основании бастид{25}). Отсюда же своего рода опьянение мегаломанией, которое овладело некоторыми основателями поселений (таков аббат Грансельвского монастыря, предусмотревший в одном месте постройку тысячи домов, а в другом — трех тысяч{26}).
Помимо этих мотивов, общих для всего сеньориального класса, у церковных сеньоров были и свои интересы. После грегорианской реформы значительную часть богатств многих из них составляла десятина; пропорциональная урожаю, она давала тем больше дохода, чем обширнее были поля. Поместья церковных сеньоров были образованы благодаря дарениям. Но не все дарители были настолько великодушны, чтобы охотно уступать церкви обработанные земли. Зачастую легче было получить невозделанные участки, которые затем аббатство или капитул расчищали под пашню. Расчистка обычно требовала капиталовложений, вероятно авансирования земледельцев и, уж во всяком случае, межевания земли, а если речь шла о создании сеньориального домена, то и расходов на его устройство. Крупные монастыри обычно располагали довольно значительными средствами, использование которых на эти цели являлось совершенно естественным. Если же само учреждение не могло или не хотело этого делать, оно могло без особого труда найти необходимые средства у одного из своих членов или у расположенного к нему духовного лица, которые за приличное вознаграждение брали на себя выполнение этой задачи. Предприниматели расчисток, реже встречавшиеся во Франции, чем в Германии, тем не менее не были здесь неведомым социальным типом. Многие из них принадлежали к духовенству. В первой половине XIII века братья Обри и Готье Корню, достигшие впоследствии высших французских духовных должностей, предприняли расчистку обширных земель в лесах Бри с тем, чтобы разделить затем эту землю на мелкие участки.
Состояние документов не позволяет точно определить долю участия в великом деле распашки целины прелатов и монахов, с одной стороны, и светских баронов — с другой. Но можно не сомневаться в том, что духовенству принадлежала первостепенная роль; церковнослужители были более последовательны и обладали более широкими взглядами.
Наконец, у королей, у властителей феодальных княжеств и крупных аббатов имелись и другие соображения, кроме уже рассмотренных, которые также оказывали свое действие. В частности, забота о защите на случай войны: бастиды юга (новые укрепленные города) выполняли на этой спорной территории[23] роль опорных пунктов на англо-французской границе; забота об общественной безопасности: при высокой плотности населения грабителям куда труднее. Многие хартии определенно называют в качестве мотивов основания поселений желание обрушить топор на лес, до тех пор бывший «логовом воров», или желание обеспечить «пилигримам и путешественникам» возможность мирно путешествовать по стране, долгое время опустошавшейся злоумышленниками{27}. В XII веке на всем протяжении дороги от Парижа до Орлеана, являвшейся осью королевского домена (рис. II), Кдпетинга основали много новых населенных пунктов (по тем же соображениям, что и испанские короли, которые осуществили это в XVIII веке на пользовавшейся дурной славой дороге между Мадридом и Севильей{28})[24].
Что же дают нам эти наблюдения? Они проливают свет на развитие явления, но не на его отправной момент, ибо в конечном счете для заселения новых деревень нужны были прежде всего люди, а для распахивания целины (при отсутствии значительного технического прогресса, неизвестного, конечно, в XI–XII веках) — новые рабочие руки. Основой этого колоссального скачка в деле освоения земли можно считать только внезапное, резкое увеличение населения. По правде говоря, этим проблема всего лишь отодвигается и при современном состоянии человеческих знаний становится почти неразрешимой. Кто смог до сих пор по-настоящему объяснить хоть одно демографическое колебание? Итак, удовольствуемся констатацией факта. В истории европейской цивилизации вообще и французской в частности нет явления с более значительными последствиями. Между людьми, отныне более приблизившимися друг к другу, общение — материальное и духовное — сделалось более частым и легким, чем оно было раньше, на протяжении всего нашего прошлого. Какой источник обновления для всех видов деятельности! Бедье[25] где-то сказал об этом веке в истории Франции: тогда появились «первый витраж, первый готический свод, первая героическая поэма». Прибавим к этому: возрождение торговли во всей Европе, первые независимые города, а во Франции, кроме того (в ее политическом строе), восстановление монархической власти, сопровождавшееся (еще один симптом упадка сеньориальной анархии) внутренней консолидацией крупных феодальных княжеств. Этот расцвет стал возможен благодаря росту населения. Его подготовители — заступ и нож человека, поднимавшего целину.
III. От крупных средневековых расчисток до агротехнического переворота
Около 1300 года (в одних местах раньше, в других — позже) освоение новых земель замедляется и в конце концов прекращается совершенно, хотя еще оставалось много залежных земель и лесов. Некоторые из них, говоря по правде, были совсем непригодны для земледелий или, во всяком случае, обещали слишком низкий доход, не оправдывавший трудов и расходов, затраченных на их обработку. Но не были освоены и другие земли, которые, по-видимому, допускали выгодное их использование даже при примитивной технике того времени. Почему? Из-за недостатка рабочих рук? Может быть, и так. Людские ресурсы не были неисчерпаемыми, и нам известны попытки основать в разных местах деревни, которые потерпели неудачу из-за недостатка людей. Но вероятнее всего предположение, что распашка целины могла продолжаться лишь до тех пор, пока это позволяли земледельческие возможности, ибо леса и пустоши нельзя бесконечно превращать в пашни. Куда посылали бы пастись скот? Откуда бы брали все продукты, которые человек черпал из леса? В сохранений лесов были особенно заинтересованы высокопоставленные лица: для них лес был источником охотничьих развлечений, кроме того, они рассчитывали получать теперь от лесов гораздо более значительную прибыль, чем раньше (росли города — потребители строительного материала и дров, в деревнях строилось много новых домов, топилось много новых очагов, часто даже под сенью деревьев возникали новые кузницы). С другой стороны, в результате расчисток значительно сократились везде лесные пространства. Уменьшение количества продукта и увеличение спроса на него — классические факторы вздорожания. Поэтому мы не должны удивляться тому, что лес стал отныне считаться очень ценным товаром, а его владельцы стали гораздо больше стремиться к бережному сохранению старого строевого леса и молодой поросли, чем к замене их полями.
По правде говоря, распахивавшие целину люди с самого начала должны были бороться не только с природой. Деревенские жители, привыкшие пасти на целине скот или пользоваться лесными богатствами, защищали свои права. Часто, особенно когда какой-нибудь сеньор (интересы которого совпадали с их интересами или который располагал любого рода лесными привилегиями) поддерживал их сопротивление, приходилось судиться с ними или вознаграждать их за убытки; архивы полны актами этих сделок. Не следует думать, что борьба всегда ограничивалась мирным судебным разбирательством или же, с помощью насилия или без него, всегда заканчивалась в пользу пашни. Следующий случай отнюдь не единичен: около 1200 года некий Фройе в зарослях на правом берегу Сены основал новое поселение, но против этого восстали жители деревень Море (Moret) и Монтеро (Montereau), которые пользовались этим лесом, и оно по приказу парижского капитула было разрушено и так никогда и не отстроилось вновь. В это же время в другом конце страны, в Провансе, жители деревни Си-Фур (Six-Fours) были сильно озабочены тем, чтобы положить конец распашке их пастбищ{29}. Однако вначале необработанные пространства были столь многочисленны, а заинтересованность в расширении пашен столь велика, что плуг в общем брал верх. Затем, когда равновесие было почти достигнуто, широкое движение по освоению земли, уже успевшее изменить аграрный облик Франции, прекратилось.
В течение следующих столетий стоило большого труда сохранить достигнутое. Вторая половина XIV и весь XV век — мы еще вернемся к этому — были для Франции, как и почти для всей Европы (но для Франции в еще большей степени, чем для другой страны), периодом обезлюдения. После того как окончилась Столетняя война и уменьшилась интенсивность чумных эпидемий, перед сеньорами и крестьянами встала задача не создании новых деревень и увеличения земельных владений, а восстановления старых поселений и расчистки их полей, заросших кустарником. Они достигали успеха медленно и иногда не в полном объеме[26]. На всем Востоке — в Бургундии, Лотарингии и, без сомнения, в других районах, пока еще не изученных, — войны XVII века вызвали, в свою очередь, огромные опустошения. Деревни долгое время оставались покинутыми, границы между парцеллами порой исчезали; чтобы навести некоторый порядок в этом хаосе, после окончания бедствий зачастую приходилось производить в опустошенной зоне самое настоящее перераспределение земли, как в наши дни после мировой войны.
Тем не менее, несмотря на эти смуты, начиная с XVI века распашка целины местами возобновляется (так упорно рвение человека к освоению земли!), но в размерах, несравнимых со средневековыми распашками, кое-где были частично освоены болота или распаханы старые общинные пастбища; в некоторых районах, например в Северной Юре, где после средневековых расчисток оставалось еще много девственной земли, было основано несколько новых поселений[27]. Инициатива очень редко исходила от крестьянских масс, боявшихся распашек, которые наносили ущерб их общинным правам. Эти предприятия были главным образом делом отдельных сеньоров, отдельных крупных собственников полубуржуазного типа, которых все социальные перемены толкали к более полному использованию земли. Осушение болот, предпринятое по всей стране в период правления Генриха IV и Людовика XIII обществом специалистов й предпринимателей (в это дело вложили свои капиталы некоторые крупные торговые дома, главным образом голландские), было одним из самых первых случаев применения капиталистических методов в сельском хозяйстве{30}. В XVIII веке это движение приняло более мощный размах. Были созданы специальные финансовые компании, чтобы поддерживать его и даже спекулировать на нем; королевское правительство покровительствовало ему. Но даже в это время масштабы освоения новых земель далеко отставали от средневековых: кое-где исчезли ланды и пески (особенно в Бретани и Гиени), еще более увеличились крупные хозяйства и возникли некоторые новые, но совсем не было создано новых деревень. И в целом выигрыш был весьма скромным. Сущность агротехнического переворота XVIII–XIX веков состояла в другом: не расширять больше пашен за счет целины (технический прогресс, интенсифицируя обработку хороших земель, местами приводил даже к забрасыванию уже распаханных земель худшего качества), но, как мы увидим, путем ликвидации земель под паром уничтожить среди уже распаханных земель те участки, которые периодически не использовались.
Глава II. АГРАРНАЯ ЖИЗНЬ{31}
I. Основные черты старого земледелия
Вплоть до начала XIX века в сельской жизни старой Франции господствует одно слово, древнее слово нашей страны, наверняка чуждое латыни, вероятнее всего галльское, как и другие термины [«плуг» (charrue), «дорога» (chemin), «паровое поле» (somart или sombre), «ланды» (lande), «арпан» (arpent)], благодаря которым наш сельскохозяйственный словарь красноречиво свидетельствует о древности наших полей, — это слово «хлеб» (blé){32}. Под этим словом не следует понимать только пшеницу, как это принято в современном литературном языке. В средние века и в более позднее время в деревне под этим словом понимали все хлебные злаки вообще — пшеницу, рожь (злоупотребление ею вызывало «антонов огонь»), метейль (смесь пшеницы и ржи), полбу, овес и даже ячмень[28], безотносительно к тому, давали ли они хороший белый хлеб — удовольствие богачей — или тяжелый черный хлеб из смешанной муки, который ели бедняки. Хлеб в этом смысле занимал большую часть обработанной земли. Не было ни одной деревни, ни одного хозяйства, которые не отводили бы под хлеб лучшие свои поля. Хлеб возделывали даже в тех округах, где природа, казалось бы, препятствовала этому: на суровых альпийских склонах, на беспрерывно орошаемых дождем землях запада и центра, которые плохо впитывали влагу и которые сегодня кажутся нам предназначенными исключительно для пастбищ. «Сельское хозяйство большинства французских провинций, — говорили еще в 1787 году комиссары провинциальной ассамблеи Орлеанэ, — может быть охарактеризовано как огромная фабрика хлеба». Условия жизни долгое время препятствовали всякой рациональной специализации земель. Хлеб был для всех главной пищей, а для неимущих — основой ежедневного питания. Как обеспечить себя драгоценной мукой? Купить? Но это решение предполагает существование экономической системы, основанной на обмене. Обмен же, хотя он, вероятно, никогда не исчезал полностью, в течение долгих веков был редким и затрудненным. Наиболее надежным для сеньора все еще оставалось заставить засеять на своем домене поля, родящие хлеб, а для крестьянина — самому засеять свое держание. А если у сеньора или богатого крестьянина оставались кой-какие излишки зерна, всегда можно было надеяться сбыть их в тех районах, где случился неурожай.
Правда, впоследствии, особенно с XVI века, общая организация общества снова стала благоприятной для обмена. Но для того чтобы в стране установилась экономика, основанная на обмене, для этого недостаточно общей обстановки, необходимо также, чтобы у масс возникла психология покупателя и продавца. Первыми к этому приспособились сеньоры и крупные купцы, купившие земли. Обладая более широким кругозором и будучи привычными к управлению делами, они владели также некоторыми капиталами и располагали определенным кредитом. Мелкий производитель, а иногда даже буржуа маленьких городов (они еще во время Революции пекли хлеб из муки, полученной от своих испольщиков) долго оставались верными иллюзиям замкнутого зернового хозяйства.
Это преобладание зерновых придавало сельскому пейзажу гораздо большее однообразие, чем в наши дни, — никаких районов монокультуры, подобно современным огромным виноградникам Нижнего Лангедока или пастбищам долины Ож (Auge)[29]. В лучшем случае, уже издавна — с XIII века во всяком случае — изредка появляются районы, почти полностью отведенные под виноградники. Это объясняется тем, что вино среди прочих продуктов считалось очень ценным товаром, удобным для перевозки и сбыта в тех областях, где оно в силу природных условий или совсем не производилось, или было очень плохого качества. К тому же только земли, расположенные поблизости от большого торгового пути, в особенности водного, могли осмелиться нарушить таким образом традиционные принципы. Не случайно, около 1290 года гавань Коллиур (Collioure) была единственным местом в Руссильоне, где колос был вытеснен виноградной лозой. А Салимбене несколько раньше прекрасно подметил причину, которая позволяла жителям изобилующей вином долины, где расположен Оссер (Auxerre), «не сеять и не жать»: здешняя река «течет в сторону Парижа», где хорошо сбывается вино. Но даже в отношении виноградников сельскохозяйственная специализация развивалась медленно. В Бургундии еще в XVII веке имелось всего лишь одиннадцать общин, где все были виноградарями. В течение долгого времени вино, Как и хлеб, упорно продолжали производить в таких районах, почвенные и особенно климатические условия которых, даже в сравнительно благоприятные для созревания винограда годы, позволяли надеяться лишь на получение плохого вина. В Нормандии и Фландрии от разведения винограда отказались лишь в XVI веке, в долине Соммы — еще позже. Связи между областями были еще очень слабые, а вино благодаря алкоголю и своим вкусовым качествам требовалось везде, а также для культовых целей. Без него не может быть ни мессы (так было до XIII века, когда чаша сделалась привилегией священника), ни причастия для верующих. Христианство, средиземноморская религия, принесло с собой на север виноградную лозу и гроздья, сделав их необходимым элементом своих таинств.
Зерновые культуры, преобладая почти повсюду, не занимали, однако, всех земель. Рядом с ними существовали и кое-какие дополнительные культуры. Одни из них, например некоторые кормовые растения, особенно вика, а иногда горох и бобы, чередовались с зерновыми на одних и тех же полях. Другие имели на земельных участках свое собственное место: овощи росли в огородах, фруктовые деревья — в садах, конопля — обычно в огороженных конопляниках, виноград выращивали в виноградниках (за исключением Прованса, где виноградные лозы часто возвышались посреди самой нивы). Получив различное распространение в зависимости от природных условий, эти добавочные культуры вносили некоторое разнообразие в облик различных районов. Именно среди них и произошли с течением времени наиболее четкие изменения. В XIII веке во многих областях, например в окрестностях Парижа, развитие суконной промышленности привело к увеличению посевов вайды, заменявшей в те времена индиго. Затем наступила очередь американских растений: маис завоевал некоторые влажные и теплые земли, фасоль заменила бобы. Наконец, в XVI веке гречиха, пришедшая из Малой Азии (быть может, через Испанию) и сначала известная лишь аптекарям, постепенно заменила рожь и метейль на самых скудных пашнях провинции Бресс, Центрального массива и особенно Бретани. Но крупная революция — появление искусственного травосеяния и клубневых растений — могла произойти лишь позднее, в конце XVIII века: для этого нужна была ломка всей старой аграрной экономики.
Последняя базировалась не на одной обработке земли. Во Франции, как и во всей Европе, она основывалась на сочетании пашни и пастбища. Это — главная чёрта, одна из тех, которые наиболее отличают нашу техническую цивилизацию от дальневосточной. Животные необходимы людям по самым различным причинам: они давали им мясо (источником мяса были также охота и птичьи дворы), молочные продукты, кожи, шерсть и были, наконец, источником двигательной силы. Хлеб для своего роста также нуждался в них: для плуга нужен был тягловый скот, для полей — удобрения. Как прокормить животных? Это важная проблема, одна из самых волнующих в жизни деревни. По берегам рек и ручьев в сырых низинах простирались естественные луга, там косили сено для зимних месяцев, после покоса туда пускали пастись скот. Но не везде имелись луга, и даже деревни, наиболее богатые в этом отношении, не могли довольствоваться только лугами. О недостатке пастбищ ясно свидетельствует их цена, почти всегда более высокая, чем на пашни; этим же объясняется и то рвение, которое проявляли богачи (сеньоры, буржуазные собственники), стремясь овладеть пастбищами. Редкие посевы кормовых растений, кое-где чередовавшиеся на пахотных полях с зерновыми культурами, также были недостаточны для прокорма скота. Фактически существовало лишь два способа, чередуя которые можно было бы прокормить стада: во-первых, предоставить им в качестве пастбищ (и тем самым отказаться от их распашки) некоторые участки леса или целины, где росли тысячи диких растений; во-вторых, в течение более или менее продолжительного времени, от снятия урожая «до посева, пасти скот на самих полях, где он будет питаться соломой и дикорастущими травами. Но оба эти способа в свою очередь выдвигали серьезные проблемы, по правде говоря, скорее юридического, нежели технического порядка: общинный устав, организация общинных сервитутов па полях. Если даже предположить, что эти трудности социального порядка были бы разрешены, все равно равновесие между скотоводством и зерновыми культурами, установленное прежним сельским хозяйством, оставалось весьма непрочным и колеблющимся. Удобрений было мало, их не хватало, и поэтому они весьма ценились, так что некоторые сеньоры считали за лучшее требовать в качестве повинностей горшки с навозом {33},[30] (к великому негодованию современных ученых, усматривающих оскорбительную прихоть феодала там, где имела место всего лишь разумная забота агронома). И этот недостаток удобрений был одной из главных причин не только того, что земледельцы вынуждены были предпочитать малоурожайные, но зато выносливые культуры (рожь, например, предпочитали пшенице), но также и общей низкой урожайности полей.
Низкая урожайность объясняется также и другими причинами. В течение долгого времени обработка земли была недостаточной. Увеличение числа вспашек на предназначенном для посева поле от двух до трех, а иногда и до четырех было одним из важнейших проявлений технического прогресса, совершившегося в средние века (особенно начиная с XII столетия), по-видимому, благодаря тому же самому увеличению числа рабочих рук, которое сделало возможным крупные распашки целины. Но постоянные затруднений с кормом для скота заставляли использовать слишком малочисленные и, главное, плохо составленные запряжки. В средние века (в некоторых областях вплоть до XVIII и даже до XIX веков) очень часто впрягали в плуг ослов, которые живут малым (пример тому — современные алжирские ослы), но недостаточно сильны для пахоты. Сами орудия также часто были несовершенны. Было бы нелепо пытаться дать цифры среднего урожая, которые были бы применимы ко всем эпохам, вплоть до конца XVIII века, ко всем почвам и ко всем типам ведения хозяйства. Но единодушные свидетельства источников показывают, что в прежней Франции урожай сам-три — сам-шесть не считался несчастьем. При мысли о том, сколько терпеливых наблюдений, технического воображения и чувства общности при отсутствии всякого подлинно научного знания нужно было, чтобы реализовать эту сложную программу освоения природы человеческим трудом (то есть обработки почвы отдельными группами земледельцев с самого зарождения нашей аграрной цивилизации), нельзя не проникнуться восхищением перед поколениями людей, с древнейших времен действовавших в этой сфере, восхищением, подобным тому, которое когда-то, после посещения этнографического музея, вдохновило Видаль де ла Блаша[31] на столь прекрасную страницу. Но наша благодарность упорным праотцам, которые создали хлеб, изобрели пахоту и установили плодотворный союз между пашней, лесом и пастбищем, никоим образом не обязывает нас закрывать глаза на несовершенство их труда, на скудость полей, на то, что они жили под постоянной угрозой голода.
II. Типы севооборотов
Обработка земли, повсюду основанная на возделывании хлеба, осуществлялась, тем не менее, в зависимости от районов, на основе различных технических принципов. Чтобы лучше уловить эти контрасты, надо отвлечься от всех побочных производств и сосредоточить внимание на пашне.
Древние земледельцы заметили, что поля при отсутствии интенсивного удобрения нуждаются порой в отдыхе, то есть, чтобы не истощить землю, необходимо не только чередовать культуры, но также в определенное время совершенно прекращать посевы. Этот ныне устаревший принцип был тогда вполне разумен: скудость удобрений, небольшой выбор культур (вследствие неизбежного преобладания злаков), которые могли чередоваться на полях, делали недостаточным для обновления почвы и для предохранения ее от сорняков простое изменение в составе посеянных культур. Применение правила, выработавшегося на основе опыта, допускало различные варианты. Последовательность активных периодов (зачастую различных) и периодов отдыха должна была быть подчинена определенному порядку, более или менее твердому и размеренному. Можно было придумать много типов чередований, иными словами, много типов севооборота, и их действительно выдумали.
* * *
Еще в XVIII веке в некоторых районах с бедными почвами, в Арденнах, Вогезах, на гранитных и сланцевых землях запада, практиковалась на всем их протяжении временная запашка. На целине выделялся участок земли. Его расчищали (часто посредством выжигания дерна[32]), распахивали, засевали; часто его к тому же огораживали изгородью, чтобы защитить от животных. В течение нескольких лет подряд — трех, четырех, вплоть до восьми — с этого участка снимали урожай. Затем, когда падение урожайности обнаруживало истощение почвы, участок снова отдавался во власть диких трав и кустарников. В таком состоянии он находился довольно долго. Нельзя сказать, что в это время он ничего не дает: он перестает быть нивой, но превращается в пастбище. Даже растущий на нем кустарник вовсе не бесполезен: из него делают подстилку, фашины, а из папоротника и колючего дрока — удобрения. Если по истечении известного времени (которое обычно, по меньшей мере, столь же продолжительно, как и период обработки, а зачастую и превосходит последний) считают, что этот участок вновь способен давать урожай, сюда снова привозят плуг, и цикл возобновляется. Эта система сама по себе не была лишена определенной регулярности: выделение участков земли, которые в отличие от других, всегда остававшихся необработанными, предназначались для этой периодической эксплуатации; установление твердой периодичности. Вероятно, местный обычай ограничивал произвол отдельных лиц, но, как правило, не очень строго. Агрономам XVIII столетия деревни с временной запашкой казались не только образцом варварства, но и анархизма: они, как гласят тексты того времени, не имели упорядоченных севооборотов (saisons bien réglées). При этой системе отсутствовали главные причины, которые в других местах привели к строгому контролю над индивидуальными действиями. Расчищенные на время поля находились друг от друга на известном расстоянии, и их хозяева совершенно не мешали друг другу. Кроме того, так как при этой системе пастбища всегда были обширнее обработанной площади, исчезала забота об установлении равновесия между нивой и пастбищем, которая была доминирующей при регламентации более искусно обрабатываемых земель.
В XVIII веке деревни, применявшие еще полностью этот чрезвычайно примитивный способ обработки земли, были редким исключением. Но можно не сомневаться, что прежде этот способ был распространен гораздо шире. В нем, вероятно, следует видеть один из древних способов (быть может, самый древний), изобретенных человеком для того, чтобы заставить землю родить, не истощая ее, и чтобы сочетать пашню с пастбищем. Мы знаем, что в XVIII веке многие общины, еще применявшие этот способ, решили (или были вынуждены) заменить его упорядоченным севооборотом, который потребовал нового распределения земли{34}. По всей видимости, они при этом разом прошли через всю ту эволюцию, которую многие другие деревни пережили уже в давние времена и гораздо медленнее.
К тому же зачастую этот переход к более совершенной системе земледелия был лишь частичным. В новую эпоху временная запашка господствовала на всей территории того или иного поселения лишь в порядке исключения, но очень часто она занимала там еще значительную часть земель, существуя параллельно с более упорядоченной обработкой. В Беарне, например, это было правилом: каждая или почти каждая община рядом со своей «равниной» (пахотными землями) имела свои «холмы», покрытые папоротником, низкорослым диким терновником, дикими злаковыми растениями, куда ежегодно приходили крестьяне, чтобы расчистить место для какого-нибудь поля, обреченного затем на быстрое исчезновение. Такая же практика имела место во внутренней Бретани, в Мэне, в Арденнах и Верхних Вогезах, где распашка на короткий срок производилась в значительной степени за счет леса, на плоскогорьях немецкой Лотарингии, в Юре, в Альпах, Пиренеях, в Провансе, на всех высоких землях Центрального массива. В этих областях множество округов имели наряду с регулярно засеваемыми «теплыми землями» (terres chaudes) обширные пространства «холодных земель» (terres froides) (на северо-востоке их называли преимущественно германским словом trieux), по большей части необработанных, но на которых жители то там, то тут проводили недолговечные борозды. Напротив, на равнинах к северу от Луары эти обычаи почти совершенно исчезли. В результате расчисток здесь почти не осталось пустующих земель:- оставшаяся целина была или решительно непригодна для пахоты, или необходима для пастбища, для сбора лесных продуктов, для добывания торфа. Но так было не всегда. Вероятно, именно в эпоху больших расчисток окончательному освоению земли часто предшествовала ее периодическая эксплуатация. В лесу Корбрёз (Corbreuse), зависевшем от Парижского капитула, но на который распространялось королевское охранительное право, сопровождавшееся различными вознаградительными привилегиями и называвшееся gruerie, Людовик VI дозволил деревенским жителям лишь следующую форму сведения леса: «Они могут собирать только два урожая, затем они отправятся в другую часть леса и там также соберут подряд два урожая с расчищенного под пашню места»{35}. Аналогичным образом горец Индокитая и Индонезии передвигает с места на место в лесу или в зарослях кустарника свой «рай» или свой «ладанг»[33], дающий иногда начало постоянной рисовой плантации.
С этим непостоянством в обработке земли непрерывный севооборот представляет, по крайней мере с внешней стороны, самый странный контраст. Не следует подразумевать под ним научный севооборот, основанный на чередовании многих видов растений, подобный современному севообороту, почти повсюду занявшему место старых систем, основанных на паре. В деревнях, практиковавших в старину непрерывный севооборот, был такой, порядок: на одном и том же участке земли ежегодно без каких бы то ни было перерывов зерновые следовали за зерновыми; самое большее, на что шли, но без особой регулярности — это чередование озимых и яровых хлебов.
Не является ли это самым удивительным опровержением правила необходимости паров? Как же удавалось получить еще какие-то колосья с этой земли, которая, казалось бы, должна была уже истощиться и стать добычей сорняков? Дело в том, что подобным образом обрабатывали только небольшую часть земли и для этого привилегированного участка предназначали весь навоз. Прилегающие к этому участку земли служили лишь пастбищем, где по мере надобности расчищали на время участки под пашню. Впрочем, мы ясно видим, что, несмотря на большое количество удобрений, урожайность все же была невысокой. Такой порядок, очень распространенный в Великобритании и особенно в Шотландии, был во Франции, по-видимому, исключением. Правда, его следы можно кое-где обнаружить: вокруг Шони[34], в Пикардии, в некоторых деревнях Эно, в Бретани, в Ангумуа, в Лотарингии{36}.[35] Возможно, прежде он был менее редким. Можно думать, что деревни, отказываясь от временной запашки, прошли порой через эту стадию.
* * *
Обе главные системы севооборота, которые почти повсюду позволили заменить беспорядочность несистематической обработки земли вполне определенной последовательностью, включали период отдыха — пар. Они отличались друг от друга продолжительностью цикла.
Самым коротким был двухгодичный цикл: после года пашни (обычно с осенним, а иногда и о весенним севом) каждое поле оставалось на год под паром. Разумеется, внутри каждого хозяйства, а следовательно, и на всей территории существовал следующий порядок: приблизительно половина полей в году находилась под обработкой, в то время как другая половина оставалась свободной от посева, затем поля менялись в порядке очереди.
Более сложный цикл — трехполье. Он предполагает более тонкое приспособление растений к питающей их почве. В основе трехполья лежит фактически различие между двумя категориями урожая. В принципе каждое хозяйство и; каждая территория делятся на три части, в общем равнее, но только в общем[36]. Их называют, в зависимости от местности, soles, saisons, cours, cotaisons, royes, coutures, в Бургундии — fins, épis, fins de pie. Нет ничего более изменчивого, чем этот сельский словарь. Реальность же, по существу, была едина для всех обширных пространств, но, поскольку группы со своими особыми представлениями и терминами были очень мелки, терминология различалась от района к району и даже от деревни к деревне. Рассмотрим положение после жатвы. Одна из трех частей (soles) должна быть засеяна осенью, она принесет озимый хлеб, называемый также hivernois или bons blés: пшеницу, полбу или рожь. Другая часть оставлена под яровые хлеба (gros blés, marsage, trémois, grains de carême[37]), которые сеют в первые же хорошие дни: ячмень, овес, иногда кормовые культуры, вроде вики, или стручковые — горох или бобы. Третья часть земель остается под паром в течение целого года. На следующую осень она будет засеяна озимыми хлебами. Из двух других частей та, что была под озимыми, пойдет под яровые, а другая, которая была под яровыми, — под пар. Так из года в год возобновляется тройное чередование.
Географическое распределение этих двух основных типов севооборота точно неизвестно. Его, без сомнения, можно было бы восстановить в том виде, в каком оно существовало в конце XVIII и в начале XIX века — перед аграрной революцией, которая должна была постепенно положить конец пару и ввести более гибкий севооборот. Но точные исследования отсутствуют. Весьма вероятно, однако, что обе эти системы со времени средневековья противостояли друг другу большими массивами. Двуполье безраздельно царило в тех областях, которые можно назвать югом, — в бассейне Гаронны, в Лангедоке, на юге бассейна Роны, на южном склоне Центрального массива — в общем, до самого Пуату. Севернее господствовало трехполье.
Такова, по крайней мере в основном, линия разделения. Если рассматривать его в деталях и с изменениями, происходившими с течением времени, то оно несколько утрачивает свою простоту. Прежде всего надо учитывать различные отклонения, тем более частые, чем древнее эпоха. Несомненно, что по крайней мере на многих территориях материальные интересы и потребности сами по себе сильно ограничивали порывы индивидуальной фантазии. В начале XIV века один артуасский арендатор, взяв участок на озимом поле слишком поздно для того, чтобы вспахать его под осенний посев, должен был удовольствоваться тем, что посеял там в марте овес. На следующий год он вынужден был повторить там весенний посев: нужно было, чтобы на его земле был установлен тот же севооборот, что и на соседних полях{37}. Ну а если в какой-либо год не хватало семян или рабочих рук? Приходилось расширять паровые поля. А если, напротив, нужно было прокормить слишком много ртов? Можно было, несколько уменьшая пастбища, договориться о расширении засеянной площади. Таким образом, примитивные обычаи временной запашки были тогда еще очень свежи в памяти людей. Иногда они оказывали влияние даже на упорядоченный севооборот; в Мэне, как мы вскоре увидим, за многими циклами с годичным паром следовал период, когда поле не давало урожая в течение многих лет. Это была еще смешанная, но уже почти постоянная система. В других местах через определенные перерывы возвращались к старому приему длительного отдыха. В 1225 году грамота об основании в Босе деревни Бонльё (Bonlieu) женским монастырем Иерр (Yerres) устанавливает, что пашни будут обрабатываться «по обычному обороту» (selon les soles usuelles), но она предусматривает случай, когда какой-либо крестьянин «из-за бедности или для улучшения своей земли» оставит ее на несколько лет без обработки{38}. Наконец, сама жизнь была долгое время слишком беспокойной для того, чтобы аграрные обычаи, как, впрочем, и другие порядки, были совершенно незыблемы и упорядочены. Многие эдикты лотарингских герцогов, изданные после войн XVII века, жалуются на то, что крестьяне, вернувшиеся в свои деревни, перестали соблюдать «обычные обороты» (soles accoutumées){39}. Не надо преувеличивать незыблемость и постоянство древних обычаев. Эти качества присущи времени, более близкому к нам, более мирному и стабильному обществу. Но результатом этих колебаний был не только «беспорядок», на который жаловались лотарингские должностные лица: они облегчили переходы от одного типа севооборота к другому.
Проследим возможно точнее, как распределяются системы двуполья и трехполья. Карта этого распределения, если бы можно было ее составить, показала бы не одни только большие красочные пятна, — на ней можно было бы увидеть отдельные районы, обозначенные пунктиром. Правда, на юге трехполье было всегда как будто исключительно редким, если оно вообще там встречалось. Напротив, двуполье долгое время занимало обширные пространства довольно далеко к северу, бок о бок со своим конкурентом. Вплоть до агротехнического переворота его придерживались на значительной части эльзасской равнины — от страсбургских ворот[38] на юге до Виссембурга на севере. Это же можно было наблюдать во многих горных деревнях Франш-Контэ и на довольно многочисленных землях северного побережья Бретани{40}. В более древние времена эти островки двуполья были более частыми. Обнаружено большое распространение двуполья в средневековой Нормандии. В это же время оно встречалось в Анжу и Мэне, также на довольно обширных пространствах{41}. В Мэне двуполье существовало местами вплоть до начала XIX века, причем в любопытнейшем сочетании с временной запашкой и с делением земли на три части. Имелось три поля, каждое из них в течение шести лет находилось под плодопеременной обработкой: пшеница или рожь чередовалась с паром, затем следовали три года полного отдыха{42}.[39] Нет сомнения, что это были пережитки старых порядков. Можно обнаружить и переходную стадию. Каролингские инвентари свидетельствуют о существовании на барских землях к северу от Луары трех полей, о различии озимых и яровых хлебов. Но озимые хлеба постоянно занимали значительно большую площадь, чем яровые (это ясно показывает анализ барщинных повинностей держателей, обрабатывавших сеньориальные поля): то ли потому, что на части домена продолжало господствовать двуполье, то ли вследствие того, что некоторые парцеллы должны были в течение двух лет оставаться под паром в то время, как на соседних участках одному году отдыха в обязательном порядке предшествовали яровые посевы. Во всяком случае, перед нами еще только зарождающаяся тройная периодичность. На севере трехполье было, несомненно, очень древним; оно засвидетельствовано начиная с франкской эпохи, а восходит, без сомнения, к еще более древним временам. Но в течение веков оно перемежалось с двупольем, а также встречалось и в переходных формах (аналогичные факты установлены в Великобритании, совсем недалеко от нас).
Однако не будем заблуждаться. Эти наблюдения ни в коей мере не уменьшают коренной контраст между двумя основными зонами севооборота. Присущий северу трехпольный севооборот распространился там повсеместно. Юг же всегда упорно сопротивлялся ему как элементу чуждому. На севере, очевидно, по мере роста населения стали предпочитать метод, который позволял каждый год оставлять свободной от посева только треть, а не половину земли. Несомненно, что и на юге начали ощущать те же потребности. Однако там, по-видимому, никогда до аграрной революции никому не приходила мысль об увеличении производительности земли посредством введения трехполья (настолько глубоко здесь укоренилось двуполье). Эта антитеза представляет для аграрной истории настоящую загадку. Конечно, географические причины в узком смысле слова ничего не могут объяснить: сферы распространения обеих систем слишком обширны и слишком различны по своим природным условиям. Обе они выходят далеко за пределы нашей страны. Двуполье — древний средиземноморский севооборот, применявшийся как греками, так и италиками, воспетый Пиндаром и Вергилием. Трехполье господствует на большей части Англии и на всех больших равнинах Северной Европы. Сосуществование в нашей стране этих противоположных систем является результатом столкновения двух главных форм аграрной цивилизации (которые можно за неимением лучшего назвать северной и южной цивилизациями), которые образовались под влиянием условий пока еще нам неизвестных, но, конечно, этнических, исторических, а также географических. Ибо, если обстоятельства физического порядка неспособны сами по себе объяснить окончательное распределение различных типов севооборота, они, весьма возможно, могут быть приняты в расчет при выяснении того факта, почему трехполье возникло вдали от Средиземного моря. Римской агрономии была известна польза чередования культур; там на самых богатых землях был даже запрещен вообще всякий отдых земли. Но римляне перемежали посевы зерновых посевами льна или стручковых растений и совершенно не применяли правильного чередования культур. Они хорошо знали яровые посевы, но видели в них лишь хороший выход на тот случай, если озимые погибали еще до зимы{43}. Чтобы сделать чередование весенних и осенних посевов основой всей земледельческой системы, нужно было, без сомнения, гораздо менее засушливое лето, чем римское. Об этом можно говорить только предположительно. Несомненно, однако, одно (в дальнейшем мы еще будем иметь случай убедиться в этом): сосуществование двух основных типов аграрной организации — южного и северного — является одной из наиболее ярких и своеобразных черт сельской жизни Франции. В то же время это одно из драгоценнейших доказательств древности нашей цивилизации в целом, о чем свидетельствует исследование сельской экономики.
III. Аграрные распорядки: открытые длинные поля
Любой аграрный распорядок характеризуется не только последовательностью культур. Каждый из них представляет собой сложный комплекс технических приемов и принципов социальной организации. Попытаемся рассмотреть аграрные распорядки, существовавшие во Франции.
При этом исследовании надо оставить в стороне (с тем чтобы позднее вернуться к ним для выяснения их происхождения) земли, целиком отведенные под временную запашку, под «случайную» запашку, как говорил один агроном из Франш-Контэ. На тех землях, где земледелец «направляет свой плуг», согласно «собственному разумению сельскохозяйственных работ»{44}, правильные системы организации не могли прочно установиться, а могли лишь наметиться. В равной степени мы не будем останавливаться и на тех особенностях отдельных округов, которые вызваны совершенно своеобразными природными условиями. Высокие горы всегда особенно сильно отличались по своей аграрной жизни от равнинных и низменных земель (из-за вынужденного преобладания пастушеского элемента). К тому же в древней Франции этот контраст был менее ярко выражен, чем в наши дни. Наши типы аграрных цивилизаций — детища равнин и холмов; высокогорные зоны скорее усвоили их порядки, нежели создали что-либо свое, глубоко оригинальное. Я намерен здесь выяснить (пусть ценой некоторых упрощений) лишь основные черты классификации, для обрисовки которой во всех ее деталях потребовался бы целый том.
Начнем с наиболее ясного и наиболее последовательного ж всех аграрных распорядков: с удлиненных и обязательно открытых полей.
Представим себе сельское поселение, как правило довольно значительное. Эта система вовсе не является несовместимой с поселениями мелкими группами (особенно в областях недавней распашки); она, по-видимому, с самого начала связана скорее с крупной, чем с мелкой деревней. Около домов — всегда окруженные изгородью сады и огороды. Кто говорит о саде — говорит об огороженном земельном участке. Эти слова постоянно употребляются как синонимы, и сам термин jardin (германское слово), без сомнения, не имел первоначально другого смысла. Эти изгороди показывают, что на защищенной ими земле коллективный выпас ни в коем случае не дозволен. Даже внутри самого огороженного участка можно иногда кое-где обнаружить другие изгороди (вокруг конопляников и виноградников, по крайней мере на севере; на юге, напротив, виноградники часто не были огорожены, и после сбора винограда лозы, чрезвычайно живучие, предоставлялись зубам животных). По берегам рек (где они имеются) простираются луга. Затем следуют пашни и окружающие их или вклинивающиеся в них пастбища. Обратимся же к пахотным полям.
Первая черта, поражающая нас, состоит в том, что эти поля широко открыты.
Не нужно, однако, думать, что на этих полях нельзя было бы увидеть абсолютно никаких изгородей. С самого начала необходимо различать постоянные и временные огораживания. В течение значительного периода средних веков существовал обычай сооружать к началу сельскохозяйственного года временные плетни вокруг каждой группы полей (конечно, не вокруг каждого поля); иногда предпочитали выкапывать канавы. Сельские календари причисляли это к весенним работам. Еще в XII веке в одной из деревень аррасского аббатства Сен-Вааст наследственный сержант[40] велел «обновить перед жатвой канавы», по-видимому, на полях сеньориального домена{45}. Сразу же после жатвы эти легкие защитные приспособления ломались или засыпались. Начиная с XII–XIII веков этот обычай более или менее медленно — в зависимости от мест — исчезает. Он относится к тем временам, когда освоение земли было еще очень незначительным, а целина, на которой пасли скот, еще со всех сторон вклинивалась в пахотные земли. Когда же после больших расчисток пахотные земли стали представлять собой более компактные массивы, более изолированные от пастбищ, этот труд Пенелопы стал ненужным. Зато во. многих районах открытых полей некоторые границы обработанной зоны ограждались теперь уже постоянными изгородями. В Клермоытуа[41] ограды, в обязательном порядке отделявшие поля от дорог, сначала были временными, но с течением времени они часто превращались в прочные изгороди из терновника{46}. В Эно (Hainaut) и в Лотарингии такие окраинные изгороди вдоль дорог или общинных угодий были общим правилом. В Беарне они оберегали регулярно засеваемые «равнины» от «холмов», где среди кое-каких временных полей, в свою очередь огороженных, бродили стада. Таким же образом шотландское in-field отделялось стеной от out-field, предназначенного для пастбища и временной запашки. В других местах, как например в Эльзасе, около Гагено (Haguenau), изгороди делили землю на несколько больших участков. Но перешагнем через эти защитные линии, если они существуют (во многих местах они отсутствовали). На полях мы не встретим больше никаких препятствий. Границами между отдельными парцеллами, а часто и между отдельными группами парцелл служат, самое большее, несколько врытых в землю межевых столбов, иногда невозделанная борозда, а еще чаще границы существуют лишь в воображении, — очень опасное искушение для тех, кого крестьяне выразительно называли «пожирателями борозд» (mangeurs de raies). Стоит только в течение многих лет проводить лемехом плуга чуть-чуть за пределами законной границы — и вот поле увеличивается за счет этих многих борозд (raies), то есть на такое количество земли, которое при длинном участке (что было правилом) представляло значительную добычу. Сохранилось предание о парцелле, величина которой в течение шестидесяти лет увеличилась таким путем более чем на треть. Это «воровство», «самое ловкое и наиболее трудно доказуемое», разоблачавшееся и средневековыми проповедниками, и должностными лицами старого порядка, было (а возможно, является «теперь) одним из характерных социальных признаков этих лишенных изгородей сельских поселений (rases campagnes), где поля следуют одно за другим, где нет никаких видимых признаков того, что вы перешли из одних владений в другие, где (как говорит один текст XVIII века) земледельцу, если этому не препятствует рельеф, «достаточно бросить один взгляд, чтобы увидеть, что происходит на всех его участках земли, расположенных на одной и той же равнине или в одном и том же кантоне»{47}. Легко узнать (ибо в этом отношении аграрный пейзаж почти не изменился) «незагроможденные» (désencombrés) пейзажи, дорогие сердцу Мориса Барреса.
Но границы между отдельными владениями, хотя и ничем не обозначенные, все же существовали. Их линии составляли странный двойной рисунок[42]. Вначале определенное количество крупных делений — примерно от одного до нескольких десятков. Как их назвать? Изменчивый по своему обыкновению сельский язык предоставляет нам большой выбор терминов, которые различаются по районам или даже по отдельным деревням: quartiers, climats, cantons, contrées, bènes, triages; в равнине Кана мы имеем бесспорно скандинавское слово délie (оно встречается и в Восточной Англии, которая долгое время была занята датчанами) и другие. Возьмем для простоты термин «картье» (quartier). Каждое из этих делений имеет свое собственное название, в кадастре оно фигурировало бы как «поименованное место» (lieu dit). Говорили, к примеру, о Quartier de la Grosse Borne, о Climat du Creux des Fourches, о Délie des Trahisons. Иногда эти участки разделялись видимыми границами: неровностями почвы, ручьем, насыпью, созданной рукой человека, плетнем. Но зачастую они ничем не отличались от соседних участков, разве что другим направлением борозд. Ибо характерной чертой картье является то, что оно состоит из группы плотно прилегающих друг к другу парцелл, борозды которых в обязательном для земледельцев порядке всегда направлены в одну и ту же сторону. В числе других претензий, предъявленных лотарингской администрацией к крестьянам, вернувшимся на свои земли после войны и не желавшим уважать старые обычаи, фигурирует и жалоба на «поперечную пахоту».
Что касается парцелл, из которых состоит картье, то они образуют на всей поверхности участка очень мелкую (ибо их число велико) и по внешнему виду весьма своеобразную сетку (почти все они имеют одинаковую, удивительно асимметричную форму). Каждая парцелла вытянута в направлении борозд. Ее ширина, перпендикулярная этой оси, наоборот, очень незначительна и едва достигает во многих случаях одной двадцатой длины. Некоторые парцеллы состоят всего лишь из нескольких борозд, вытянутых на сотню метров. Возможно, что в некоторых случаях (в недавние времена) такое расположение было доведено до крайности вследствие разделов между наследниками. Однако, когда участки достигали слишком большой узости, обычно сговаривались делить их лишь перпендикулярно по отношению к их наибольшему измерению, нарушая тем самым принцип, требовавший, чтобы каждая полоса обоими концами касалась границ картье. Таким же образом в IX–XII веках количество длинных парцелл возросло, по всей видимости, вследствие дробления старых сеньориальных доменов, состоявших обычно из участков более обширных, чем те, что были распределены тогда между крестьянами. Но, конечно, в главных своих чертах рисунок полей был очень древним. Появившееся, как мы увидим, в новое время стремление к сосредоточению земель скорее смягчило, чем подчеркнуло его своеобразие. Уже средневековые тексты ограничивались для земель этого типа указанием места поля, названия картье и имен владельцев участков, расположенных по обе стороны от рассматриваемого участка, то есть указывали место этой узкой и длинной полосы в пучке параллельных полос.
Конечно, каждый из этих узких участков, каким бы длинным он ни был, был в целом довольно незначительной величиной. Каждое индивидуальное хозяйство, даже небольшое, должно было иметь (и действительно имело) значительное число парцелл, расположенных во многих картье. Дробление и рассеивание было с давних пор законом земель этого типа.
Описанную систему дополняли два обычая, касавшиеся самых глубин аграрной жизни: принудительный севооборот[43] и обязательный выпас.
На своих полях земледелец должен был придерживаться обычного порядка севооборотов, то есть проводить на своей парцелле севооборот, традиционный для того картье, в которое она входила: в предписанный год сеять осенью, на следующий год — весной (если речь идет о трехполье), прекращать всякую обработку, когда наступала очередь пара. Часто картье группировались в целые, твердо установившиеся поля (soles), имевшие, подобно самим картье, упорядоченное гражданское положение. Это нашло отражение в языке: в Нантиллуа (Nantillois), в Клермонтуа, различали, например, три royes: Harupré, Haraes, Cottenière; в Маньи-сюр-Тиль (Magny-sur-Tille), в Бургундии, известны fins: Chapelle-de-1Abayotte, Rouilleux, Chapelle-des-Champs. В некоторых округах эти поля (soles) представляли собой большую цельную зону. Так что летом в этих районах две или три большие зоны обработанной земли резко отличались внешне по своей растительности: в одном месте — озимые или яровые хлеба, различные по росту и цвету, в другом — паровые поля (sombres, versaines), коричневая земля которых, свободная в этом году от посева, перемежалась зеленью диких злаков. Этот порядок был в особенности характерен для многих лотарингских деревень, поля которых отличаются теперь столь правильным расположением, быть может, только потому, что они были упорядочены и воссозданы после опустошений, вызванных войнами XVII века. В других местах каждое поле (sole), сохраняя достаточно единства, чтобы иметь особое название, состояло из многих отдельных групп картье. К такому дроблению приводили часто случайности в освоении земли. В некоторых местах, как например в Бос, дробление заходило так далеко, что исчезал сам термин sole, и картье само по себе составляло отдельный элемент севооборота. Но внутри каждого ив них единообразие было неукоснительным. Само собой разумеется, что посев, жатва и все другие главные земледельческие работы должны были выполняться на каждом поле (sole) или картье в одно и то же время, в дни, определявшиеся коллективом или обычаем.
Эта основанная на традиции система обладала, тем не менее, известной гибкостью. Случалось, что по решению общины какое-либо картье переходило из одного поля в другое, например в Жанеиньи (Jancigny), в Бургундии, картье (climat) Derrière lEglise, находившееся в «épy» Findu-Port, около 1667 года было передано в «еру» Champs-Roux. Сам принцип принудительного севооборота, сколь бы обязательным он ни был, допускал иногда отступления. В XVIII веке в трех местах долин Мааса и Эра (в Дюне, Варение и Клермоне) земли, расположенные по большей части вблизи домов, где унаваживание было более легким делом, могли «засеваться по желанию», они были «вне севооборота» (hors couture). Но даже и там такие участки составляли лишь очень незначительную долю пашен; все остальное было «подчинено порядку обработки в соответствии с регулярным севооборотом» (en roye réglée). К тому же в этой области Клермонтуа, аграрные обычаи которой нам детально известны, такие свободные поля встречались только вокруг трех выше названных поселений — маленьких городков, буржуазное население которых было более склонно к индивидуализму, нежели какое-либо другое. О всех же простых деревнях можно сказать словами одного относящегося к 1769 году документа: «вся земля» в них была «разделена на три части… которые не могли быть изменены земледельцами»{48}.
Но вот урожай снят. Теперь поля свободны от хлеба, эти земли «пусты» (vides или vaines — эти слова в старом языке были равнозначны). В таком состоянии они будут пребывать больше года, если дело касается двуполья. А при трехпольном севообороте поля, с которых снят озимый хлеб, будут ждать следующего посева до ближайшей весны; поля, которые уже были под яровыми, в течение года будут оставаться под паром. Являются ли эти пустующие поля бесполезными? О нет! Солома и особенно сорняки, произрастающие среди соломы, а также после ее уборки и столь быстро покрывающие незасеянную почву, — все это служит пищей для скота. Один мемуар XVIII века говорит о крестьянах Франш-Контэ: «В течение двух третей года деревенские жители кормят свой стада почти целиком за счет обязательного выпаса»[44]. Имеется в виду выпас на пустующих землях. Мог ли каждый хозяин по своему желанию оставить свой участок для своих животных? Наоборот, обязательный выпас — в высшей степени коллективное дело. Согнанный в общее стадо окот всей деревни бродил по сжатым полям (таков был порядок, установленный местными властями или традицией, также выражавшей общие потребности), и владелец поля обязан был разрешать чужим животным бродить по его полям наравне с его животными, затерянными в общей массе.
Этим бродячим стадам нужны были к тому же столь обширные пространства, что не только границы отдельных владений, но даже границы отдельных местностей не всегда служили им препятствием. В большинстве областей, где господствовал обязательный выпас, он осуществлялся (под названием parcours или entrecours) также и на землях соседей: каждая община имела право пасти свой скот на всех паровых полях или на части полей (в зависимости от района) соседней деревни, иногда даже вплоть до третьей деревни. Так повелось, что пустая земля подчинялась совсем иному режиму владения, чем засеянная земля (terre empouillée).
Кроме того, это право обязательного выпаса распространялось не только на пахотные земли, но в равной степени и на луга, тоже совершенно открытые — обычно после первого покоса. Как говорят старые тексты, хозяину принадлежала только «первая трава». Отава же доставалась всей общине: ее или оставляли на подножный корм скоту (таков был, несомненно, самый древний обычай), или скашивали, чтобы распределить между всеми жителями деревни или даже продать. Владельцы лугов и полей (détenteurs de fonds) имели, выражаясь словами одного юриста XVIII века, «лишь ограниченную собственность, подчиненную правам общины»{49}.
* * *
Подобная система, до крайности стеснявшая свободу земледельца, предполагала, конечно, наличие принуждения. Огораживание парцелл не просто противоречило обычаям, оно было формально запрещено[45]. Практика принудительного севооборота была не только привычной или удобством, она представляла собой обязательное правило. Общее стадо и соблюдение его пастбищных привилегий строго вменялись в обязанность всем жителям. Но так как в старой Франции источники права были очень различны и мало согласованны, юридическое происхождение этих обязанностей различалось в зависимости от места. Вернее, эти обязанности везде основывались на традиции, но выражавшейся в различных формах. Когда в конце XV века и в XVI веке королевская власть приказала провести запись провинциальных кутюм, то во многие из них были включены обязательный коллективный выпас и запрещение огораживать пашни. В других кутюмах этого нет. Это можно объяснить или забывчивостью, или невозможностью изложить в деталях противоречащие друг другу обычаи (последнее имело место в тех районах, где существовали разные аграрные распорядки), или, наконец (как это было в Берри), презрительным отношением воспитанных в духе римского права юристов к порядкам, весьма далеким от квиритокой собственности[46]. Но в судах эти правила соблюдались. Со времен Людовика Святого парламент препятствовал огораживанию в Бри пахотных полей. Еще в XVIII веке он поддерживал принудительный севооборот во многих деревнях Шампани{50}.[47] «Кутюмы Анжу и Турени, — отмечал в 1787 году интендант Тура, — ничего не говорят об обязательном выпасе… но этот обычай, существующий с незапамятных времен, до такой степени приобрел в обеих провинциях силу закона, что любой собственник напрасно стал бы в судебном порядке защищать от него свои владения». Наконец, что очень важно: даже там, где не было писаного закона и даже когда должностные лица со все возрастающим недовольством следовали традиции, на которую нападали агрономы и которую крупные собственники считали очень тягостной, давление со стороны коллектива было зачастую достаточно энергичным, чтобы заставить — убеждением или силой — уважать старые аграрные обычаи. Они, как писал в 1772 году интендант Бордо, «имели силу закона только благодаря воле жителей», но от этого они были не менее принудительными. Горе собственнику, воздвигнувшему ограду вокруг своего поля! «Сооружение изгороди ничего не даст, — говорил около 1787 года один эльзасский землевладелец, которого убеждали ввести земледельческие усовершенствования, несовместимые с общим выпасом, — потому что ее обязательно уничтожат». Если кто-либо в Оверни в XVIII веке осмеливался превратить поле в огороженный сад (что разрешала записанная кутюма), то соседи разрушали изгородь, что «порождало судебные тяжбы, последствия которых вызывали полный беспорядок в целых общинах и даже обращали их в бегство, не удерживая, однако, их от этих действий»{51}. Источники XVIII века твердят о «суровых законах, запрещающих земледельцам огораживать свои участки», о «законе деления земель на три поля»{52}. Действительно, запрещение огораживания, обязательный выпас и коллективный севооборот до такой степени воспринимались как законы (писаные или нет, получившие официальные санкции или черпавшие свою силу лишь в непреклонной воле коллектива), что в период великих аграрных сдвигов конца XVIII века для их уничтожения понадобилось создать целое новое законодательство.
Живучести этих порядков (порой даже тогда, когда они уже потеряли какую бы то ни было юридическую санкцию) более всего способствовало, пожалуй, то обстоятельство, что материально они составляли удивительно согласованную систему. Действительно, не было ничего более цельного, чем подобная система, «гармония» которой еще в XIX веке вызывала восхищение даже у самых умных ее противников{53}. Форма полей и практика обязательного выпаса в равной степени способствовали соблюдению общего севооборота. На этих невероятно узких полосках, которые к тому же часто были расположены внутри картье так, что добраться до них можно было лишь через другие полоски, земледельческие работы были бы почти невозможны, если бы все земледельцы не соблюдали один и тот же ритм. Где нашел бы деревенский скот достаточно обширные пространства пара для своего пропитания, если бы не было регулярного отдыха полей? Потребности выпаса также препятствовали сооружению всяких постоянных оград вокруг парцелл, так как ограды мешали бы проходу стада. В не меньшей степени огораживания были несовместимы и с формой полей: сколько бы длиннейших изгородей понадобилось, чтобы огородить каждый из этих вытянутых параллелограммов? Сколько тени, падающей на почву?! И как перейти с одного участка на другой для их обработки, если все они будут огорожены подобным образом? Наконец, было бы крайне трудно заставить скот пастись только на узких и длинных участках своих хозяев, не прикасаясь к траве на соседних участках. Принимая во внимание расположение участков, система коллективного выпаса казалась наиболее удобной.
Попробуем выяснить кроющиеся за этими внешними чертами общественные причины. Подобный порядок мог возникнуть только в условиях большой социальной сплоченности и ярко выраженного общинного мировоззрения. Прежде всего сама земля представляла собой коллективное творение. Можно не сомневаться, что отдельные картье складывались постепенно, по мере того как шло освоение необработанных земель. Мы имеем также неопровержимые доказательства того, что принципы, которым подчинялась в глубине веков (быть может, в доисторические времена) земельная организация, продолжали в течение столетий оказывать влияние на новые порядки и учреждения. Вокруг многих деревень, которые по своему названию кажутся, по меньшей мере, галло-римскими, тот или иной пучок полей с длинными полосами самим своим названием (например, Rotures от ruptura (расчистка)] или тем фактом, что он обязан платить новую десятину (dîmes novales), обнаруживает средневековую расчистку. На землях новых поселений, основанных в XII–XIII столетиях в области открытых и длинных полей, наблюдается (иногда даже с еще большей правильностью) деление и рисунок полей и парцелл, аналогичные делению более старых земель. Поля разрушенного поселения Бессей (Bessey) в Бургундии, которые были в XV–XVI веках вновь отвоеваны у кустарника жителями соседних деревень, имели все выше описанные черты. Еще в XIX веке деревни в Оссуа[48] делили свои общинные земли на узкие и вытянутые участки, параллельные друг другу{54}. Внутри каждого картье — было ли оно результатом относительно недавних расчисток, или же вело свое начало из глубины веков — деление земли на узкие, прилегающие друг к другу парцеллы, можно было осуществить лишь по общему плану и сообща. Проводилось ли это по приказу и под управлением одного господина? В данный момент вопрос не в этом. Даже имея главу, группа, тем не менее, остается группой. Такое устройство обязывало к согласованности севооборота. Можно не сомневаться в том, что это последствие было заранее предусмотрено и воспринято как совершенно естественное, поскольку оно отвечало общей точке зрения[49].
Относительно принудительного выпаса нельзя сказать, что он настоятельно диктовался формой полей. В сущности, можно было бы избежать неудобств этого расположения парцелл: каждый земледелец мог бы оставлять свое поле только для своего собственного скота, привязывая животных, как это делали и еще сейчас делают при других аграрных распорядках. На деле выпас был коллективным прежде всего в силу следующей идеи или привычной мысли: свободная от плодов земля, как полагали, переставала быть объектом индивидуального присвоения. Послушаем наших старых юристов. Многие из них прекрасно выразили эту мысль. Лучше всего это сделал Эзеб Лорьер[50] в эпоху Людовика XIV: «По общему праву Франции [имеются в виду области открытых полей, которые одни только были хорошо известны Лорьеру. — М. Б.], индивидуальные участки защищаются и охраняются лишь до тех пор, пока не снят урожай; когда же он убран, земля в силу своего рода закона становится общей для всех людей, как для богатых, так и бедных в равной степени»{55}.
Это мощное воздействие коллектива чувствовалось также и во многих других обычаях. Оставим в стороне, если угодно, право сбора колосьев после жатвы. Это право было особенно устойчивым в тех районах, которыми мы в данный момент занимаемся и где оно распространялось (если не юридически, то практически) часто не только на инвалидов и женщин, но на все население и на все поля без различия. Однако оно не может считаться характерным признаком какого-либо одного аграрного распорядка. Это опиравшееся на библию право было во Франции почти повсеместным, в более или менее ярких или смягченных формах. Зато нет ничего более характерного для длинных полей, чем право сбора соломы (droit déteule); на жнивье не сразу пускали скот; сперва на нем люди собирали солому (в этом смысле надо понимать термин droit déteule), которую употребляли для кровли домов, для подстилки скоту, а иногда для топки очагов; солому собирали на пашне, не заботясь о соблюдении границ участков, и это право было столь почтенным, что земледельцу не разрешалось действовать в ущерб ему, срезая колосья слишком близко от земли. Коса предназначается для лугов; на засеянной же пашне дозволен был — парламенты очень следили за этим еще в XVIII веке — только высоко срезающий сери. Следовательно, в многочисленных местностях (как правило, с длинными полями), где осуществлялся этот сервитут, урожай не принадлежал целиком хозяину земли: колос доставался ему, солома — всем[51].
Конечно, было бы не совсем верным считать эту систему уравнительной, как это можно было бы заключить из высказывания Лорьера. Бедные и богатые участвовали в пользовании общинными сервитутами, но вовсе не в равной степени. Обычно каждый житель, как бы ни был мал его земельный участок, имел право посылать в общее стадо несколько голов окота, но количество животных, которых мог послать в общее стадо сверх этого минимума, признанного за каждым, любой земледелец, было пропорционально размеру обрабатываемой им площади. Сельское общество состояло из классов, притом резко разграниченных. Однако богатые, как и бедные, подчинялись традиционному закону своей группы, которая была хранительницей как некоторого социального равновесия, так и соотношения между различными формами обработки земли. Этот «рудиментарный коммунизм», как говорил Жорес на первых страницах своей «Истории революции», столь богатых блестящими историческими догадками, был отличительным признаком и глубокой сущностью того типа аграрной цивилизации, который нашел свое выражение в распорядке длинных и принудительно открытых полей.
Очень широко распространенный во Франции, этот распорядок не был, впрочем, специфически французским. До тех пор, пока не будет осуществлено более тщательное исследование, нельзя точно определить границы его распространения. Приходится довольствоваться лишь некоторыми указаниями. Он господствовал во всей Франции к северу от Луары (за исключением области Ко (Caux) и тех районов запада, где имелись огороженные поля), а также в обеих Бургундиях. Но эта зона была лишь частью более обширного пространства, охватывавшего значительную часть Англии, почти всю Германию, вплоть до обширных польских и русских равнин. Следовательно, вопрос о возникновении этого распорядка (к нему нам еще придется вернуться) может рассматриваться лишь в общеевропейском плане. Чертой, гораздо более свойственной нашей стране, было сосуществование этой системы с двумя другими, которые нам нужно теперь рассмотреть.
IV. Аграрные распорядки: открытые поля неправильной формы
Представим себе лишенные изгородей пашни, сходные в этом отношении с уже описанными. Однако парцеллы представляют собой не длинные и узкие полосы, систематически сгруппированные в картье одного направления, а имеют различную форму, но разница между длиной и шириной невелика. Разбросанные как придется, они располагаются в более или менее причудливом беспорядке. Перед нашими глазами предстанет картина (являвшаяся нашим предкам и являющаяся еще и поныне тем, кто умеет видеть) деревень большей части приронского юга, Лангедока, бассейна Гаронны, Пуату, Берри и — далее к северу — области Ко (см. рис. VII–IX). С XI века ширина тех полей, размеры которых, по счастью, нам известны, составляла в Провансе в разных случаях 48–77 процентов их длины{56}. Будучи, подобно выше описанному, более европейским, чем французским, этот распорядок получил за пределами Франции, по-видимому, особенное распространение в странах, аграрная структура которых, к сожалению, изучена меньше, чем немецкая или английская, например в Италии. Назовем его, за неимением лучшего термина, распорядком открытых полей неправильной формы.
В принципе эта система вовсе не была системой индивидуализма. Ее старые формы включали обязательный коллективный выпас (на юридическом языке юга он назывался compascuité) со всеми естественно вытекавшими из него последствиями: запрещением огораживаний и, очевидно, определенным единством севооборота{57}.[52] Но эти сервитута исчезли здесь — мы сможем в этом убедиться — быстрее, чем в областях длинных полей. По-видимому, они никогда не были здесь столь суровыми. Само право обязательного выпаса (наиболее распространенное и стойкое из всех) часто существовало на юге без своего дополнения в виде обязательного общего стада, ибо здесь система общественного принуждения была лишена той прочной основы, которую в других местах представляло собой само устройство земель. Владелец длинной парцеллы, входящей в картье, которое состоит из таких же парцелл, даже и не помышлял о том, чтобы избегнуть коллективного давления, ибо практически такая попытка натолкнулась бы на почти непреодолимые трудности. На широком и вполне обособленном поле соблазн был сильнее. К тому же сам рисунок полей свидетельствует о том, что устройство на этих землях с самого начала не было делом коллектива. Иногда в области длинных полей в каком-либо округе, в целом полностью согласующемся с обычной схемой, встречаются небольшие участки, где рисунок парцелл напоминает рисунок полей неправильной формы, или же это большие, цельные и почти квадратные куски земли, расположенные то с краю обработанной зоны, то в виде прогалин посреди необработанного пространства. Речь здесь идет об участках, распаханных позднее, независимо от какого бы то ни было коллективного плана. Такой индивидуализм в освоении земли, являвшийся исключением для области длинных полей, для полей неправильной формы, был, очевидно, правилом. Но непосредственной причиной контраста между этими двумя типами полей является, по всей видимости, противоположность двух видов земледельческой техники[53].
Два типа пахотных орудий разделяли древнюю Францию{58}. Сходные в большинстве своих черт (которые у обоих типов постепенно усложнялись по мере того, как единственное острие первобытной эпохи заменялось двойным действием резца и сошника, а к режущим частям присоединялся отвал), эти орудия, тем не менее, коренным образом отличались друг от друга. Первый тип лишен подвижного передка, и животные просто тащат его по полю, второй тип снабжен двумя колесами[54]. Чрезвычайно поучительны их названия. Бесколесное орудие было издавна известно земледельцам, которые говорили на языках, положивших начало нашим языкам. Оно сохранило во Франции и почти везде в Европе свое старое индоевропейское название, которое к нам пришло через латынь: в Провансе оно называлось araire (aratrum), в Берри и Пуату — éreau, на валлонском наречии — érère, на верхнегерманских диалектах — erling, на русском и родственных ему славянских языках — орало[55]. Что касается второго типа, то у него, напротив, нет общего индоевропейского названия; следовательно, его появление относится к более позднему времени и сфера его распространения более ограниченна. Во французском языке для него нет латинского происхождения названия, ибо древнее италийское земледелие, за исключением Цизальпинской Галлии, не знало колесного плуга или относилось к нему с пренебрежением. Во Франции говорили: charrue. Это слово, бесспорно, галльское. Нет сомнения также и относительно его первоначального смысла: оно близко к словам char и charrette, первоначально применялось к особой форме повозки. Что может быть естественнее, чем заимствовать у предмета, обязательно снабженного колесами, название для такого нового комплекса, где колесо было присоединено к сошнику?[56]. Таким же образом Вергилий называл описанное им пахотное орудие не aratrum, a просто currus, повозкой{59}, ибо, выросши в стране более чем наполовину кельтской, он не представлял себе плуга без передка. В германских языках запада для обозначения этого технического типа употребляли совсем другое слово, перешедшее от них в славянские языки; от него произошло и современное немецкое Pflug (загадочный термин, который, если верить Плинию, первоначально употребляли реты в южной части верховьев Дуная; следовательно, он вел свое начало от древнего языка, давно совершенно исчезнувшего и, возможно, чуждого индоевропейской группе{60})[57]. Что касается самого изобретения, то Плиний (его текст, к несчастью, неясен, и его приходится восстанавливать), по-видимому, относил его к «Галлии». Но насколько можно доверять утверждению Плиния? Он видел орудие, употреблявшееся галлами. Что знал он еще? Каково бы ни было место, где (возможно, еще до того, как кельты и германцы заняли исторические места своего расселения) впервые появился колесный плуг в собственном смысле слова (charrue) и откуда он распространился в другие области, ясно одно — его без колебаний следует считать изобретением технической цивилизации равнин севера, которая (римляне были этим поражены) нашла колесу столь широкое и искусное применение. Можно ли после этого сомневаться в том, что колесный плуг является детищем равнин? С самого начала он был создан именно для того, чтобы проводить совершенно прямые борозды на обширных пространствах суглинистых почв, вырываемых у первобытной степи. Еще и сейчас он не удобен для слишком неровной местности; здесь он не мог возникнуть.
Если бы вовремя позаботились о сборе необходимых сведений (пока эта работа еще не является совершенно невозможной, но надо торопиться), то мы бы знали, несомненно с достаточной точностью, какое распространение и размещение получили на нашей земле колесный и бесколесный плуги до крупных технических переворотов современной эпохи[58]. При нынешнем состоянии изысканий нельзя установить точно их распределение даже для этого, столь близкого к нам периода. Понятно, что его детали и изменения кажутся нам все более и более запутанными, чем дальше мы углубляемся в прошлое. К тому же этому распределению не была чужда некоторая сложность. Бесколесный плуг, более древнее орудие, иногда сохраняли для некоторых легких пахотных работ даже в тех областях, которые в принципе уже давно освоили колесный плуг. Однако, несмотря на все эти трудности, имеется достаточно данных, позволяющих утверждать, что современная зона распространения колесного плуга примерно совпадает с областью длинных полей (следовательно, эта зона твердо определилась уже с древнейших времен), а зона распространения бесколесного плуга, напротив, — с областью полей неправильной формы. Сельские области Берри и Пуату дают нам возможность весьма основательно проверить правильность этого утверждения. В силу географических условий здесь, казалось, можно было ожидать тот же рисунок полей, что и в Бос и в Пикардии (признаюсь, что априори я ожидал найти его именно таким). Но это были земли бесколесного плуга (éreau){61}. Следовательно, не длинные полосы, объединенные в картье, а довольно бессистемный комплекс полей, по своей форме близких в общих чертах к квадрату.
Область Ко представляет собой более сложную проблему. Особенности ее беспорядочной аграрной карты являются, по-видимому, следствием особенностей ее заселения. На Скандинавском полуострове колесный плуг был долгое время неизвестен (это относится ко многим местам и в настоящее время), а бесколесный плуг является традиционным. Несомненно, спутники Роллона[59], во множестве, как нам известно, поселившиеся в Ко, обрабатывали землю по обычаям своей родины, употребляя привычные им орудия. Простое предположение? Согласен. Оно может быть доказано лишь в результате кропотливого локального исследования. До сих пор при изучении истории скандинавских захватов опирались почти исключительно на топонимику; к этому необходимо было бы прибавить изучение планов парцелл. И кто знает, не принесет ли это исследование, которое можно успешно осуществить лишь при союзе ученых разных специальностей и, быть может, разных стран, среди других результатов также и разрешение старой загадки? Нет ничего более трудного, чем определить, к каким этническим группам принадлежали завоеватели. Шведы, норвежцы, датчане — как их распознать? Тем не менее датские поселения должны, наверно, отличаться от других именно рисунком полей: ведь датчанам, в отличие от шведов и норвежцев, издавна были известны и колесный плуг, и расположенные правильными группами вытянутые парцеллы. Пока что правильность объяснения формы полей в Ко скандинавским или, точнее, шведско-норвежским влиянием может быть подтверждена путем изучения новых полей, созданных в том же районе вокруг новых поселений в период больших расчисток. Там, как разительный контраст со старыми полями, вновь восторжествовали длинные парцеллы, а вместе с тем и деление на картье{62}. Это объясняется тем, что старые аграрные обычаи времен завоевания были тогда уже основательно забыты и колесный плуг, как и повсюду в Верхней Нормандии в наши Дни, вновь вошел в употребление.
В том, что двум различным типам полей соответствуют два главных типа пахотных орудий, нет ничего удивительного. Колесный плуг — великолепное орудие, позволяющее при равной упряжке взрыхлять землю гораздо глубже, чем при бесколесном плуге. Но из-за наличия колес этот плуг требует для поворота некоторого пространства. Поворот после проведенной борозды был большой проблемой как технического, так и юридического порядка в областях колесного плуга. Иногда на обоих концах картье — перпендикулярно общему направлению борозд — оставляли полосу необработанной земли, по крайней мере до завершения пахоты, на всем поле (fourrière — в Пикардии, butier — на равнине Кана). Или же земледельцы всех картье соблюдали повинность поворота (tournaille). Можно себе представить, сколько это давало поводов для тяжб! Необходимо было любыми средствами уменьшить число поворотов. Отсюда необходимость крайнего удлинения парцелл. Более удобный в этом отношении бесколесный плуг вызывает, напротив, приближение формы полей к квадрату, что позволяет в случае необходимости варьировать направление борозд и даже перекрещивать их[60]. Повсюду в Европе, где мы встречаем его, — в Скандинавии, в старых славянских деревнях Восточной Германии, возникших в эпоху древнего орала — везде мы обнаруживаем парцеллы с почти равными измерениями.
Но достаточно ли этих материальных соображений, чтобы объяснить все? Конечно, велик соблазн развернуть цепь причин, начиная с технического изобретения: колесный плуг вызывает удлиненные поля; последние в свою очередь прочно связаны с коллективным пользованием землей, — то есть из прибавленного к сошнику передка вытекает вся социальная структура. Будем осторожны, ибо, рассуждая подобным образом, мы упустили бы из виду множество источников человеческой изобретательности. Несомненно, колесный плуг вынуждает делать поля длинными. Но не обязательно узкими. Ничто не мешало земледельцам заранее разделить землю на небольшое количество крупных кусков, каждый из которых был бы достаточно велик в обоих измерениях. Каждое индивидуальное владение состояло бы в этом случае не из множества очень узких полос, а из нескольких полей, достаточно длинных, но также и достаточно широких. На деле же, по-видимому, к подобной концентрации, как правило, не столько стремились, сколько избегали ее. Путем распыления парцелл думали уравнять шансы: предоставляя каждому жителю возможность использовать различные почвы, давали ему надежду, что он никогда не разорится совершенно из-за разного рода стихийных и общественных бедствий — града, болезни растений, опустошений, — которые, обрушиваясь на какую-нибудь округу, не всегда в равной степени ощущались на всем ее протяжении. Эти идеи настолько глубоко укоренились в крестьянском сознании, что еще и поныне препятствуют попыткам рациональных нововведений. Они оказывали свое воздействие на распределение владений как в области полей неправильной формы, так и в области длинных полей. Для того чтобы участки не были слишком велики, на полях неправильной формы, где употреблялся бесколесный плуг, достаточно было уменьшить участки в длине, сохранив все же приличную ширину. Употребление колесного плуга препятствовало подобной практике. Там, где применялся колесный плуг, приходилось делать парцеллы уже, чтобы не укорачивать их и в то же время не слишком удлинять, а это означало необходимость группировать их в правильные пучки, в противном случае — нелепое предположение! — они бы перекрещивались. Но это группирование в свою очередь предполагало предварительную договоренность землевладельцев и их согласие на некоторое коллективное принуждение. Таким образом, можно было бы утверждать, перевернув целиком или почти, целиком только что сделанные выводы, что без общинных обычаев было бы невозможно употребление колесного плуга. Но, конечно, в истории, которую мы восстанавливаем лишь на основании догадок, очень трудно точно взвесить причины и следствия. Итак, ограничимся скромной констатацией того факта, что колесный плуг (насколько нам удалось проникнуть в древние времена) — отец длинных полей, и стойкие обычаи общинной жизни являются характерными признаками очень четкого типа аграрной цивилизации; отсутствие же этих двух признаков присуще совершенно иному типу аграрной цивилизации.
V. Аграрные распорядки: огороженные поля
Двум «открытым» системам, для которых характерно наличие более стойких или менее стойких общинных сервитутов, противостоит в виде удивительной антитезы система огороженных полей (см. рис. X–XII).
В представлении английских агрономов XVIII века огороженным полям неизменно соответствовала идея земледельческого прогресса; в наиболее богатых областях их страны уничтожение устаревших севооборотов и обязательного выпаса сопровождалось огораживанием полей. Но один из них, Артур Юнг, переправившись в 1789 году через Ла-Манш, был страшно поражен, обнаружив во Франции целые провинции, перегороженные изгородями и тем не менее столь же строго, как и их соседи, придерживавшиеся очень древних методов обработки земли. «Из-за странного безрассудства жителей на девяти десятых огороженных земель Франции господствует та же система, что и в области открытых полей, то есть имеется столько же паров», — писал Артур Юнг.
Итак, в этих странных областях пашни повсюду разделены изгородями; парцелла, как правило, отделена от парцеллы; изгороди, разумеется, постоянные, — сама их структура свидетельствует о том, что они сооружались на продолжительное время. Чаще всего это были живые изгороди, иногда устраивавшиеся, например на западе, на высоких земляных насыпях, называвшихся там fossés [что на обычном французском языке называется fossé (ров), там именуется douve]. Вся эта зелень — кустарники и встречающиеся в изгородях деревья — придает еще и сейчас этим обработанным пространствам (особенно если смотреть на них с некоторого расстояния), по словам одного мемуара XVIII века, вид «колышущегося леса», немного редкого{63}. Отсюда старое название «бокаж», которое было дано в народном языке районам огороженных полей в отличие от слов champagnes и plaines, напоминавших о пространствах без всяких оград. Около 1170 года нормандский поэт Уас[61], описывая сборище крестьян Нормандии (где были и огороженные и открытые поля), писал, что они пришли «эти из бокажей, а те — с равнин». Но постоянные изгороди не обязательно были живыми. Иногда климат, почва или просто обычай диктовали другой вид ограды. Так, в некоторых страдающих от морских ветров уголках бретонского берега и в Керси сооружались каменные стенки на сухой кладке, которые, не загораживая вида, чертили на земле клетки огромной шахматной доски. Здесь, как и в районах открытых полей, материальные черты были лишь внешним проявлением глубокой социальной структуры.
Нельзя сказать, что система огороженных полей была полностью индивидуалистической. Это значило бы забыть, что деревни, где господствовала эта система, имели обычно обширные общинные пастбища, на которых часто, например в Бретани, крайне строго соблюдались права коллектива. Это значило бы также забыть, что иногда (но не всегда: так, этого не было ни в Северной Бретани, ни в Котантене[62]) луга резко отличались от огороженных пашен отсутствием всяких изгородей, и на них после первого покоса пасся скот всех жителей. Скажем лучше: власти коллектива наступал конец, когда дело доходило до пахотных полей, — факт тем более удивительный, что в области открытых полей, особенно в области длинных полей, именно пашни по преимуществу подчинялись общинным сервитутам[63]. Поле, защищенное изгородью или стеной, совершенно незнакомо с общим обязательным выпасом; разумеется, поле под паром, как и в других местах, служит для прокорма скота, но это скот только владельца данного поля, и каждый земледелец — хозяин севооборота на своей земле.
Эти обычаи аграрной автономии до такой степени представляли самую сущность этой системы, что иногда они существовали даже там, где в силу каких-либо обстоятельств был уничтожен их внешний символ — изгородь. В этих случаях существовала, если можно так выразиться, моральная ограда. На приморских землях юго-западной Бретани не было, естественно, живых изгородей, но там не трудились и над заменой их каменными отрадами. И тем не менее этим землям были совершенно чужды общинные сервитуты. Как констатирует в 1768 году субделегат[64] в Пон-Круа (Pont-Croix), свидетельство которого совпадает с другими, несколько болев поздними наблюдениями, «каждый собственник привязывает своих животных к колышку на своем земельном участке, чтобы они не бродили и не паслись на чужих участках»{64}. Такое же уважение к принципу «каждый у себя хозяин» господствовало и в том случае, когда несколько парцелл оказывались обнесенными одной общей изгородью. Судя по всему, первоначально каждый участок, принадлежавший какому-либо одному владельцу, имел как свою ограду в виде живой или каменной изгороди, так и свое имя, ибо здесь каждое поле имело, и в принципе имеет еще и сейчас, свое название (un lieu dit). Обычно эти участки были довольно велики и имели неправильную форму, но без большой разницы между длиной и шириной. Во многих областях огороженных полей пахали бесколесным плугом (вероятно, потому, что в большинстве случаев эти районы имели очень неровную поверхность); даже в тех случаях, когда употреблялся колесный плуг, как например в Мэне, поля не боялись делать довольно широкими (ибо не было причин, препятствовавших этому) и в целом довольно обширными, не соблюдая правила распыления владений (мы сейчас поймем причину). Но с течением времени эти слишком значительные участки оказались поделенными между многими хозяевами в результате отчуждения или передачи по наследству. Иногда это раздробление влекло за собой устройство новых изгородей. На некоторых нормандских планах, изображающих одну и ту же местность в различное время, можно видеть местами две парцеллы, включенные в один и тот же огороженный участок, но на более древнем документе они отделены друг от друга чисто идеальной линией, а на более позднем — изгородью[65]. Крестьянин любил обрабатывать землю под прикрытием какой-нибудь защиты. Зачастую, однако, он отступал перед расходами или перед трудностями ее сооружения, особенно если участок был мал. В этом случае внутри ограды создавалась маленькая группа парцелл, часто узких и вытянутых, изображение которых на картах, пренебрегающих четким обозначением изгородей, легко может вызвать у торопливого зрителя иллюзию картье из области длинных полей. В говорящей на французском языке Бретани такая группа парцелл получила характерное название: champagne. Трудно предположить, чтобы между различными совладельцами такой champagne не было заключено соглашения относительно определенного единства севооборота, а иногда и относительно общего выпаса. Действительно, история знает примеры такой практики, которая как бы воссоздает на маленьком участке земли обычаи открытых полей{65}. Но таким порядкам не благоприятствовала окружавшая их система индивидуализма. Однажды я показал чертеж одной из таких champagnes служащему кадастрового управления департамента Манш, прекрасно знавшему сельские обычаи своей области, и сказал ему: «Здесь по крайней мере вы должны иметь нечто вроде обязательного выпаса». Он ответил мне на это с сожалением: «Э, нет, мсье, и это само собой разумеется: каждый привязывает своих животных». Таким образом, каждый аграрный обычай есть прежде всего выражение определенного образа мыслей. Рассматривая проект введения в Бретани, хотя бы на общинных угодьях общего стада, что было для крестьян Пикардии, Шампани и Лотарингии обычным явлением, представители бретонских штатов писали в 1750 году: «Нельзя надеяться, что разум и дух единения настолько овладеют крестьянами одной и той же деревни, что они решатся согнать своих баранов в одно стадо под охраной одного пастуха…» {66}
Как возникла подобная система? Как она стала возможной? Чтобы понять это, надо прежде всего рассмотреть ее географическое распространение и вместе с тем характерный для нее образ жизни. Подобно другим уже описанным распорядкам, она присуща не только Франции. Если бы добрейший Артур Юнг посмотрел внимательнее, он нашел бы ее в самой Англии с теми же устаревшими техническими приемами. Там также (удивительный параллелизм!) в старом языке перерезанная изгородями лесная страна (woodland) противопоставлялась совершенно открытым местностям (champaigns или champions). Но нам нужно рассмотреть здесь лишь французские огороженные поля.
Вся Бретань [за исключением прилуарской области Поншато (Pontchateau), для которой характерны открытые поля и общинные сервитуты], Котантен с его холмистыми районами, окружающими с востока и с юга равнину Кана, Мэн, Перш, бокажи Пуату и Вандеи, большая часть Центрального массива, за исключением суглинистых равнин, образующих там несколько лишенных изгородей оазисов, Бюже (Bugey) и область Жекс (Pays de Gex), на крайнем юго-западе страна басков — такова карта огороженных полей в том виде, как можно начертить ее сегодня (конечно, очень суммарная карта, подлежащая уточнению и пересмотру на основе более тщательных исследований). Итак, это зачастую пересеченные местности и всегда бедные почвы.
Кроме того, это районы с очень редким населением. Огороженные поля почти всегда имели центром не деревню в обычном смысле слова, а деревушку, горсточку домов. Иногда даже в наше время они окружают совершенно изолированный дом. Но это, вероятно, относительно недавнее явление, результат или индивидуальной распашки, или одного из тех захватов земли деревушки каким-либо одним собственником, примеры которых мы встретим в дальнейшем. Древнее поселение было небольшим, но оно все-таки представляло собой скопление домов, а не изолированный дом.
Эта маленькая группа не обрабатывала постоянно всю свою землю. Вокруг пересеченных изгородями или стенами пашей обязательно простирались обширные участки целины (таковы, например, бретонские ланды). Они служили пастбищем, и обычно на них в довольно широком масштабе практиковали временную запашку. Потому-то эти маленькие общины так легко могли отказаться от обязательного коллективного выпаса на полях. Выпас на целине предоставлял им такие ресурсы, которые были уже недоступны в таком объеме жителям более распаханных областей. Отсюда вытекает и то, что освоение земли здесь совершалось большими участками и каждый земледелец владел лишь незначительным их количеством, ибо постоянному использованию подвергалась лишь небольшая часть территории; на остальной земле осуществлялась временная запашка, которая, естественно, представляла собой лишь отдельные разбросанные участки.
Поэтому, чтобы уяснить генезис огороженных полей, надо исходить именно из временной запашки. Ход эволюции проследить трудно. Тем не менее бретонские данные дают нам в этом отношении некоторый материал. Нам довольно хорошо известен существовавший в Бретани в XVIII веке порядок «холодных земель» (terres froides), когда залежь чередовалась с временной запашкой. Часть их представляла собой общинные угодья, другая часть, возможно более значительная, была объектом индивидуального присвоения, но при условии соблюдения общинных сервитутов, совершенно неизвестных на «теплых землях» (terres chaudes). Каждый хозяин наряду со своими постоянными огороженными полями владел участками ланд. Время от времени, после больших перерывов, он сеял там рожь, но собирал лишь один урожай; затем, в течение более длительного периода, являлся туда за дроком для подстилки и компоста. Тогда он обносил эти участки оградой, но лишь на время. «Согласно установившемуся обычаю, который считается почти законом, дрок может оставаться на земле только три года… по истечении этого ракового срока изгороди, сооруженные для его защиты на «холодных землях», должны быть разрушены», — писал в 1769 году интендант Ренна в своем весьма достопримечательном отчете. Это было связано с необходимостью возобновить на этих землях, после временного перерыва, общий выпас. Первоначально большая часть этих земель, возможно и все земли, освоенные незначительным количеством земледельцев, представляли (за исключением садов) «холодные земли», на которых строго придерживались правила общего выпаса (за исключением периодов посева). Древнейший сборник бретонских обычаев «Très Ancienne Coutume», составленный в начале XIV века, в своих порой изрядно неясных предписаниях отражает непостоянство переходной эпохи. Огораживание дозволяется, но при этом еще широко практикуется обязательный выпас, называемый guerb, ибо он обязывает земледельцев забрасывать свои поля (guerpir). Он считается столь необходимым для общего блага, что является объектом некоторых юридических льгот. Наконец, обработка земли носит еще как будто очень непостоянный характер{67}.[66] В Манше обязательный выпас, неизвестный в наши дни, также был в XIII веке, по-видимому, общим правилом[67]. Постепенно на некоторых участках распашки, осуществлявшиеся (подобно более поздним временным расчисткам ланд) по индивидуальной инициативе (результатом чего было появление полей неправильной формы), сделались постоянными, равно как и изгороди, которые были необходимы для защиты посевов, поскольку при этой системе пустоши с пасущимся на них скотом близко примыкали к жилищам[68]. Так сложился этот распорядок огороженных полей, при котором коллектив смог отказаться от своих прав на пашню только потому, что сохранил их на большей части земель, по отношению к которым регулярно засеваемая площадь составляла лишь очень незначительную долю.
* * *
Более или менее ясно осознанная противоположность этих различных аграрных распорядков издавна вызывала удивление историков. В те времена, когда ключом к прошлому считали понятие «расы», естественно, стремились разрешить эту задачу, как. и многие другие, с помощью народного духа» (Volksgeist). Такую цель поставил перед собой за пределами Франции Мейтцен в своем большом и ценном по своему начинанию исследовании; но сейчас его следует считать окончательно опровергнутым. Одна из многих ошибок Мейтцен а заключается в том, что он принимал в расчет лишь исторически засвидетельствованные народы: кельтов, римлян, германцев, славян. В действительности же надо обратиться к гораздо более ранним временам и дойти до безымянного доисторического населения, создавшего наши поля. Не будем говорить ни о расе, ни о народе; нет ничего более неопределенного, чем понятие этнографического единства. Лучше говорить о типах цивилизации. Следует признать, что подобно тому как языковые явления не легко группируются в диалекты (границы различных лингвистических особенностей не совпадают точно друг с другом), так и явления аграрной жизни нельзя заключить в такие географические рамки, которые были бы строго одинаковыми для всех категорий родственных явлений. Тяжелый колесный плуг и практика трехполья возникли, по-видимому, на северных равнинах, но сферы их распространения не совпадают. С другой стороны, тяжелый плуг связан обычно с длинными полями, однако порой он применяется и в области огороженных полей. Учитывая наличие промежуточных районов, где всегда были благоприятные условия для процветания смешанных типов, и оставляя в стороне различные взаимодействия, можно все же различить во Франции три главных типа аграрной цивилизации, тесно связанных как с природными условиями, так и с историей общества.
Прежде всего тип, распространенный в районах бедных почв и слабого освоения земли (которое к тому же в течение долгого времени было совершенно нерегулярным и на значительной части земель оставалось таким вплоть до XIX века), — это система огороженных полей. Затем два типа аграрной цивилизации, для которых характерно более плотное освоение земли и которые в принципе предполагают коллективное воздействие на пахотную землю. Это последнее, принимая во внимание расширение посевов, было единственным средством, способным обеспечить необходимое равновесие между пашней и пастбищем. В итоге оба типа не знали изгородей. Для одного из них, который можно назвать «северным», был характерен тяжелый колесный плуг и особенно сильная сплоченность общины; его внешним признаком было повсеместное удлинение полей и группировка их в параллельные ряды. Вероятно, здесь же зародился трехпольный севооборот, область распространения которого значительно захватывала и южные земли, но в некоторых местах, например на Эльзасской равнине, не совсем совпадала с областью распространения колесного плуга и правильных удлиненных парцелл. Наконец, второй тип открытых полей, который для упрощения, но с некоторыми оговорками можно назвать «южным», сочетал в себе верность древнему бесколесному плугу и двуполью (по крайней мере на юге в собственном смысле слова); но для этого типа был характерен значительно менее сильный общинный дух в освоении земли и в самой аграрной жизни. Не возбраняется думать, что эти столь резкие контрасты в организации и образе мыслей старых сельских обществ оказали большое влияние на развитие страны в целом[69].
Глава III. СЕНЬОРИЯ ДО КРИЗИСА XIV–XV ВЕКОВ
I. Сеньория раннего средневековья и ее происхождение
При изучении сеньории за отправную точку следует брать раннее средневековье. Однако это не значит, что сам этот институт не существовал в гораздо более далеком прошлом; мы попытаемся, когда придет время, выяснить его отдаленные корни. Но относительное обилие документов VIII–IX веков — хартий, законодательных текстов и особенно драгоценных сеньориальных инвентарий, которые принято называть полиптяками, — впервые позволяет составить описание сеньории в целом, что было бы бесполезно пытаться сделать для более ранней эпохи.
Территория франкской Галлии предстает перед нами как бы раздробленной на множество сеньорий. В то время их обычно называли виллами (villae), хотя это слово начинали уже тогда употреблять в смысле населенного места вообще. Что же представляла тогда собой сеньория или вилла? С точки зрения пространства она представляла территорию, организованную таким образом, что значительная часть доходов от земли прямо или косвенно поступала одному владельцу; с точки зрения населения — группу людей, подчиненных одному господину.
* * *
Земля сеньории делится на две резко различающиеся части, связанные, однако, чрезвычайно тесными узами взаимной зависимости. С одной стороны, крупное хозяйство, управляемое непосредственно сеньором или его представителями, — то, что на латинском языке того времени называлось обычно господским мансом (mansus indominicatus), a позднее, на французском языке — доменом; мы будем называть это доменом или же сеньориальным резервом. С другой стороны, довольно значительное число мелких «ли средних хозяйств, владельцы которых обязаны нести различные повинности и участвовать в обработке домена; пользуясь термином позднейшего средневекового права, историки называют эти хозяйства держаниями. Сосуществование в одном и том же организме крупного и этих мелких хозяйств является с экономической точки зрения основной чертой сеньории.
Рассмотрим сначала резерв. Это жилые и хозяйственные постройки, сады, ланды или леса, но главным образом поля, луга и виноградники; таким образом, он является, по существу, земледельческим хозяйством. Состоит ли все это хозяйство из цельного куска земли? Легко догадаться, что карт мы не имеем. Но в тех случаях, когда источники проливают на это некоторый свет, мы констатируем тот факт, что пашни резерва обычно состоят из многих полей (champs или coutures), которые в большей или меньшей степени перемежаются с владениями держателей. Однако эти парцеллы в разных местах имеют, конечно, весьма различные размеры [в Веррьере (Verrières), в Паризи[70], — в среднем до 89 га, в Нейэ (Neuillay), в Берри, — 5,5 га, в Антенэ (Anthenay), в Реимском округе, — менее одного га{68}] и, как правило, даже в области открытых и длинных полей они куда крупнее тех, из которых состоят держания. Имея больше земли, сеньор в известной мере не подвержен закону раздробления, столь неизбежному для мелких и средних хозяев, которые постепенно увеличивают число своих полей, стремясь уравнять шансы каждого. Обычно домен весьма обширен. Оставим в стороне дома, леса и целину. Какую часть обрабатываемой земли включает домен и какую часть составляют держания? Это вопрос первостепенной важности. Решение его в том или другом смысле совершенно меняет самую сущность сеньориального организма. Но этот вопрос также и весьма трудный в силу скудости и неясности статистических данных. К тому же, вероятно, имелись не только очень сильные местные различия, но и различия между отдельными категориями Сеньорий. Документы дают нам более или менее ясное представление лишь о крупных земельных богатствах. Но даже в этом случае приходится отказаться от попытки установить что-либо другое, кроме их размеров. Приблизительно от четверти до половины всех обрабатываемых земель (часто многие сотни гектаров) — таковы размеры сеньориальных полей в поместьях короля, высшей аристократии и крупнейших церквей; приводя такие данные, мы не слишком рискуем впасть в ошибку.
Следовательно, сеньориальный домен представлял собой крупное, даже очень крупное хозяйство. Чтобы извлечь из него доход, необходимо было довольно большое количество рабочих рук. Где находил их сеньор?
Три системы — наемный труд, рабство и барщина держателей — могли доставить ему рабочую силу и действительно доставляли ее, но соотношение их было чрезвычайно изменчиво.
Наемный труд в свою очередь можно рассматривать двояко. Либо наниматель выплачивал работнику фиксированную заработную плату — деньгами или натурой, — либо он поселял работника у себя и брал на себя все необходимые расходы на его пропитание и даже одежду; уплата некоторой суммы денег, помимо содержания, фигурирует лишь в качестве дополнения. Первый способ, господствующий ныне в крупной промышленности, допускает известную свободу в использовании рабочей силы; он предполагает возможность временной занятости и благоприятствует свободному обновлению персонала; кроме того, предполагая оплату деньгами, этот способ, очевидно, требует экономики, в широкой степени основанной на денежном обращении и обмене. Второй способ, еще и ныне применяемый в сельском хозяйстве, предполагает большую стабильность и менее интенсивное обращение средств.
Раннему средневековью, что бы о нем- ни говорили, был известен наемный труд в обеих его формах, который применялся на сеньориальных резервах. Работники, которых использовали корбийские монахи в своих садах (осенью — для копания гряд, весной — для посадок, летом — для прополки), были настоящими наемными рабочими, получавшими в качестве платы какое-то количество хлебов, несколько мюй[71] пива, определенное количество овощей и несколько денье. Таковы же и те крестьяне, которые приходили из разоренных районов и, по свидетельству капитулярия Карла Лысого, нанимались на сбор винограда{69}. В обоих случаях это были сезонные работы, требовавшие на довольно короткий срок резкого увеличения количества рабочих рук. Существование таких временных рабочих свидетельствует о большей, чем это иногда считают, мобильности сельского населения и об определенном избытке рабочих рук, что объясняется неинтенсивной обработкой земли в ту пору. Но для больших сеньориальных доменов наемный труд в чистом виде играл всегда лишь исключительно вспомогательную и преходящую роль.
Работники, жившие на содержании господина, получавшие от него харчи [на средневековом французском языке это называлось provende (praebendam), отсюда provendiers наших старинных текстов], существовали во все эпохи средневековья, а также во франкской Галлии. Но среди них лишь свободных людей можно назвать наемными рабочими; раб, хотя его также кормит господин, занимает, тем не менее, совсем иное положение. Франкскому периоду еще известны рабы, и среди provendiers, о которых нам сообщают довольно многочисленные документы (главным образом постановления, относящиеся к распределению съестных припасов, где больше внимания уделено определению размеров пайков, нежели анализу социальных условий), часто трудно различить разные юридические категории. Возможно, однако, что в пестрой и часто весьма беспокойной толпе людей, получавших provende из рук сеньориальных ключников, наряду с рабами, свободными ремесленниками, воинами и вассалами было некоторое количество батраков и батрачек присутствие которых являлось добровольным. Но их было, конечно, недостаточно для обработки обширных хозяйств.
А рабы? Здесь необходимо отметить еще одно различие. Существует два способа использования раба на полях: в качестве слуги, работающего в господском хозяйстве и выполняющего ежедневно определенный урок по заданию господина или его представителя; либо предоставив ему клочок земли, обработка которого доверена ему целиком и доходы от которого делятся между рабом и господином в различных пропорциях. В последнем случае раб на деле является держателем; если же он, кроме того, трудится и на домене, то это уже барщина. Остаются рабы provendiers.
Римскому миру было известно крупное хозяйство, обрабатываемое исключительно рабами по системе, весьма схожей с той, которая существовала много столетий спустя на плантациях тропической Америки. Но к концу эпохи империи от этого метода, который, без сомнения, никогда не был всеобщим, постепенно отказались. Этот отказ объясняется материальными и психологическими причинами. Подобный порядок предполагал изобилие рабской рабочей силы и — что естественно связано с изобилием — ее дешевизну. Уже римские агрономы заметили, что рабы работают плохо; чтобы выполнить небольшую работу, нужно было много рабов. Кроме того, в случае смерти или болезни раба утрачивался капитал, который необходимо было возместить. В этом отношении нельзя было рассчитывать на рождение рабов внутри поместья. Опыт показал, что труднее всего добиться успеха в выращивании человеческого скота. Следовательно, как правило, нужно было покупать нового раба, чтобы заменить выбывшего; если же цена была высокой, потеря раба становилась особенно тяжелой. Войны, точнее удачные войны и набеги в варварские страны, пополняли рынки рабов. К концу империи, когда Рим был вынужден перейти к обороне и постепенно все более приближался к своей гибели, рабов осталось, мало и цены на них были высокими. В то же время раб-держатель работает лучше, по крайней мере на своем участке, ибо тут он трудится частично и для себя, а так как он имеет признанную и нерасторжимую семью, то рабочая сила сама себя воспроизводит. Больше того, крупная плантация является подлинно капиталистическим предприятием[72], она требует точного соотношения между капиталом, вложенным в рабочую силу, и получаемым продуктом, сложных и трудных балансов прихода и расхода, постоянного и действенного контроля за работой; эти условия все более и более осложнялись в силу экономического состояния западного мира и образа жизни римского, а затем римеко-варварского общества. При Каролингах большинство рабов, были держателями. Они, как говорили тогда, были испомещены [chasés (casati)], то есть имели свой дом (casa) и приписанные к дому поля, по крайней мере те из них, которые оставались рабами (многие рабы были освобождены именно с условием, что они останутся жить на своих держаниях).
Однако, поскольку в каролингскую эпоху источники рабства (особенно войны против неверных) далеко еще не были исчерпаны и торговля человеческим товаром сохраняла довольно большой размах, на резерве можно было еще увидеть некоторое количество неиспомещенных рабов, постоянно находившихся в распоряжении господина. Их повинности, без сомнения, не были ничтожными. Но их количество было, безусловно, слишком незначительным, чтобы они могли обеспечить обработку сеньориальных полей или хотя бы ощутимо этому способствовать. Словом, все приводит нас к одному выводу: для эксплуатации домена нужна была барщина, то есть держания. Итак, посмотрим теперь, что они собой представляли.
* * *
Представим себе мелкие хозяйства в весьма различном, в зависимости от обстоятельств, количестве. Некоторые расположены рядом с доменом, поле возле поля; дома их владельцев находятся по соседству с обширным «двором» (cour) — иногда уже замком, — где живет сеньор со своей челядью. В других случаях расстояние бывает большим; случается, что вследствие дарений, разделов, покупок, контрактов, порождавших отношения зависимости, о господским маисом оказывались связанными держания, парцеллы которых находились достаточно далеко, иногда на расстоянии целого дня пути. Нередко бывало и так, что в одной и той же деревне и ее округе перемежались домениальные и держательские земли многих различных сеньорий. Не следует создавать себе слишком упорядоченную картину этого деревенского общества; в топографическом распределении прав на землю, равно как и в их определении, существовало много беспорядка и путаницы.
Большая часть этих держаний, но не все, составляет, с точки зрения сеньориальной фискальной системы, постоянные, неделимые единицы, обычно называемые мансами (mansi)[73]. Люди, занимавшие и обрабатывавшие их, принадлежали первоначально к весьма различным группам. Ограничиваясь лишь важнейшими, надо выделить среди них рабов (servi) и колонов, которых было значительно больше. Последние являлись крестьянами, теоретически свободными, которые, согласно законодательству поздней Римской империи, были наследственно прикреплены к земле. В каролингскую эпоху правило прикрепления к земле уже не существовало, но колоны оставались в большой зависимости от сеньора. Проявлялась тенденция приравнять к ним вольноотпущенников — бывших рабов, освобожденных на довольно жестких условиях. Эту юридическую пестроту дополняли еще и другие категории. Кроме того, сама земля имела свой статус, не всегда соответствовавший состоянию человека. Различались мансы свободных людей (ingenuiles), мансы рабов (servîtes) и другие; в принципе на каждом разряде держаний лежали различные повинности. Но часто случалось, что свободный манс, созданный первоначально для колона, был затем занят рабом или, наоборот, — колон жил на рабском мансе. Это несоответствие характерно для системы социальной иерархии, находящейся в стадии полного обновления. Эта столь сложная классификация начинала все более и более утрачивать свое практическое значение. Суть заключалась в том, что все держатели находились в зависимости от сеньора, или, как тогда говорили, используя выражение, бывшее в ходу в течение всего средневековья и имевшее вполне определенный смысл, они были его людьми (ses hommes).
Большинство держаний давалось без указания срока. Правда, кое-где встречались хозяйства, предоставленные на определенный срок, на срок одной или нескольких жизней (обычно трех). Это были чиншевые мансы (manses censiles), называвшиеся также mainfermes. Но в отличие от Италии, в Галлии это предоставление земли на определенный срок было редкостью. В основном держания были бессрочными. Их повинности, так же как и их срок, не были зафиксированы ни в каком письменном или хотя бы более или менее определенном договоре. Отношения сеньора и его людей регулировались только сеньориальным обычаем.
Мы касаемся здесь одного понятия, которое, будучи основным во всех областях средневековой юридической мысли, ни на что не оказывало столь сильного влияния, как на структуру сельского общества. С некоторым, но весьма небольшим преувеличением можно сказать, что эта целиком придерживавшаяся традиций эпоха жила мыслью, согласно которой только то, что практиковалось в течение долгого времени, имело право на существование. Традиция, кутюма (coutume), господствовавшая в той или иной группе, управляла ее жизнью. На первый взгляд может показаться, что подобная система должна была препятствовать всякому развитию. Ничего подобного. Иногда обычай оформлялся в письменных актах, в судебных постановлениях, в составленных путем обследования сеньориальных инвентарях, но в большинстве случаев он оставался устным. Короче говоря, полагались на человеческую память. Если какой-либо институт признавали действовавшим с незапамятных времен (de mémoire dhomme), его считали законным. Но человеческая память в высшей степени несовершенный инструмент, ее способность к забвению и особенно к искажению поистине удивительна! Результатом господства обычая была не столько задержка развития, сколько узаконение множества злоупотреблений и небрежностей, что мало-помалу превращало прецеденты в законы. Это было обоюдоострое оружие, служившее как сеньорам, так и их крестьянам. Во всяком случае, принцип, имевший благодаря некоторой своей гибкости как преимущества, так и недостатки, явно был лучше полного сеньориального произвола. При Каролингах, когда публичное правосудие еще имело некоторое значение, сеньориальный обычай использовался то сеньором против своих людей, то подданными против сеньора. С этого же времени его господство распространяется среди держателей не только на колонов, но также и на рабов{70}.
Одним из главных результатов действия обычая было фактическое превращение держаний, к какой бы юридической категории ни относились они сами или их обитатели, в почти единообразный тип наследственного держания. У сеньоров не было никаких причин противодействовать этому движению. Они покровительствовали ему, позволяя создаваться бесчисленным прецедентам. Какая им была корысть в том, чтобы отнять отцовское хозяйство у детей умершего колона или раба? Присоединить его к домену? Но домен, обработка которого осуществлялась благодаря барщине держателей, не мог увеличиваться бесконечно без того, чтобы не утратить свою земледельческую ценность. К тому же, когда земля без людей — господин без престижа. Привлечь другого держателя? Население было слишком редким, а необработанные земли слишком обширными, поэтому незанятая земля могла на долгое время остаться покинутой. Для франкской эпохи новым явлением была не наследственность свободных держаний, признанная, по-видимому, с давних пор, но распространение этого традиционного порядка на всю массу держателей, даже на рабов.
Было бы совершенно неверным видеть в отношениях сеньора и его подданных только экономическую сторону, как бы важна она ни была. Сеньор является господином, а не только руководителем предприятия. Он располагает по отношению к своим держателям политической властью, набирает из них в случае надобности свои вооруженные силы, а в качестве компенсации распространяет на них свое покровительство (mondebour). Здесь невозможно заняться невероятно сложным изучением судебных прав. Достаточно напомнить, что начиная с франкских времен частично в теории и, несомненно, в еще больших размерах на практике большинство дел, касавшихся подданных, рассматривалось в сеньориальном суде. Конечно, не один франкский, а позднее и не один французский барон ответил бы так же, как и шотландский горец, когда его спросили, какой доход приносит ему его земля: «Пятьсот человек»{71}.
С экономической точки зрения держатель имел по отношению к сеньору два типа обязательств: он должен был платить оброк и выполнять определенные работы. В сложном комплексе средневековых оброков не всегда легко распознать первоначальное значение каждого из них; одни представляют собой нечто вроде признания верховного вещного права сеньора на землю, нечто вроде компенсации со стороны держателя за пользование ею; другие, уплачиваемые с головы, являются признаком личной зависимости, в которой находятся отдельные категории зависимых людей; иные представляют собой плату за некоторые дополнительные преимущества (например, за пастбище), предоставленные мелким земледельцам; наконец, имеются оброки, представляющие собой просто-напросто бывшие государственные налоги, которые сеньоры присвоили себе. Некоторые из них взимаются в виде пропорциональной доли урожая. Но это довольно редкий случай. Большинство оброков фиксированы и уплачиваются иногда деньгами, а чаще всего натурой. Их тяжесть в целом велика, но она не сравнится с тяжестью различных работ. В каролингскую эпоху держатель больше барщинник, чем оброчник. В основном он напоминает тех хусмендов (husmend)[74], которым крупный норвежский собственник предоставляет ныне несколько клочков земли при условии, что они будут помогать в работе на главной ферме.
Среди различных работ, также довольно разнообразных, следует указать (оставляя в стороне некоторые менее интересные, например извозную повинность) две действительно характерные группы: земледельческие и ремесленные работы.
Внутри первой группы имеется еще одно разделение: на сдельную и поденную работу. С одной стороны, каждому владельцу маленького хозяйства выделялось некоторое количество домениальной земли и часто одновременно выдавались необходимые семена. Он отвечал за обработку этих полей. Весь урожай с них полностью шел сеньору. Это сдельная работа. Кроме того, он обязан был отработать несколько рабочих дней на сеньора, иногда очень точно: столько-то дней на пахоту, столько-то — на рубку леса и т. д. Распорядиться этим временем с максимальной пользой для домена — дело сеньора или его уполномоченных.
С другой стороны, поденная работа. Но в каком количестве? Это был самый насущный вопрос. Размеры барщины были различными в зависимости от сеньории, а внутри сеньорий они зависели от юридического положения крестьян или их мансов. Случалось, что в этом отношении обычай ничем не ограничивал произвол сеньоров, по крайней мере официально: держатель «отрабатывает дни, когда это необходимо», «когда он получает на это приказ». Иногда так бывало и для свободных мансов. Для рабских мансов — это очень частое явление, бывшее, несомненно, пережитком рабства. Разве раб не находился по самой своей природе постоянно в распоряжений господина? В других случаях количество дней точно определялось традицией. Оно было обычно весьма значительным. Три дня в неделю — вот наиболее распространенная норма. К тому же ее довольно часто превышали как во время некоторых сезонных работ, например жатвы, так и в течение всего года. Когда же крестьяне находили время для обработки своих собственных земель? Не следует забывать, что норма давалась не для каждого человека, а для держания, обычно для манса. А на каждой из этих земельных единиц жила по меньшей мере одна семья, иногда больше. Один из членов этой группы в течение нескольких дней в неделю ходил на барскую работу, иногда он должен был приводить с собой дополнительно, во время больших сезонных работ, одного или двух «рабочих», его товарищи трудились в это время на полях их небольшого хозяйства. Тем не менее очевидно, что подобная система предоставляла в распоряжение управляющего доменом весьма значительное число работников[75].
Это было еще не все. Крестьяне или по крайней мере некоторые из них должны были ежегодно доставлять сеньору определенное количество ремесленных изделий: поделки из дерева, ткани, одежду, а с некоторых мансов, где от отца к сыну передавались приемы квалифицированного ремесла, даже металлические орудия. Иногда держатель обязан был не только своим трудом, но должен был достать и необходимое сырье (для дерева это было, очевидно, правилом). Но когда речь шла о тканях, материал часто поставлял сеньор; крестьянин или его жена отдавали лишь свое время, свой труд и свое искусство. Работа выполнялась либо на дому, либо, во избежание лишнего расхода материала и его кражи (эта действительно рабская повинность тяготела только над испомещенными рабами и не касалась колонов), в сеньориальной мастерской, которую даже тогда, когда там работали мужчины, называли словом, ставшим привычным в поздней империи «гинекей». Таким образом, держание до такой степени считалось источником рабочей силы, что его использовали как для промышленного производства, так и для земледелия. В этом смысле можно определить сеньорию как огромное предприятие, одновременно сельскохозяйственное и промышленное, но главным образом сельскохозяйственное, в котором заработная плата была обычно заменена предоставлением земли.
* * *
Была ли эта сеньория франкской эпохи совсем недавним институтом, порожденным новыми социальными и политическими условиями, или же древним способом расселения, глубоко укоренившимся в сельских обычаях? Ответить на это гораздо труднее, чем кажется. Всегда ли мы отдаем себе ясный отчет в нашем глубоком невежестве относительно социальной жизни римской Галлий, особенно в течение первых трех веков нашей эры? Однако различные соображения побуждают нас видеть в средневековой сеньории прямое продолжение обычаев, восходящих к очень отдаленной эпохе, по меньшей мере к кельтской.
Согласно Цезарю, народы Галлии почти везде находились под властью знати. Эти могущественные люди были в то же время очень богаты. Несомненно, что большую часть своих богатств они извлекали из земли. Но каким образом? Едва ли можно предположить, что они управляли крупными хозяйствами, обрабатывавшимися отрядами рабов. Их сила, как мы знаем, была прежде всего в «клиентах», подчиненных, но свободных от рождения людях. Эти зависимые люди были, очевидно, слишком многочисленны, чтобы жить в доме господина; и так как нельзя себе представить, чтобы они концентрировались в редких и малонаселенных городах, то это, вероятнее всего, были в основном деревенские жители. Все ведет к тому, что галльская знать представляла собой класс деревенских господ, большую часть доходов которых составляли повинности подвластных им крестьян. К тому же, разве не сообщает нам мимоходом Цезарь, что кадурк Люктер имел в своей «клиентеле» Укселлодунум[76], являвшийся укрепленным поселком, почти городом? Можно ли сомневаться, что и Другие, чисто аграрные поселения также были «клиентами»? Быть может (но это не более, как предположение), этот порядок восходит к древней племенной системе; на примере нероманизированных кельтских обществ (как это можно наблюдать в Уэльсе в период развитого средневековья) становится ясно, что превращение вождя племени или клана в сеньора было довольно легким.
В период римского владычества в состав империи, где повсюду встречались аналогичные формы организации обработки земель, эти институты, вероятно, в основном сохранились. Разумеется, они должны были приспособиться к новым правовым и экономическим условиям. Несомненно, изобилие рабов вызвало вначале образование обширных сеньориальных доменов. Вряд ли в кельтскую эпоху существовали значительные домены. На примере того же Уэльса видно, что наличие домена, во всяком случае большого, не является такой необходимостью для существования режима земельной «клиентелы»; доходы господина могут состоять целиком или главным образом из приношений крестьян. Рабство, наоборот, требует создания крупного хозяйства. Впоследствии, когда применение рабской рабочей силы стало более редким, а домены остались и их владельцы не собирались от них отказываться, с держателей стали требовать более тяжелой, чем прежде, барщины, либо вместо тех или иных повинностей, либо в добавление к прежним обязанностям[77]. Земельная аристократия империи была могущественной и могла много требовать от своих людей. Однако уже в римском мире (в Галлии, вероятно, так же как и в других местах) каждая сельская сеньория имела в принципе свой закон, являвшийся ее обычаем (consue-tudo praedii){72}.
Яркие доказательства древности сеньориального порядка на нашей земле дает нам язык. Прежде всего топонимика. Очень многие названия наших французских деревень образованы от личного имени, к которому прибавляется суффикс, означающий принадлежность. Среди человеческих имен, которые входят в эти слова, встречаются, как мы видели, и германские. Но другие, встречающиеся более часто (с прибавлением различных суффиксов), являются более древними: кельтскими или римскими. Эти последние, лишенные, разумеется, всякого этнического значения, свидетельствуют всего лишь о повсеместном (после завоевания) использовании ономастики завоевателей. Например, от галльского имени Бренное (Brennos) произошел Бреннакум (Brennacum), из которого мы сделали Берни (Berny) или Бренак (Brenac); от латинского Флорус — Флориакум (Floriacum), давший, среди прочих вариантов, Флери (Fleury) и Флорак (Florae). Это не только французское явление: многие итальянские деревни, если ограничиться только ими, также сохранили в течение веков память о первоначальных эпонимах. Но нигде — насколько позволяет об этом судить современное состояние сравнительных исследований — этот обычай не был так распространен и устойчив, как в Галлии. От кого же, как не от вождей или сеньоров, получили многие населенные пункты свое название? Больше того, в то время как в германских языках нарицательные имена, служащие для обозначения сельского поселения, намекают на окружающую его ограду (town или township) или же (если рискнуть как-то объяснить это) вызывают лишь представление об объединении людей (dorf), галло-римский язык прибегал для этой цеди к термину villa, который в классической латыни означал, в сущности, сеньорию — крупную собственность, включавшую, как правило, и домен, и держания. Из него произошло сначала ville, a значительно позднее — village (при помощи уменьшительного суффикса, который должен был указывать на отличие мелких сельских поселений от крупных городских, которые одни могли теперь носить название ville). Как нам лучше доказать, что большинство деревень с самого начала имели сеньора? Я думаю, следует допустить, что средневековые сеньоры, несмотря на множество превратностей и, само собой разумеется, конфискаций, были через посредство владельцев римских вилл подлинными наследниками древних вождей галльских деревень.
Но покрывали ли сеньории во франкскую эпоху всю Галлию? Вероятно, нет. По всей видимости,- тогда еще существовали мелкие земледельцы, свободные от всякого оброка и барщины (за исключением, разумеется, тех повинностей, которые шли королю или его представителям) и подчинявшиеся при обработке своих земель (по крайней мере во многих местах) только общинным сервитутам, бывшим основой аграрной жизни. Эти люди жили или в своих отдельных деревнях, или рядом с держателями вилл, в одних с ними поселениях и на тех же самых землях. Мелкие собственники этого рода всегда существовали в римском мире (в Галлии, где с давних пор господствовала сельская «клиентела», их, может быть, было меньше, чем, например, в Италии). После вторжений их число, несомненно, увеличилось за счет германцев, поселившихся на галльской земле. Впрочем, нельзя считать, что все варвары или большинство их жили вне сеньориальной организации; уже на своей прежней родине они имели привычку, как об этом свидетельствует Тацит, повиноваться и приносить «дары» (приношения) деревенским вождям, которые были уже совсем готовы превратиться в сеньоров. Абсолютно невозможно даже приблизительно выяснить соотношение между населением в целом и владельцами крестьянских аллодов (аллодом называлась уже в раннее средневековье, а также и в дальнейшем земля, не знавшая над собой никакого верховного вещного права). Зато ясно видно, что независимости аллодистов постоянно угрожала опасность в силу того положения вещей, которое восходило, по меньшей мере, к последним временам Римской империи. Постоянные смуты, привычка к насилию, необходимость покровительства более сильного, которую испытывал каждый человек, злоупотребления властью, проистекавшие из-за слабости государства и весьма легко узаконивавшиеся обычаем, — все это приводило к тому, что все большее число крестьян волей-неволей попадало в сети сеньориальной зависимости. Сеньория была значительно старше франкской эпохи, но именно в это время она получает широкое распространение.
II. От крупного собственника к земельному рантье
Перенесемся теперь в 1200 год, во Францию Филиппа-Августа. Чем стала сеньория?
С первого же взгляда мы замечаем, что она продолжает господствовать в деревенском мире. В некоторых отношениях она представляется более сильной и более всеобъемлющей, чем когда-либо. Кое-где, например в Эно, еще встречаются крестьянские аллоды, но они представляют собой очень редкое явление, и их владельцы, будучи свободными от поземельных повинностей, не могут, однако, похвастаться полной свободой от сеньориальной зависимости. Хотя они и были аллодистами, они, тем не менее, оказывались иногда связанными с сеньором узами серважа, которые, как мы это увидим, не касаясь земли, очень крепко держали человека. Суды, от которых они зависели, были почти везде судами соседних сеньоров. Таким образом, сеньоры захватили правосудие в свои руки. Однако нельзя сказать, что не осталось больше следов юрисдикции по публичному праву, действовавшей в предыдущую эпоху. Основное различие в каролингском государстве между «большими делами» (causes majeures), подлежащими юрисдикции графа (в те времена королевского чиновника), и «малыми делами» (causes mineures), подлежащими разбору низших чиновников или некоторых сеньоров, сохранилось (в более «ли менее измененном, но еще узнаваемом виде) в противопоставлении низшей юстиции высшей (право судить преступления, за которые полагается смертная казнь или предусматривается поединок как средство судебного доказательства). На многих землях три раза в год еще собираются «общие суды» (plaids généraux), большие судебные собрания, упорядоченные законодательством Карла Великого. По крайней мере в Северной Франции старые каролингские судьи — эшевены — еще не перестали собираться на свои заседания. Но вследствие пожалований, иммунитетов, раздававшихся королями в большом количестве, наследственности должностей, превратившей потомков бывших государственных чиновников в несменяемых начальников, и, наконец, вследствие множества злоупотреблений властью и узурпации эти государственные институты выскользнули из рук государства. Теперь сами сеньоры в силу унаследованного, уступленного или купленного права назначают эшевенов или созывают судебные собрания[78]. Высшая юстиция также является наследственной и отчуждаемой привилегией большого числа сеньоров, которые без какого бы то ни было контроля со стороны суверена осуществляют ее в своих землях, а иногда даже и в соседних поместьях, владельцы которых пользуются меньшими привилегиями. Наконец, низшая юстиция и земельная юстиция (то есть суд, занимающийся мелкими правонарушениями и делами, относящимися к держаниям) осуществляется в каждой сеньории самим сеньором или по крайней мере судом, который он назначает, созывает и возглавляет — сам или через своего представителя — и постановления которого он заставляет выполнять. В отличие от Англии, где в форме судов графства, а иногда сотни сохранялись древние народные суды по германскому праву; в отличие даже от Германии, где суверен сохранял, по крайней мере в теорий, вплоть до XIII века право непосредственной инвеституры по отношению к сеньорам, обладавшим высшей юстицией, и где не совсем исчезли суды для свободных людей, — во Франции правосудие являлось делом сеньоров. Попытки королей в рассматриваемый период вновь подчинить своей власти правосудие (при помощи средств, подробное описание которых здесь излишне) только начинались и были гораздо более робкими, чем в Англии.
Между тем почти неограниченные судебные права дали в руки сеньорам очень грозное оружие экономической эксплуатации. Оно усилило их политическую власть, то, что на языке того времени (употребляя старое германское слово, в точности означающее «приказ») называлось баном (ban) сеньоров. «Вы можете принудить нас соблюдать эти правила ((печной баналитет), — признают в 1246 году жители одной руссиньонской деревни, обращаясь к тамплиерам, владельцам этого места, — поскольку сеньор может и должен принуждать своих подданных». Еще около 1319 года поверенный одного пикардийского сеньора потребовал, чтобы один крестьянин отправился рубить лес (это вовсе не барщина; труд будет оплачен по таксе «рабочего»). Крестьянин отказался. Тогда сеньориальный суд присудил его к штрафу за то, что он «ослушался»{73}. Среди многих средств, которые должны были обеспечить на практике это повиновение, одним из наиболее знаменательных и практически наиболее важных было создание сеньориальных монополий.
В каролингскую эпоху домен часто имел в своем составе водяную мельницу (ветряная мельница еще не получила распространения на западе). Без сомнения, обитатели мансов довольно часто носили туда свое зерно. Это приносило сеньору довольно значительную выгоду. Но ничто не указывает на то, что крестьяне обязаны были это делать. Многие из них, вероятно, еще пользовались дома старыми ручными мельницами. Начиная с X века очень многие сеньоры, опираясь на свое право принуждения, заставили пользоваться своей мельницей (разумеется, за плату) всех людей своего поместья, а иногда, когда их судебные права или фактическая власть распространялись и на другие, менее привилегированные сеньории, также и жителей соседних имений. Эта концентрация сопровождалась некоторым техническим прогрессом: окончательной заменой силы человека «ли животных силой воды. Возможно, что это усовершенствование способствовало концентрации, ибо водяная мельница обязательно предполагает общее для всей группы поселение, и, кроме того, сама река или ручей были зачастую домениальной собственностью. Во всяком случае, концентрация способствовала прогрессу: без приказа сверху сколько бы еще времени оставались крестьяне верными домашним мельницам? Но ни эволюции орудий, ни права сеньора на проточные воды не были решающими факторами в этом усилении сеньориальной эксплуатации, так как мельничный бан — характерен уже сам термин — был самой распространенной, но далеко не единственной сеньориальной монополией. Другие формы сеньориальных монополий не были связаны ни с техническими изменениями, ни с собственностью на проточные воды.
Печной баналитет получил почти такое же повсеместное распространение, как и мельничный. Такое же распространение получили баналитетный пресс (в областях производства вина или сидра) и баналитетная пивоварня (в районах пивоварения). Земледельцев, желавших увеличить свои стада, часто заставляли использовать баналитетного быка или кабана. На юге, где для молотьбы вместо цепов обычно использовали лошадей (топтавших колосья), многие сеньоры заставляли держателей брать для этой работы только лошадей из домениальных конюшен, притом за хорошую плату. Наконец, довольно часто монополия принимала совершенно невероятную форму: в течение нескольких недель в году только сеньор имел право продавать те или иные продукты, обычно вино. Это был винный бан (banvin). Конечно, Франция не была единственной страной, где господствовали эти принуждения. В Англии существовали и мельничный бан, и монополизированная продажа пива, и даже принудительная его покупка; в Германии существовали почти все те монополии, что и у нас. Но именно во Франции эта система достигла своего апогея; нигде она не охватывала такого количества сеньорий, а внутри каждой из них — наиболее разнообразных форм экономической деятельности. Это было, несомненно, результатом усиления власти сеньоров, а последнее — следствием того, что они сосредоточили в своих руках почти всю полноту судебной власти. Пытаясь в XIII веке теоретически осмыслить социальные условия общества, юристы проявили очень верное чутье, связав (различным образом, в зависимости от автора и рода монополий) баналитеты с организацией правосудия. Право судить было самой надежной опорой права приказывать[79].
Независимо от баналитетов существовали в основном и старые повинности, с бесконечным разнообразием в деталях, что объясняется действием местных обычаев, прецедентами, забвением и насилием. Но наряду с ними были введены две новые повинности: десятина и талья{74}.
По правде говоря, десятина была уже старым институтом. Новым было лишь то, что отныне ее прибрали к своим рукам сеньоры. Придавая силу закона древнему предписанию Моисея{75}, которое христианское учение давно превратило (но без согласия государства) в моральную обязанность для своих приверженцев, Пипин и Карл Великий постановили, что каждый верующий должен отдавать в пользу церкви десятую часть всех своих доходов, в частности своего урожая. В пользу церкви? Да, но практически кому из ее представителей? Я не буду излагать здесь решения, которые пыталось дать каролингское законодательство. Нам важен только конечный результат. Так как сеньоры были с давних пор фактическими хозяевами находившихся на их землях церквей, священников которых они сами назначали, то они и присваивали львиную долю приходских доходов (особенно десятину или по крайней мере значительную часть ее). В конце XI века началось великое движение за независимость духовной власти, которое принято называть грегорианской реформой. Его вожди включили в свою программу возвращение десятины духовенству. Многое действительно было постепенно возвращено церкви благодаря благочестивым дарениям и выкупам. Но, как правило, все это шло отнюдь не священникам и даже не епископам. Дарения шли преимущественно капитулам и монастырям, которые владели святыми реликвиями и вознаграждали дарителей молитвами своих монахов. Когда же речь шла о выкупе, то необходимые для этого средства легче всего могли найти эти же богатые монастыри. Таким образом, в конечном счете это движение не ликвидировало сеньориального характера десятины, а скорее превратило ее главным образом (но не исключительно) в типичный доход определенной категории сеньоров. Вместо того чтобы расходиться по рукам мелких дворянчиков или приходских кюре, мешки с зерном стали отныне сосредоточиваться в амбарах нескольких крупных сборщиков десятины, которые отправляли их на рынок. Без этой эволюции, кривую которой определяли движущие силы религиозного порядка, где бы нашли себе пропитание города, столь интенсивно развивавшиеся в XII–XIII веках?
Что касается тальм, то она красноречиво свидетельствовала о тесной зависимости группы держателей от своего сеньора. Весьма знаменательным является одно из названий, которое так же часто, как и талья, служило для обозначения этой повинности, — «помощь» (aide); обычно считалось, что в трудных обстоятельствах сеньор имеет право на помощь со стороны своих людей. В соответствии с надобностью эта помощь принимала различные формы: военная помощь, кредит деньгами или продуктами, право постоя (gîte) господина, его свиты и гостей, наконец, в случае крайней необходимости, предоставление определенной денежной суммы. Вот случаи, когда сеньор, наличные средства которого никогда не были значительными (в тот период деньги были редки и оборачивались очень медленно), оказывался внезапно вынужденным совершать из ряда вон выходящую трату: уплата выкупа, праздник по случаю посвящения сына в рыцари или выдачи дочери замуж, выплата субсидии, требуемой вышестоящим сеньором (например, королем или папой), пожар замка, строительство какого-либо здания, покупка каких-нибудь земель, необходимых для округления земельных владений. В этом случае сеньор обращался к своим, подданным и «просил» их [иногда талья носила вежливое название «просьба» (demande или queste)], то есть практически требовал [отсюда и термин «требование» (exactio), чередующийся с предыдущими] помощи их кошелька. Он обращался ко всем своим подданным, к какой бы категории они ни принадлежали. Если существовали другие сеньоры, бывшие его «вассалами», то он не пренебрегал при случае обращаться и к ним. Но основная тяжесть этих податей ложилась, конечно, на держателей. Первоначально взимание тальи не знало определенной периодичности и размеры ее всегда были различны; историки имеют обыкновение называть ее произвольной тальей. В силу этих особенностей и невозможности предвидеть, когда и в каком размере будут ее взимать, сбор тальи представлял большие неудобства; в силу нерегулярности ее нельзя было приобщить к рутине обычных повинностей. Ее законность долгое время оспаривали. Сбор тальи вызывал крестьянские восстания и осуждения даже некоторых церковных организаций, почитавших доброе право, то есть традицию. Затем, в результате общей экономической эволюции, потребность сеньоров в деньгах, а следовательно и их требования сделались более частыми. Вассалы, достаточно сильные для того, чтобы воспротивиться бесконечным поборам, заставили, как правило, признать, что они обязаны тальей лишь в некоторых случаях. Для каждой группы вассалов или каждого района эти случаи были различными и зависели от обычаев, присущих этой группе или району. Крестьяне были менее способны к сопротивлению: внутри сеньории талья почти всюду становилась ежегодной. Величина тальи продолжала оставаться непостоянной. Однако в XIII веке усилия сельских общин, которые пытались тогда повсюду упорядочить и стабилизировать повинности, были направлены на то, чтобы сделать неизменной (за исключением некоторых особых случаев) выплачиваемую каждый год сумму, как говорили, «абонировать ее», то есть положить ей определенный предел. Около 1200 года это движение только лишь начиналось. Абонированная или нет, но талья приносила сеньорам капетингской Франции (как, впрочем, и значительной части Европы) весьма значительные дополнительные ресурсы, которых недоставало их предкам во франкскую эпоху.
* * *
Основной причиной запутанности и сложности юридического статуса, характерных для держателей раинесредневековых сеньорий, было прежде всего сохранение традиционных, часто более или менее устаревших категорий, унаследованных от различных правовых систем (римской и германских), противоречивые элементы которых существовали рядом друг с другом в каролингском обществе. Смуты последующих веков, уничтожив во Франции, как и в Германии (в отличие от Италии и даже от Англии) всякое преподавание права, всякое изучение и сознательное применение в судах римских кодексов или варварских правд, привели к большому упрощению[80].
То же происходит с языками (например, с английским в период между нормандским завоеванием и XIV веком), когда они утрачивают свое литературное значение и не упорядочиваются грамматиками и стилистами. В этот период они подвергаются упрощению, и классификации их часто рационализируются; если оставить в стороне некоторые пережитки, встречающиеся в ходе любой эволюции, то можно сказать, что во Франции XI–XII веков каждый держатель, или, говоря языком того времени, каждый «виллан» (житель виллы, как в старину называлась сеньория), является по своему положению «свободным», или «сервом»{76}.
Свободный виллан связан со своим сеньором только в том отношении, что он держит от него участок и живет на его земле. В некотором роде он представляет собой держателя в чистом виде. Поэтому его обычно называют или вилланом, или «госпитом» (hôte), или «жителем» (manant), то есть такими именами, которые сами по себе указывают, что в основе его повинностей лежит простой факт жительства. Не будем заблуждаться относительно этого прекрасного слова «свобода» (liberté). Оно просто противопоставляется очень своеобразному понятию рабства, что мы сейчас увидим, но не имеет, конечно, абсолютного значения. Виллан принадлежит к сеньории. Вследствие этого он обязан своему господину не только различными повинностями, представляющими собой в некотором роде плату за пользование землей, но также и всеми видами феодальной помощи (в том числе тальей) и повиновения (в том числе подчинение юрисдикции сеньора со всеми его последствиями), которые свидетельствуют о его зависимости. Взамен он получает право на покровительство. Призывая в 1160 году в свое новое поместье Бонвилль (Bonneville), около Кульмье (Goulmiers), госпитов, которые, конечно, будут освобождены от всех цепей серважа, госпитальеры обязуются «охранять и защищать их во время мира и войны, как своих». Группу жителей и сеньора связывает взаимная солидарность. Некий «буржуа» (свободный) из Сен-Дени убит ударом ножа, — убийца платит штраф аббату. Монахи приорства богоматери в Аржантёй (Argenteuil), каноники Парижского капитула, пренебрегли уплатой ренты, которую они обязаны были платить согласно договору, — кредитор наложит арест на имущество держателей или подвергнет аресту их самих{77}. Но какова бы ни была сила этих связей, они сразу порываются, если виллан покидает свое держание.
Серв также живет обычно на держании. На этом основании он подчиняется тем же обычаям, что и все жители, независимо от их положения. Но он подчинен, кроме того, особым правилам, вытекающим из его собственного статуса. Серв — это прежде всего виллан, но это еще не все. Хотя он и унаследовал старое название римского раба (servus), он вовсе не раб. По правде говоря, в капетингской Франции рабов практически больше не существовало. Тем не менее обычно считалось, что серв несвободен. Дело в том, что понятие свободы или, если угодно, отсутствия свободы, постепенно изменило свое содержание. Эти изменения раскрывают само развитие института рабства. Впрочем, разве социальная иерархия была когда-нибудь чем-либо другим, кроме системы коллективных воззрений, изменчивых по самой своей природе? В глазах человека XI—XII веков свободным является только тот, кто избавлен от всякой наследственной зависимости. Таков виллан в узком смысле слова, для которого перемена держания означает перемену господина. Таков военный вассал; неважно, что на практике он почти всегда связан с тем бароном, под знаменем которого служил до этого его отец, или что после смерти своего первого господина он клянется в верности одному из его потомков (если он не сделает этого, он потеряет свои фьефы). Юридически взаимные обязательства вассала и его сеньора определяются торжественным договором, оммажем, который соединяет только двух человек, причем этот договор заключается добровольно и скрепляется вложением рук в руки. Серв, напротив, является сервом определенного сеньора еще в утробе матери. Он не выбирает своего господина. Следовательно, для него нет никакой «свободы».
Для обозначения серва служили и другие характерные названия. Его охотно называли homme propre (собственным человеком сеньора), или, что почти равноценно, его homme lige, или homme de corps. Эти названия вызывают мысль о сугубо личной связи. На юго-западе (институты этого края, часто весьма отличные от институтов других провинций, еще мало известны), вероятно, издавна можно было стать сервом только в результате простого факта жительства на некоторых землях; таких людей называли serfs de caselage. Эта ненормальная практика подтверждает вывод, к которому мы приходим и на основе других признаков: система личных отношений (серваж и вассалитет являются лишь одним из ее аспектов), несомненно, имела на значительной части территории юга меньшее распространение, чем в центре и на севере. Повсюду в других местах (несмотря на отдельные попытки сеньоров установить такой порядок, когда поселение на некоторых землях неизбежно должно сопровождаться принятием звания серва) связь сервов с сеньором осталась именно «телесной» (corporelle). С самого рождения серва и даже самим фактом его рождения эта связь была связью «по плоти и кости», как сказал впоследствии юрист Ги Кокиль[81].
Таким образом, серв был наследственно прикреплен именно к человеку, а не к держанию. Не нужно смешивать его с колоном поздней империи, от которого он довольно часто происходит по крови, но с которым совершенно не схож по своему положению. Колон, будучи в принципе человеком свободным, то есть, согласно классификации того времени, стоявшим выше раба, был по закону наследственно прикреплен к своему хозяйству; он был, как говорили, рабом не человека (это превратило бы его просто в раба), но вещи — земли. Неуловимая фикция, совершенно чуждая здравому реализму средневекового права, к тому же она могла иметь практическое применение лишь в сильном государстве. В таком обществе, где существовало множество сеньориальных юрисдикции, а над ними не было никакой верховной власти, эта «вечная» связь человека с землей не имела никакого смысла. Юридическое сознание, избавившееся, как мы видели, от пережитков, не видело никаких оснований сохранять это понятие. Раз уж человек ушел, кто его схватит за шиворот? Кто тем более заставит нового господина, возможно уже принявшего его, вернуть его обратно{78}? Мы имеем довольно много определений серважа, сделанных судами или юристами; до XIV века ни одно из них не упоминает среди характерных признаков этого состояния прикрепление к земле в какой бы то ни было форме. Несомнено, сеньоры были жизненно заинтересованы в том, чтобы обезопасить себя от бегства населения, и не стеснялись при случае силой удерживать своих держателей. Часто двое соседних сеньоров обязывались друг перед другом не предоставлять убежища беглецам. Но эти постановления, находившие свое оправдание в повсеместной власти бана, применялись по отношению к вилланам (называвшимся свободными) в такой же мере, как к сервам. Вот лишь два примера из многих. Монахи Сен-Жан-ан-Валле (Saint-Jean-en-Vallée) и монахини Монмартра заключили договор, в котором обязались не принимать в Мантарвилле (Mantarville) и Бург-ла-Рэне (Bourg-la-Reine) «серbob и других людей, кем бы они ни были», из Сен-Бенуа-сюр-Луара (Saint-Benoît-sur-Loire), a также «сервов и госпитов Парижского собора богоматери». Точно так же, когда мессир Пьер де Донжон заявляет, что постоянное жительство является строгой обязанностью для всякого, кто будет держать землю в Сен-Мартен-ан-Бьер (Saint-Martinen-Bière), он нисколько не заботится о том, чтобы отметить юридические категории среди подданных, которых касается этот приказ{79}. Уход серва настолько мало изменял его правовое положение, что иногда он определенно предусматривался заранее: «Я дарю святому Мартину, — говорит в 1077 году сир Галеран, — всех моих сервов мужского и женского пола из, Ноттонвилля (Nottonville)… на таких условиях, что, если даже кто-либо из их потомства, мужчина или женщина, отправится в другое место, близкое или дальнее, в другую деревню или в бург, в укрепленный или неукрепленный Город, он, тем не менее, будет связан с монахами теми же узами серважа»{80}. Когда серв уходит, то в отличие от виллана (вышеприведенный текст, а также многие другие ясно свидетельствуют об этом) он вовсе не разрывает этим свои цепи. Если он устроится в другом поместье, то по отношению к своему новому сеньору он будет отныне обязан обычными вилланскими повинностями. Но по отношению к своему старому господину, которому продолжает принадлежать его «тело» (corps), он по-прежнему будет нести повинности серва. Будучи обязан феодальной помощью обоим сеньорам, он, если это имеет место, платит талью дважды. Таково было по крайней мере право. Практически же многие из этих беглецов терялись в массе бродячих людей. Но сам принцип не подлежит сомнению. Существовало только одно законное средство разорвать столь крепкую связь: торжественный акт освобождения.
Какие повинности и юридические ограничения связаны с той зависимостью, в которой находится серв? Вот самые распространенные из них.
Сеньор (даже если по отношению к другим держателям он лишен права высшей юстиции) является единственным судьей своего серва по уголовным делам, где бы последний ни жил. Это приводило к усилению политической власти сеньора и приносило ему довольно ощутимые выгоды, ибо право судить весьма прибыльно.
Серв может брать жену (или крепостная — мужа) только среди сервов того же сеньора; эта мера должна была обеспечить господство сеньора и над детьми серва. Иногда, однако, парень или девушка настойчиво просили и добивались разрешения жениться или выйти замуж вне сеньории (formarier). За деньги, разумеется. Это еще одна статья доходов.
Сервы, мужчины и женщины, должны платить сеньору ежегодную подать — шеваж (chevage). Снова выгода, впрочем, довольно незначительная, так как главное назначение этого поголовного налога состоит в том, чтобы свидетельствовать о состоянии серважа.
В некоторых случаях (или в некоторой степени) сеньор наследует серву. Развились две различные системы наследования. Первая встречается главным образом на крайнем севере и представляет собой почти полнук> аналогию с обычаями, широко распространенными как в Англии, так и в Германии. Согласно этой системе, в случае смерти серва сеньор получает небольшую часть его наследства: лучшую вещь из движимого имущества, лучшую голову скота или же очень небольшую сумму денег. Другая система, называвшаяся обычно правом «мертвой руки» (mainmorte), является специфически французской и, кроме того, наиболее распространенной в нашей стране. Если у серва остаются дети (постепенно вводится ограничение — если дети жили вместе с ним), сеньор не получает ничего; если же остаются только непрямые родственники, то сеньор забирает все. Отметим, что обе системы предполагают наследственность держания, которая установлена обычаем столь же прочно для серва, как и для виллана (кроме исключительных случаев), поэтому в хартиях сервы обычно называются владельцами наследственных имуществ (heredes). Словом, каков бы ни был принятый способ взимания, доходы были или очень малы, или очень нерегулярны. Земли было еще слишком много, а рабочих рук не хватало для того, чтобы несколько участков земли были бы для сеньоров (которые к тому же, как мы увидим далее, переходили к ликвидации собственных доменов) соблазнительной добычей.
Рассматривать серва только как человека, наследственно прикрепленного особенно крепкими узами к более могущественному, чем он, лицу, это значит иметь неполное представление о серваже. Вследствие двойственности, которую следует считать одной из наиболее ярких особенностей этого института, статус серва превращает его не только в подданного одного господина, но и в члена низшего и презираемого класса (с точки зрения социальной иерархии). Он не может давать показания в суде против свободных людей (исключение составляют сервы короля и некоторых церквей в силу положения их господ). Церковные каноны, мотивируя это слишком большой зависимостью серва, а фактически просто применяя к нему правила, касавшиеся некогда рабов, запрещали ему вступать в духовное сословие, если только он не получит освобождения. Звание серва, бесспорно, накладывало на человека пятно (macule); но оно представляет собой также (а в то время — прежде всего) связь одного человека с другим.
Сервы встречались почти по всей Франции или под этим названием, или, как это было в некоторых отдаленных районах (Бретань, Руссильон), под другими и с некоторыми отличиями в их положении[82].
При изучении положения людей в средние века никогда не нужно, как правило, слишком долго останавливаться на терминах, изменяющихся в зависимости от районов и даже деревень. Да разве могло быть иначе в раздробленном обществе, где не было свода законов, юридического обучения и центрального правительства (единственных сил, способных унифицировать терминологию)? Никогда не нужно также поддаваться гипнозу деталей, которые сами по себе тоже обладают бесконечными нюансами, ибо в каждодневной практике все регулировалось сугубо локальными обычаями, которые неизбежно фиксировали и увеличивали расхождения, даже если последние были при своем возникновении совсем незначительными. Если же придерживаться основных принципов, то можно очень быстро заметить, что эти важнейшие понятия, соответствующие самым главным направлениям общественного мнения, очень просты и в то же время почти везде одинаковы. В зависимости от провинции и даже от сеньории сервы различались как по своему названию, так и по положению. Но при всем этом разнообразии в XI–XII веках имелось (быть может уже европейское, во всяком случае французское) понятие серважа. Его-то я и пытался охарактеризовать.
Однако один район стоит особняком — Нормандия. Серваж, по-видимому, здесь никогда не был особенно развит. Самый близкий к нам по времени текст, в котором есть упоминание о людях, определенно принадлежащих к этому классу, очевидно, был составлен вскоре после 1020 года. Как и для полей неправильной формы области Ко, ключ к разгадке этой аномалии дает, возможно, заселение. В английской «области датского права», то есть в той части Англии, которая испытала сильное скандинавское влияние, положение сельской массы сохранило тот же характер свободы. В этой области он ощущается гораздо сильнее, чем в других частях страны. Это сопоставление, во всяком случае, наводит на размышления.
За исключением Нормандии, сервы не только были повсюду распространены во Франции, но почти везде они были гораздо многочисленнее простых вилланов. Они составляли большинство сельского населения, жившего под властью сеньории.
В этом классе постепенно смешались «в результате медленной и скрытой революции»[83] потомки людей, обладавших различным юридическим статусом: испомещенных рабов, колонов, вольноотпущенников по римскому или германскому праву и, может быть, мелких аллодистов. Статус некоторых из них, несомненно самых многочисленных, изменился постепенно, без специального договора, в результате одного из тех незаметных сдвигов, столь естественных в обществе, где все основывалось только на прецеденте и неустойчивой традиции. Другие сознательно отказались от своей свободы. Картулярии сохранили нам много примеров этих отдач самих себя. Многие бывшие свободные крестьяне попадали в цепи рабства, якобы по своей собственной воле (на самом деле чаще всего из страха перед опасностями изолированного существования, под давлением голода или угроз). Это было новое рабство, ибо старые названия незаметно для людей, без конца употреблявших их, постепенно приобрели значения, очень далекие от их первоначального смысла. Когда после вторжений умножились связи зависимости, для их обозначения не было создано совершенно новых терминов. Создавшийся постепенно сложный словарь многое заимствовал, в частности из терминологии рабского общества. Это имело место даже тогда, когда дело касалось не наследственных отношений и притом более высокого порядка: термин «вассал» происходит от кельтского, а затем римского слова, обозначавшего раба; обязанности вассала составляют его «службу» (service) — слово, которое в классической латыни было применимо только к рабской повинности (в отношении свободного человека надлежало говорить officium). С еще большим основанием эти смысловые изменения были часты в более низкой сфере узко наследственных связей. В каролингскую эпоху юридический словарь тщательно сохраняет за рабами название servi, но в повседневной речи оно уже распространялось на всех подданных сеньории. Завершением этой эволюции явился серваж; под старым ярлыком пред нами предстал один из главных элементов изменившейся социальной системы, в которой преобладали отношения личной связи, регулируемые в деталях обычаями отдельных групп.
Что принес этот институт сеньорам? Бесспорно, большую власть, а кроме того, отнюдь не малые доходы. Но в смысле рабочей силы они получили немного. Серв являлся держателем, который неизбежно расходовал свои силы главным образом на своем участке, кроме того, его повинности, как и повинности других держателей, обычно были зафиксированы кутюмой. Рабовладельческий строй предоставлял в распоряжение хозяев прежде всего рабочую силу. Система серважа давала ее сеньорам лишь в очень ограниченных размерах.
* * *
Две особенности, в основном касавшиеся самой структуры французской сеньории конца XII века, противопоставляли ее как галло-франкской сеньории раннего средневековья, так и большинству современных ей английских и германских поместий: распадение манса, неделимой податной единицы, и сокращение барщинных работ. Оставим пока в стороне первый вопрос и сосредоточим наше внимание на втором.
Нет больше ремесленной барщины. Несомненно, сеньоры сохранили привычку вознаграждать отдельных ремесленников, которых они в небольшом числе поселяли вокруг своей усадьбы, пожалованием держаний (которые, как и все держания, обязанные главным образом службами, называются обычно фьефами). Но в своей массе держатели не поставляют уже больше изделия из дерева или дранку, ткани или одежду; поставка кос или копий лежала теперь на обязанности только редких фьефов кузнецов; двери гинекеев закрылись. В начале XII века мэры Шартрского собора богоматери, то есть сеньориальные служащие, управлявшие различными поместьями, заставляли еще жителей прясть и ткать шерсть, но для своей собственной выгоды и незаконно; нет никаких свидетельств того, что запрещавшие им это вымогательство каноники сохранили бы для себя доход от этой повинности{81}. Отныне сеньоры удовлетворяли свои потребности за счет повинностей, требуемых с городских ремесленников, если они имели под своей властью город; гораздо чаще — за счет труда домашних ремесленников, оплачиваемых предоставлением земли или как-нибудь иначе; главным же образом — за счет покупок на рынке.
Почему же они перестали требовать с держателей эти работы, которые в свое время доставляли замку или монастырю столько предметов, вероятно, очень топорных, но все-таки годных для употребления и не обременявших сеньора никакими расходами на оплату рабочей силы? Замена замкнутой экономики экономикой, основанной на обмене? Эта формула, несомненно, довольно точно характеризует явление, если рассматривать его изнутри сеньории. Но можно ли думать, что сеньориальная экономика была вовлечена в общий для всей страны развитый обмен я подверглась в свою очередь действию всеобщего потрясения, которое, увеличивая повсюду количество производимых для рынка товаров, облегчая и ускоряя обращение, ценностей, сделало в конце концов широко практикуемую покупку более выгодной по сравнению с замкнутым производством? Эта гипотеза была бы приемлемой лишь в том случае, если бы исчезновение ремесленной барщины последовало бы за возрождением торговли подобно тому, как результат какой-либо социальной перестройки следует обычно за своей причиной, то есть с некоторым запозданием. Кроме того, поскольку возобновление более активного обращения не сразу сказалось во всех частях Франции, долгое время то там, то здесь продолжали существовать пережитки повинностей старого типа. Но, насколько позволяют судить источники, к сожалению очень скудные, процесс исчезновения этой барщины видимо завершился везде в начале XII века, следовательно, слишком рано и слишком единообразно для того, чтобы его можно было приписать прогрессу торговли, находившейся в то время еще в весьма зачаточном состоянии. Больше оснований считать его одной из сторон той очень глубокой и общей перемены, которая произошла тогда в жизни всего сеньориального организма и, несомненно, в свою очередь оказала воздействие на развитие французской экономики в целом. Вероятно, настало время, когда новое изобилие товаров на рынках побудило сеньоров увеличить свои покупки. Но, может быть, сначала рынки расширились до неведомых ранее масштабов для того, чтобы во многом удовлетворить новые потребности сеньоров? В едва лишь начатом изучении обмена изменения в сеньории должны, по-видимому, занимать первостепенное место. Сущность важной метаморфозы, которую претерпел между IX и XII веками этот старый институт, станет еще яснее после рассмотрения земледельческой барщины.
Возьмем для сравнения конкретный пример. Деревня Тиэ (Thiais), к югу от Парижа, принадлежала (по крайней мере с периода правления Карла Великого и до революции). монахам аббатства Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Près). При Карле Великом большая часть владельцев свободных мансов была обязана здесь тремя рабочими днями в неделю (из них два дня — на пахоту, если она имела место, один — на ручные работы), кроме того, они обязаны были обработать под свою полную ответственность четыре квадратных перша (13–14 аров) сеньориальной земли на озимом поле и два перша на яровом и, наконец, выполняли по воле сеньора извозную повинность. Для некоторых других мансов продолжительность ручных работ устанавливалась сеньорами произвольно. Что касается рабских мансов, то с каждого из них требовались обработка четырех арпанов (35–36 аров) монастырского виноградника, а пахота и ручные работы «по получении приказа». В 1250 году эта местность была освобождена от серважа; по этому случаю ей была дарована хартия, содержавшая общий регламент повинностей. Уничтожены были только обязанности, связанные с серважем. Другие были просто записаны в соответствии с обычаем, который считали древним, но который на деле сложился лишь в начале века. Никаких следов обработки участками. Каждый держатель обязан был аббатству барщиной: один день в году на покос и, если он имеет тягловый скот, девять дней пахотных работ[84]. Следовательно, десять дней в году для держателей, наиболее отягощенных повинностями. Ранее держатели, наиболее защищенные от произвола сеньора, обязаны были отработать на него сто пятьдесят шесть дней в году. Правда, такого рода сравнение не совсем точно. Мане мог иметь в своем составе много семей. В 1250 году, напротив, барщину обязан был нести, по-видимому, каждый глава семейства. Но если даже предположить, что на каждом мансе в среднем сидели только две семьи (чего в действительности не было), разница остается огромной.
Иногда перемены были еще более значительными. Две хартии, регламентировавшие обычаи и копировавшиеся в XII веке повсюду, в конце концов получили широкое распространение во многих областях. Это были хартии Бомона в Шампани и Лорриса в Гатинэ, которые не содержали больше никаких принудительных земледельческих работ. Правда, в противоположность им, в некоторых местных кутюмах серв еще считается «обязанным барщиной по воле сеньора» (corvéable à merci), как и каролингский servus, но эти случаи крайне редки, и, вероятно, они лишь пытаются утвердить принцип, на практике достаточно лишенный смысла. Зачем сеньору такое количество рабочих дней? Мы увидим, что, как правило, они не нужны ему. Пример с Тиэ (Thiais), несомненно, является обыденным и нормальным случаем. Обработка участками исчезла полностью. Поденная работа еще существует, но и она сведена к минимуму. И этот достигнутый к 1200 году этап был почти окончательным. Таким был обычный распорядок барщин при Филиппе-Августе, таким он остался в основном еще и при Людовике XVI.
Априори возможны два объяснения этого невероятного уменьшения земледельческой барщины: или сеньор нашел новый источник рабочей силы для обработки своего домена, или же он свел к минимуму сам домен[85].
Первому предположению противоречат факты. Действительно, где мог найти сеньор рабочую силу, не считая барщины? В рабстве? Оно окончательно умерло, ибо рабов невозможно было достать. Конечно, войны не прекратились. Но уже считалось немыслимым, чтобы война христиан с христианами доставляла рабов. Религиозное учение признавало всех приверженцев христианского общества (societas Christiana) членами одного и того же Великого Града, которые не могут порабощать друг друга, оно запрещало обращать в рабство пленников, за исключением неверных или — иногда с некоторым колебанием — схизматиков. По этой причине в средние века рабы встречались в большом количестве лишь в тех местах, куда их, печальных жертв набегов, совершавшихся вне христианского или вне католического мира, легко было доставлять: на восточной границе Германии, в Испании периода Реконкисты в тех странах Средиземного моря, где корабли выгружали для рынков пестрый человеческий скот — африканских негров, «смуглых» мусульман, греков и русских, похищенных татарскими или латинскими корсарами. Само название esclave, заменившее старое слово servus в его первоначальном значении (смысл которого, как мы знаем, изменился), является лишь этническим термином; esclave (раб) или slave (славянин) — это одно и то же. Сам язык указывает на происхождение тех несчастных, которым пришлось окончить свои дни в германских пограничных замках или в услужении у итальянских горожан. Следовательно, во Франции XII века (оставляя в стороне некоторые единичные случаи) рабство существовало еще только в среднеземноморских провинциях. Но даже там — в отличие от некоторых иберийских районов, например Балеарских островов, — людской товар был слишком редким и слишком дорогим, чтобы его можно было широко использовать на полевых работах. Рабов использовали в качестве слуг, служанок или наложниц, но совсем или почти совсем не использовали как батраков и батрачек.
Что касается сельскохозяйственного наемного труда, то он, конечно, никогда не утрачивал полностью своей подсобной роли. По мере роста населения его значение, по-видимому, даже возрастает. Некоторые монашеские ордена, особенно цистерцианцы, прибегнув сначала для разрешения проблемы рабочей силы к созданию особой группы монахов низшего звания (братьев-конверсов), в конце концов решились после этого обратиться в довольно широких масштабах к наемному труду. Но чтобы обработать с помощью этих работников сеньориальные домены, сходные по величине с mansi indominicati прежних времен, нужен был многочисленный сельский пролетариат. Его, конечно, не было и не могло быть. Франция, хотя и более населенная, чем прежде, не была перенаселена; при отсутствии всякого серьезного технического прогресса работа на старых держаниях и на тех, которые возникли в период больших расчисток, продолжала занимать большое количество рабочих рук. Наконец, в силу общих экономических условий крупным предпринимателям было трудно содержать или оплачивать многочисленных рабочих.
Несомненно, сеньоры допустили такое сокращение земледельческой барщины лишь потому, что они либо примирились с уменьшением своих доменов, либо сами осуществили его. Поля, в свое время доверенные держателям для обработки участками, постепенно были включены (Эдмон Перрэн прекрасно показал, как это происходило в Лотарингии{82}) в держания тех людей, которые первоначально обязаны были их возделывать. Что касается более значительной части первоначального домена, обрабатывавшейся поденно, то из одной ее части были созданы мелкие фьефы для вооруженных вассалов, которых знатные бароны X–XI веков вынуждены были содержать в большом количестве{83}. Эти воины в свою очередь поспешили, очевидно, зачастую раздать свои участки крестьянам, которые платили им повинности. Другую, самую значительную часть домена сеньор сам уступил держателям из числа старых жителей или новым поселенцам. Часто держатели должны были платить за это пропорциональную часть урожая (обычно от одной трети до одной двенадцатой), которая называлась champart («часть урожая»), terrage или agrier. Земли, с которых поступали повинности этого типа, были в каролингскую эпоху очень редким явлением, а для капетингской Франции, напротив, довольно частым. Этот контраст можно объяснить лишь тем, что большинство парцелл, обязанных подобными повинностями, возникло в результате нового распределения земли. Этим же объясняется и особый юридический характер, присущий во многих местах держаниям по шампару. Сначала сеньоры отнюдь не считали раздробление своих доменов окончательным. Монастырь св. Эверта в Орлеане, реорганизовавший около 1163 года, как управление имуществом, так и свою духовную жизнь, сначала не счел возможным обрабатывать «своим собственным плугом» свои земли в Булэ (Boulay) и передал их крестьянам. Затем каноники сочли более выгодным самим эксплуатировать эти земли и добились разрешения Людовика VII и папы Александра III вернуть те земли, которые они передали крестьянам{84}. Следовательно, шампар — типичная для новых земельных раздач повинность — в принципе часто считалась несовместимой с наследственностью держания. В Турени, Анжу и Орлеанэ юристы XIII века еще признавали за сеньором право присоединять к своему домену поля, единственную повинность которых составлял терраж{85}. До 1171 года на шампарных землях Митри-Мори (Mitry-Могу), в сеньории Собора парижской богоматери, владельцы могли меняться по желанию каноников; аналогичные земли в Гарше ((larches) в сеньории Водуана дАндильи (Beaudoin dAndilly) вплоть до 1193 года вовсе не передавались по наследству; кутюмы деревни Боре (Borest) в Валуа (Valois), записанные в течение XIII века, содержат постановление, согласно которому в случае продажи этих земель сеньор ничего не получает, «так как в старину никто не имел на них права наследования{86}». Но не будем заблуждаться (примеров достаточно, чтобы напомнить нам об этом): на практике наследственность устанавливалась постепенно — путем определенных соглашений (как в Митри-Мори или в Гарше) или в силу давности (как в Боре). Сеньоры мирились с этим процессом или не мешали ему. Крупные домены перешли в конечном счете к крестьянам именно в форме вечных держаний, похожих в основном на старинные держания. Во многих сельских местностях некоторые картье, издавна раздробленные подобно соседним на множество мелких парцелл, еще и сегодня носят такие названия, как «барщина» (Les Corvées), вызывая в представлении далекие времена, когда они входили в состав домена и обрабатывались принудительным трудом держателей.
В некоторых случаях домен исчезал полностью. В других местах (и это было чаще) он частично сохранялся, но его размеры сильно сокращались, что фактически изменяло всю его сущность.
Представление о том, какова была в XII веке домениальная политика крупного дальновидного сеньора, дает нам небольшое сочинение[86], в котором Сугерий, аббат Сен-Дени, описал, не без некоторой снисходительности, свое собственное управление. Сугерий, очевидно, считает, что домен нужен в каждом поместье, но размеры его должны быть умеренными. Если домен уничтожен, как это было в Гиллервале (Guillerval), он его восстанавливает; если он слишком обширен, как в Тури (Toury), он частично сдает его за ценз. Но что понимает он под составными частями домена? Дом, желательно «крепкий и приспособленный для обороны», где будут жить монахи, уполномоченные управлять сеньорией, и где сам он сможет «преклонить голову» во время своих инспекционных поездок; сад и несколько полей, чтобы можно было прокормить постоянных и временных обитателей этого дома; крытые амбары для хранения продуктов, поступающих в счет десятины и шампара; хлева или овчарни для сеньориального стада, которое, несомненно, участвует в обязательном выпасе и навоз от которого идет на удобрение домениальных садов и пашен; наконец, при случае, рыбный садок или виноградники, которые снабжают монастырь и его имения весьма необходимыми продуктами особого рода; эти продукты тогда было выгоднее производить самим, нежели покупать на рынках с их неустойчивым подвозом товаров. Словом, это одновременно административный центр и более или менее специализированная ферма, крупная, конечно, но таких размеров, что для ее эксплуатации достаточно небольшого количества как слуг, так и барщинных работ; по размерам и по существу она совсем отличается от огромных земледельческих предприятий прошлого[87].
Нетрудно выяснить некоторые из причин, побудившие сеньоров постепенно отказаться от широкой непосредственной эксплуатации домена. Господский манс каролингской эпохи предоставлял господину большое количество продуктов. Но дело не только в том, чтобы свезти в амбар, особенно портящиеся продукты; такое накопление добра имело смысл лишь в том случае, если бы из него можно было вовремя и рационально извлекать выгоду. Волнующая проблема! Знаменитый ордонанс Карла Великого об императорских поместьях (villae) весь пронизан ею. Часть припасов потреблялась на месте домениальной челядью. Другая шла на содержание сеньора, который жил иногда далеко и часто вел чуть ли не бродячий образ жизни. Что касается излишка, то, если он оставался (а это было естественным в крупных поместьях), его старались продать. Но сколько при этом возникало трудностей, порожденных материальными и умственными причинами! Чтобы избежать разбазаривания, потерь и ошибок, была необходима точная бухгалтерия. Но умели ли ее вести? Есть что-то волнующее в том, как такие государи, как Карл Великий, и такие крупные аббаты, как Адалард Корбийский, пытались в своих домениальных статутах растолковать своим подчиненным необходимость самых простых отчетов; тот факт, что эти наставления звучат иногда по-детски, доказывает, что они были адресованы людям, очень плохо подготовленным для их понимания. Для распределения доходов надлежащим образом нужен был также надежный персонал управляющих. Но проблема бюрократии — камень преткновения для государств, вышедших из Каролингской империи, — не была решена и сеньорами. Сеньориальные служащие, «сержанты» (свободные и даже сервы), получавшие в качестве оплаты держания, быстро превращались в наследственных вассалов, совсем как графы или герцоги, только в мелком масштабе. Они использовали в своих интересах доверенную им политическую власть, присваивали полностью или частично домен или доходы с него, иногда даже вступали в открытую войну со своими господами. По-видимому, по мнению Сугерия, вверенное сержантам хозяйство нужно считать потерянным. При непосредственной эксплуатации домена нужны были перевозки, но по каким дорогам и ценой каких опасностей! Наконец, легко сказать: продать излишек. Но на каких рынках? В X и XI веках население города было малочисленным, сам город был более чем наполовину аграрным. Виллан часто околевал с голоду, но за неимением денег почти ничего не покупал. Не было ли более выгодным и главное более удобным увеличить количество мелких хозяйств, существующих самостоятельно, отвечающих каждое за себя и платящих повинности, доход от которых легко было предвидеть и которые частично выплачивались деньгами, следовательно были удобны для транспортировки и накопления? Тем более, что эти крестьянские участки приносили доход не только в виде повинностей: чем больше у сеньора было держателей, или вассалов, в пользу которых он разделял свой домен на мелкие фьефы, тем больше он имел «людей» (hommes), от числа которых зависели его военная сила и престиж. Это движение началось еще с конца римской эпохи, с уничтожения крупных плантаций с рабами, с увеличения численности испомещенных рабов и держаний колонов. Значительная барщина франкской эпохи была лишь паллиативом, имевшим целью сохранение, обширных размеров доменов. Крупные сеньоры последующего периода лишь возобновили и продолжили кривую предшествовавшей эволюции (что касается мелких сеньоров, мы ничего не знаем о них, и, возможно, они никогда не имели обширных доменов)…
Однако эти кажущиеся ясными объяснения сталкиваются с одной трудностью, недооценить важность которой было бы нечестно. Только что описанные условия жизни, ослабление барщины и уменьшение домена характерны для всей Европы, но не для того времени, когда они наблюдаются во Франции. Ничего подобного нет в Англии, где положение (как оно изображено, например, в XIII веке в книге ценза Лондонского собора св. Павла) точь-в-точь напоминает описания каролингских инвентарей. Ничего подобного нет также, насколько я могу судить, в большей части Германии (препятствия, на которые наталкиваются эти сравнительные исследования, — один из наиболее досадных симптомов слабого развития наших знаний). Несомненно, в обоих этих странах произошли аналогичные изменения, но с опозданием на одно-два столетия. Чем объясняется этот контраст? Я прошу извинения у читателя, но бывают обстоятельства, когда исследователь должен первым долгом сказать: «Я не нашел». Здесь именно такой случай, когда нужно признаться в незнании; но это в то же время является призывом продолжать исследование, от которого зависит понимание одного из трех или четырех основных явлений нашей аграрной истории.
В самом деле, в жизни сеньории не было более решительного переворота, чем этот. Начиная с франкской эпохи держатель обязан был оброком и работами, но тогда перевес был на стороне работ. Теперь соотношение изменилось. К старым оброкам прибавились новые: талья, десятина, налоги за пользование баналитетами, повинности, связанные с серважем, иногда (начиная с XII–XIII веков) ренты, которые сеньоры требовали взамен старинной, существовавшей вплоть до тех пор барщины, признанной в конце концов ими бесполезной, но которую они не всегда соглашались уничтожить безвозмездно. Работы стали значительно более легкими. Раньше держание было прежде всего источником рабочей силы. Теперь же то, что можно грубо назвать оплатой (loyer), не придавая этому слову какого-нибудь точного юридического смысла, составляет истинную причину его существования. Сеньор отказался от роли руководителя крупного сельскохозяйственного и даже отчасти промышленного предприятия. Работоспособное население целых деревень не собирается больше в течение многих дней вокруг сеньориальных надсмотрщиков. Сеньор будет все больше и больше воздерживаться от непосредственной обработки даже той фермы (остатка своего старого домена), которую он зачастую сохранял. С XIII века начинают сдавать в аренду также и ее, правда, не навечно, а на определенный срок; конечно, это большая разница, последствия которой мы увидим позднее, но которая не препятствует дальнейшему отдалению сеньора от своей земли. Представим себе крупного фабриканта, который отказался бы от непосредственной эксплуатации заводских машин ради использования их в нескольких мелких мастерских и удовлетворился бы тем, что стал акционером или, вернее (ибо большинство повинностей были фиксированы или стали таковыми) держателем облигаций каждой ремесленной семьи. Это сравнение поможет нам получить представление о тех изменениях, которые произошли в жизни сеньории с IX по XIII век. Конечно, в политическом отношении сеньор еще является господином, так как он остается военным командиром, судьей, прирожденным покровителем своих «людей». Но он перестал быть главой предприятия в экономическом отношении, а это легко приведет к тому, что он вообще перестанет быть главой. Он превратился в земельного рантье.
Глава IV. ИЗМЕНЕНИЯ СЕНЬОРИИ И СОБСТВЕННОСТИ С КОНЦА СРЕДНИХ ВЕКОВ И ДО ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
I. Юридические изменения сеньории. Судьбы серважа
Кризисом сеньориальных доходов кончается средневековье и начинается навое время.
Нельзя сказать, что старая основа сеньории была полностью разрушена. Права сеньора по отношению к своим держателям (вследствие путаницы, характерной для обветшания старого понятия личных связей, держателей теперь начинают называть «вассалами» —. словом, ранее обозначавшим связи зависимости совсем иного рода) и их держаниям остаются при Франциске I и даже при Людовике XVI в основном такими же, как и при Людовике Святом, однако за двумя, притом весьма важными, исключениями: упадок сеньориальной юстиции и исчезновение серважа или его глубокое изменение там, где он продолжает существовать.
Сеньориальная юрисдикция еще не умерла. Ее уничтожит только революция. Многие дела еще разбираются в ее судах, но она теперь гораздо менее прибыльна и могущественна, чем раньше. Согласно общепринятому юридическому правилу, почти везде применявшемуся начиная с XVI века, сеньору было запрещено лично творить суд. Да и возрастающая сложность юридической системы делала для него трудным выполнение этой функции. Ему приходится отныне назначать профессионального судью и, следовательно, вознаграждать его уже не предоставлением фьефа, как это делали прежде (экономическая обстановка перестала благоприятствовать этому способу вознаграждения), а наличными деньгами. Несомненно, королевские ордонансы (как те, которые требовали от судьи определенных технических гарантий, так и те, которые требовали для него приличного жалованья) не соблюдались строго. Преподносившиеся ему судившимися «подарки» составляли во многих местах большую часть его доходов. Тем не менее очевидно, что для сеньора эта обуза была часто довольно тяжелой. К этому присоединяются и другие расходы, и все это часто настолько превышает доходы, что порой боятся слишком много судить. «Доходов от штрафов, выморочных имуществ и конфискаций, — писал в XVII веке один бургундский дворянин, — не хватает для выплаты жалованья судебным чиновникам». А в 1781 году интендант Майеинского герцогства сообщал в отчете своим господам: «Из-за нужды… у нас много уголовных дел. Я прекратил те из них, какие мог, избавив тем самым от наказания двух или трех мошенников, которые почти открыто нападали на путешественников»{87}.
Особенно грозными конкурентами сеньориальной юстиции были государственные суды (как суды крупных княжеств, так и королевские, а с XVI века почти исключительно последние). Они изъяли из ее ведения многие разновидности судебных дел. Они захватывали у местных чиновников и многие другие, действуя путем опережения (par «prévention»). Наконец, к ним можно апеллировать отныне по поводу любых дел. Это влекло за собой множество неприятностей и расходов для сеньора, обладавшего высшей или низшей юрисдикцией, ибо, согласно старинному правилу, остававшемуся в силе вплоть до XVII века, подающий апелляцию приносит жалобу непосредственно на судью первой инстанции, а не на выигравшую дело сторону; и, что еще хуже, это приводило к чувствительной потере власти и престижа. Именно благодаря тому, что сеньорам удалось подчинить своих людей своей судебной власти, они добились в X–XI веках значительного усиления своей политической власти и увеличения доходов. Но это оружие еще не совсем выпало из их рук: в делах сельской юстиции, с которой связаны такие выгоды, их слово оставалось обычно окончательным. Но и эта их власть значительно ослабла. Не был ли поставлен под угрозу и сам сеньориальный строй? Мы увидим, эта опасность была устранена благодаря позиции публичных судов. Но сеньориальный судья (чьи приговоры могли быть отменены), даже если он сохранял, а порой и умножал свои доходы, меньше чем когда бы то ни было являлся начальником.
* * *
То же самое изменение социальной структуры, которое выражается в растущем действии государства и его судов, обнаруживается и в основе перемен, претерпеваемых серважем. Можно получить довольно точную картину общества XI века, представив его себе построенным главным образом по вертикальным линиям. Оно расчленялось на множество групп, сплотившихся вокруг сеньоров, которые в свою очередь зависели от других сеньоров: на группы сервов или держателей, на «отряды» (mesnies) вассалов. Начиная примерно с середины XII века человеческая масса, наоборот, обнаруживает тенденцию к организации по горизонтальным пластам. Крупные административные единицы — княжества, монархическое государство — объединяют и поглощают мелкие сеньории. Прочно конституируются иерархические классы, особенно дворянство. Коммуна (главным образом городская, но охватывавшая иногда и чисто аграрные коллективы) избирает в качестве своей основы этот революционный по сравнению с прочими институт: клятву о взаимной помощи между равными, заменившую старую присягу повиновения, приносимую низшим высшему. Значение отношений зависимости между людьми постепенно везде ослабляется. А ведь серваж — такой, каким он возник из остатков рабства и колоната, из условного освобождения, а также из добровольного или мнимо добровольного закабаления многих ранее свободных крестьян, — был по самой своей природе одним из элементов этой системы подчинения и покровительства, связывавшей верхи и низы социальной лестницы. По правде говоря, дело было именно в этом. Серва всегда считали существом низшей касты. Но в старину это был лишь один из аспектов его статуса. Напротив, начиная с XIII века, в соответствии с общим направлением развитая, когда «крепостные» (servaille) все строже и строже изолировались от внешней среды (юриспруденция особенно возводит отныне в принцип правило, согласно которому звание серва и рыцаря несовместимы), в общественном сознании решительно стало преобладать представление о сервах как о классе.
Кроме того, именно потому, что тускнеет и исчезает понятие связи «по плоти и кости», серваж имеет ныне тенденцию основываться не столько на личной зависимости, сколько на земле. Уже не только происхождение, но и владение некоторыми держаниями или жительство на некоторых землях могли превратить свободного жителя (manant) в серва. Больше того, такого поземельного серва стали рассматривать как «прикрепленного» к земле. Было бы неверно утверждать, что он совсем не мог ее оставить; но, если он уходил без разрешения господина, он терял свое держание. На этом последнем обстоятельстве оказалось влияние ученых доктрин. Когда в XII–XIII веках юристы взялись за изучение римского права, они прежде всего стремились найти в этих почтенных текстах, источнике всякого знания, прецеденты для социальных институтов своего времени, особенно серважа. Трудное предприятие! Существовал ли еще какой-нибудь институт, более специфически средневековый, чем серваж? «Серв», «servus» — родство этих терминов толкало на сравнение с античным рабством. Но пропасть между этими двумя статусами была слишком очевидна. Несмотря на некоторые частные отклонения, у наших французских юристов хватило здравого смысла не слишком настаивать на этой аналогии [из которой, к величайшему несчастью крепостных (Leibeigenen) своей страны, законники Восточной Германии извлекли в течение последующих столетий немало выгоды]. Зато колонат, отличный от рабства, но предполагавший подчинение одному сеньору, позволял, как им казалось, менее произвольное уподобление. Несомненно, они стали потому настаивать на этом, что современный им серваж своим скорее вещным, нежели личным характером уже приблизился до некоторой степени к тому состоянию, основной чертой которого были связь человека с землей. Юридическое выражение, которое они дали этому возникающему сходству, в свою очередь лишь подчеркивало его. Даже сами термины, охотно употребляемые отныне нотариусами или теоретиками для обозначения серва нового образца [ascriptus glebae или, еще более выразительный, serf de la glèbe (сочетание слов, контраст которых с homme de corps былого времени поистине поразителен)], были заимствованы из словаря, который средневековые романисты[88] использовали для описания колоната. Не будем, однако, преувеличивать важности этого теоретического влияния. Если бы земли, как в старину, было гораздо больше, чем рабочих рук, усилия сеньоров удержать своих сервов угрозой конфискации их держаний (glèbe) были бы, несомненно, напрасными. Без крупных расчисток правило «прикрепления» было бы только бессмысленной формулой.
Характерные для серважа старые повинности и правовые ограничения продолжали в основном существовать; прежде всего это менморт и формарьяж. Но наряду с ними родилось новое понятие, которое, подчеркивая низкое положение этого класса и вещную основу его связи с сеньорами, способствовало возникновению одного из критериев нового серважа. Отныне признаком серважа считаются обычно так называемые произвольные повинности, которые не были фиксированы ни письменным договором, ни прочно установившимся обычаем и взимание которых зависело от прихоти сеньора (такова «произвольная» талья, бывшая первоначально почти всеобщей формой этой повинности, но ставшая затем, после фиксации, исключением). Конечно, не все сервы подлежали обложению тальей и в еще меньшей степени должны были отбывать барщину «по произволу сеньора», но теперь выполнение этих повинностей держателем влекло за собой опасность попасть в число сервов. Уже в каролингскую эпоху работать, «когда прикажут», было обычно уделом сервов (servi), в ту пору настоящих рабов. Быть может, мысль, что свобода несовместима с такого рода подчинением воле господина, жила в сознании людей в более или менее смутной форме. Анормальный характер подобной обязанности, а также, несомненно, сопоставление положения серва и римского раба (servus) (которое вопреки всему не могло не оказать некоторого воздействия на умы) содействовали оживлению этих представлений.
Таковы были главные черты серважа в конце средневековья; конечно, существовало множество местных оттенков, на которых я не могу здесь останавливаться.
Такими они оставались вплоть до революции, то есть до того момента, когда сервы исчезли совсем. Но этот статус распространялся на Bice меньшее число людей.
Великий процесс исчезновения серважа, начавшийся в XIII веке, продолжался до середины XVI века. Вероятно, кое-где характерные для серважа обязанности исчезли просто сами собой. Однако, как правило, сервы (в одиночку или даже семьями и целыми деревнями) получили свободу в результате особых актов освобождения (manumissions), скрепленных надлежащим образом печатью. Эта свобода скорее продавалась им, чем даровалась. Конечно, освобождение считалось благочестивым деянием, великой милостыней (grant aumosne), как говорил Бомануар[89], одним из тех дел, которые в день страшного суда склонят весы архангела в пользу рая. В преамбулах хартий с большим или меньшим красноречием или многословием напоминалось об этих великих истинах, об евангелических наставлениях или (если нотариусу больше нравилось черпать вдохновение в кодексах римского права, чем в священной книге) о благе «естественной свободы». Приличия требовали, чтобы было оказано должное уважение принципам морали. Несомненно, что под этими напыщенными словами иногда скрывалось искреннее чувство и какой-то наивный расчет: в конце концов ведь выгода, которую можно извлечь из доброго дела в этом бренном мире, не исключает и надежды на вознаграждение на том свете. Да что там говорить! Разве мог бы сеньориальный класс совершенно ограбить себя во имя одного лишь чистого милосердия? Фактически (за редкими исключениями, являвшимися следствием благодарности или дружбы) акты освобождения были настоящими договорами, статьи которых иногда долго обсуждались в ожесточенных спорах. Если мы хотим понять, почему они давались в таком большом количестве, надо прежде всего задать вопрос, какой выгоды ожидали от них обе стороны.
Сеньор отказывался от повинностей, несомненно доходных, но взимание которых было нерегулярным и неудобным. Взамен этого он чаще всего получал вносимую сразу сумму денег, которая или избавляла его от каких-нибудь финансовых затруднений, обычной язвы дворянских и земельных владений, или же позволяла сделать, наконец, давно желаемую роскошную покупку, или же давала возможность пустить деньги в выгодный оборот.
Какие только чудесные превращения не претерпевали «деньги свободы» благодаря алхимии денежного обращения! Иногда они прямо текли в королевскую казну, ибо сеньор, оказавшись, бывало, в тисках денежных затруднений, не мог найти иного средства для удовлетворения сборщика налогов, кроме освобождения нескольких сервов. Иногда они шли на погашение долга докучливому флорентийскому банкиру или же на увеличение богатств удачливого врага. После Пуатье не один рыцарь или оруженосец вырвались из когтей англичан, выкупившись за деньги, полученные от продажи «вольности». В других случаях эти деньги превращались в камни церквей (строительство капеллы богоматери в монастыре Сен-Жермен-де-Пре, одной из жемчужин Парижа времен Людовика Святого, было закончено на средства, полученные от раздававшихся аббатом освобождений). Чаще всего эти деньги превращались в земные блага; поля, луга или виноградники, основной ценз и десятину, давильни, дома, мельницы, купленные, построенные или восстановленные на деньги, скопленные крестьянами по су и хранившиеся в шерстяных чулках до тех пор, пока бремя серважа не стало слишком тяжелым{88}.[90]
В других случаях «освободитель» устанавливал в свою пользу периодическую фиксированную ренту, которая поступала помимо лежавших на держаниях старых повинностей и выгодно заменяла столь капризные, с точки зрения дохода, сервильные повинности. Впоследствии иногда имела место выплата землей: освобожденная деревня передавала сеньору в счет платы часть своих общинных угодий. Уступки такого рода, еще и поныне тяготеющие над жизнью не одной сельской общины, были особенно частыми в Бургундии XVI века и в соседнем Франш-Контэ — вплоть до XVII века{89}. Это объясняется тем, что разоренный войнами крестьянин Бургундии или Франш-Контэ был тогда очень беден; у сеньоров же в то время появился вкус к собиранию парцелл. Но почти никогда для получения свободы крестьянин не отказывался ни целиком, ни частично от своего держания. Совсем наоборот, отказываясь от права «мертвой руки», сеньор тем самым отказывался и от надежды увеличить когда-нибудь свой домен за счет участка серва. Освобождение сервов во Франции не привело прямо (как было позднее, при аналогичных социальных переменах в России) даже к частичной их экспроприации в пользу сеньора.
Наряду с этими непосредственно ощутимыми выгодами появлялся иногда и другой мотив, открытое признание существования которого мы находим во многих хартиях. Что если земля, еще подчиненная серважу, находилась около других земель, где царствовала свобода, около новых поселений (villeneuves), основатель которых обеспечил себе успех благодаря ощутимым привилегиям (так было не всегда; в эпоху расцвета серважа сервы имелись даже на недавно распаханных территориях), или же около ранее освобожденных местностей? Очень силен был риск, что она постепенно обезлюдеет, что люди, населявшие ее, перебегут в эти центры с лучшими условиями. Разумнее всего было приостановить эту эмиграцию путем своевременного пожертвования, которое отнюдь не было невыгодным, так как оплачивалось получателями. Это благоразумный акт, особенно рекомендуемый в период кризиса. Столетняя война, а позднее войны XVII зека, возродив в различных пограничных районах пустующие земли, побудили землевладельцев увеличить свои щедроты. «Начиная с некоторого времени, — пишут госпитальеры (Командорства Бюр (Bure), в Бургундии, освобождая в 1439 году своих людей из Туази (Thoisy), — почти все дома и риги, существовавшие в названном Туази, были сожжены и разрушены… по причине менморта никто не хочет жить в названной деревне… но все ушли, отправились жить в свободные места». В 1628 году сир Монтюрё-ле-Грэ (Montureux-les-Gray), во Франш-Контэ, также вовсе не скрывал надежды, что освобожденная деревня будет «лучше населена» и, следовательно, сеньориальные права будут «более доходными». Порой матерью свободы была нужда{90}.
Впрочем, лучшим доказательством того, что вообще хорошо подготовленное и умело задуманное освобождение рассматривалось управляющими крупных сеньориальных владений как превосходная сделка, являются пропагандистские кампании, организованные некоторыми могущественными сеньорами, такими королями, как Филипп Красивый и его сыновья или позднее Франциск I и Генрих II, или такими знатными баронами, как граф Гастон Фебус (Phoebus) из Беарна, с целью склонить к освобождению своих подданных и даже (с переменным успехом) принудить их к нему{91}.
А сами сервы?
«Сир, нет вещи, которой бы я не сделал, лишь бы увидеть себя, мою жену и детей свободными», — эти слова, вложенные великим поэтом XII века Кретьеном де Труа в уста одного из столь редких героев сервильного происхождения, образ которых запечатлен в средневековой литературе{92}, многие из крепостных (hommes de corps), должно быть, шептали про себя. Разве серваж не был во все времена «пятном»? Но, разумеется, это желание становилось все более острым по мере того, как идеи личной связи и взаимных обязательств (с одной стороны, покровительства, с другой — повинности), некогда неотделимые от самой концепции серважа, потеряли свою силу, чтобы уступить место острому сознанию классовой неполноценности, а также по мере того, как число обладавшего этим статутом населения с каждым днем уменьшалось и человек, еще остававшийся сервом, начинал чувствовать себя одиноким и вследствие этого еще больше парией, чем когда-либо. Жалобы этих обездоленных людей почти не дошли до нас. Одна из них, впрочем, была достаточно сильна, чтобы оставить след в туманных текстах: сервы, мужчины и женщины, лишь с большим трудом могли добиться разрешения жениться или выйти замуж; по словам одного хрониста, многие девицы «развращались» за неимением мужей{93}. По правде говоря, пока сервы были многочисленны, это препятствие не было непреодолимым, хотя в начале XIV века пессимистически настроенный автор «Лже-Ренара»[91] считал, что запрет формарьяжа ведет к «снижению рождаемости»{94}. Внутри сеньории юноши и девушки, крепостные одного господина, сочетались, рискуя увеличить таким образом число тех браков между родственниками, которые, с точки зрения церковных авторитетов, были причиной самого сурового осуждения, если не самого серважа (почти узаконенного первородным грехом), то по крайней мере одного из его правил: запрещения брака вне данной группы. А что если какой-нибудь самостоятельный человек захотел бы все же искать спутника или спутницу жизни за пределами маленького коллектива сервов? Определенная сумма денег, внесенная сеньору (в случае необходимости двум сеньорам, если жених и невеста были сервами двух различных баронов, а иногда обмен сервами между собственниками людей), — и дело было сделано. В XII и XIII веках большинство семей сеньориальных чиновников, обычно тоже сервов, были слишком могущественны и богаты, чтобы согласиться на брак с простыми крестьянами, и поэтому они заключали почтенные союзы между собой именно таким образом. Но когда у каждого сеньора стало меньше сервов, чем прежде, когда, кроме того, количество сервов уменьшилось по всей стране, зло сделалось угрожающим. О женитьбе на свободных приходилось думать все меньше и меньше: лишь немногие рожденные свободными мужчины или женщины соглашались ради подобного брака на отказ от свободы как для себя (ибо «пятно» было заразительно), так и для своих детей; в случае же если они сами все же соглашались на такой брак, их родственники зачастую противились ему из чувства чести или из страха увидеть в один прекрасный день семейное имущество попавшим под действие нрава «мертвой руки». В 1467 году одна бедная служанка из Шампани, уличенная в детоубийстве, оправдывала свое безнравственное поведение тем, что она не могла выйти замуж по влечению сердца: ее отец отказался выдать ее за того, кто был ей «всех милее», потому что этот человек был сервом{95}. Конечно, этот суровый отец не был исключением. С одной стороны, страх сеньоров потерять своих держателей, с другой — боязнь сервов остаться среди уже завоевавших свободу людских масс единственными людьми, которые несли еще старые повинности и подвергались всеобщему презрению, — вот причины, объясняющие, почему освобождение, осуществленное хоть раз где-либо в данном районе, всегда имело тенденцию распространяться с большой быстротой.
Но это столь желанное благо нужно было купить. Если стремление получить его было начиная с XIII века почти везде одинаковым, то возможности к этому, напротив, были в разных провинциях крайне различными. Достать необходимые деньги могли только те крестьяне, которые в результате продажи продуктов сделали некоторые сбережения, или же те, которые находили в пределах досягаемости заимодавцев, готовых поместить свои капиталы в деревне, особенно в форме конституирования ренты, игравшего в тогдашней экономике роль сегодняшней ипотеки, — словом, те, кто жил в такой местности, где обмен был уже сильно развит, городские рынки способны были поглотить довольно большое количество сельскохозяйственных продуктов, а Деньги и предпринимательский дух были достаточно распространены, чтобы возник класс крупных или мелких капиталистов. Со второй половины XIII столетия все эти черты оказались присущими парижскому району; вот почему серваж, бывший здесь когда-то уделом подавляющего большинства населения, полностью исчез еще до воцарения Валуа[92]. Там, где экономические условия были менее благоприятны, он сохранился гораздо дольше. В XIV веке те же самые парижские церкви, у которых не было ни одного серва. в округе этого крупного города, еще имели их в большом количестве в своих поместьях в Шампани; те же самые орлеанские монастыри, которые уже во времена Людовика Святого освободили всех своих крепостных в Бос, при Франциске I еще взимали менморт и формарьяж в своих деревнях в Солони (Sologne)[93]. Это свидетельствует о справедливости мнения, что освобождение как массовое явление вызвано не столько индивидуальным настроением того или иного сеньора, сколько условиями, присущими крупным социальным группам. В Шампани, в провинциях Центра, в герцогстве Бургундском и в соседнем графстве[94] это движение продолжалось до самой середины XVI столетия, не спеша, порой медленнее, порой быстрее (было бы очень желательно, чтобы точные исследования позволили бы когда-нибудь проследить их кривую). Ни в обеих Бургундиях[95], ни в Центре оно не достигло, впрочем, своего полного завершения.
Начиная со второй половины XVI века сеньоры, все более и более цеплявшиеся, как мы увидим, за сохранение авоих прав, особенно тех, которые (как право «мертвой руки») сулили им выгоды в виде земельных прибавлений, перестали сочувственно относиться к освобождению. Для деревень, не ставших еще свободными, получить свободу становилось все труднее. До самой революции кое-где продолжали еще существовать островки серважа, правда весьма отличавшегося от его первоначальной формы.
Но сначала кризис, а затем перемены в сеньориальном землевладении были вызваны начиная с XV века не столько уменьшением судебной власти сеньоров или ослаблением личных связей между ними и их сервами, сколько чисто экономическими причинами.
II. Кризис сеньориального землевладения
Два последних столетия средневековья повсюду в Западной и Центральной Европе были периодом бедствий для деревень и их обезлюдения; пожалуй, это была расплата за процветание XIII века. Крупные политические образования предыдущей эпохи — монархии Капетингов и Плантагенетов и в меньшей степени княжеские «земли» новой Германии, — вовлекавшиеся просто в силу своего могущества в разного рода военные авантюры, были в то время неспособны выполнять свою функцию охраны порядка, в которой заключался смысл их существования. Концентрация людей — следствие расчисток и роста населения — представляла крайне благоприятную почву для эпидемий. Англия периода войны Роз и крупных аграрных восстаний, Германия, где умножались Wüstungen (то есть покинутые в то время и никогда больше не восстанавливавшиеся деревни), представляют аналогию с Францией, еще более пострадавшей и поистине обескровленной, с Францией эпохи Столетней войны, жертвой разбойников с большой дороги, опустошенной жакериями и репрессиями еще более ужасными, чем сами восстания, с Францией, сами силы возрождения которой были поражены «великой смертностью».
Когда с победой Валуа установился относительный мир, нарушавшийся еще множеством смут при Карле VII и Людовике XI, значительная часть королевства была не чем иным, как огромной опустошенной зоной. Все современные тексты (хронисты в меньшей степени, чем множество скромных и правдивых памятников — расследований, регистров епископских объездов, инвентарей, грамот освобождения или установления ценза) описывают ужас, внушаемый этими сельскими местностями, где «не слышно больше ни пения петухов, ни кудахтанья кур». Сколько французов могли тогда повторить слова одного кагорского священника, который «за всю свою жизнь не видел в своей епархии ничего, кроме войны»! Привыкшие по малейшей тревоге, поднятой сторожами, искать убежища та речных островах или устраивать в лесах шалаш из ветвей, вынужденные в течение долгих дней тесниться внутри городских стен, где среди неимущих и слишком скученных людей чума свирепствовала еще сильнее, многие крестьяне постепенно теряли связь со своей землей. Земледельцы из области Кагора массами бежали в долину Гаронны и вплоть до Конта-Венесеена[96]. Во многих местах целые деревни оставались покинутыми иногда в течение нескольких поколений. Если же где и продолжали существовать кое-какие жители, то это были обычно лишь горсточки людей. В предгорьях Альп, в Перигоре, в Сенонэ (Sénonais)[97] на месте полей и виноградников вырос лес. Многие земли поросли «терновником, кустарником и иными зарослями». Старые границы полей стерлись. Когда к концу XV века земли аббатства Во-де-Сернэ (Vaux-de-Cernay) начали заселяться вновь, «не было ни мужчины, ни женщины, которые могли бы сказать, где находились их наследственные участки».
Следы некоторых этих опустошений были ликвидированы лишь спустя много столетий, а некоторые не изгладились никогда. Появившиеся в это время в Пюизэ (Puisaye) залежные земли начали вновь обрабатываться только в XIX веке. Даже тогда, когда поля распахивались снова, разрушенные деревни часто не восстанавливались; население концентрировалось. Земли Бессей (Bessey), в Бургундии, пришлось раздать добрым людям двух смежных общин; сам же населенный пункт был навсегда стерт с географической карты. Из двенадцати деревень, разрушенных тогда в графстве Монбельяр, десять так и не были восстановлены. Восстановление шло, однако, почти повсюду, но очень медленно. В Рен-мулэне (Rennemoulin), к югу от Парижа, два земледельца хвастались в 1483 году тем, что они первые (один — за 12–13 лет, другой — за 8–9 лет) «распахали» землю. Иногда поодиночке возвращались старые жители, а вместе с ними и некоторые из их прежних соседей, чья бывшая земля, находившаяся совсем близко, оставалась еще заросшей кустарником. В других местах сеньоры, заинтересованные в возобновлении обработки земли, призывали чужеземцев: итальянцев — в Прованс, савоияров, французов с севера или из Бургундии, даже немцев — в Валентинуа и в Конта-Венессен, жителей Бретани, Лимузева и Турени — в округ Санса. Или же в один прекрасный день на этих заброшенных землях поселялись бродяги. Таковы три бедняка из Нормандии, которые в 1457 году составляли все население местечка Маньи-ле-Гамо (Magny-les-Hameaux), около Парижа. В Ла-Шапель-ла-Рэне (La-Chapelle-la-Reine), в Гатинэ[98], в 1480 году два новых жителя были родом из Божолэ (Beaujolais), третий — из Анжу, а четвертый — из Турени. Недалеко оттуда, в Водуэ (Vaudoué) одним из первых пионеров был нормандец; такая же картина наблюдается и во Фромоне (Fromont), в том же маленьком кантоне. Перерыв в заселении был иногда столь продолжителен и преобладание переселенческих элементов столь значительно, что это запечатлелось в памяти деревни как перелом; замечено, что в Реклозе (Recloses), в Гатинэ, топонимика изменилась с XIV по XV век почти полностью. Как можно перед лицом этой человеческой мешанины безапелляционно заявлять об этнической чистоте крестьянского населения, в противоположность смешению в городах? Дело вторичного освоения земли продолжалось до второго «ли третьего десятилетия XVI века: волнующий пример терпения и жизненных сил, память о котором еще свежа у нынешних поколений{96}.
Нищета крестьян была ужасающей. Но в целом восстановление было для них благоприятным. Чтобы обеспечить заселение, — источник доходов, — сеньоры зачастую предоставляли крестьянам значительные привилегии; действие одних из них было немедленным — временное освобождение от повинностей, предоставление в пользование инвентаря или семян; действие других было более длительным — различные льготы, очень умеренный размер ценза. В 1395 году монахи Сен-Жермен-де-Пре предприняли первую тщетную попытку восстановить свой виноградник в Валантоне (Valenton); они предлагали тогда землю за ценз в 8 су с арпана. С 1456 года они предприняли новые попытки. Хотя за истекший период содержание драгоценного металла в монетах заметно снизилось, им пришлось придерживаться почти постоянно цифры ниже 4 су: по-видимому, именно эта цена позволила достигнуть успеха{97}. По закону сеньоры имели право присваивать земли, слишком долго остававшиеся необработанными. Из предосторожности они зачастую заставляли признать за ними это право, притом в точных выражениях. Но они делали это для того, чтобы иметь возможность раздать залежные земли новым держателям, не дожидаясь проблематического возвращения старых земледельцев, а не для того, чтобы присоединить их к своим собственным доменам. В это время у сеньоров не было желания заменить наследственное держание широкой непосредственной эксплуатацией земли или временной арендой. Сеньория была восстановлена (следуя старым обычным нормам) в виде скопления мелких хозяйств вокруг домена, который не превышал обычно средних размеров. Конечно, жизнь крестьянина и после кризиса по-прежнему была тяжелой. Один англичанин, Фортескью[99], писавший в правление Людовика XI, при сопоставлении положения сельских масс в своей стране и во Франции приберег для французской створки этого диптиха самые мрачные краски. Вполне обоснованно подчеркивает он то бремя, которое становится для нашей деревни все тяжелее и тяжелее, — королевскую фискальную систему. Но каким бы тонким юристом он ни был, он забыл один очень существенный факт: задавленный налогами, плохо питавшийся, плохо одетый, весьма безразличный к жизненным удобствам, французский крестьянин не перестал, однако, владеть своей землей в качестве наследственного держания.
Чем объяснить, что крестьянское население в конце концов вышло победителем из испытания, которое могло стать для него роковым? Несомненно, оно извлекло в конечном счете пользу даже из бедствий, следы которых носили его пахотные поля, даже из смерти, от которой поредели его собственные ряды. Рабочей силы не хватало, и поэтому она была дорогой. Заработная плата как в сельских местностях, так и в городах неизменно повышалась, несмотря на королевские ордонансы и постановления местных властей, которые, тщетно пытаясь остановить это повышение, оставили нам неопровержимые доказательства его существования. Было замечено, что во времена Карла V благодаря повышению оплаты рабочих дней многие батраки смогли приобрести землю{98}. Крупное хозяйство, обрабатываемое «слугами» (valets) (если предположить, что сеньор возымел намерение создать таковое), было бы в высшей степени дорогостоящим. Здравый смысл подсказывал сеньорам, что лучше разделить землю на участки. Но так как земля вновь была в избытке, а людей не хватало, приходилось для привлечения держателей не слишком много требовать с них и особенно гарантировать им ту наследственность, к которой они привыкли и от которой не отказались бы без сопротивления.
Однако эти арифметические соображения не могут всего объяснить. В XVII веке новые войны сопровождались в некоторых провинциях, например в Бургундии и Лотарингии, совершенно такими же опустошениями. Здесь наблюдалась та же картина: поросшие кустарником земли, где исчезли всякие границы между полями, опустевшие деревни и кое-где среди руин несколько бедняков, вернувшихся к обычаям первобытной эпохи и живущих охотой или рыбной ловлей; восстановление осуществлялось медленно, частично силами иностранцев. Но на этот раз сеньоры смогли использовать восстановление в своих интересах. Это объясняется тем, что обновленный и уже разбогатевший сеньориальный класс осознал свое могущество и выработал гораздо более совершенные, чем раньше, методы ведения хозяйства. В конце же средних веков мелкие хозяйства, напротив, находились под властью класса обессилевшего, разоренного и мало способного, в силу своего мышления, приспособиться к не имевшей прецедентов ситуации.
* * *
Этот класс был разорен прежде всего в результате опустошения деревни. Несомненно, для светского дворянства война имела свои выгоды — рыцарь не брезговал ни выкупами, ни грабежом. Когда в 1382 году Карл VI собрал в Мелэие армию, которая должна была наказать непокорный Париж, было замечено, что собравшиеся под королевским знаменем дворяне захватили с собой повозки, куда они рассчитывали свалить все награбленное в большом городе{99}. Но разве могла эта капризная и подверженная стольким превратностям судьбы добыча или даже те придворные пенсии, требование которых, чтобы свести концы с концами, все более и более входило в привычку крупных и мелких дворян, идти в сравнение с добрыми регулярными доходами от стольких видов ценза, тальи или десятины, которые были сведены на нет бедствиями эпохи? Многие родовитые сеньоры, лишившиеся своего домена и неспособные принудить себя к бережливости, жили к концу Столетней войны бог знает как. Что касается церковных общин, то им удавалось с трудом прокормить лишь небольшое число монахов.
Больше того, если по счастливой случайности старые поборы продолжали уплачиваться или их удавалось восстановить, то, будучи взимаемы в деньгах (случай очень частый начиная с XIII века, за исключением десятины), они по своей реальной ценности были значительно ниже прежних. С конца XV века падение стоимости денег достигло значительных размеров; оно еще более усилилось и стало почти головокружительным в следующем столетии. Денежный кризис был главной причиной быстрого обнищания сеньориального класса. В нем надо различать две фазы, весьма различные по своей сущности и по времени, но последствия которых тесно пере — плелись: сперва обесценение счетной монеты, а затем — обесценение содержавшегося в ней металла[100].
Старая Франция — наследница сложных денежных традиций, кодифицированных при Каролингах, — вела свои расчеты на ливры, су и денье. Соотношения этих трех единиц между собой были незыблемы: 1 ливр равнялся 20 су, а 1 су равнялось 12 денье. Но ни одна из них по своему материальному содержанию уже давно не соответствовала чему-либо стабильному. В течение многих столетий из французских монетных дворов выходили только серебряные денье[101]. Их номинальная стоимость была всегда одинакова; содержание же в них драгоценного металла было, напротив, весьма различно в зависимости от места и времени. В целом оно сильно уменьшилось. При Людовике Святом монета достоинством в денье стала такой безделицей, что она могла служить лишь в качестве мелкой разменной монеты (особенно в обществе, где денежное обращение стало гораздо более интенсивным, чем раньше) и действительно навсегда сохранила эту роль. Отныне королевская власть, сосредоточившая в своих руках почти всю чеканку монеты, начала чеканить более значительную по весу, по пробе и в принципе более высокую по стоимости серебряную и золотую монеты. Но эта необходимая реформа привела в конечном счете лишь к увеличению неустойчивости средств платежа, ибо между этими деньгами, лишенными, согласно старому обычаю, всякой надписи, уточняющей их курс (самые названия которых — гро, экю, аньель, франк, луи и т. д. — указывали лишь на тип монеты, а не на ее стоимость), с одной стороны, и между абстрактными мерами, каковыми являлись ливр или его доли, — с другой, соотношение устанавливалось только выпускавшим монету государством, притом таким образом, что монета данного типа считалась содержащей столько-то ливров, су и денье. Это соотношение, совершенно произвольное, могло меняться и действительно изменялось. Монета то «ослаблялась» — это означало, что то же количество металла соответствовало отныне большему числу счетных единиц (которые, следовательно, приобретали более «слабую» стоимость), — то «укреплялась» под влиянием обратного соотношения. Тот же самый вес золота, который 1 января 1337 года стоил ровно 1 ливр, начиная с 31 октября стоил 1 ливр 3 су и 17/9 денье. Это показатель «ослабления» монеты. 27 апреля 1346 года, спустя некоторое время, когда его стоимость в ливрах была еще более высокой, она была сведена к 16 су 8 денье. Это показатель «укрепления» монеты. Государственная власть предпринимала эти маневры по различным причинам, которые нам порой трудно выявить. Они приводили к новой чеканке монеты, являвшейся источником ощутимых прибылей для суверена. Они своевременно изменяли соотношение государственного долга и кредита. Они позволяли устанавливать соответствие между фактической ценой двух драгоценных металлов и их законным соотношением — вечная проблема биметаллических систем. Когда вследствие износа или под действием резцов слишком ловких спекулянтов содержание металла в обращавшейся монете уменьшалось по сравнению с ее первоначальным состоянием, «ослабление» приводило официальный курс металла в соответствие с реальным курсом. Наконец, в эпоху, когда финансовая техника была еще слишком примитивной и не знала банковых билетов и тонкостей колебаний учетного курса, эти «изменения» (mutations) давали государству единственную или почти единственную возможность воздействовать на обращение. С течением времени колебания кривой не принесли компенсации. В результате монета «ослабела», притом в значительной степени. В какой мере — это ясно покажут следующие цифры. Золотая стоимость турского ливра, основной счетной единицы, составляла в 1258 году примерно 112 франков 22 сантима в современной монете, в 1360 году — 64 франка 10 сантимов, в 1465 году — 40 франков 68 сантимов, в 1561 году — 21 франк 64 сантима, в 1666 году — 9 франков 39 сантимов, в 1774 году — 5 франков 16 сантимов, в 1793 году, накануне отмены старой денежной системы — 4 франка 82 сантима. К тому же эти цифры не учитывают наиболее сильных колебаний: после 1359 года содержание металла в ливре (тоже в золоте) равнялось 29 франкам 71 сантиму современной монеты, в 1720 году — 2 франкам 6 сантимам. То же происходило и со стоимостью серебряных денег[102].
В принципе все платежи (за исключением особых условий, оговоренных в некоторых торговых договорах) были выражены в счетной монете. Это же относится и к сеньориальным повинностям. Держатель вовсе не обязан был отдать такой-то вес золота или серебра, он должен был внести столько-то ливров, су или денье. Сумма этих платежей, хотя она и не означала никакой постоянной реальности, сама по себе считалась неизменной почти везде. Действительно, она регулировалась обычаем, иногда устным, иногда записанным (последний случай получал все большее распространение), во всяком случае, соблюдение его считалось обязательным, и в случае надобности суды заставляли уважать его. Разве повинности не называли в средневековом разговорном языке словом «обычаи» (coutumes), a виллана, который обязан был их выплачивать, — coutumier? В результате наследник какого-нибудь сеньора, получавшего в 1258 году 1 ливр, продолжал и в 1465 году получать столько же, но в 1258 году его предок получал в золотой стоимости что-то около 112 франков, наследник же должен был довольствоваться в 1465 году эквивалентом в 40 франков. Так и в наши дни заем, совершенный в 1913 году и продолжающий исчисляться во франках, означал для кредитора потерю 4/5 одолженной суммы или около того. Таким образом, под одновременным воздействием юридического явления (обычая) и экономического явления (обесценивания денежной единицы) повинности крестьян постепенно уменьшились, тогда как их доходы (если они нанимались на работу или продавали свои продукты), не подвергаясь никакому основанному на обычае ограничению, смогли удержаться на уровне нового стандарта; сеньоры же постепенно разорялись.
Они разорялись медленно и вначале незаметно для самих себя. Лучшим доказательством этого является то обстоятельство, что в конце ХШ века и еще в XIV веке многие сеньориальные управления продолжали (что они охотно делали с тех пор, как распространилось употребление денег) благосклонно относиться к замене натуральных платежей денежными, обменивая таким образом прочную реальность всегда желанных съестных припасов на самое неустойчивое из средств обмена. Мы имеем сегодня достаточно доказательств тому, что, когда эталон стоимости остается номинально неизменным, люди долгое время не замечают его истинного обесценения: слово доминирует над вещью. Но рано или поздно наступает пробуждение. Не опасаясь впасть в ошибку, можно отнести к началу XV века тот момент, когда появилось сознание обесценения рент. Королевские или герцогские ордонансы (в Бретани, в Бургундии) рассказывают об этом явлении очень ясно{100}. Писатели знакомят с ним общество. Но никто не сумел сделать это так, как Ален Шартье[103] в 1422 году. Послушаем его «рыцаря»: «У простолюдинов то преимущество, что их кошелек представляет собой как бы водоем, который собирал и собирает воды и стоки всех богатств этого королевства… ибо «ослабление» денег уменьшило их повинности и ренты, которые они нам должны, а невероятная дороговизна, установленная ими на продукты и работы, создала им состояние, которое они ежедневно собирают и копят»{101}. Момент, когда начинают осознавать экономический процесс, очень важен, ибо с этого момента становится возможной борьба. Однако открытие и приведение в действие средств, способных пресечь это коварное кровопускание, не выпало ни на долю Алена Шартье, ни на долю его современников. Прежде чем действительно началась борьба, к первой причине обесценения добавилась другая, имевшая еще более быстрые последствия.
Полезно знать содержание металла в монете, но еще интереснее оценить ее покупательную способность. К несчастью, при современном состоянии исследований мы вынуждены ограничиться для средних веков на этот счет лишь предположениями. К тому же в стране, экономически очень раздробленной, меновая стоимость денег неизбежно сильно менялась в зависимости от района. Кроме того, в течение Столетней войны на всех рынках (некоторые цифры которых дошли до нас) она претерпевала очень резкие и очень сильные колебания, которые легко объясняются случайностями войны. Наоборот, бесспорно, что около 1500 года цены везде упали довольно низко. Золотом или серебром (главным образом серебром, так как золото служило лишь для крупных платежей) сеньор получал меньше прежнего, но эта небольшая сумма металла позволяла ему приобрести больше ценностей, чем он мог это сделать на такое же количество металла в непосредственно предшествующий период, — компенсация, хотя и недостаточная для восстановления равновесия, но тем не менее весьма ощутимая. В течение XVI века положение изменилось. Сначала интенсивная эксплуатация рудников Центральной Европы, а затем гораздо более значительные поступления сокровищ и металлов из рудников Америки (особенно после открытия в 1545 году великолепных сереброносных жил в Потози) чудовищно увеличили количество металла. В то же время возрастающая быстрота обращения в свою очередь увеличивала количество наличных денег. Это вызнало чрезвычайно сильное повышение цен. Этот процесс, общий в основных своих чертах для всей Европы, во Франции стал ощущаться начиная примерно с 1530 года. Раво подсчитал, что в Пуату покупательная способность ливра, равная при Людовике XI приблизительно 285 франкам в нашей монете, упала при Генрихе II в среднем до 135 франков, а при Генрихе IV — до 63. На протяжении полутора столетий в результате потери металлического содержания фиктивной единицы — ливра — и повышения цен покупательная способность ливра понизилась более чем на три четверти. Это потрясение оказало различное влияние на разные классы общества, которые жили непосредственно (или косвенно) за счет земли. Производители почти не пострадали. Серьезный ущерб был нанесен двум классам: поденщикам (в связи с ростом населения рабочая сила перестала быть такой дефицитной), заработная плата которых лишь с большим опозданием поспевала теперь за ростом цен на продукты питания, и сеньорам, которые были прежде всего рантье. В 1550 году сеньория Шатишьон-су-Мэш (Châtillon-sous-Maîche), во Франш-Койтэ, принесла своему господину доход в сумме 1673 франка, в 1600 году — 2333 франка — довольно значительный прогресс, почти на 150 процентов, что объяснялось, по-видимому, не только очень тщательным управлением, но главным образом тем обстоятельством, что в этом краю, который долгое время был экономически отсталым, сеньор собирал еще то в форме поборов, то со своего домена довольно много сельскохозяйственных продуктов, которые он продавал. Случай этот является, стало быть, относительно благоприятным. Но в этой же местности в период между двумя указанными годами цена пшеницы, не говоря ни о чем другом, возросла на 200 процентов. Даже там, где в виде исключения цифры на первый взгляд как будто свидетельствуют о прибыли, изучение экономических фактов обнаруживает убыток[104].
Не все сеньориальные имущества были задеты в одинаковой степени. Большинство церковных учреждений сосредоточили в своих руках десятину, значительные прибыли от которой оставались неизменными. В некоторых провинциях, стоявших в стороне от крупных экономических сдвигов, замена первоначальных натуральных повинностей денежными всегда носила скромные размеры. С другой стороны, сеньоры (особенно, возможно, мелкие владельцы фьефов) сохранили здесь относительно большую часть своих доменов. Вследствие забавной превратности судьбы дворянство пострадало здесь значительно меньше, чем в издавна богатых районах, где все базировалось на деньгах. В других случаях общая крупная сумма денежных рент, делавшая их обесценение менее пагубным, обладание десятинами или шампарами, добавочные доходы от государственных и придворных должностей — все это позволило некоторым семьям пережить трудности момента без слишком большого ущерба и впоследствии устранить их. Обесценение денег не прозвучало похоронным звоном для старого дворянства. Тем не менее очевидно, что многие древние роды пришли тогда в упадок. Некоторые избежали катастрофы лишь благодаря тому, что пренебрегли на время своим социальным положением и обратились к торговле. Другие, более многочисленные, переживали один кризис за другим и смогли в конечном счете спастись, лишь пожертвовав частью своего родового владения.
Вот родовитый дворянин, нуждающийся в деньгах. Вначале он довольствуется тем, что берет взаймы, закладывая иногда свою землю или устанавливая на нее ипотеку. Но как возвратить долг? В конечном счете ему приходится примириться не только с продажей нескольких полей, но даже нескольких сеньорий, иногда самому кредитору или же другим покупателям, чьи экю позволили бы погасить самые неотложные долги. К какому социальному слою принадлежали новые владельцы? Это равносильно вопросу, у кого имелись деньги? Замок, почетная скамья в приходской церкви, виселица — символ права высшей юстиции, — цензы, тальи, право «мертвой руки» — все величие и все доходы старой иерархической системы почти везде служили увеличению богатства и престижа человека буржуазного происхождения, чье состояние было создано благодаря торговле и должностям и который, уже получив звание дворянина или будучи накануне этого события, превращался в сеньора. Так, например, вокруг Лиона, вплоть до Фореза (Forez), Божоле и Дофинэ, баронии, шателлении и всякого рода фьефы сосредоточивались таким образом в руках знатных семей лионского патрициата, разбогатевших благодаря торговле пряностями, сукноделию, рудникам или банкам, в руках семей французского происхождения (Камюсы, Лорансены, Виноли, Варей), итальянского (Гаданьи и Гоиди) и немецкого (Клеберти). Из сорока сеньорий, проданных коннетаблем Бурбоном или ликвидированных после конфискации его имуществ, только три были куплены родовитыми дворянами. И неважно, если, как утверждает старое предание, меняла Клод Лорансен, сын суконщика и внук кабатчика, вынужден лезть из кожи, чтобы добиться оммажа от своих новых вассалов в купленной им у самой дочери Людовика XI баронии. Его жена стала тем не менее статс-дамой королевы, а его старший сын — королевским священником{102}. Но сеньориальный строй не был разрушен. Более того, он не замедлил обрести новую силу. Однако сеньориальная собственность в значительной мере переменила владельцев.
Однако мы вовсе не хотим сказать, как это иногда делалось, что в это время появляется «новый претендент на владение землей — буржуа». С тех лор как появилась буржуазия, ее представители не только приобретали в большом количестве земли вокруг городов, но наиболее выдающиеся из них постепенно проникали в среду сеньоров. Ренье Аккор, камергер графов Шампани, был буржуа; таково же происхождение дОржемонов, разбогатевших, несомненно, на управлении ярмарками Ланьи (Lagny)[105]; Робер Алорж, торговец вином в Руане, откупщик налогов и ростовщик, также буржуа. Все они положили начало (первый — в XIII веке, другие — в XIV и в начале XV веков) сеньориальным владениям своих семей, богатству, которому позавидовали бы Камюсы и Лорансены, жившие при Франциске 1{103}. Но никогда раньше этот переход буржуазии в ряды дворянства не носил такого массового характера. И в таком масштабе он больше не повторился. В XVII веке каста была уже наполовину замкнута. Конечно, она продолжала еще вбирать много новых элементов, но в менее значительном количестве и не так быстро. В социальной истории Франции, особенно в ее аграрной истории, нет более решающего события, чем это завоевание земли буржуазией, быстро укрепившей свои позиции. XIV век был отмечен бурной антидворянской реакцией. В этой «войне не дворян против дворян», по выражению того времени, буржуа и крестьяне часто оказывались союзниками. Этьенн Марсель был союзником жаков, а добрые купцы Нима не питали к рыцарям своего края более нежных чувств, чем тюшены[106] лангедокских деревень. Перешагнем через одно или полтора столетия. Теперь этьенны марсели стали дворянами — в результате пожалования королем дворянских званий — и сеньорами — вследствие экономических изменений. Вся сила буржуазии, по крайней мере высшей буржуазии и тех, кто стремился возвыситься до нее, была направлена на поддержку сеньориального строя. Но новым людям присущ новый дух. Сделавшись наследниками прежних земельных рантье, эти торговцы, эти откупщики государственных налогов, эти кредиторы королей и вельмож, привыкшие аккуратно, изворотливо и в то же время смело управлять движимым имуществом, не изменили ни своему умственному окладу, ни своему честолюбию. То, что они принесли с собой в методы управления недавно приобретенными имениями, то, что переняли у них самые родовитые дворяне (если им удалось сохранить свои наследственные богатства), то, что приносили порой с собой их дочери (разоренные дворяне часто домогались этих выгодных браков) в старинные семьи, чье родовое имущество зачастую было спасено благодаря какой-нибудь энергичной женщине, — ©се это свидетельствует об умственном окладе деловых людей, привыкших подсчитывать прибыли и убытки, способных при случае пойти на затраты, пусть временно безрезультатные, но от которых зависят будущие барыши. Скажем прямо, все это говорит о капиталистическом складе ума. Такова была закваска, которая должна была изменить методы сеньориальной эксплуатации.
III. «Сеньориальная реакция»: крупная и мелкая собственность
Обесценение рент было фактом европейского масштаба. Попытки, предпринятые более или менее обновленным сеньориальным /классом для восстановления своего богатства, носили также общеевропейский характер. В Германии, в Англии, в Польше и во Франции одна и та же экономическая драма вызвала аналогичные проблемы. Но различные социальные и политические условия этих стран заставили тех, чьи интересы оказались ущемленными, действовать разными методами.
В Восточной Германии, по ту сторону Эльбы, как и в простиравшихся к востоку от нее славянских странах, вся старая сеньориальная система изменилась и уступила место новому порядку. Повинности не приносили больше дохода. Но за этим дело не станет! Дворянин сам станет производителем и продавцом зерна. Он сосредоточивает в своих руках отнятые у крестьян поля, создает крупное домениальное хозяйство, вокруг которого существует определенное количество мелких ферм, как рае достаточное для того, чтобы с лихвой обеспечить его барщинным трудом. Все более крепкие узы привязывают крестьян к господину, обеспечивая ему их принудительный даровой труд: домен поглотил или обескровил держания. В Англии развитие шло совсем иным путем. Там, правда, также получила широкое распространение обработка земли самим собственником за счет крестьянских и общинных земель. Однако сквайр в значительной степени остается рантье. Но большинство его рент уже не являются больше неизменными. Отныне мелкие держания предоставляются в лучшем случае на определенный срок, а еще чаще это зависит от воли сеньора: при всяком возобновлении договора нет ничего проще, как привести арендную плату в соответствие с экономическими условиями момента. Следовательно, на двух концах Европы основные черты развития были одинаковы; система наследственных держаний, в первую очередь ответственная за кризис, была выброшена за борт.
Но во Франции невозможно было осуществить это в такой резкой форме. Оставим в стороне для упрощения Восточную Германию и Польшу, институты которых, дававшие столько власти сеньориальному классу, резко отличались от институтов нашей монархии. Ограничимся сравнением с Англией. Примерно в XIII веке положение по обе стороны Ла-Манша было в общих чертах одинаково — обычай, особый для каждой сеньории, защищал крестьянина и практически обеспечивал ему наследственность держания. Но какая власть заботилась о соблюдении обычая? В этом отношении замечается очень сильный контраст. С XII века английские короли чрезвычайно энергично устанавливают свою судебную власть. Их суды господствуют над старыми судами свободных людей и над сеньориальной юрисдикцией, им подчиняется вся страна. Но за эту редкую скороспелость пришлось расплачиваться, В XII веке связи зависимости были еще слишком сильны, чтобы можно было допустить (или даже помыслить об этом), что между сеньорам и его непосредственными подданными может кто-нибудь встать, будь то даже сам король. При Плантагенетах внутри своего мавора (так называется в Англии поместье) сеньор не может наказывать за убийства, — такие преступления подлежали ведению общего права. Его вилланы, которые за свои держания обязаны были перед ним повинностями и барщиной, могли быть вызваны во многих случаях в государственный суд. Но то, что касалось их держаний, должен был решать сам сеньор или его суд. Разумеется, сеньориальный суд должен был судить согласно обычаю; он часто так и делал или считал, что так делает. Но чем, в сущности, является обычай (если он не записан), как не правилом судебной практики? Можно ли удивляться тому, что материальные судьи истолковывали прецеденты в смысле, благоприятном для интересов господина? В XIV и XV веках они все менее и менее охотно признавали наследственность вилланского держания, которое было принято называть держанием по копии (copyhold), потому что оно считалось доказанным только в том случае, если оно было внесено в опись сеньориального имения. Правда, в конце XV века наступил момент, когда королевские чиновники, преодолев, наконец, старую преграду, решились вмешаться во внутренние дела манора. Но они в свою очередь могли выносить свои решения, только основываясь на обычаях различных поместий в том виде, в каком они их застали, то есть уже почти повсюду переработанных. Они установили временность крестьянского владения во всех местах, то есть в значительно большем числе маноров, чем те, где эта временность уже вошла в обычай.
Во Франции эволюция королевской юстиции шла совсем иными путями и позже на целое столетие по сравнению с Англией. То присваивая себе какой-нибудь «случай» (cas), то получая апелляции от того или иного поместья, королевские суды начиная с XIII века подрывали постепенно позиции сеньориальных судов, притом без крупных законодательных постановлений, которые можно было бы сравнить с «ассизами» Плантагенетов, без обобщений, но также и без резко выраженных границ. Возникающие между сеньором и его держателями судебные процессы никогда не исключались в принципе из ведения королевских судов. С самого начала, если для этого представлялся случай, королевские чиновники, не колеблясь, принимались за эти дела. Они судили, само собой разумеется, согласно местному обычаю (фиксации которого они тем самым способствовали). Часто они судили в ущерб крестьянину, повинности которого они таким образом увековечивали, а порой (когда злоупотребления превращались в прецеденты) и отягчали, но зато к большой выгоде для его наследственных прав. В XVI веке закрепленная судебной практикой наследственность держаний слишком прочно вошла в обычай, чтобы ее можно теперь оспаривать. С тех пор как законы Юстиниана стали преподаваться в школах, серьезная проблема номенклатуры всегда привлекала к себе внимание юристов. Сеньориальная организация, а над ней и вся феодальная система отягощали землю целой иерархией напластованных друг на друга вещных прав, в основе которых лежали обычаи или договоры и каждое из которых было одинаково уважаемо в своей сфере; но ни одно из них не обладало господствующим, абсолютным характером квиритокой собственности. Практически в течение долгих столетий все судебные процессы, связанные с господством над землей или с приносимыми ею доходами, рассматривали вопрос не собственности, a saisine (то есть владения, защищаемого и узаконенного традицией). Но римские категории настоятельно навязывали себя ученым. Кто же был собственником: сеньор фьефа или вассал, сеньор держания или виллан? Это нужно было знать любой иеной. Мы занимаемся здесь только держанием, исключая фьеф и оставляя в стороне все смешанные системы (таково, например, различие двух видов доменов — direct и utile[107]), которые были созданы на протяжении веков. Юридическая доктрина долго колебалась в поисках истинного собственника, но уже в XIII веке нашлись юристы-практики, а в XVI веке и авторы вроде знаменитого Дюмулена[108], которые сошлись на признании этого титула за держателем. В XVIII веке это стало общим мнением{104}.[109] В самих сеньориальных описях (terriers — нечто вроде кадастров, введенных сеньориальной администрацией для облегчения взимания повинностей) это вещее слово «собственники» помещалось обычно в начале столбца, в который были внесены имена владельцев земель, обязанных повинностями. Действительно, это слово полно смысла; оно подтверждало и укрепляло понятие непрерывности, присущее тому вещному праву, которое держатель по традиции осуществлял в отношении своего дома и своих полей. Вследствие любопытного исторического парадокса именно медлительность развития французского юридического развития оказалась более выгодной для сельских жителей, чем смелые установления нормандских и анжуйских королей Англии.
Собирались ли французские сеньоры, не имевшие юридически права захватить землю, сложить оружие перед лицом катастрофы, которой угрожали им экономические изменения? Думать так — значит плохо понимать тот дух, который новые владельцы фьефов, воспитанные в школе буржуазного богатства, принесли с собой в тот класс, к которому они недавно приобщились. Однако нужно было применить более хитрые и более гибкие методы. Сеньориальные права как таковые вовсе не потеряли ©сякой ценности, но их доходность сильно упала. Можно ли было повысить ее путем более тщательного управления? Система, сделавшая сеньора в гораздо большей степени рантье, чем предпринимателем, с течением времени оказалась вредной; почему же не попытаться дать задний ход и, избегая насилия, ибо насилие не было дозволено, упорно и искусно потрудиться над восстановлением домена?
* * *
К концу средних, веков многие старые поборы перестали регулярно взиматься именно потому, что они были мало доходны, а также по причине бесхозяйственности, столь обычной для многих дворянских семей. Сеньор терял при этом не только ежегодную ренту, ценность которой была обычно незначительной, но также (а это важнее) надежду и возможность доказать в тот день, когда земля переменит владельца (вследствие смерти или отчуждения), свое право потребовать взимаемый при передаче собственности побор, также закрепленный за ним, как правило, обычаем, но размер которого был относительно высок. Порой уже невозможно было толком разобрать, от какой именно сеньории зависела та или иная парцелла. Подобные случаи в XVI веке не были редкостью. Они встречаются и в последующие столетия — до такой степени отношения зависимости (mouvances) были запутаны и их границы трудно определимы, — но все реже и реже. Это объясняется тем, что в сеньориальном управлении стали применять здравые, методы ведения дел; счетоводство, инвентари. Конечно, весь период существования сеньории ясно показал пользу периодических проверок и описей повинностей. Об этой заботе уже свидетельствуют каролингские полиптики, следующие вероятно, римской традиции, а после страшных смут X–XI веков — многочисленные книги цензов (censiers) и описи земель (terriers). Но начиная с великого восстановления после Столетней войны этих документов становится все больше, они составляются в том же поместье через все меньшие промежутки времени и становятся все более методическими и тщательными. По правде говоря, у всех них был один недостаток: они стоили довольно дорого. Но кто платил за них? Согласно юридическому принципу, держатель, как и вассал (стоявший выше его на общественной лестнице и наделенный фьефом), обязаны были в определенные моменты и при наличии мотивированной просьбы «признать» (avouer) за своим сеньором свое имущество и свои обязанности. Опись земель могла сойти за якобы простую сводку таких «признаний». Не следует ли отсюда, что и расходы по ее составлению также должны были нести вассалы и держатели? Однако для держаний «признание» всегда было исключительной формальностью; поэтому многократно заново переписываемая опись грозила добавлением еще больших тягот; из старого юридического правила фактически извлекали новую повинность. Судебная практика была, по-видимому, разноречива; и при старом порядке в парламентах судебная практика очень редко бывала единообразной. Однако в конце концов с XVII века в значительной части королевства юриспруденция признала за сеньором право требовать от своих людей (в одних местах через каждые 30 лет, в других — даже через каждые 20 лет) полной или частичной (в зависимости от провинции) оплаты расходов по составлению опасных книг, закреплявших их зависимость{105}. Как же после этого отказаться от дела, почти или целиком дарового, прибыльность которого была очевидна? Была создана целая техника, целая практика, кодифицированная литературой в XVIII веке, и в то же время целая корпорация специалистов, комиссаров, искусно прокладывавших себе дорогу в чаще прав. Вскоре не осталось больше ни одной замковой или монастырской библиотеки, где бы не выстраивались на полках, длинные ряды этих одетых в сафьян и пергамент описей: terriers, lièves, arpentements, marchements. Эти названия варьируются до бесконечности, и сами их разновидности очень различны; самые старые обычно намараны скверными каракулями, самые новые старательно выписаны изящным и ясным почерком. С конца XVII века они все чаще и чаще сопровождаются «геометрическими» планами или атласами: сама математика, используемая для изображения земель, была поставлена на службу экономике. Благодаря этим описям, которые следовали одна за другой из поколения в поколение (и даже быстрее), петли сеньориальной сети стягивались все сильнее. Никакой побор, сколь бы мал он ни был, уже не мог исчезнуть в силу давности.
Более того, при сличении старых документов, при выскабливании до дна сеньориального сундука очень силен был соблазн то оживить старое и вышедшее из употребления право, то распространить общую для провинции повинность на какую-нибудь территорию, которая до сих пор ускользала от нее, то извлечь из какого-нибудь определенного обычая юридическое положение, остававшееся до сих пор в тени, и даже просто включить в запутанную сеть прав совершенно новый побор. Какая слава для февдиста или сеньориального чиновника, какая польза для дойрой профессиональной репутации преподнести подобный подарок нанимателю! Прибавьте к этому непосредственную выгоду, ибо комиссары обычно получали недоимки от этих «открытий». «И они открывали много»{106}. «Вое переменилось в Бриёле (Brieulles)», — пишет в 1769 году уполномоченный принца Конде, едва закончив описание этого поместья. Правда, ему показали более старый документ, значительно менее благоприятный для «его светлости»: документ «недействительный и неправильный», который нужно остерегаться впредь показывать «кому бы то ни было»{107}.[110] Неясность традиций допускала множество плутней. Действительно, даже самый честный человек не всегда мог разобраться в этих дебрях и найти где начиналось правонарушение, тем более, что с точки зрения установившегося порядка даже постепенное ослабление старых повинностей было нарушением права, и, кроме того, сеньоры не всегда были неправы, обвиняя крестьян — «пройдох до последней степени», как говорила одна дама из Оверни{108}, — в том, что они каждый раз, как только могли, избегали платить наизаконнейшие повинности. Это были неизбежные юридические недоразумения между борющимися социальными силами. Что может быть менее определенным и, при отсутствии платины и инвара, более неустойчивым, чем эталоны измерений? Стоит изменить, как это сделал в XVIII веке один бретонский монастырь, размер буассо, служившего мерой при взимании шампара или десятины, и в результате вы обладатель нескольких лишних мешков зерна. При помощи хитроумных истолкований были увеличены и приспособлены к новым экономическим потребностям не только земельные ренты, но — (в еще большей степени — различные дополнительные поборы. Крестьяне герцогства Роганского издавна сносили в сеньориальный амбар зерновой оброк. Но в XVII веке бретонская сеньория впервые (или вновь) включается в товарооборот. Благородный герцог, совсем как прибалтийский дворянчик, превращается в торговца зерном. Отныне, в силу целого ряда постановлений Рейнского парламента, крестьяне должны возить зерно в более далекий морской порт. В Лотарингии еще в средние века некоторые сеньоры заставили признать за ними право «отдельного стада». Это означало, что при открытии земель под паром или общинных угодий для коллективного выпаса они освобождались от обязанности посылать свой окот в общее стадо деревни, благодаря этому они практически избегали докучливого надзора в отношении количества животных и пастбищных земель. В то время эти привилегии были очень редким явлением. В XVII и XVIII веках развитие торговли шерстью и мясом и участие (как и в предыдущем случае) сеньории в общей системе товарооборота сделали эту льготу более желанной; число обладавших ею значительно возросло; она была привилегией всех сеньоров, обладавших правом высшей юстиции, и большинства других. По закону они имели на это право лишь при условии, что сами будут его осуществлять. Однако, несмотря на самые ясные тексты, парламенты Меца и Нанеи (весьма способствовавшие признанию этой льготы за теми, кто ее требовал) разрешали сдавать ее в аренду крупным скотоводам. На другом конце королевства, в Беарне, парламент По (Pau) также принимал не моргнув глазом «признания», в которых, вопреки обычаю, многие владельцы фьефов присваивали себе аналогичное право, называвшееся там «сухой травой» (herbe morte){109}.
Не случайно почти в каждом из этих примеров (и в других бесчисленных случаях, на которые можно было бы сослаться) фигурирует слово «парламент». Массовый переход чиновной буржуазии в ряды дворянства, превращение юридической корпорации (вследствие наследственности и продажности должностей) в настоящую касту привели к тому, что все должности в королевских судах всех инстанций были заполнены сеньорами. Самый честный человек среди этих должностных лиц не мог отныне видеть вещи иначе, как через призму классового сознания. Избирательные собрания (в Германии — «Штаты», где господствовали дворяне; английские парламенты, представлявшие главным образом джентри; мировые судьи, бывшие хозяевами, сельской полиции и вербовавшиеся из той же среды) были самой надежной опорой сеньориального порядка. Во Франции эту роль играли суды бальяжей и сенешальств, президиальные суды и особенно парламенты. Если они и не дошли до разрешения эвикций держателей (совершенно невероятная юридическая революция, требовать которой никто и не решался), то все же они допустили множество мелких захватов, которые с течением времени сделались массовым явлением.
К счастью для крестьян, французский сеньориальный класс, который полностью подчинил своей власти судебную иерархию, не обладал другими рычагами управления (как это удалось английским джентри после революции и германскому юнкерству до восстановления монархической власти). Он был лишен политической власти и управления крупными административными учреждениями. Начиная с XVII века непосредственный представитель короля в каждой провинции, монсеньор интендант, хотя он и принадлежал по своему происхождению к сеньориальному миру, постоянно соперничал в силу характера своих функций с чиновной магистратурой. Кроме того, будучи по преимуществу фискальным агентом, он должен был защищать сельские общины, бывшие основным объектом обложения, от неумеренной сеньориальной эксплуатации. В общем целью его миссии было сохранение для государя его подданных. В Англии падение абсолютизма сделало возможным распространение, в интересах Джентри, знаменитого движения огораживаний, перестройки технических методов, которое (само по себе или по своим последствиям) фактически привело к разорению или экспроприации многочисленных держателей. Во Франции аналогичное явление привело к обратным результатам — победа абсолютной монархии ограничила размах «феодальной реакции». Но только ограничила. Слуги королевской власти всегда считали сеньориальный строй одной из главных опор государства и социального порядка. Они не поняли опасности парадокса, подмеченного Фортескью уже на рубеже нового времени: на плечи крестьянина все более и более ложилась тяжесть государственного фиска, в то время как старое бремя его обязательств по отношению к сеньору, который в монархическом государстве был всего лишь частным лицом, не было уничтожено или хотя бы значительно облегчено.
* * *
Мы уже видели, что посредством права «отдельного стада», посредством «сухой травы», то есть развивая скотоводство, сеньор старался получать доходы с земли непосредственно. Еще более способствовало этой цели восстановление домена.
Во-первых, восстановление шло за счет общинных угодий. Впоследствии мы опишем превратности великой битвы за пустоши. Пока же просто напомним, что эта очень ожесточенная борьба нового времени позволила в конце концов многим сеньорам выкроить себе за счет старинных пастбищ либо обширные луга, защищенные отныне от всякого постороннего вторжения, либо прекрасные поля, приносящие хороший урожай.
Но восстановление шло также и за счет держаний, возможно главным образом за счет их. Иногда удачное использование старых обычаев давало сеньору желаемый повод. В старину земля, являвшаяся выморочным имуществом менмортабля, почти всегда продавалась, чаще всего родственникам покойного, так что в некоторых сеньориях XIII века этот обычай получил силу закона. Теперь же гораздо чаще бывало так, что там, где серваж еще сохранился, выморочное имущество оставалось за сеньором. То, что сеньор имел право присоединять к домену все бесхозные имущества, было общепризнанным.
В один прекрасный день он приказывал измерить парцеллы держателей в связи с составлением описи или землеустройства, необходимого в послевоенное время. При этом выяснялось, что некоторые парцеллы больше того размера, который признан за ними по прежним документам, то ли потому, что действительно имели место незаконные увеличения, то ли потому, что первоначальные способы межевания были слишком грубы или же за это время изменился эталон измерений (и это вернее). Эти излишние куски полей считались бесхозным имуществом и, на этом основании, законной добычей. В других случаях это было результатом «искусно» проведенного взимания недоимок, которое разоблачал один моралист XVII века. Сеньор, стремящийся округлить свой домен, обычно в течение 29 лет не требует своих рент (срок давности обычно равнялся 30 годам); в конце этого срока он «заявляет о своих правах». «Бедные люди», решившие, что им ничего не грозит, конечно, не отложили крупной суммы, которая теперь неожиданно понадобилась. Оказавшись неплатежеспособными, они обречены на конфискацию. Таким образом, наш сеньор к моменту своей смерти оказывается «владельцем почти всех земель своего прихода»{110}.
Однако в основном сеньор воссоздавал свое крупное земельное хозяйство постепенно, при помощи самых обычных средств: покупки и обменов. В этом отношении их дело ничем не отличается от аналогичной работы многих других представителей зажиточных классов — буржуа (остававшихся еще по эту сторону подвижной границы, отделявшей разночинцев от дворянства) или даже зажиточного крестьянства, вполне готового, впрочем, усвоить буржуазный образ жизни.
Посмотрим на один из этих земельных планов, создававшихся в таком большом количестве начиная с XVII века и оставивших нам столь живой образ раковины сельского общества, а следовательно, и ее моллюска. Предположим, что мы находимся в области земельного раздробления, скажем даже (от этого пример будет даже ярче) — в области длинных полей. Повсюду земля разделена на привычные длинные и узкие полосы. Однако кое-где в хаосе этих тонких очертаний имеются обширные белые пятна, представляющие собой гораздо более широкие прямоугольники. Они образовались в результате постепенного объединения нескольких (иногда многих) парцелл обычного типа. Многие из таких обширных полей, составляющих разительнейший контраст с остальной округой, ясно видны вокруг деревни Бретвилль лОргейёз (Bretteville lOrgueilleuse), в Канской равнине, на плане, составленном в 1666 году (рис. XVI). К счастью, одна опись 1482 года, то есть почти двумя столетиями раньше, дает нам удивительно правильный отправной пункт; благодаря ему (или, скорее, благодаря сравнению двух документов, которое, по счастливому вдохновению, сделал один знакомый с местной историей эрудит XVIII века) мы узнаем, что там, где в 1666 году тянулись борозды четырех гигантских кусков, в 1482 году можно было видеть соответственно 25, 34, 42 и 48 парцелл. В данном случае этот процесс особенно ясен, и его легко проследить, но подобных примеров тысячи. Перейдем от карт к описям. Попытаемся узнать из них звания и титулы счастливых владельцев этих исключительно обширных полей. С удивительным постоянством мы все время сталкиваемся с одним из следующих четырех случаев: сеньор (это самый частый случай); местный дворянин, чаще всего из чиновного, еще наполовину буржуазного дворянства; буржуа одного из соседних городов или местечек, торговец, мелкий чиновник, законник — одним словом «господин» (Monsieur) (описи, как правило, очень внимательны к тому, чтобы награждать этим почетным предикатом только лиц более высокого положения, чем простые ремесленники); иногда, но реже, простой крестьянин, уже довольно крепкий земельный собственник, часто занимающийся наряду со своими чисто аграрными делами ремеслом денежного воротилы, торговца, кабатчика, а также более прибыльным, но менее почетным промыслом заимодавца на короткие сроки (см. рис. VII, XIII, XIV).
Все эти социальные категории являются к тому же часто лишь этапами одного и того же восхождения: богатый крестьянин станет родоначальником «господ», а те в свою очередь, возможно, родоначальниками дворян. С конца XV века первые собиратели земель рекрутируются главным образом среди этих мелких деревенских или местечковых капиталистов — купцов, нотариусов и ростовщиков, — игравших тогда в экономически обновленном обществе (все более и более подвластном денежному кумиру) роль, конечно, более скромную, чем крупные банковские и торговые авантюристы, но не менее эффективную, в сущности, роль фермента. Это были люди, которых обычно не мучили сомнения, но которые умели видеть ясно и далеко. Этот процесс был всеобщим и повторялся в каждой провинции: одно и то же упорство в покупке земель присуще и Жому Дедье, юристу из Олиуля (Ollioules), в Провансе, и сиру Пьеру Бобиссону, купцу из Плэзанса (Plaisance), в Монморильонэ (Montmorillonnais), и Пьеру Сесилю, советнику его величества Филиппа II в Дольском парламенте. Сеньоры последовали этому примеру с некоторым запозданием, притом они зачастую лишь продолжали дело своих рожденных в ротюре предков. Крупный земельный собственник Александр Мэрте, советник Дижонского парламента при Людовике XIV и сеньор Мино (Minot) в Бургундии, происходит от мелкого деревенского торговца, начавшего в XVI веке накоплять недвижимость в этих же местах. Родом из Кана или его окрестностей, семья Перротт де Кэрон владеет в 1666 году почти всеми крупными пашнями, расположенными целыми кусками вокруг деревни Бретвилль, лОргейез (Bretteville lOrgueilleuse). Члены этой семьи неизменно носили звание оруженосцев и ставили за своим родовым именем название сеньории: сеньоры де Сен-Лоран, де ла Гер, де Карданвилль, де Сен-Вигор, де ла Пигассьер. Но их дворянство насчитывало всего лишь два столетия, а состояние было создано, конечно, сначала благодаря торговле и должностям, а затем быстро укреплено солидными земельными приобретениями. С 1482 года Никола де Кэрон владел вблизи деревни полем, которое называлось тогда Grand clos; как сказано в описи, «названный огороженный участок перешел к нему от многих лиц как в результате покупки и обмена, так и другим путем»{111}. Часто, как это было в Мино с семейством Мэрте, ранг сеньории устанавливался для поместья лишь потом. За три года, с 1527 по 1529, генеральный прокурор Бургундского парламента заключил двадцать две купчие с десятью различными собственниками и таким образом создал свой домен Ла Во (La Vault;, площадь которого достигала 60 га, после чего он стал здесь собственником части сеньориальных прав и правосудия{112}.
В XVII и XVIII веках традиции этих земельных приобретений следуют и семьи высшей буржуазии. Она проникает и в дворянские семьи. Для разбогатевшего купца присоединить луга к пашням и виноградники к лесу — это обеспечить состояние потомству на более прочных основах, чем случайности торговли. «Семьи, — пишет Кольбер, — могут удерживаться в том же положении лишь благодаря солидному обзаведению земельными владениями». Это способствует также росту престижа семьи: обладание землей и сеньориальными правами, которые рано или поздно приходят вслед за ней, вызывает уважение и подготавливает получение дворянского звания. Для настоящего дворянина это значит защитить себя от непредвиденных случайностей, возможных при взимании повинностей. Наконец, для всех, кто имел какие-нибудь деньги, — для дворянства старого и нового происхождения или для простых ротюрье — в XVII веке появился еще новый довод в пользу земельных приобретений: почти полное отсутствие возможности прибыльного и надежного помещения капитала в другом месте. Поля покупали, как покупали впоследствии государственные ренты, железнодорожные облигации или нефтяные акции. Это дело требовало длительного времени! Экскому адвокату Антуану де Крозу потребовалась целая или почти целая жизнь, чтобы восстановить для себя сеньорию Линсель (Lincel), раздробленную между столькими лицами, что первый приобретенный им у несостоятельного должника участок составлял лишь одну сорок восьмую ее часть; сеньорам де Лантене (Lantenay), в Бургундии, потребовалось 75 лет, чтобы составить из многих клочков участок, получивший с тех пор характерное название Большого Куска; 161 год ушел на то, чтобы собрать в своих руках землю, на которой они в конце концов воздвигли свой замок. Но, как видно, труды отнюдь не пропали даром.
В некоторых областях эта концентрация земель зашла достаточно далеко, чтобы изменить само размещение людей на земле. Там, где преобладали крупные деревни, земли были слишком обширны и число жителей слишком значительно, чтобы один владелец мог заменить это множество земледельцев. Напротив, в областях огороженных полей Центра и, быть может, Бретани, где населенные пункты были гораздо мельче, а раздробление земель менее резко выражено, в зонах недавней распашки, где поднимавшие целину люди поселялись маленькими деревушками, удачливый собственник мог вполне захватить постепенно всю округу. Не раз вместо прежней горсточки домов в области Монморильон (Mont-morillon), в Лимузене, на холмах области Монбельяр (Montbéliard) возникала стоящая в одиночестве большая ферма, вокруг которой группировались поля{113}. Укрупнение земельных владений, осуществленное при старом порядке буржуазией и дворянством, вызвало новый прогресс распыления населения.
Старые сеньориальные домены там, где они еще частично существовали, могли послужить лишь исходным пунктом для восстановления домениальных земель, которые в значительной степени превосходили их. кое-где в результате обменных операций удалось осуществить удачное округление земель, но, само собой разумеется, объединение парцелл было в основном достигнуто за счет покупок. Почему же многие мелкие крестьяне были вынуждены продать отцовские поля? Почему они оказались столь стесненными в средствах?
Иногда их нужда была вызвана каким-либо неожиданным событием, например войной. Показательно, что в Бургундии конца XVII века деревни, насчитывавшие наименьшее количество наследственных держателей, были именно теми поселениями, которые претерпели в течение столетия наиболее сильные опустошения в результате вторжений и сражений. Некоторые прежние жители покинули их и никогда больше не вернулись; их земля, ставшая выморочным имуществом, досталась сеньору, который, будучи более дальновидным, чем его предшественники после Столетней войны, и находясь в более благоприятных экономических условиях, поостерегся вновь раздать ее в качестве наследственных держаний; он сохранил ее для себя или же, если считал необходимым сдать ее в аренду, заключал договор на определенный срок. Однако многие цензитарии остались на месте или вернулись, но, не имея кредита, подыхая с голоду и зачастую обремененные долгами, они вынуждены были продавать свои земли по низкой цене.
Однако для того, чтобы сельские массы оказались в безвыходном финансовом положении, вовсе не обязательны были неожиданные происшествия. Для этого было вполне достаточно трудностей приспособления к новой экономической жизни. Прошли те времена, когда мелкий производитель — худо ли, хорошо ли (скорее худо, чем хорошо) — мог и умел жить за счет своего хозяйства. Отныне приходилось без конца заглядывать в кошелек: платить налоговому сборщику; платить агенту государства (причем потребности последнего в результате экономической революции увеличились в сотни раз); платить агенту сеньора, который, так же как государство, увеличил свои притязания в соответствии с требованиями эпохи; платить купцу, ибо; согласно жизненным привычкам, укоренившимся даже среди самых обездоленных людей, нельзя было отныне отказываться от покупки некоторых товаров или продуктов. Конечно, под рукой были плоды земли, часть которых можно было продать, по крайней мере в хорошие годы. Но продать — это еще не все. Чтобы извлечь из этого некоторую выгоду, надо совершить продажу в благоприятный момент, следовательно, надо уметь выжидать и предвидеть, а это зависит от наличия запасов и от склада ума. Но у мелкого крестьянина не было ни избытка капиталов, ни умения взвешивать конъюнктуру. В XVI–XVIII веках были созданы значительные состояния благодаря торговле зерном. Обладатели этих состояний были чаще всего купцами, хлебными торговцами (blatiers), иногда также крупными крестьянами, трактирщиками, предпринимателями различных перевозок. «Средний» деревенский житель выиграл от этого гораздо меньше. Ощущавшаяся столькими деревенскими жителями необходимость достать любой ценой наличные деньги нашла свое выражение (при старом порядке во многих районах) в том рвении, с которым они добивались получить работу на дому, чтобы в форме заработной платы иметь какие-то добавочные средства. Еще чаще они брали взаймы, само собой разумеется, под очень обременительные проценты. Сельскохозяйственный кредит не был ни организован, ни предусмотрен. Зато изобретательность денежных воротил была беспредельной: ссуды деньгами, ссуды хлебом, ссуды скотом под залог земли или будущего урожая, часто (особенно в XVI веке в силу старинных запретов, еще лежавших на взимании процентов) скрытые под маской совершенно безобидных контрактов. Все эти хитроумные и разнообразные комбинации имели один результат — еще более тяжелое обременение должника. Раз попав в долговую кабалу, будучи не в состоянии удовлетворить сразу требования чиновника государственного фиска, сеньориального агента и деревенского ростовщика, крестьянин, если даже ему удавалось избежать наложения ареста на имущество или продажи «по приговору», вынужден был все же в конце концов продать по своей воле несколько кусков полей, виноградников или лугов. Часто в роли покупателя выступал сам заимодавец, бывший в то же время перекупщиком земель — «посредником» (moyenneur), как говорили в Пуату в XVI веке, и ростовщиком; возможно, что с самого начала, когда он согласился предоставить заем, он рассчитывал именно на это. Он намеревался либо сохранить землю за собой и превратиться в свою очередь в земельного собственника (первый шаг по дороге, ведущей к социальному престижу и дворянству), либо выгодно перепродать ее какому-нибудь более богатому буржуа или дворянину. В другом случае продавец, нуждаясь в деньгах, с самого начала обращается к крупному купцу или к своему собственному сеньору. Все эти люди, разумеется, не покупают наобум; они знают цену «хорошо отграниченным» землям, по возможности смежным «с огороженным участком при доме»{114} или, во всяком случае, состоящим из небольшого количества крупных цельных кусков. В основе возрождения крупных хозяйств, в основе стольких прекрасных доменов, возникающих и растущих в то время в сельских местностях, лежит прежде всего (как это, несомненно, раскроют кропотливые исследования, которые придется со временем предпринять для всех провинций) долгий и тяжелый кризис кредита в финансировании крестьянской жизни[111].
Конечно, в разных районах интенсивность движения была различной. Пока что мы можем лишь смутно представить себе некоторые из этих расхождений и притом только в том случае, если будем рассматривать лишь завершающий этап, то есть примерно конец XVIII века{115}.[112] Распределение «собственности» (наследственных держаний, аллодов или фьефов, эксплуатируемых либо непосредственно, либо в форме временной аренды) между различными социальными классами в разных провинциях было крайне разнообразно. В Камбрези и Лаоннэ церквам удалось сохранить или, что более вероятно, восстановить обширные домены; в Тулузской области они действовали не столь успешно или затратили на — это значительно меньше усилий; на большой части бокажей запада они потерпели полную неудачу или же вовсе не пытались добиться этого. В Камбрези буржуазия имела лишь самую малость земли; в приморской Фландрии она прибрала к рукам половину земель; вокруг Тулузы, крупного торгового и чиновничьего города, буржуазия вместе с дворянством (многие дворянские семьи тоже, вероятно, были буржуазного происхождения) владела значительным большинством земель. Несомненно, что последствия этих контрастов дают себя чувствовать еще и в наши дни: в результате продажи национальных имуществ во время революции многие имения получили новых владельцев, но они подверглись довольно незначительному раздроблению (рис. XV). Значительные размеры крупной собственности на пикардийской равнине, преобладание мелкой крестьянской собственности в нормандских бокажах или в бассейне Уазы — все это явления сегодняшнего или вчерашнего дня, ключ к которым надо, конечно, искать в превратностях поземельного восстановления после Столетней войны. К сожалению, еще нет точных исследований, а только они одни позволили бы прочно соединить настоящее с прошлым.
Как организует свое хозяйство новый владелец земли, дворянин или буржуа, не желающий быть только наследственным рантье? Некоторые из них, не колеблясь, эксплуатировали землю сами с помощью слуг (valets). Крупная перемена в нравах! Средневековый сеньор, за исключением сеньоров юга, всегда был сельским жителем в том смысле, что он предпочитал жить вне города, но он не заботился о своих полях. Конечно, сир дю Фейель (Fayel), как свидетельствует один поэт XIII века, отправляется рано утром «осматривать свои хлеба, свои земли». Всегда приятно созерцать нежную зелень молодых побегов или золото колосьев — прекрасные вещи, которые приносят славные звонкие экю! Но сеньоры не руководили обработкой земли. Заботиться о поступлении повинностей, отправлять правосудие, строить — вот наряду с войной, политикой, охотой и благородными или веселыми рассказами занятия и развлечения владельцев замков. Если в каком-нибудь анекдоте выведен на сцену рыцарь-земледелец, ясно, что это человек разорившийся. В начале XII века архиепископ дольский Бодри де Бургейль, хороший гуманист, читавший, конечно, «Георгики» находил, как рассказывают нам, удовольствие в том, что приказывал расчищать болота в своем присутствии, — мимолетная фантазия, так как затем он роздал эту землю в вечные держания{116}. Напротив, в XVI веке и в жизни, и в литературе появляется новый тип — сельский дворянин. Вот, например (во второй половине столетия), сир де Губервилль из Нормандии, дворянин по своему положению и образу жизни, но буржуазно-чиновничьего происхождения. Не довольствуясь обширной перепиской со своими управляющими, он сам продает своих быков, наблюдает за сооружением плотин и изгородей, за рытьем канав и лично «ведет всех здешних парней» очищать от камней свои самые каменистые поля. Дамы буржуазного или дворянского происхождения также принимаются за работу. В XVI веке в Иль-де-Франсе мадемуазель Пуаньян, жена одного королевского советника, руководила косцами и сборщиками винограда; в ее присутствии унавоживали земли. В XVII веке в Провансе графиня де Рошфор в отсутствие мужа приказала насадить виноградные лозы, наблюдала за молотьбой и за ссыпкой зерна в амбары. В 1611 году в Артуа было официально констатировано расширение непосредственной эксплуатации{117}.
Нет ничего выгоднее, чем вести хозяйство самому, но если это делается разумно. А это предполагает постоянное жительство на одном месте. Равным образом и при сдаче земли в аренду, полностью или частично, сеньор должен был жить в деревне, если хотел обеспечить себе значительные доходы; это необходимо для того, чтобы контролировать арендаторов или испольщиков, использовать на месте часть продуктов и руководить продажей другой части. «Я извлекаю больше дохода из моих земель, чем вы получаете из Бурбильи (Bourbilly), — писал Бюсси-Рабютэн[113] мадам де Севинье, — потому что я нахожусь на месте, а вы далеко… Устройте так, чтобы вас сослали: это не так трудно, как кажется».
Но ссылка в конце концов была отчаянным выходом. Кроме того, многие крупные землевладельцы, дворяне или буржуа, не имели ни вкуса, ни досуга для деревенской жизни, не говоря уже о том, что богачи имели обычно слишком много земель, к тому же находившихся в разных местах, чтобы иметь возможность лично управлять всеми ими. Тогда приходилось прибегать к аренде, разумеется временной. Наследственное держание окончательно скомпрометировало себя в глазах землевладельцев. Были возможны два метода: раздробить крупное поместье на множество мелких хозяйств, каждое из которых отдавалось отдельному съемщику, или же передать его целиком одному-единственному арендатору. Последний обычно, если речь шла о сеньориальном домене, был в то же время, согласно распространившейся с XIII века практике, откупщиком различных лежавших на держателях повинностей и поборов. Два метода, но и два социальных типа. Мелкий съемщик — это крестьянин, зачастую имеющий, помимо своей фермы, еще и держание. Его хозяйство требует от него лишь незначительных вложений. Именно потому, что у него мало денег в сундуке и нет возможности их достать, арендную плату с него, во многих провинциях требуют целиком или частично зерном. Напротив, крупный арендатор, которому нужен относительно значительный оборотный капитал, который должен уметь продавать и рассчитывать, который должен одновременно управлять и сложным предприятием и, по доверенности, самой сеньорией, является в своей сфере влиятельным лицом; по своей экономической функции он капиталист, а по своему образу жизни и складу ума — чаще всего буржуа. Мы располагаем списком арендаторов, которые следовали друг за другом с 1641 по 1758 год в сеньории и домене Томирей (Thomi-rey), в Отенуа[114]: двадцать один купец, один мясник, один, нотариус, один адвокат и один просто «буржуа». Все они были из самого Томирея или из окрестных городов или местечек и в той или иной мере все были родственниками между собой; исключение составляло лишь одно семейство местных земледельцев (заключившее два арендных договора), безусловно богатое и породнившееся с купеческими семьями{118}. По правде говоря, при рассмотрении этих титулов необходимо учитывать некоторую долю тщеславия; звание купца долгое время считалось более почетным, чем звание, земледельца. Многие из тех, кто именовал себя купцами, получали, вероятно, большую часть своих доходов от земли и не гнушались в случае надобности браться за плуг. Тем не менее их деятельность не ограничивалась обработкой земли, а их кругозор и честолюбие перерастали узкие деревенские рамки. Случалось, что богатому арендатору удавалось вытеснить своего господина. Когда в XVIII веке сельское хозяйство всей страны стало принимать все более и более капиталистический характер, многие собственники, считавшие до сих пор удобным раздроблять свои земли, приступили к «объединениям» ферм, что отвечало интересам нескольких крупных арендаторов и наносило ущерб множеству бедняков. В 1789 году наказы Северной Франции полны протестов массы крестьян против этой недавно распространившейся практики. Восстановление крупной собственности до тех пор сочетавшейся местами с практикой мелкого хозяйства, привело и во Франции, правда в этой скрытой форме и с запозданием, к настоящим эвикциям[115].
Но мелкие хозяйства (они неизбежно оказались в руках новых скупщиков — то ли потому, что те располагали лишь скромными средствами, то ли потому, что они вынуждены были раздроблять купленные ими земли) не прельщали капиталистических предпринимателей. Среди крестьян не всегда легко было найти даже мелкого арендатора, способного вложить хотя бы необходимые скромные средства. Наконец, совсем недавний опыг обесценения денег внушил многим собственникам, особенно в XVI веке и в первой половине XVII века, разумный страх перед денежными рентами, неизбежно остававшимися неизменными в течение некоторого срока, как бы короток он ни был. Отсюда чрезвычайное распространение арендных договоров из части урожая, главным образом из половины — то есть испольщина.
Возмещение верховных прав на землю посредством части урожая — этот хорошо знакомый римскому праву обычай — всегда был известен в нашей деревне. Доказательство тому — увеличение к X–XI векам за счет домениальных полей участков земли, уплачивавших шампар. Но впоследствии этот вид держания сделался менее частым, так как сеньоры, как известно, поощряли к концу средних веков замену натуральных повинностей денежными платежами. Там же, где такое держание продолжало существовать, оно быстро превратилось в наследственное, а заодно и сама повинность (размеры которой часто были весьма далеки от половины урожая) приобрела тот неизменный характер, который так не нравился землевладельцам старого порядка. Однако сам термин «метерия» (métairie) и обычай устанавливать долю, выплачиваемую землевладельцу в размере половины урожая (или около того), издавна встречаются в некоторых провинциях, особенно с XI или XII века на западе вплоть до Мэна и Перша, и в Артуа — примерно в это же время. Вечная эта аренда или временная? Зачастую источники не позволяют разрешить этот вопрос, а также определить в каждом отдельном случае, идет ли речь о настоящем держании, подчиненном всей уйме сеньориальных повинностей, или о простом соглашении между частными лицами, не связанном с установлением какой-либо зависимости; можно также сомневаться, что этот последний тип вполне частного-земельного договора где-либо ярко проявился до XIII века. Зато достоверно, что в средние века во многих областях испольщина была совершенно неизвестна или же встречалась лишь в особых случаях, особенно для виноградников (приобретя виноградник, буржуа или церковнослужитель всегда предпочитали сдавать его в испольную, а не в денежную аренду; лучше обогатить погреб, чем денежный сундук!). Начиная с XVI века испольщина, распространение которой до сих пор было очень неравномерным и которая была, в сущности, очень редкой даже в тех местах, где она была известна издавна, внезапно начинает распространяться по всей Франции, охватывая все большие пространства (во всяком случае до XVIII века). Она была лучшей гарантией против колебания курса монеты. Первыми заметили это итальянские буржуа, ловкие финансисты. Разве не приходилось им порой при помощи закона (как в Болонье с 1376 года) заставлять каждого гражданина города-сеньории применять этот вид аренды при сдаче земли покорным и изнуренным налогами жителям контадо? Французские землевладельцы вскоре обнаружили то же самое.
Сначала, в течение периода, непосредственно последовавшего за Столетней войной, арендный договор заключался иногда навечно. В обезлюдевших деревнях землевладельцы пытались поправить свои дела. Денежные повинности были дискредитированы в их мнении; многие из них не хотели и не могли хозяйничать сами. Но где найти земледельцев, согласных расчищать земли от зарослей на основе простой гарантии временной аренды? Об этом не приходилось и думать. Наследственная испольщина защищала как арендатора от эвикции, так и землевладельца от падения стоимости денег. В некоторых районах, например в Центре, испольщина имела быстрый успех{119}.
Но по мере того, как крупная собственность укрепляла свое влияние, срочная испольщина — из половины, трети или четверти урожая — взяла верх над наследственной, и намного. При Генрихе IV. ее горячо рекомендует Оливье де Серр[116], отдавая предпочтение только непосредственной эксплуатации земли. Распространившись повсюду или почти повсюду, срочная испольщина стала излюбленной формой аренды, в географическом отношении — в тех областях, где были скудные почвы и где у крестьянина не было никаких запасных фондов, а в социальном отношении — в среде мелких буржуазных землевладельцев, не только потому, что у последних было зачастую слишком мало земли, чтобы сдать ее арендатору капиталистического типа, но главным образом по той причине, что аренда из части урожая многими своими сторонами соответствовала их образу жизни и складу ума. Купец или нотариус маленького городка любит потреблять продукты своей земли, ему нравится получать с мызы порой зерно, из муки которого в домашней печи испекут хрустящий хлеб или поджаренные лепешки, порой все эти тщательно перечисленные в арендных договорах мелкие подати в виде яиц, домашней птицы и свинины, из которых хозяйка сумеет приготовить столько деликатесов для стола. Ему приятно — и в самом городе, а особенно во время пребывания в своем деревенском доме — видеть приходящего к нему с шапкой в руке испольщика, его испольщика, приятно требовать у этого крестьянина различных, тщательно предусмотренных договорами услуг (чуть ли не барщинных), приятно покровительствовать ему. Будучи юридически компаньоном, испольщик является практически клиентом в римском смысле. Как сказано в одном договоре, заключенном в 1771 году Жеромом де Римэйльо (Rimailhо), почетным советником Тулузского президиального суда (а перед всевышним богом — крупным ростовщиком), арендаторы «исполу» будут обязаны ему «верностью, покорностью и повиновением»{120}. Благодаря испольщине многие горожане сохранили непосредственный контакт с землей, и уже в новое время между ними и деревенским людом установились отношения подлинной личной зависимости.
* * *
Это значительное движение имело двойной результат: один — временный, другой — имеющий значение еще и поныне.
Постепенная эволюция, благодаря которой крестьянские классы, казалось, начали избавляться от сеньориального засилья, прекратилась. Сеньор снова усилил бремя повинностей. Хотя часто сам он только недавно стал сеньором, он тем сильнее чувствовал себя господином. Чрезвычайно характерно то, какое большое значение придавалось почетным правам в некоторых описях после их пересмотра. «Когда сеньор, или дама де Бретенньер, или их семья входят в церковь или выходят из нее, все жители и прихожане этого места должны молча кланяться им», — так говорится в одной бургундской описи от 1734 года. В предыдущей описи не было ничего подобного.
Известно, как в 1789–1792 годы рухнул сеньориальный строй, увлекая за собой в своем падении и монархический порядок, отождествившийся с ним.
Однако сеньор нового типа, претендовавший на то, чтобы быть господином над крестьянами, стал также — и, возможно, прежде всего — крупным предпринимателем; этот путь проделали вместе с ним и многие простые буржуа. Если бы (пусть это абсурдная гипотеза) революция разразилась около 1480 года, она, уничтожив сеньориальные права, передала бы землю почти исключительно одним только мелким хозяевам. Но с 1480 по 1789 год прошло три столетия, в течение которых была восстановлена крупная собственность. Она, несомненно, не охватила всей земли, как в Англии или в Восточной Германии. Она оставила крестьянам-собственникам обширные пространства, в целом, возможно, более обширные, чем занятые ею самой. Тем не менее она завоевала значительные пространства — с различным успехом в разных местностях. Революция не нанесла ей слишком большого ущерба. Таким образом, чтобы показать все разнообразие и основные черты сегодняшней аграрной Франции (о которой вовсе не следует говорить, как это иногда делали, что она является страной мелкой собственности, но о которой лучше сказать, что в ней бок о бок существуют и крупная, и мелкая собственность, причем соотношение их сильно изменяется в зависимости от провинции), надо прежде всего обратиться к развитию аграрной Франции XV–XVIII веков.
Глава V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
I. Манс и семейная община
Древние общества состояли скорее из групп, нежели из отдельных личностей. Изолированный человек почти не шел в счет. Он работал и защищался, объединившись с другими людьми; господа — сеньоры или государи — привыкли иметь перед собой всякого рода группы, которые они переписывали и облагали налогом.
В то время, когда история нашей деревни начинает проясняться (в период, именуемый ранним средневековьем), сельское общество, в пределах относительно крупных коллективов, каковыми являлись деревня и сеньория, имело в качестве своей первичной ячейки некую одновременно территориальную и человеческую единицу — дом и пучок полей, обрабатывавшихся небольшой группой людей, — которая встречается почти везде во франкской Галлии, хотя и под разными названиями. Самое обычное название — манс (mansus)[117]. Иногда она называлась также factus или condamine (condamina condoma). Все эти термины встречаются уже довольно поздно: манс{121} — в VII веке, как и condamine в Галлии (этот последний термин особенно часто встречается на юге, хотя текст, где он впервые упоминается, составлен в Мэне{122}), factus — в IX веке. Это объясняется тем, что для более раннего времени мы почти не имеем сведений об обиходном сельском языке. Сам институт, конечно, гораздо древнее.
Одно из этих трех названий (factus) остается безнадежно загадочным. Трудно даже сказать, с каким языком его можно связать, ибо почти нет оснований выводить его от facere. Condamine вызывает мысль об общине (первоначально в одном и том же доме) и означает в равной степени и небольшой человеческий коллектив, живший на земле, и самую эту землю. Что касается термина mansus, то вначале он означал дом или по крайней мере комплекс, состоявший из жилища и сельскохозяйственных построек. Этот смысл так и не исчез и в конечном счете сохранился лишь он один; таков смысл современного бургундского meix и провансальского mas. Термин «mansure», очень близкий по значению и встречающийся в древних текстах во всех значениях слова mansus как его синоним, в средние века означал в Иль-де-Франсе и еще сегодня означает в Нормандии сельское Жилище с его огороженным участком. Таким образом, аграрная единица заимствовала название у жилища, в котором обитали земледельцы. Разве дом, говорили скандинавы, не является «отцом поля»?
При исследовании манса, как и большинства социальных форм эпохи, надо исходить из сеньории, но не для того, чтобы постулировать ее какой-то воображаемый приоритет, какую-то роль всеобщей формы, но просто потому, что только сеньориальные архивы сохранили для нас достаточное количество документов, дающих возможность составить некоторое представление о фактах. Главная функция манса внутри виллы раннего средневековья ясна: он играет роль единицы обложения. Действительно, повинности и барщина лежат не на отдельных парцеллах; тем более они не возлагаются на семьи или дома. Для всей поделенной на мансы территории (небольшая часть земли, как мы увидим, избегает этого деления) инвентари знают лишь одного плательщика — манс. Иногда объединенные под этим названием поля сообща обрабатываются многими семьями. Это неважно. Всегда облагается именно манс, который должен столько-то денег, столько-то буассо зерна, столько-то кур и яиц, столько-то рабочих дней. Распределение этого бремени — дело сидящих на мансе людей, его совладельцев, socii. Не подлежит сомнению, что они коллективно отвечали, за выполнение этих повинностей. Они не имели права разорвать эту солидарность посредством раздела. Будучи основой сеньориальной налоговой системы, манс был в принципе неделимым, неизменным. Если порой разрешается его дробление, то только на простые доли (половины, гораздо реже на четверти), которые в свою очередь становятся строго определенными единицами.
Обычно мансы одной сеньории не бее одинаковы по ценности и по достоинству. Чаще всего они подразделяются на различные категории, отличающиеся друг от друга по своим повинностям. Наоборот, внутри каждой из этих категорий составляющие ее мансы обложены почти одинаково. Принцип классификации варьирует.. Часто он носит юридический характер и черпает свои критерии прежде всего в положении людей. Различаются, как мы видели, свободные мансы (ingénuiles — мансы свободных людей, главным образом колонов), рабские, а также, при случае, литские мансы (литы — вольноотпущенники по германскому праву). Прибавим к этому для памяти некоторые цензовые мансы (censiles), отданные во временную аренду по договору и потому резко отличавшиеся от трех предыдущих групп, основанных только на обычае и практически наследственных. В других случаях отличительные черты манса зависели от лежавших на нем служб: например мансы плужные, мансы ручные (carroperarii, manoperarii). На деле контраст между двумя методами классификации был скорее кажущимся, нежели реальным. Как известно, во франкскую эпоху уже не было точного соответствия между статусом человека и земли, например манс, населенный свободными, людьми, назывался тем не менее рабским, если первые обрабатывавшие его земледельцы были рабами, хотя бы и в очень отдаленные времена. Столь живая память о первоначальных обитателях манса сохранялась потому, что это определяло нынешние повинности; будучи установлены обычаем, последние в подавляющем большинстве случаев гораздо больше зависели от положения его отдаленных предшественников, чем от ранга современного держателя. Так в обыденной жизни различные категории мансов — какова бы ни была их этикетка — отличались друг от друга прежде всего своими повинностями. Ручные мансы (manses de bras) — это древние рабские мансы (в полиптиках оба слова употребляются иногда как синонимы{123}). Постепенно отказались от этого традиционного названия, оскорбительно не соответствовавшего реальному положению владельцев, и стали обозначать такие мансы более ясным и более конкретным эпитетом. Однако (и это важно отметить) группирование мансов по классам людей было, по-видимому, первоначальным типом распределения.
Естественно, что внутри сеньории мансы различных категорий отличались своими размерами. Действительно, если говорить о двух главных типах, рабские мансы, как правило, были меньше свободных. Напротив, было бы естественно, если бы мансы одной и той же категории, будучи податными единицами и принадлежа к одной и той же вилле, были бы равны между собой. Действительно, такие случаи встречались часто, например в IX веке на большей части земель аббатства св. Бертена в Северной Галлии. Имелось и представление о местных размерах манса; в 1059 году двое людей передали Сомюрскому аббатству св. Флорана землю в лесу, на которой можно расчистить семь мансов, «таких размеров, как их делают люди, живущие близ этой земли»{124}. Наоборот, в других местах различие между размерами мансов было очень заметным. Самое незначительное можно, пожалуй, объяснить различиями в плодородии почв: не всегда одинаковый урожай собирается с земельной площади одинакового размера. Но бывали различия слишком значительные (в 2–3 раза), чтобы можно было допустить это объяснение. Приходится признать, что при распределении мансов некоторые жители оказались в более выгодном положении, другие — в худшем. С самого начала? Или в ходе развития? Определить это очень трудно. Следует, однако, отметить, что эти различия были особенно сильны (начиная с IX века) в окрестностях Парижа, где, как мы увидим, маис, по-видимому, очень рано пришел в упадок. Зато легко объяснить, почему в среднем размеры манса варьировали от сеньории к сеньории и даже от района к району. В IX веке в Пикардии и Фландрии, относительно мало населенных, размер манса был обычно больше, чем в землях, расположенных вдоль Сены. Однако в Галлии в целом отклонения не были столь сильны, чтобы количество мансов-держаний того или иного типа или вообще мансов-держаний, имевшихся в сеньории, не могло служить для определения в общих чертах ее величины. В свою очередь мы тоже можем составить себе представление об этой основной земельной единице. Ограничимся для простоты свободными мансами. Если не считать некоторых отклонений, то размер свободного манса колебался от 5 до 30 га, средний размер достигал примерно 13 га: это несколько ниже (чем можно было бы ожидать) минимальной цифры — около 16,5 га, установленной каролингским законодательством, весьма заботившимся об интересах сельского духовенства, для обычного манса, который оно приказывало приписывать к каждой приходской церкви. Все это приводит нас к выводу, что по размеру манс соответствует тому, что теперь называется либо мелким, либо средним хозяйством. С экономической точки зрения, принимая во внимание, что земледелие того времени было мало интенсивным, манс всегда соответствовал мелкому и даже очень мелкому хозяйству{125}.
Большинство держаний были мансами, но не все. Во многих сеньориях наряду с пестрым сборищем мансов различных категорий встречались хозяйства, которые, хотя и были обязаны повинностями и барщиной, ускользали от этой классификации. Они имели различные названия: гостиза (hospitia) accolae, в других местах — sessus или laisinae; несколько позднее их называли во многих областях bordes или chevannes. Этих анормальных держаний всегда было гораздо меньше, чем мансов; они были меньше и по размерам и очень неравны между собой; по-видимому, они не подчинялись закону неделимости. Иногда владелец манса (masoyer, mansuàrius) присоединял к своему главному участку один из таких придатков — отделившийся от домена участок или отвоеванную у целины заимку. Чаще гостизы имели собственных хозяев, у которых совсем не было других земель. В организме виллы они представляли собой побочные, отклоняющиеся от нормы элементы. Ну, а если гостиза достигала значительных размеров — то ли в результате господского дарения, то ли благодаря расчистке целины, то ли еще каким-либо способом? Тогда казалось естественным поднять ее до уровня типичной ячейки. Благодаря этому взимание податей становилось более упорядоченным и легким. Сам земледелец, несомненно, выигрывал от этого, ибо отныне он располагал преимуществами коллектива (пастбищем, правом пользования лесами и т. д.), признанными за владельцами полных держаний. «Земли Агара и Ори, — пишут монахи аббатства Сен-Жермен-де-Пре, — мы соединили в один манс, чтобы они несли отныне полные повинности». В другом месте те же монахи, отобрав у одного владельца манса часть домена, которая была ему временно предоставлена, а у второго — другие земли, создали из этих кусков половину манса в пользу третьего бенефициария. Подобное изменение отнюдь не совершалось путем простого изменения названия; для этого нужен был особый акт, решение соответствующих властей. Таким образом, манс действительно является неким институтом, поскольку он предполагает нечто установленное по воле человека и, если хотите, нечто искусственное.
Так как наиболее отличительная черта манса состоит в том, что он является сеньориальной податной единицей, то велик соблазн считать его творением сеньории. На заре истории господин распределял между своими людьми деревенскую землю почти равными и не подлежащими делению частями. Чрезвычайно простая картина. И все же, если хорошенько подумать, сколько трудностей вызывает подобная гипотеза! Стало быть, был такой период, когда население Галлии состояло всего-навсего из двух классов: горсточки всемогущих династов и толпы покорных рабов, которые спешат получить ту часть девственной земли, которую им соизволят отдать? В начале был сеньор… Но зачем задерживаться на обсуждении этого мифа? Для его разрушения достаточно одного наблюдения. Различные постановления относительно военной службы сообщают нам, что в каролингской Галлии существовали свободные люди, имевшие всего лишь манс или даже его половину. Держатели? Нет. Из источников ясно, что над ними не было никого, кто имел бы верховное реальное право на землю. Сеньоры? Ничуть. Разве можно было прокормить на одном мансе, а тем более на половине манса не только земледельцев, но еще и семью получателей ренты? Эти скромные люди были мелкими крестьянами-собственниками, которым пока еще удалось избежать когтей аристократии. То, что их земля, не являющаяся держанием, называется тем не менее мансом, объясняется тем, что данное название означает хозяйственную единицу, независимо от каких бы то ни было сеньориальных поборов.
Кроме того, государство широко употребляло этот земельный эталон: для определения несения военной службы, для обложения налогами. Со времен Карла Лысого и до 926 года королям часто приходилось взимать всеобщий налог для уплаты тяжелых выкупов викингам, обещавшим тогда прекратить опустошения. Знать и церкви регулярно облагались налогом пропорционально количеству подвластных им мансов. Правда, речь идет здесь только о мансах-держаниях. Но обратимся к еще более далекому прошлому. Меровинги унаследовали старый римский поземельный налог, который они (используя обычно старые кадастры, а иногда заставляя составлять новые) продолжали взимать долгое время, до того дня, когда это оружие после длительного упадка окончательно выскользнуло из их рук, неопытных в управлении бюрократическим государством. Земельное обложение времен поздней империи, само по себе чрезвычайно неясное, имеет по крайней мере одну достоверную черту: оно базировалось на разделении земли на мелкие податные единицы — capita, juga, — каждая из которых в общих чертах соответствовала аграрной хозяйственной единице. Сходство с маисом бросается в глаза. Конечно, названия различны. Но разве мы не знаем, что наряду с этими официальными названиями римская налоговая единица имела в повседневном языке многие другие, которые были различными в разных провинциях и большинство которых нам не известно{126}? Невольно возникает мысль, что condamine (этот термин засвидетельствован только для Италии с начала VI века), манс или factus из их числа.
Однако не будем заблуждаться. Думать, что франкский mansus произошел от римского caput, или, говоря точнее, есть тот же caput, но под другим названием, вовсе не значит обязательно понимать дело так, что в самой действительности за этими словами скрывалось произвольное творение некоторых чиновников империи, озабоченных составлением кадастра. Благодаря временно необходимой абстракции я до сих пор относился к проблеме так, как если бы она была французской. В действительности же она является европейской в широком смысле слова. Она присуща не только романизированному миру, как можно было бы ожидать. Не одной Италии были известны земельные единицы, аналогичные во всех отношениях земельным единицам франкской Галлии и обозначавшиеся к тому же часто одинаковыми терминами. Германские страны являют нам подобное же зрелище: немецкая гуфа (hufe), английская гайда (hide), датский боль (bool) — все эти местные названия передаются обычно в латинских переводах словом mansus, и институты, для обозначения которых они служили, как фискальные (с точки зрения как государства, так и сеньора) и хозяйственные единицы, представляют собой определенную аналогию с нашим мансом. Кто осмелился бы объяснять это сходство заимствованием? Можно ли представить себе, чтобы варварские короли, заимствовав у римского фиска систему кадастровых делений, насильно распространили ее на огромные территории, до тех пор не ведавшие ее? Все, что нам известно об административной слабости этих монархий, противоречит подобному предположению. Ну, а если мы будем считать манс — гуфу специфически германским явлением, навязанным сельским жителям империи их суровыми завоевателями? Даже если мы не признали в мансе преемника римского caput, наша уверенность в том, что варварские вторжения и завоевания не сопровождались, за редкими исключениями, заселением, опровергла бы подобные домыслы. Следовательно, манс — это нечто более глубокое, чем правительственные мероприятия, и более древнее, чем исторические границы государств. Римская и франкская налоговые системы, сеньориальный режим использовали его и тем самым оказали сильное влияние на его историю. Его происхождение совсем другое. Его загадки могут быть решены, как и в других случаях, только путем обращения к реальным земельным отношениям, к тысячелетним типам земледельческой цивилизации.
Но раньше необходимо избавиться от одной из тех терминологических трудностей, которые возникают для бедных историков в результате текучести большинства обиходных языков и особенно словарного состава средневекового языка. Сеньор имел свое хозяйство, отличное от хозяйств держателей, — свой домен. Когда каролингское государство облагало налогом крупных собственников, оно обычно не довольствовалось обложением их в соответствии с зависимыми от них держаниями обычного типа; оно облагало также и домены и, несмотря на крайнее их различие, легко приписывало им (чисто фиктивно) одинаковую ценность; так что барская земля, хотя и лишенная какой-либо определенности, принимала вид своего рода налоговой единицы. Чем же был манс франкской эпохи, если рассматривать вещи в общих чертах, как не земледельческим хозяйством, служившим основой налоговой системы? В Англии, где домен ускользал от обложения, его никогда не называли гайдой; зато в подчиненных франкскому владычеству странах он был мансом или гуфой. Наряду с рабскими и свободными мансами было принято (впрочем, этот обычай исчез очень быстро, — по-видимому, уже к XI веку) говорить о барском мансе (mansus indominicatus). Но это не настоящий манс Настоящий манс — это сельская ячейка, находящаяся в руках держателя или мелкого свободного крестьянина (дом, поля, участие в коллективных правах), наделенная в принципе полной устойчивостью и обладающая определенным размером. Так что, когда говорили о человеке, владеющем целым мансом, половиной или четвертью манса, его место среди других людей сразу становилось ясным его современникам.
Этот же манс, рассматриваемый конкретно, обнаруживает, в зависимости от аграрных распорядков, совершенно различные свойства.
В областях раздробленных земель и скученного населений, особенно в районах открытых и длинных полей, он почти никогда не представляет цельного комплекса. Строения здесь группируются вместе, в пределах одной деревни. Сильно распыленные парцеллы вытягиваются бок о бок с парцеллами других держателей мавсов в одних и тех же картье. Однако каждая из этих чисто фиктивных единиц является определенной; если даже они были неравны между собой, то по крайней мере размеры их были сравнимы. Изучение земель уже привело нас к выводу, что освоение земли в его последовательных фазах было подчинено какому-то общему плану, более или менее грубому. Был ли этот план навязан господином, сеньором? Или же, напротив, свободно намечен коллективом? Это тайна доисторического периода. Словом, деревня и ее поля — творение большой группы, возможно (но это только предположение) племени или клана. Мансы же представляют собой части, предоставленные (во время основания деревни или позже — как знать?) более мелким подгруппам. Что представлял собой этот вторичный коллектив, скорлупу которого составлял манс? Весьма вероятно, что семью, отличающуюся от клана в том отношении, что она состояла только из нескольких поколений, способных проследить своих общих предков, но семью патриархального типа, достаточно обширную, чтобы иметь в своем составе много боковых пар. В Англии термин hide имеет в качестве латинского синонима terra unius familiae[118] и происходит, вероятно, от старого германского слова, обозначающего семью.
Созданные таким образом участки, порой неравные в силу обстоятельств (детали которых будут всегда ускользать от нашего взора), но подчиненные одному и тому же типу хозяйства, не покрывали целиком всю территорию. Глава группы, если он существовал, получал несомненно, больше других. Многие владельцы, находившиеся на другом конце социальной лестницы и занимавшие более низкое положение, чем главные семьи (некоторые из них, вероятно, позже прибыли в данную местность), получили более мелкие доли, чем полноправные владельцы. Это были гостизы. Если судить об этом по итальянским данным, то accolae, в частности, представляли собой более поздние участки, отрезанные мелкими распахивателями целины от общих угодий с разрешения группы.
Таков был старый институт, который государство нашло впоследствии удобным положить в основу своего кадастра. Сеньоры также, по мере распространения их власти на деревни, использовали его в своих интересах. Когда они раздробили свои домены, они создали для своих испомещенных рабов настоящие мансы. Вполне возможно, что рабские мансы, гораздо менее многочисленные, чем свободные мансы, были созданы по примеру последних. Новые поселения, созданные целиком предприимчивыми сеньорами, также были построены по образцу старых поселений.
Состояние документов и еще более состояние исследований не дают возможности составить точное представление о положений мансов в областях открытых полей неправильной формы. Самое большее, что они могут нам дать, — это некоторые указания, позволяющие нам предположить, что порой, конечно, не всегда, они представляли собой цельные куски[119]. Зато положение в большинстве областей с огороженными участками вполне ясно, и контраст с областями длинных полей в высшей степени поразителен.
И здесь под словом «манс» подразумевается деревенское хозяйство маленькой группы людей, вероятно семейной. Однако речь не идет о чисто юридическом понятии, охватывающем разбросанные на обширной территории поля, плюс участие в коллективных правах. Хозяйство здесь ведется на цельном куске земли и обходится собственными средствами. Древние источники обозначают обычно mansi в районах этого типа (чего они почти никогда не делают в областях длинных полей) по четырем прилегающим к ним участкам. Это явное доказательство их цельности. В Лимузене, где легче всего проследить превратности этой истории, каролингский манс с течением времени почти всегда давал начало деревушке. С раннего средневековья он имеет свое собственное имя, сохраняющееся порой до наших дней. Два манса — Вердинас (Verdinas) и Рудерсас (Roudersas), упоминаемые в акте о разделе от 20 июня 626 года, являются сегодня двумя выселками маленькой крезской общины{127}. В этих областях с бедной почвой и редким населением семейная ячейка не смешивалась с другими группами; она обосновывалась в стороне (рис. XVII).
* * *
Противоположность двух видов манса — раздробленных и цельных — объясняется противоположностью их судьбы.
С самого начала средних веков вне областей огороженных полей манс находится в полном упадке. Он перестает быть неделимым, что практически означало для него полную гибель. Посредством отчуждения или иным путем от него отрывают со всех сторон куски. Это началось, возможно, с VI века, когда Григорий Турский заметил, что «деление владений» мешает взиманию поземельного налога. Во всяком случае, это происходило уже в царствование Карла Лысого. Эдикт этого короля от 25 июня 864 года сетует на то, что колоны завели привычку продавать землю манса, сохраняя за собой лишь дом. Очевидно, если бы они продавали свои владения целиком — одновременно и постройки, и поля, — им бы не предъявляли претензий. Вред проистекает от дробления манса, приводя к «разрушению» и «беспорядку» в сеньориях. Он делает невозможным правильное взимание повинностей. Чтобы этот беспорядок прекратился, мансы должны получить обратно все, что было от них оторвано без согласия сеньора. Напрасные меры защиты! Примерно в ту же эпоху в одной вилле в Паризи из 32 земледельцев, сидевших на 12 свободных мансах, 11 жили вне сеньории{128}. Вероятно, именно это распыление манса и, следовательно, увеличение числа внеманеовых держаний заставило правительство в 866 году впервые попытаться обложить налогом гостизы, до тех пор не принимавшиеся в расчет. Уже раньше делались отдельные попытки взимать кое-какие налоги не с мансов, но с домохозяйств (casatae)[120].
Начиная с XI века манс подвергся столь сильному раздроблению, что стал постепенно исчезать. Раньше или позже, в зависимости от районов и местностей, разумеется. Несомненно, более углубленные исследования выявят в свое время эти расхождений. В Анжу в 1040 году еще четко различаются мансы и хутора (bordes); то же и в Руссильоне в XII веке. Но там и в дальнейшем смысл этого различия становится не очень понятным. В 1135 году в Вильнев-лё-Руа (Villeneuve-le-Roi), в Па-ризи, упоминается половинный манс. В 1158 году в Прише (Prishes), в Эио, а также в 1162–1190 годы в Лиможе и в Фурше (Fourches), к югу от Парижа, повинности раскладываются по мансам или по половинным мансам. В 1234 году в Бузонвилле (Bouzonville) и Буйи (Bouilly), в Орлеанэ, было запрещено если не разделение — masures (там это слово обозначало вое хозяйство, включая и поля; оно было тождественно мансу), — то, во всяком случае, произвольное дробление (разрешалось дробление только на определенные части, до одной пятой). В конце XV века в Бургундии в шателлении Семюр (Semur) существовало довольно туманное представление о том, что meix нельзя делить{129}. Но подобные случаи были тогда (и уже с давних пор) исключением; вскоре они исчезнут совсем. Отныне — чаще всего с XII века — земельную ренту выплачивала каждая отдельно взятая парцелла, повинности с птичьего двора взимались с каждого дома, барщину требовали с каждого человека или семьи. Вместе с тем нет больше ни устойчивости, ни прочности соотношений между держаниями: они увеличиваются и делятся по желанию их владельцев при наличии единственного условия (если речь идет об отчуждении) — согласия сеньора, отказ которого становится все более редким явлением.
Точно так же почти везде в Европе постепенно разрушалась первоначальная земельная единица, какое бы название она ни носила. Но в Англии и Германии это происходило гораздо медленнее, чем в областях открытых полей Франции. Когда, наконец, исчезла английская гайда, еще часто упоминавшаяся в XIII веке, она оставила после себя целую систему правильных и фиксированных держаний: виргаты (четверть гайды) и боваты (восьмая часть гайды). Начиная с XIII века, а часто и позже исчезает также и германская гуфа, которую заменяют во многих местах держания, более разрозненные, но также неделимые в силу правила наследования, которое (сохранив иногда силу до наших дней) обеспечивает получение наследства лишь одним лицом из тех, кто имеет на это право. Во Франций подобные запрещения раздела ротюрных держаний применялись только в некоторых бретонских сеньориях, где они действовали в пользу младшего сына{130}. В сущности, в большей части нашей страны сеньория и сельская община совершенно перестали быть стройными учреждениями, состоящими из упорядоченных и устойчивых элементов. В целом манс, какие бы названия он ни носил, представляет собой явление европейского масштаба, а его раннее и бесследное исчезновение — это уже особенность Франции.
Конечно, это изменение могут объяснить только такие причины, которые касаются самых глубин социальной жизни. Историю средневековой семьи мы знаем плохо, слишком плохо. Однако уже начиная с раннего средневековья можно разглядеть ее медленную эволюцию. Группа лиц, родственных по крови, — род (lignage) — остается очень прочной. Но ее границы утрачивают всякую определенность, и связывающие ее членов обязательства обнаруживают тенденцию перейти из ранга юридических обязательств в разряд простых моральных обязанностей, почти привычек. Кровавая месть — долг, предписываемый общественным мнением, но не существует никакого точно установленного порядка коллективной мести, активной или пассивной. Отец и дети, братья и даже двоюродные братья сообща владеют землей, и она не делится между ними. Этот обычай сохраняет большую силу. Но это только обычай. Индивидуальная собственность полностью признавалась законом и кутюмами, «родня имела лишь одно установленное право: в случае отчуждения собственности — привилегию предпочтительной покупки. Естественно, что такая группа, имеющая менее четкие контуры и не испытывающая теперь мощного юридического воздействия, была значительно больше подвержена распадению.
Крепкую и большую патриархальную семью заменяет в качестве ячейки общественной жизни супружеская семья, состоящая главным образом из потомков еще живущих супругов. Можно ли удивляться тому, что одновременно с этим исчезает и жесткая земельная основа древней патриархальной семьи? С каролингской эпохи французский манс часто занимали многие семьи, живущие отдельно «не имевшие, возможно, других связей, кроме предписанной сеньором круговой поруки при уплате налогов [в зависевшей от Сен-Жерменского аббатства сеньории Буасси (Boissy) имелось 182 очага на 81 мансе]. Это было признаком распадения манса изнутри. Но в ту пору манс еще сохранялся так или иначе в качестве неделимой единицы благодаря одновременному воздействию государства и сеньориальной власти. Но во Франции ему с ранних пор изменила первая из этих опор. В то время как в Англии сохранение до середины XII века основанной на гайде налоговой системы, бесспорно, способствовало прочности этого института, в Галлии в начале X века прекращается всякое государственное обложение. Что касается сеньоров, то глубокие изменения, которые претерпели с X по XII век их методы ведения хозяйства вследствие уменьшения барщины (тоже присущая нашей стране черта), объясняют, почему они позволили отмереть древней податной единице. Зачем держаться за нее, если изменилась сама сущность повинностей? Старые полиптики были полны устаревших предписаний; к тому же их язык (как признал в конце XI века некий монах, переписавший или вкратце изложивший политик Шартрского аббатства св. Петра) стал почти непонятным; к ним перестали обращаться за справками, и они, следовательно, не могли способствовать сохранению старых правил. Семья, сведенная к более узкому и более изменчивому кругу, гибель государственного фиска, полностью перестроившиеся изнутри сеньории — таковы, насколько можно судить, различные явления, очень важные и несколько загадочные, которые нашли выражение в этом внешне столь незначительном факте; цензовая книга IX века ведет счет на мансы, а в XIII же или в XVIII веках — на поля или на семьи.
Так было по крайней мере в тех местах, где манс, составленный из множества разбросанных полей, не имеет точных и четких контуров. В единице такого рода было нечто произвольное и, стало быть, непрочное. Напротив, в областях огороженных полей, где манс представлял собой цельный кусок, его раздробление между многими отдельными хозяйствами не обязательно влекло за собой его исчезновение. Это ясно видно на примере Лимузена. Там, поскольку каждая или почти каждая супружеская семья выстроила свои дом и завладела своей частью земель, место отдельно расположенного каролингского манса заняла столь же обособленно стоящая деревушка. В Норвегии, также не знающей скученного расселения, при распадении старых патриархальных общин можно было также многократно наблюдать, как обширный дедовский хутор, aettegaard, расчленялся на несколько независимых жилищ{131}. Но лимузенская деревушка долго, вплоть до нового времени, продолжала носить древнее название mas. С точки зрения сеньориальной администрации это имело определенный смысл, ибо ответственность за выплату лежавших на mas повинностей несли все жители (рис. XVII). В горах Лангедока почти до наших дней также сохранились mas или maza-des — деревушки, совладельцы (parsonniers) которых в течение столетий продолжали сообща владеть землей. Однако даже там должно было наступить разложение. В XVIII веке общая собственность этих mazades ограничивалась, по-видимому, пустошами и лесами, а обработанная земля была поделена. И, несмотря на поддерживавшуюся сверху солидарную ответственность, истинной экономической единицей в лимузенском mas с той поры стала семья в узком смысле этого слова{132}.[121]
* * *
Семейная община была, действительно, почти повсюду переходной формой от манса к простой семье. Ее называли communauté taisible, tacite («подразумеваемой, молчаливой общиной», ибо она создавалась, как правило, без письменного договора), а также часто freresche, что означает «группа братьев». Дети, даже женатые, оставались у родителей и после их смерти часто продолжали жить вместе, «одним очагом и горшком», работая и владея имуществом сообща. Иногда к ним присоединялись друзья, заключив договор о фиктивном братстве (affrairement){133}. Многие поколения жили под одной и той же крышей; в одном доме в Канской области (впрочем, при исключительно большой плотности населения) депутат Генеральных штатов 1484 года насчитал десять семейных пар и семьдесят человек{134}. Эти общинные обычаи были столь распространенными, что право «мертвой руки», одна из главных особенностей французского серважа, стало основываться на них. И наоборот, концепция права «мертвой руки» способствовала тому, что в семьях сервов стали воздерживаться от раздела, ибо при распаде общины было больше риска, что земля попадет в руки сеньора. Там, где налог взимался с очага, страх перед фиском привел к аналогичному результату, ибо увеличение числа отдельных жилищ привело бы к увеличению податных единиц. Однако, сколь бы живучими ни были эти мелкие коллективы, они не имели ничего принудительного, ничего неизменного. Люди более независимого, чем другие, нрава, беспрерывно отделялись от последних и выделяли свои поля. Это были foris familiati[122] средних веков, «отверженные от хлеба» (mis hors pain); иногда причиной этого было какое-либо уголовное дело, но часто это происходило по их собственной воле. И неизбежно наступал момент, когда улей окончательно распадался на много роев. Подразумеваемая община не имела в качестве своей опоры массива неделимой по закону земли.
Но подразумеваемая община исчезла в свою очередь. Это происходило медленно, как изглаживается из памяти обычай, и в самые различные сроки, в зависимости от провинций. Вокруг Парижа она почти совсем исчезла перед началом XVI века. Напротив, в Берри, Мэне, Лимузене, в значительной части Пуату она была еще в полной силе накануне революции. Общее исследование, которое осветит эти контрасты, прольет яркий свет и на местные различия французской социальной структуры, на мало известную и столь увлекательную проблему. В настоящее время ясно одно: как и манс семейная община особенно долго сохранялась в областях с редкими поселениями. В Пуату, на подступах к Центральному массиву, некоторые сеньориальные планы XVIII века указывают на то, что земля там разделена на freresches{135}. Некоторые из них, разделяясь наподобие лимузенских mas, породили деревушки (рис. XVIII), ибо разложение этих древних общин повсюду привело к увеличению числа домов: каждая пара хотела отныне жить под своей крышей{136}. Иногда в тех областях, где совсем не было крупных деревень, семейное хозяйство дожило до наших дней. Неслучайно в романах Аграфейли Эжена Леруа являются перигорцами, а Арнали Андрэ Шамсона — севеннцами[123].
Вернемся к областям открытых полей. Сперва существование, а затем исчезновение этих общинных групп оказало большое влияние на самую структуру этих земель. Дробление — бич сельского хозяйства. Кто не слышал эту тысячу раз повторенную жалобу, благоговейно переданную экономистами XVIII столетия экономистам XIX и XX веков? Начиная с XIX века она сопровождается обычно горькими упреками по адресу Гражданского кодекса, этого козла отпущения. Действительно, разве не он причина всех зол, ведь с ним связан равный раздел наследства? Хорошо еще, если бы наследники получали цельные наделы. Но ведь каждый из них жаждет равенства и требует куска в каждом поле, и дробление продолжается до бесконечности. Бесспорно, дробление является серьезным затруднением, одним из самых тяжелых препятствий, которые мешают прогрессу подлинно рационального земледелия в нашей стране. Но оно ведет свое начало не только от наследственных разделов. Оно восходит к самому освоению земель, и ответственность за него, быть может, прежде всего несут земледельцы эпохи неолита. Однако, несомненно, разделы мало-помалу усугубили его. Но Гражданский кодекс неповинен в этом, ибо он не ввел ничего нового: он ограничился тем, что придерживался старых провинциальных кутюм, которые в большинстве своем ставили всех наследников в одинаковое положение; право первородства во Франции, в отличие от Англии, всегда оставалось дворянской привилегией, притом гораздо менее обязательной, чем это иногда полагали. Что касается завещания, то оно нигде не было абсолютно свободным и, по-видимому, даже в ограниченном виде почти не было распространено в деревне. Бесспорно, однако, что в новое время дробление шло большими шагами и, несомненно, все быстрее и быстрее по мере приближения к нашим дням. Но законы, которые остались неизменными, тут ни при чем. Всему причиной — эволюция обычаев. Когда наследники жили в freresche, y них не было оснований дробить дедовские поля, и так, как известно, очень узкие и разбросанные. Когда же старые семейные общины постепенно распались, количество парцелл на пахотных полях и домов в деревнях возросло. Ибо верно, что все превратности материальных сторон сельской жизни никогда не были не чем иным, как отражением перемен, претерпеваемых человеческими группами.
II. Сельская община. Общинное имущество
Различные индивидуумы или различные семьи, которые обрабатывали одну и ту же землю и дома которых стояли рядом в одной деревушке или деревне, не просто жили бок о бок. Будучи связаны тысячами экономических и эмоциональных нитей, эти соседи (таково было их официальное название во франкскую эпоху, а в Гаскони всегда) составляли маленькое товарищество, «сельскую общину», предтечу большинства сегодняшних общин или их частей.
По правде говоря, до XIII века слово «община» почти не встречается в древних документах. В них, как правило, много говорится о сеньорий, о корпорации же жителей — почти никогда. Значит ли это, что было такое время, когда сеньория свела на нет собственную жизнь группы? Так можно подумать. Но метод отрицания годится в истории лишь при одном условии: при уверенности, что молчание текстов объясняется отсутствием фактов, а не источников. Здесь же виноваты источники. Почти все они сеньориального происхождения; большинство общин не имели архивов до XVI века. Более того, главные стороны жизни общин протекали в течение долгого времени вне официального права; они были фактическими ассоциациями задолго до того, как стали юридическим лицом. В течение столетий, как говорил Жак Флак, деревня была в нашем обществе «анонимным актером». Однако многие признаки свидетельствуют о том, что этот актер жил и действовал.
В пространственном отношении сельская община ограничивается пределами территории, подчиненной различным правилам совместной эксплуатации (правила временной запашки, правила выпаса на общинных угодьях, сроки жатвы и т. д.), особенно коллективным сервитутам в пользу группы жителей. Ее границы были особенно четкими в областях открытых полей, являвшихся вместе с тем районами очень плотного населения. Сеньория занимала территорию, обложенную повинностями и барщиной в пользу одного и того же господина, который осуществлял здесь свои права защиты и господства. Совпадали ли эти два контура или нет? Иногда, конечно, совпадали, особенно в новых поселениях, созданных сразу целиком. Но не всегда и даже, быть может, не очень часто. Разумеется, свидетельства более всего точны для относительно поздних веков, когда большое количество старых сеньорий распалось в результате отчуждений и, в особенности, инфеодаций. Но уже франкская villa часто имела в своем составе мансы, находившиеся в разных округах. То же самое наблюдается во всех европейских странах, где существовал сеньориальный режим. Если правда, что франкские или французские сеньоры должны считаться дальними наследниками древних деревенских старшин, то следует прибавить, что в одном и том же месте могло, очевидно, развиться много различных властей. Во всяком случае, уже следующее свидетельство топографического порядка опровергает представление, будто сеньория могла когда-либо полностью поглотить общину. Сознающая свое единство сельская группа, как и городская, умела порой энергично противодействовать сеньориальному раздроблению: в Эрмонвилле (Hermonville), в Шампани, деревня и ее территория были разделены между восемью или девятью ленами, каждый из которых имел свой суд, но начиная по меньшей мере с 1320 года жители, независимо от того, к какой сеньории они относились, стали выбирать своих общих присяжных, которые ведали земельными распорядками{137}.
Именно благодаря противодействию своим врагам маленький деревенский коллектив не только обрел более прочное самосознание, но постепенно заставил и все общество признать свою волю к жизни.
Он достиг этого прежде всего путем противодействия своим господам, зачастую с помощью насилия. «Сколь часто сервы убивали своих сеньоров и жгли их замки!» — восклицал в XIII веке один проповедник{138}. Фламандские «рабы», о чьих «заговорах» говорит картулярий 821 года; нормандские мужики, истребленные около 1000 года герцогским войском; крестьяне из Сенонэ (Sénonais), выбравшие себе в 1315 году своих короля и папу; жаки и тюшены во время Столетней войны; лиги Дофинэ, разгромленные в 1580 году при Муаране (Moirans); перигорские tards avisés при Генрихе IV; бретонские кроканы, повешенные «добрым герцогом» Шон (de Chaulnes); поджигатели замков и сеньориальных архивов в бурное лето 1789 года — все это (а многое я опускаю) звенья одной длинной трагической цепи. Последний эпизод драмы — беспорядки 1789 года — изумленный и шокированный Тэн объявил «стихийной анархией». Во всяком случае это была старая анархия! То, что казалось плохо осведомленному философу новым скандалом, было не чем иным, как повторением традиционного и издавна хронического явления. Традиционны и черты восстания, почти всегда одинаковые: мистические грезы; примитивная, но сильная идея евангельского равенства, которая тревожила умы обездоленных и до Реформации. Их требования представляли собой смесь ясных и зачастую далеко идущих требований со множеством мелких жалоб и иногда забавных проектов реформ (например, бретонский «Крестьянский кодекс» 1675 года требовал уничтожения десятины, предлагая заменить ее фиксированным жалованьем кюре, он требовал также ограничения охотничьих и баналитетных прав и наряду с этим, чтобы табак, покупаемый на деньги, получаемые в результате сбора налогов, распределялся отныне во время обедни вместе с освященным хлебом «для удовольствия прихожан»){139}; наконец, во главе этих «твердолобых» крестьян, как говорится в старых текстах, во главе этого «не желающего подчиняться сеньории» народа, о котором говорит нам Алэн Шартье, почти всегда стоят те или иные деревенские священники, зачастую такие же или почти такие же несчастные, как и их прихожане, но более способные, чем последние, рассматривать- их невзгоды под углом зрения общего зла — словом, готовые играть по отношению к страдающим массам ту роль фермента, которая во все времена принадлежала интеллигентам. По правде говоря, это столь же европейские, сколь и французские черты. Социальный строй характеризуется не только своей внутренней структурой, но также вызываемыми ею реакциями; система, основанная на господстве, допускает в некоторые моменты искреннее осуществление обязанности взаимной помощи, а в другое время — жестокие проявления враждебности с обеих сторон. Глазам историка, обязанного лишь отмечать и объяснять связи явлений, сельское восстание представляется столь же неотделимым от сеньориального порядка, как например забастовка от крупного капиталистического предприятия. Почти всегда обреченные на поражение и на неизбежный разгром, крупные восстания по самой своей сущности были слишком неорганичными явлениями, чтобы создать что-либо прочное. Та терпеливая и скрытая борьба, которую упорно продолжали вести сельские общины, была гораздо более созидательной, чем эти минутные вспышки. Одно из самых больших желаний крестьян в средние века состояло в том, чтобы организовать крепкую деревенскую группу и заставить признать ее существование. Иногда это удавалось достигнуть окольным путем с помощью религиозного учреждения. Сеньор (точнее, один из сеньоров) становился господином прихода, территория которого либо совпадала с территорией какой-либо общины, либо охватывала сразу много округов. Сеньор назначал кюре (или предлагал епископу его кандидатуру) и присваивал себе не одну из тех повинностей, которые предназначались для обеспечения культа. Но именно потому, что он больше заботился об извлечении выгоды из этих прав, нежели об их истинном назначении, прихожане часто были вынуждены исполнять те обязанности, которыми он пренебрегал, особенно заботу о церкви. Разве это единственное обширное и прочно построенное здание, возвышавшееся среди хижин, не служило в одно и то же время и божьим и народным домом? Там происходили собрания, на которых обсуждались общие дела (если только крестьяне не довольствовались для этой цели тенью от молодого вяза на перекрестке или просто-напросто кладбищенскими лужайками); иногда к большому возмущению церковных авторитетов там хранили весь излишек урожая, там находили убежище и даже оборонялись в случае опасности.
Средневековый человек был склонен в большей степени, чем мы, обращаться со святынями с фамильярностью, не исключавшей уважения. Начиная с XIII века и позже во многих местах были созданы для управления приходом комитеты (fabriques), избранные прихожанами и признанные церковной властью; для жителей это был повод встретиться и обсудить общие дела — одним словом, осознать свою солидарность[124].
Но еще лучше, чем приходские организации с их четко определенными целями и явно официальным характером, служили этим целям братства — другая, более стихийная и гибкая ассоциация религиозного типа. Наряду с заботой о духовных потребностях братства давали возможность объединить людей в едином стремлении к совместным действиям и подчас даже маскировать чуть ли не революционные замыслы. Около 1270 года люди из Лувра (Louvres), к северу от Парижа, образовали такого рода союз. Его признанные цели, как бы невинны они ни были, уже выходили за рамки простого благочестия: по мимо постройки церкви и уплаты долгов прихода, они ставили также своей задачей поддерживать в хорошем состоянии дороги и колодцы. Но это было не все. Союз намеревался также «защищать права деревни», то есть защищать их против мэров и агентов сеньора-короля. Членов союза связывала клятва. У них была общая касса, пополнявшаяся за счет взносов, уплачивавшихся в зерне. Вопреки сеньориальной юстиции, они избирали старшин (maîtres), которые должны были примирять разногласия. Вопреки праву бана, которое должно было бы принадлежать только сеньору, они устанавливали свои распорядки, подкрепляемые штрафами. Если какой-нибудь житель не хотел присоединяться к ним, они его бойкотировали, отказываясь наниматься к нему, — классическое оружие деревенской ненависти{140}.
Но все это были в конце концов лишь окольные пути. Будучи по своей природе светскими группами, сельские общины именно в качестве таковых и поднялись до положения нормально организованных коллективов.
Те, которые полностью достигли этой цели в средние века, добились успеха, следуя примеру городских движений.
В XI, XII и XIII веках во многих городах горожане объединялись принося клятву взаимной помощи. Это акт, как мы уже отмечали, поистине революционный, и так его оценивали все умы, приверженные к иерархическому порядку, ибо эта клятва нового типа вместо того, чтобы освящать отношения зависимости (по примеру старинных клятв верности и оммажа), связывала только равных. Созданная таким путем присяжная ассоциация amitié (дружба), называлась коммуной; если ее члены были достаточно богаты и ловки и если им, кроме того, благоприятствовали обстоятельства, то они добивались от сеньора признания (по особому акту) их существования и прав группы. Но деревни и города не были совершенно изолированными мирами. Тысячи нитей связывали людей (при Людовике Святом парижские горожане добились освобождения сельских сервов капитула Собора богоматери) и порой даже группы (королевские деревни в Орлеанэ были при Людовике VII освобождены от серважа по той же хартии, что и город; и, несомненно, затраты были общими). К тому же грань между городом и деревней была обычно очень неопределенной: скольким торговым или ремесленным бургам были присущи в то же время полу аграрные черты. В свою очередь не одно чисто сельское поселение стремилось стать коммуной; вероятно, это явление было гораздо более частым, чем мы предполагаем, ибо большинство этих попыток потерпело неудачу и поэтому неизвестно нам. О попытках создать в XIII веке коммуны в деревнях Иль-де-Франса мы знаем лишь благодаря нескольким запретам, объявленным сеньором. Горсточка крестьян, живших в совершенно открытом месте, не обладала ни численностью, ни богатством, ни стойкой сплоченностью коллектива купцов, живших бок о бок, за стенами своего города. Однако некоторым деревням или союзам деревень, которым объединение помогло усилиться, кое-где удалось завоевать коммунальную хартию. В Лангедоке, где коммуна всегда была редкой, те из городов, которые начиная с XIII века получили относительную автономию, стали называться консулатами. А ведь в число этих консулатов, особенно в XIV и XV веках, попало больше сельских, чем городских групп, и иногда даже настоящие деревни; например, деревни юга, которые, впрочем, по своему внешнему виду (дома теснились вокруг общественной площади) и психологии своих жителей были похожи скорее на маленькие городки[125], Коммуна, или консулат, то есть коллектив, завоевавший себе то или иное из этих названий, становится постоянной организацией, не умирающей вместе со смертью своих временных членов. Юристы, которые с XIII века заново разработали по римскому образцу теорию юридического лица, признают ее коллективным существом (universitas). Она имеет свою печать — символ юридического лица, — своих магистратов, назначаемых жителями под более или менее активным контролем сеньора. Одним словом, она как общество завоевала себе юридическое место под солнцем.
Но большинство деревень никогда не достигло этого. Грамоты освобождения, которые сеньоры раздавали начиная с XII века в довольно[126] большом количестве, не были коммунальными хартиями. Они фиксировали древний обычай и зачастую видоизменяли его в интересах жителей. Они не давали права коллективного лица. Некоторые юристы, как в 1257 году Ги Фукуа (позднее — папа Климент IV), с полным правом могли утверждать, что «вся масса живущих в одном и том же населенном пункте людей» обязательно должна считаться «общностью» (université), способной выбирать представителей{141}. Этот либеральный тезис обычно не имел последователей. Общины, не имевшие учредительного акта, юридические теории в течение долгого времени рассматривали лишь как преходящее явление. Ну, а если у жителей возникала необходимость урегулировать какое-либо общее дело, например договориться с сеньором о покупке вольности или же пожаловаться на какой-либо причиненный им ущерб? Не позднее XIII века уже было официально признано (сам обычай был гораздо древнее), что они могут большинством голосов заключать соглашения, принимать решения о расходах или о судебном деле (которое встречало порой хороший прием в королевских судах, даже если оно было направлено против судьи, сеньора) и выбирать для той или иной из этих целей уполномоченных, обычно называвшихся прокурорами или синдиками. Рассуждая логически, решения и полномочия должны были бы распространяться только на людей, голосовавших за это. Однако самый известный юрист XIII века, Бомануар, бывший высоким должностным лицом, признавал, что воля большинства была обязательна для всего коллектива. Но при одном условии, чтобы большинство включало кого-нибудь из числа наиболее богатых людей.
Это, несомненно, объясняется как тем, что не хотели позволить беднякам ущемлять «более обеспеченных», так и той тенденцией к цензовым ограничениям, которой руководствовалась монархия в ее отношениях с городскими кругами и которая еще в конце старого режима лежала в основе политики администрации по отношению к сельским сходкам. Терминология отражала неясность права: каким именем называть эти непостоянные ассоциации? В 1365 году крестьяне четырех деревень Шампани, принадлежавших к одному и тому же приходу, привыкнув действовать сообща с пятой деревней, жители которой были весьма строптивого нрава, навлекли на себя серьезные неприятности тем, что осмелились называть свое объединение словами corps и commune; им пришлось объяснять в парламенте, что они употребляли эти термины не «в собственном смысле», что они старались лишь показать, что речь идет не об отдельных людях, ничем не связанных{142}. Однако в юридических текстах издавна было принято называть участвовавшие в процессах «компании», разумеется, не коммунами, но и не «такими-то и такими-то, проживающими в таком-то месте» (как делали, когда хотели подчеркнуть, что данный субъект не обладал правом юридического лица), а общиной (Communauté) такого-то, места: формула, уже полная смысла. Но после окончания дела прокуроры или синдики терялись в толпе, и группа возвращалась, очевидно, в небытие или по крайней мере впадала в дремотное состояние.
Постепенно, однако, эти представительные учреждения — собрание жителей, прокуроры или синдики — стабилизировались. Уже сеньориальный фиск взывал во многих случаях к сотрудничеству жителей, которые обычно были обязаны сами распределять между семьями талью или аналогичные налоги. Королевский фиск перенял эти обычаи. К тому же, как могла бы центральная власть, не желавшая подчиняться сеньорам, обойтись без поддержки местных групп? Уже во времена Каролингов, еще до разгула феодальной анархии, короли попытались доверить надзор за деньгами и мерами присяжным, избранным жителями{143}. По мере того как во Франции снова усиливалась монархия, развивалась административная власть, ее представители были вынуждены все чаще и чаще обращаться за помощью к общинам по всякого рода полицейским, войсковым и финансовым делам. Тем самым они были поставлены перед необходимостью упорядочения их деятельности. При старом режиме, особенно в XVIII веке (к этому времени относится в основном создание нашей бюрократической системы), путем целой серии ордонансов, большей частью местного значения и имевших к тому же лишь частичное применение, организуются собрания в духе, обычно благоприятном для зажиточных крестьян, и предусматривается постоянное существование синдиков. И все это под двойной опекой, сеньора и интенданта. Могли ли жители объединяться без согласия сеньора? Правовые нормы были различны. Кутюма Верхней Оверни отвечала на этот вопрос утвердительно, а Нижней Оверни — отрицательно. Чаще всего, однако, это согласие считалось необходимым, если только его не заменяло согласие королевского представителя. Это было то самое решение, к которому склонялась юриспруденция конца капетингской эпохи[127].[128] Часто решения подлежали исполнению, лишь будучи официально подтверждены судом или еще и интендантом. Во всем этом царило большое непостоянство; конфликты между властями шли часто на пользу деревни. Не менее достоверно и то, что деревня, включаясь официально в юридический порядок, накладывала тем самым на себя довольно жесткую узду. Это был выкуп за ее окончательное принятие в почетное общество юридических лиц.
* * *
Много веков потребовалось сельской общине, чтобы добиться этого. Но на свое существование она не дожидалась разрешения. В основе всей древней аграрной жизни лежала эта крепко организованная группа. Эта жизнь и вскрывает существование группы.
Вот прежде всего целый ряд коллективных ограничений в областях открытых полей: обязательный выпас, принудительный севооборот, запрещение огораживаний. Правда, за нарушение этих правил обычно судила не деревня. После крушения франкской судебной системы в древней Франций не существовало других судов, кроме королевских или сеньориальных. Несомненно (по крайней мере до того момента, когда окончательно восторжествовало убеждение — это случалось в разное время, в зависимости от местности, — что суд пэров предназначен только для дворян), случалось, что крестьяне заседали в сеньориальном суде. В том же XIII веке, несмотря на то, что движение за то, чтобы судья сам решал все вопросы, уже приняло широкие масштабы, мэр парижского капитула в Орли (Orly) должен был перед тем, как объявить свой приговор, советоваться с «добрыми людьми», выбранными, конечно, из крестьян (laboureurs){144}. Однако эти случайные должностные лица представляли сеньора, а не коллектив. В средние века, когда еще господствовали старые обычаи личной расправы, было общепринято, что задетая некоторыми правонарушениями группа могла сама осуществить возмездие. Если жители Валантона (Valenton), около Парижа, находили на общинном болоте стадо баранов, не имевших права там пастись, то они могли еще в XIII веке захватить одно из этих животных, зарезать его и съесть{145}. Но это насилие все более и более заменялось простым взятием в залог, что было началом судебного действия, заканчивавшегося в обычных судах. По закону (за исключением некоторых деревень, имевших особые привилегии) только верховный господин земли сохранил право наказывать — при условии, что он отдавал иногда часть штрафа пострадавшей общине, которая в силу своей естественной склонности и согласно обычаю, широко распространенному также и в ранних городских общинах, стремилась употребить эти деньги на выпивку{146}.
Но кто устанавливал все эти правила? По правде говоря, они вовсе не были «созданы», ибо они основывались на обычае. Группа людей получала их по традиции; кроме того, они были так тесно связаны с целой весьма согласованной системой (одновременно и материальной и юридической), что действительно казались присущими самой природе вещей. Однако порой были необходимы некоторые дополнения к старому порядку: изменение форм выпаса; выделение того или иного картье под привилегированное пастбище для тягловых животных (ernbannies); установление на вновь отвоеванном у целины участке последовательности севооборотов; иногда даже изменение севооборота на целой части округа; наконец, установление, сроков жатвы и сбора винограда, неизбежно очень различных. Кто решал все эти вопросы в подобных случаях?
Нельзя дать на этот вопрос одинаковый ответ даже для одной данной эпохи или для одного данного района. Конечно, по закону один сеньор имел право приказывать, право бана. Города смогли вырвать у него часть этого права лишь с большим трудом; деревням же никогда или почти никогда это не удавалось. Но на практике, быть может ради простого удобства, сеньору часто приходилось допускать со стороны группы определенную инициативу, которая имела, несомненно, тысячелетнюю традицию и приняла силу закона по той причине, что ее долгое время терпели. Разделение функций определялось узко местными обстоятельствами. В 1536 году монахи Сито настаивали на изменении обычного срока выпаса на лугах Жили (Gilly), но на суде жители отказали им в этом. В 1356 году сир де Брюйер-ле-Шатель (Bruyères-le Châtel), около Парижа, сам устанавливает срок сбора винограда. А поблизости, в Монтеврэне (Montévrein), это делают сами жители, но при условии согласия сеньора. Та же картина наблюдается в Вермантоне (Vermen-ton), в Оссерруа (Auxerrois), где агент сеньора (в данном случае короля) тщетно пытался в 1775 году лишить этого права собрание{147}. Нет ничего более характерного, чем обычаи назначения на некоторые должности. Иногда крестьяне участвовали в назначении даже тех чиновников, которым поручено именем сеньора взимать повинности или отправлять правосудие; но этот случай, частый для Англии, крайне редок во Франции. Гораздо чаще крестьяне имели право сказать свое слово при выборе мелких сельских должностных лиц. В Шанфоле (Champhol), около Шартра, они выбирают с начала XII века пекаря баналитетной печи. В Нейи-су-Клермоне (Neuil-ly-sous-Clermont) в 1307 году они выбрали общего пастуха. В Ринжи (Rungis) в мае 1241 года мэр, представитель сеньора, назначил сторожей виноградников, но лишь после того, как посоветовался как с сеньором, так и с жителями. В Понтуа (Pontoy), в Лотарингии, в XVIII веке жители назначали двух из трех полевых сторожей (banguards), а третьего — сеньор; в то же время неподалеку от этого места сеньор, аббат Лонгвиля, требовал привилегии «выбирать скрипачей для праздников во всех деревнях сеньорий»{148}. Словом, несмотря на все эти различия, официальное сохранение принципа сеньориальной власти, воздействие группы на решение этих мелких, но серьезных вопросов сельской жизни оставалось практически очень сильным.
Кроме того, это влияние осуществлялось неуклонно, и в случае надобности не только вне всякой законной формы, но и против всякой законности, особенно в областях открытых и длинных полей, где старые традиции и присущие им земельные распорядки способствовали сохранению общинной психологии, легко превращавшейся в тирана. Что общинные сервитута были обязаны своей основной силой могуществу общественного мнения, способного при случае заменить чисто моральное воздействие эффективным насилием, это мы уже знаем. Но, несомненно, самым знаменательным выражением этого поистине неукротимого духа единства сельских масс и их сопротивления является в новое время один обычай, присущий в основном пикардийским или фламандским равнинам (хотя подобные тенденции обнаруживаются и в других местах, особенно в Лотарингии), — это обычай, который был известен то под именем «права рынка» («право» — c точки зрения крестьян, правонарушение — в глазах закона), то под названиями, от которых веет духом борьбы: «злая воля» (mauvais gré) или «ненависть к аренде» (haine de cens, по-фламандски: haet van pacht){149}. Это было реваншем старых понятий постоянства и наследственности, некогда установивших основанную на обычае вечность держаний, за временную аренду, явившуюся результатом экономической эволюции. Крупный собственник может, конечно, стремиться увеличить свое имущество, заключая лишь временные договоры. Но горе ему, если по истечении срока договора он отказывается возобновить его с тем же самым арендатором на почти тех же условиях! В особенности горе новому арендатору, нарушителю (dépointeur), если таковой находится, — обычно это чужой в деревне человек, так как местные жители не хотят и не осмеливаются на это. Оба рискуют дорого заплатить за то, что крестьяне рассматривают как посягательство на свои права: бойкот, воровство, убийство, «железо и огонь» считаются вполне уместными для их наказания. Требования населения этих сельских местностей идут еще дальше: арендатор считает, что ему принадлежит право преимущественной покупки в случае продажи его участка сеньором; даже сельскохозяйственные рабочие — «жнецы, молотильщики, пастухи, лесные сторожа» — тоже считают себя несменяемыми и наследственными, особенно пастухи, которым удалось добиться при Людовике XV в Лаоннэ и в области Гиз «угрозами, насильственными действиями и убийствами» настоящей монополии для своего «рода». Королевские ордонансы с XVII века напрасно стараются искоренить эти привычки, которые, по словам одного официального отчета, превращают «земельную собственность» в пикардийских бальяжах Перонны, Мондидье, Руа и Сен-Кантена в «фиктивное» понятие. Упрямцев не останавливал даже страх перед галерами; в 1785 году интендант Амьена в предвидении нового эдикта осведомляется, будет ли в состоянии полиция его округа «предоставить необходимое количество кавалеристов для сдерживания толпы мятежников». Ни префекты, ни суды новой Франции не были, по-видимому, более удачливыми, нежели прежние интенданты и парламенты. Ибо право на договор, применявшееся, по преимуществу, в силу характерной традиции к некоторым крупным владениям, почти полностью совпадавшим с теми, которые при старом режиме принадлежали сеньорам или различным собирателям парцелл, существовало в течение всего XIX века и, несомненно, не совсем умерло еще и поныне.
* * *
Но еще более тесную связь, чем тяготевшие над обрабатываемыми полями сервитуты, установило между членами группы, какому бы аграрному распорядку ни подчинялась ее территория, существование коллективно используемой земли. «Маленький приход Саси (Saci), — пишет в конце XVIII века Ретиф де ла Бретонн[129], — имея общинные угодья, управляется как одна большая семья»{150}.
Общинные угодья приносили самую разнообразную пользу. Будь то целина или лес, они обеспечивали скоту добавочное пастбище, без которого нельзя было обычно обойтись, несмотря на луга и выпас на землях, находящихся, под паром. Кроме того, лес давал дерево и множество других вещей, которые обычно ищут в тени деревьев. Болото давало торф и тростник, ланды — густой кустарник для подстилки, куски дерна, дрок или папоротник, служившие удобрением. Наконец, во многих областях общинные угодья выполняли функцию резерва пахотной земли, предназначенного для временной запашки. Вопрос возникает не о том, существовали ли общинные угодья, а о том, как регулировалось их юридическое положение в разные эпохи и в разных местах. Ибо без общинных угодий, особенно в отдаленные времена, когда земледелие было еще слабо индивидуализировано и когда тех продуктов, которые неспособно было дать мелкое хозяйство, вообще нельзя было нигде купить, аграрная жизнь была бы невозможна.
Эксплуатация этих ценных владений была иногда причиной объединения более обширных человеческих групп, чем одна деревня. Случалось, что обширная пустошь или лес — например лес Румар (Roumare) в Нормандии, — а еще чаще (высокогорные пастбища находились в безраздельном пользовании многих общин либо потому, что эти общины возникли при распадении более крупного коллектива, либо потому, что они, будучи вначале независимыми друг от друга, вынуждены были заключить союз в целях использования расположенной между ними территории. Таковы пиренейские «долины» (vallées) — конфедерации, скрепляющим элементом которых были пастбища. Чаще всего, однако, общинные угодья были достоянием одной деревни или деревушки, дополнением и продолжением пахотной земли.
С юридической точки зрения, идеальными общинными угодьями были бы те земли, вещное право на которые принадлежало бы только группе: по терминологии средневекового права это был бы аллод, которым жители владели бы сообща. В некоторых случаях такие коллективные аллоды действительно встречаются, но крайне редко{151}. Чаще всего на совместно эксплуатируемой земле, как и на всей территории округа, переплетались различные иерархические права: права самого сеньора и вышестоящих сеньоров и права корпорации жителей. Границы этих прав на общинные угодья в течение долгого времени были еще более неопределенными, чем на индивидуальные хозяйства. Они были установлены лишь в ходе ожесточенных судебных споров.
Борьба за общинные угодья была совершенно естественной. Она всегда разделяла сеньора и его подданных. Одна франкская юридическая формула IX века (составленная, правда, в алеманеком монастыре св. Галла; мы лишены подобных формул для Галлии лишь в силу чистой случайности) описывает нам тяжбу одного церковного учреждения с жителями по поводу пользования лесом[130]. Одной ив своих самых старых и самых постоянных обид, о которой крестьяне заявляли на протяжении веков во время своих восстаний, был захват общинной земли. «Они хотели, — пишет хронист Гильом Жюмьежский[131] о восставших около 1000 года нормандских крестьянах, — подчинить своим собственным законам пользование водами и лесами»; несколько позже поэт Уае выразил это в таких пламенных словах: «Нас много, так мы найдем защиту против рыцарей. Пойдем в леса рубить деревья и будем брать те из них, какие захотим. Возьмем в садках рыбу, а в лесах дичину; всем мы распорядимся по своей воле — лесами, водами и лугами». Убеждение, что трава, воды и невозделанная земля — словом, все, что не было обработано человеческими руками, не может быть присвоено человеком, ибо эти является правонарушением, отражало старую первоначальную истину, присущую общественному сознанию. Один шартрский монах оказал в XI веке о сеньоре, который вознамерился, вопреки обычаю, заставить платить монахов пастбищный побор: «Вопреки всякой справедливости, он отказывал в траве, которую бог приказал земле рождать для всех животных»{152}.
Однако, пока свободная земля имелась в изобилии, битва из-за целины или из-за леса была не столь ожесточенной. Следовательно, потребность уточнить юридическое положение общинных угодий ощущалась тогда лишь в незначительной степени. Чаще всего по отношению к пастбищу или лесу сеньор осуществлял такое же верховное вещное право, как по отношению к пашням — верховное, — но не обязательно высшее, — ибо, поскольку он в свою очередь являлся обычно вассалом другого барона и сам был связан оммажем, то над его собственными правами возвышались права всей феодальной иерархии. Но ограничимся непосредственно сеньором деревни, первым звеном этой вассальной цепи. Его власть над невозделанной землей выражается обычно в уплате повинностей, которыми обязаны (коллективно или индивидуально) жители, пользующиеся ею. Можно ли вследствие этого сказать, что общинные угодья принадлежали ему? Это было бы наверно, ибо крестьянские права пользования, которые, естественно, касаются и сеньора, поскольку он не только господин, но и хозяин, являются в своем роде столь же прочными правами. Разве они точно так же не санкционируются и не охраняются традицией? Разве сама территория, подчиненная общему пользованию, не называется обычно на средневековом языке столь энергичным словом — «обычаи» (coutumes) такой-то или такой-то деревни? Прекрасным выражением этого умонастроения являются тексты франкской эпохи, в которых при перечислении того, что принадлежит вилле, сплошь и рядом встречаются communia. Казалось бы, какой парадокс: перечислять общие земли среди имущества частного лица, которое совершенно свободно дарится, продается и Инфеодируется! Дело в том, что сеньория включает не только непосредственно обрабатываемый господином домен; она охватывает также пространства, на которые лишь распространяется его власть и с которых он требует положенных повинностей, — это держания (даже если они наследственны) и общинные угодья, подчиненные коллективным правам пользования, которые не менее уважаемы, чем личное владение держателя. «Общественные улицы и дороги, — записано около 1070 года в «Барселонских обычаях»[132], применявшихся и по эту сторону Пиренеев, в Руссильоне, — текучие воды и ключи, луга, пастбища, леса, ланды и скалы… — принадлежат сеньорам, но не для того, чтобы они владели ими в качестве аллода» (то есть не считаясь с правами других лиц, а только со своими) «или включали бы их в свой домен, Но для того, чтобы во всякое время отдавать их в пользование своим людям»{153}.
После крупных расчисток, сделавших невозделанную землю более редкой, борьба вспыхнула вновь. Не то чтобы сеньоры рассматривали тогда общинные угодья как средство для увеличения собственного домена. Домены повсюду находились в стадии сокращения. Сеньор часто пытался заменить пастбища пашней, стремясь разделить эту девственную землю на участки и раздать их держателям. Это давало больше выгоды как обрабатывающим эти новые поля земледельцам, так и получающему с них повинности сеньору, в то время как общине это наносило огромный ущерб, ибо она теряла при этом свои права пользования и возможность свободной расчистки. В других случаях, однако, сеньор старался захватить общинные угодья именно с целью самому непосредственно извлекать из них выгоду. Чего он добивался при этом? Он хотел, чтобы территория пастбища была отныне предназначена исключительно для его скота (в ту эпоху упадка доменов овцеводство, требующее лишь небольшого количества рабочих рук, было значительно важнее для сеньориального хозяйства, нежели зерновое хозяйство); кроме того, он рассчитывал на получение некоторых особо ценных продуктов. Если речь идет о болоте, то это торф. «В это время [около 1200 года], — пишет священник Ламберт Ардрский[133], — Манассия, старший сын графа Гинского, приказал прорыть канавы для добычи торфа на болотистом пастбище, дарованном когда-то в качестве общинного угодья всем жителям прихода Андр (Andres)». Если на находящейся в коллективном пользовании земле имелся лес, вожделения сеньора распространялись главным образом на него, ибо лес становился, как известно, все более и более дорогим. На чьей стороне было право? В силу неопределенности юридических границ самому добросовестному человеку часто было трудно определить это, и, несомненно, не один высокорожденный захватчик земли находил этому достаточное оправдание в мысли, которую выразил с таким простодушием сир де Сена (Sénas), захвативший в 1442 году залежные земли своей провансальской деревни: «Согласно здравому смыслу, между сеньором и его подданными должна же существовать разница»{154}. Но жители не мирились с этими захватами, они сопротивлялись. Зачастую в конечном счете происходил раздел общинных земель (cantonnement). Сеньор получает в полное распоряжение часть некогда неделимой земли, а община сохраняет право пользования (aisément) остальной частью, обычно при уплате ценза. Таким образом, во многих местах этот кризис привел к официальному признанию прав группы, по крайней мере на часть древних communia; значительное число наших современных муниципалитетов могут еще проследить по актам такого рода происхождение их имуществ.
Начиная с XVI века разразился новый кризис, притом гораздо более тяжелый. В это время обновленный сеньориальный класс со всем пылом и ловкостью принялся за восстановление крупных хозяйств. Буржуа и богатые крестьяне, подобно ему, также становятся собирателями земли. Перестройка юридического мышления способствовала их вожделениям. Юристы много потрудились над тем, чтобы заменить систему переплетавшихся вещных прав ясным понятием собственности. Для общинных угодий, как и для остальной территории, надо было найти собственника в римском смысле слава. Обычно считали, что им был сеньор. К этой ясной идее была добавлена концепция о происхождении, которую, как это ни странно, воспроизводят иногда и современные историки. Решили, что вначале общинные земли принадлежали одним сеньорам. Что касается жителей, то они получили эти угодья в пользование лишь благодаря сделанным в течение веков уступкам. Как будто деревня неизбежно была моложе своего господина! Конечно, эти теоретики не собирались принести в жертву приобретенные общинами права. Но, согласно наметившейся с XIII века судебной практики{155}, они были обычно склонны признавать их законными лишь в том случае, если они санкционировались уплатой повинности; «пожалования» из чистого великодушия, если они не были оформлены актами, считались несолидными; к тому же в этих случаях возникало сомнение, имел ли здесь место действительно подарок, или же речь шла о правонарушении со стороны крестьян. Все это не обходилось без множества колебаний и нюансов. Профессора права, юристы-практики, администраторы старались (нельзя сказать, что при этом царило полное единодушие и что они достигли большого успеха) подчинить массу общинных угодий определенной классификации, составленной с учетом изменчивого соотношения антагонистических прав, признанных за сеньором или за его людьми. Но, разделяя это умонастроение и вооружась этой теорией, сеньоры, их юристы и сами суды, проникнутые сильным классовым духом, охотно смотрели на вещи куда проще и грубее. В 1736 году генеральный прокурор Рейнского парламента безоговорочно принял сеньориальную концепцию: «Все ланды, выморочные земли, пустоши и невозделанные земли представляют собой в Бретани домен сеньора фьефа». 20 июня 1270 года, согласно соглашению, сеньору Куше (Couchey), в Бургундии, было запрещено отчуждать «общие земли виллы» без согласия жителей; несмотря на этот столь ясный текст, герцогский совет решил в 1386 году (его примеру последовал спустя почти три с половиной столетия, в 1733 году, парламент), что, поскольку «площади», улицы, пути, дороги, тропинки, пастбища… и другие общие места» деревни принадлежат сеньору, он может распоряжаться ими по своей воле. В 1777 году парламент Дуэ отказался зарегистрировать один эдикт, где упоминалось о «принадлежащих» общинам угодьях. Пришлось написать: «которыми они пользуются»{156}.
Действительно, наступление на общинные угодья становится с XVI века более мощным, чем когда-либо ранее, — об этом красноречиво свидетельствуют жалобы крестьян, подававшиеся даже в провинциальные или Генеральные штаты. Это наступление носило различные формы.
Во-первых, простая узурпация. Сеньор злоупотреблял своей политической и судебной властью. Как говорили депутаты третьего сословия во время созыва блуасских штатов 1576 года, имеются такие сеньоры, которые, «сделавшись по своей воле судьями в своих собственных делах, присвоили себе права пользования и захватили невозделанные земли, ланды и общинные угодья, которыми пользуются подвластные им бедняки, и даже отняли у них грамоты, подтверждающие их доброе право». Богатые собственники, даже крестьяне, использовали то влияние, которое дает богатство и которому, по мнению одного агронома XVIII века, было в деревне все подчинено. В 1747 году люди из Кро-Ба (Cros-Bas), в Оверни, жалуются на го, что «Жеро Сала-Латапон, житель названной деревни… вздумал своей собственной властью… поскольку он богач и первое лицо в деревне, огородить большую часть зависящих от означенной деревни общинных угодий и присоединить эти земли к своим полям»{157}.
Иногда захват носил более скрытый и в юридическом отношении почти безупречный вид. Зажиточный земледелец заставлял сдать себе часть общинных угодий за слишком низкую цену или же сеньор требовал раздела. Сама по себе эта операция не была для общин абсолютно невыгодной, потому что она укрепляла, по крайней мере частично, их права; но она становилась невыгодной, если условия раздела были слишком неблагоприятны. А многие сеньоры требовали третью часть общинных угодий; это было право триажа, получившее широкое распространение в новое время благодаря юридической практике и которое сама королевская власть имела слабость признать в 1669 году. Несомненно, в принципе оно было ограничено определенными условиями — необходимо было, чтобы так называемая первоначальная уступка была сделана безвозмездно. На практике же эти оговорки, дававшие к тому же широкий простор для множества притязаний, не всегда точно соблюдались.
Наконец, не только крестьяне как отдельные личности страдали от этих захватов, которые, как мы видели, помогли крупным собирателям земель произвести выгодные объединения парцелл. Общины также были зачастую и притом тяжело обременены долгами; это было вызвано расходами на общие нужды, потребовавшимися, особенно в послевоенные годы, для восстановления хозяйства, а главным образом потому, что они были вынуждены закладывать будущие доходы для удовлетворения фискальных требований короля и сеньора. Какой соблазн продать целиком или частично общинные угодья, чтобы избавиться от этого бремени! Сеньоры охотно содействовали этому или потому, что сами рассчитывали купить, или потому, что в этом случае они требовали в качестве возмещения за отказ от своих верховных прав на землю осуществления права триажа, рассчитывая тем самым получить без издержек часть пирога. В Лотарингии обычай или судебная практика доходили до того, что признавали за ними право получать третью часть вырученной жителями суммы. Эти продажи были порой очень подозрительными. Подозрения внушали то официальная причина продажи (королевский ордонанс 1647 года обвинял лиц, стремившихся «ограбить» общины, в выдумывании «фальшивых» Долгов), то условия оценки земли. Но они были неизбежны в результате давления заинтересованных лиц и плачевного финансового положения многих мелких сельских групп, управлявшихся зачастую очень плохо. Деревня Шандотр (Champdôtre), в Бургундии, с 1590 по 1662 год трижды продавала свои общинные угодья: первые две операции были кассированы как мошеннические или неправильные; последняя (в пользу тех же покупателей, что и вторая) была окончательной.
Разумеется, это движение встретило сильное сопротивление, но, по правде говоря, даже перед лицом самых явных злоупотреблений крестьяне боялись сшибить глиняный горшок с чугунным*. «Поскольку все общинные угодья узурпированы и находятся во владении или сеньоров общин, или влиятельных лиц, — пишет в 1667 году интендант Дижона, — бедные крестьяне не осмеливаются жаловаться, если с ними дурно обращаются». А Фременвилль[134], великий знаток «практики составления поземельных описей», пишет: «Осмелятся ли жители возбудить против себя недовольство могущественного сеньора?»{158} Однако не всех можно было так легко запугать. В Бретани в начале XVIII века сеньоры стали в большом количестве инфеодировать ланды, то есть сдавать их в аренду предпринимателям для распашки или лесонасаждения. Внешним признаком этого прогресса индивидуального присвоения было устройство больших земляных насыпей вокруг оторванной от общинных угодий земли; зачастую эти стеснительные символические ограды разрушались, вооруженными толпами.
В таких случаях парламент требовал сурового наказания. Напрасный труд! Найти свидетелей в Деревне было невозможно. Когда несколько насыпей вокруг пустоши в Плуриво (Plourivo) было разрушено таким образом, сеньор отдал угрожающий приказ «обнаружить… виновных». Но в один прекрасный день на границе двух заинтересованных приходов нашли виселицу, а у ее подножия — могилу с такой надписью: «Здесь будет тот, кто даст показания»{159}.
Помимо крестьянской массы, существовала еще другая сила, которая стремилась воспрепятствовать захвату общинных угодий, — это сама монархия и ее чиновники, прирожденные покровители сельских групп, которые были основными налогоплательщиками и поставщиками солдат. Начиная с 1560 года (когда орлеанский ордонанс лишил сеньора права верховного суда по делам, касающимся общинных угодий) последовал целый ряд эдиктов то общего, то местного значения, запрещающих отчуждения, кассирующих произведенные в течение определенного срока продажи или триажи, организующих «расследование» по поводу узурпированных у общин прав. Парламенты покровительствовали предприятиям сеньоров; начиная с XVII века их обычные противники, интенданты, присоединились к противоположной партии. Эта политика была настолько необходима всякому государству того времени, хоть сколько-нибудь заботившемуся о своем процветании, что ее точно так же проводили, например в Лотарингском герцогстве. Правители изменили свою позицию (вследствие настоящего переворота в идеях) только к середине XVIII века, когда начался агротехнический переворот, самую сущность которого и его воздействие на состояние общинных угодий мы изучим далее.
Но ни то, ни другое из этих сопротивлений не было эффективным. Сопротивление королевской власти было ослаблено вследствие фискальных потребностей; декларации 1667 и 1702 годов разрешали захватчикам сохранить, по крайней мере на время, отчужденные имущества при условии «возвращения» (разумеется, королю) доходов, полученных в течение последних тридцати лет. Крестьяне же слишком часто ограничивались бесперспективными «народными волнениями». Дробление общинных угодий в пользу сеньоров или богачей стало в новое время явлением европейского масштаба. Повсюду оно было вызвано одними и теми же причинами: тенденцией к восстановлению крупного хозяйства; развитием индивидуального производства, стремящегося работать на рынок; кризисом деревенских масс, которым лишь с трудом удавалось приспособиться к экономической системе, основанной на деньгах и обмене. Общины были не в состоянии бороться против этих сил. К тому же общины были далеки от того полного внутреннего единства, которое им иногда приписывается.
III. Классы
Оставим сеньора, оставим буржуа, которые из соседнего города или местечка управляют своей землей или получают с нее ренту. Эти люди не были, в сущности, частью крестьянского общества. Ограничимся этим последним; оно состоит из земледельцев, непосредственно живущих за счет обработки земли. Ясно, что не только в наши дни, но уже в XVIII веке это общество не было действительно единым. Но порой наличие различных слоев считалось результатом относительно недавних процессов. «Деревня, — писал Фюетель де Кулаиж, — не была уже в XVIII веке такой, как в средние века, в нее проникло неравенство»{160}. Наоборот, весьма вероятно, что эти мелкие сельские группы всегда были разделены на довольно резко разграниченные классы, с неизбежными отклонениями от линии разделения.
По правде говори, слово «класс» является одним из самых двусмысленных в историческом словаре, и необходимо уточнить то его значение, в котором оно будет здесь употребляться. Доказывать, что в различные эпохи деревенские жители различались между собой по своему юридическому статусу, значило бы ломиться в открытую дверь. Франкская villa представляла собой целую многоцветную призму различных юридических состояний, контрасты между которыми были с давних пор скорее кажущимися, нежели реальными. Во многих средневековых сеньориях, все более и более многочисленных по мере увеличения числа освобожденных, «свободные» вилланы жили бок о бок с сервами. Постулировать, как это делали некоторые, первоначальное равенство крестьянского общества вовсе не значит отказываться от признания этих неопровержимых контрастов; это значит, считать, что для массы жителей, даже если они подчинялись различным правовым порядкам, характерен настолько схожий образ жизни и настолько близкие по величине состояния, что не возникало никакой противоположности интересов. Одним словом, пользуясь удобными, хотя и не очень точными терминами, это значит отрицать существование социальных классов, вполне признавая классы юридические. Однако нет ничего более неточного.
В сеньории раннего средневековья мансы одной и той же категории — то ли потому, что неравенство было изначальным, то ли потому, что оно было уже результатом упадка данного учреждения, — иногда, как мы знаем, сильно различались между собой. Хозяйство колона Бадилона (Badilo), в Тиэ (Thiais), состояло в качестве свободного манса приблизительно из 16–17 га пашен, около 38 аров виноградника и 34 аров лугов. Доон (Doon) и Деманш (Démanche) (первый — со своей сестрой, второй — с женой и сыном) — также колоны и совладельцы одного свободного манса — объединяются вместе для обработки пашни размером чуть побольше 3 га, 38 аров виноградника и 10–11 аров луга. Можно ли Думать, что Бадилон и его соседи чувствовали себя стоящими на одной и той же ступени социальной лестницы? Что касается различных категорий мантов, то их неравенство — явление нормальное. Рабский манс вполне может находиться в руках лица (например, колона), обладающего такими же правами, как и владелец смежного свободного манса, тем не менее его манс, как правило, меньше по размерам. Наконец, крестьяне, участки которых не достигли размеров маиса (владельцы гостиз или accolae, бывшие чаще всего просто поселенцами, которых терпели на расчищенной ими земле), принадлежали в большинстве к еще более низкому слою.
Разложение мансов, благоприятствуя дроблению держаний, еще более усилило эти контрасты. Нам редко удается выяснить крестьянские имущества в средние века. Однако некоторые документы позволяют осуществить хоть изредка такое исследование. В 1170 году в трех сеньориях в Гатинэ была наложена на держания талья, конечно в соответствии с их стоимостью:- взносы бьвди размером от 2 до 48 денье. Королевские сервы шателлении Пьерфон (Pierrefonds) уплачивали при Людовике Святом за свое освобождение пять процентов стоимости своего имущества. Стоимость последнего была различной — от 1 до 1920 ливров. По правде говоря, самые богатые из этих людей не были, конечно, сельскими жителями. Но даже среди мелких и средних имуществ, принадлежавших преимущественно крестьянам, колебания были весьма значительны; в целом больше двух третей этих имуществ не достигали 20 ливров, в то время как одна седьмая превышала 40 ливров{161}.
В течение веков в основе различия между крестьянами лежали главным образом, два принципа: первый принцип — достоинство и влияние (служба у сеньора); второй — преимущественно экономический (наличие или отсутствие тяглового скота).
В средневековой сеньории господин имел своего представителя, управлявшего от его имени. В зависимости от места этого управителя называли прево, мэр, бальи или судья (в Лимузене). Ничто в его личном статусе не возвышало его над подчиненными ему людьми. Иногда его юридическое положение было даже более низким, чем тех жителей, которые сохранили свою «свободу», ибо часто он был из сервов. Крепость этой связи казалась вначале гарантией хорошего поведения. Но его должность обеспечивала ему большие выгоды, законные или незаконные; она давала ему прежде всего тот ни с чем не сравнимый престиж, который во все времена, а особенно в эпоху жестоких нравов и грубых чувств, был связан с правом командовать людьми. В своей скромной сфере он был начальником, а при случае и военным главой. Разве не принимал он на себя руководство деревенским ополчением в случае опасности или вендетты? Иногда, несмотря на строгие запрещения, он позволял себе носить меч и копье. В исключительных случаях его посвящали в рыцари. Благо-, даря своему влиянию, богатству и образу жизни он отличался от презренной толпы мужланов. Этот маленький мирок сеньориальных сержантов, изрядно беспокойный и тиранический, но иногда честно выполнявший свои обязанности, с ранних пор обладал тем цементом, который, в сущности, необходим для всякого прочно сложившегося класса, — правом наследования. На практике, несмотря на старания опасавшихся за свою власть сеньоров, эта должность, как и связанное с ней держание (fief), переходила от отца к сыну. В XII и XIII веках — мы знаем это благодаря договорам об обмене сервами — сыновья и дочери мэров разных сеньорий женились и выходили замуж преимущественно в своей среде. Стремление жениться на девушке из своей среды является самым убедительным доказательством того, что эта прослойка, с социальной точки зрения, находилась на пути превращения в класс.
Однако это был класс эфемерный, которому во Франции всегда не хватало определенного освящения в виде особого юридического статуса. В Германии ему было отведено особое место, внизу дворянской лестницы; дело в том, что социальная иерархия в Германии уже начиная с XIII века имела множество ступеней. Французское общество также было организовано иерархически, но более просто. Дворянство, притом очень сильное, сформировалось здесь также в XIII веке, но его низшие ступени не получили официального оформления. Многие сержанты, достигнув наследственного рыцарства, смешивались с сельским дворянством. Чаще всего они отказывались одновременно от своих должностей, которые выкупали сеньоры, не очень-то стремившиеся сохранить управляющих, ставших весьма непокорными. Эти прежние деревенские деспоты так сильно возвысились над крестьянским коллективом, что совершенно утратили с ним всякие связи. Но другие, менее удачливые или менее ловкие, не достигли таких высот. Уменьшение домена, упадок политической власти сеньора, сдача им на откуп своих доходов (которая входила у сеньора в привычку), наконец, его недоверие — все это делало их функции все менее и менее важными. По своему образу жизни и общественному положению они стали отныне всего лишь богатыми вилланами, не больше. Столь влиятельный в XI и XII веках класс сержантов исчезает в XIII веке в результате своего рода распада. Общество кристаллизовалось: нужно было быть или дворянином, или крестьянином.
Отныне сеньоры все меньше терпят наследственных управителей или же наделяют их все меньшими полномочиями. В новое время их главными представителями в деревне станут либо состоящие у них на жалованье юристы, либо скупщики повинностей или домена.
Юрист — это горожанин, который нас в данном случае не интересует. Откупщик иногда также горожанин, но часто это и богатый крестьянин. Но и в этом случае это тоже лишь очень зажиточный, по сравнению с другими, земледелец (laboureur).
«Колен, — пишет Вольтер, — был обязан своим рождением честному земледельцу (laboureur)»[135]. Это слово часто встречается в литературе XVIII века. Я опасаюсь, как бы сегодняшний читатель не был склонен видеть в нем выражение благородного стиля, более изысканное, чем слово «крестьянин». Это было бы ошибкой. Термин этот имел для человека того времени определенный смысл. Со средних веков заметно очень четкое различие между двумя категориями сельских жителей: с одной стороны, те, которые имеют пахотные упряжки, лошадей, быков или ослов (это, разумеется, самые зажиточные), с другой — те, у которых для работы имеются только руки, — это собственно пахари (laboureurs), земледельцы, «имеющие тягловую лошадь», и безлошадные крестьяне (brassiers, laboureurs de bras, ménagers). В списках барщинных работ они тщательно разделены. В Варреде (Varreddes) в XIII веке пахотную и извозную барщины требовали с каждого, кто «присоединяет животное к плугу», в то время как работа на епископском огороде лежала на обязанности всех жителей, все равно «имели они или не имели плугов». В Гризолле (Grisolles), в Тулузской области, в 1155 году встречается само название «безлошадный крестьянин» (brassier). Конечно, не все пахари были равны; когда речь шла о распределении между ними повинностей, сеньориальная администрация исходила из числа животных в их конюшнях и хлевах. Почти везде наименее зажиточные (как сообщают в XIII веке о деревне Кюрей (Curey), в области Авранша) были вынуждены «соединять своих животных» в одной упряжке. Разве не требовалось в областях тяжелых почв три или четыре пары быков для проведения борозд? Это было связано с новыми различиями: в том же Варреде — между вилланами, которые дают для объединенной упряжки одну, двух, трех, четырех лошадей или больше; в Сен-Илэр-сюр-Отизе (Saint-Hilaire-sur--Àutize), в. Пуату, в XI веке — между владельцами двух и четырех быков. Примерно в это же время в Маризи-Сент-Женевьев (Marizy-Sainte-Geneviève) наряду с бедняками, «работающими без быков», некоторые крестьяне имели целый «плуг», другие — только «половину плуга»{162}. Несмотря на эти оттенки, основным контрастом оставался все же контраст, разделяющий пахарей (laboureurs) и безлошадных крестьян (brassiers).
Собственники против несобственников? Не совсем так. Противоположность эта носила экономический, а не юридический характер. Безлошадный крестьянин (brassier) часто имел несколько клочков земли (хотя бы хижину и огород) и даже нескольких мелких животных. Так было издавна. «Амори, сын Рагье, — говорится в записи, излагающей соглашение, заключенное несколько ранее 1096 года, — даровал в Моидонвилле (Mondonville) монахам приорства Сен-Мартен-де-Шан… двух госпитов, имеющих землю, которой хватает лишь для домов и садов»{163}. Это то самое положение, которое очень ясно описано в текстах XVIII века. Что касается пахаря (laboureur), то он, весьма возможно, владел своим хозяйством, по крайней мере его значительной частью, лишь в порядке временной аренды. Этот случай становился все более частым по мере того, как развивалась в новое время крупная собственность, владельцы которой редко вели самостоятельное хозяйство. Извлекая выгоду из многочисленных полей и огромных стад, земледелец, истинный деревенский капиталист, взявший в аренду у дворянина или у буржуа земли, которые последний или его предки собирали с таким упорством, часто превосходит мелкого собственника по богатству и престижу. Не случайно слово «арендатор» стало с XVIII века почти синонимом слова «пахарь» (laboureur); еще и сегодня в обыденной речи, независимо от юридического значения, под фермой подразумевается всякое более или менее крупное деревенское хозяйство.
Как безлошадный крестьянин (brassier), не имевший тяглового скота, обрабатывал свои поля? Иногда (а в старину, бесспорно, довольно часто) без плуга. Один акт 1210 года, предусматривая случай, когда аббатство Ла Кур-Дье (La Cour-Dieu) будет расчищать лес, заранее предполагал, что при этом будут участвовать две категории сельских жителей: «…те, которые будут обрабатывать землю с помощью быков, и те, которые будут работать мотыгой». В Вокуа (Vauquois) план 1771 года отмечает земли, «обработанные вручную»{164}. Но в других местах (особенно там, где была тяжела почва) приходилось занимать упряжку и плуг у более состоятельного соседа: иногда — бесплатно (во многих сельских общинах взаимопомощь была довольно стойкой социальной обязанностью), гораздо чаще — за вознаграждение. Иногда вознаграждение выплачивалось деньгами, иногда — натурой, в виде одной из тех ручных работ, которые бедняк привык выполнять для богатого. Ибо brassier, слишком бедный, чтобы иметь возможность жить за счет своего хозяйства, обычно пополнял свои средства, нанимаясь к пахарю; он был батраком (manouvrier) или «поденщиком» (journalier). Так между двумя классами устанавливается сотрудничество, не исключающее антагонизма. В конце XVIII века в Артуа пахари (laboureurs), недовольные тем, что бедняки (ménagers) взяли в аренду кое-какие земли вместо того, чтобы сохранить свою рабочую силу для зажиточных крестьян, повысили с целью наказания плату за отдачу в наем тяглового скота. Это вызвало столь острое и угрожающее недовольство, что правительство вынуждено было насильно установить законную таксу{165}.
Противоположность и, следовательно, соперничество существовали во все времена. Но экономические преобразования нового времени еще более обострили их. Вступление сельского хозяйства в стадию развитого обмена вызвало, как мы видели, настоящий крестьянский кризис. Им сумели воспользоваться самые зажиточные и самые ловкие из земледельцев, ставшие от этого только богаче. Зато многие пахари (laboureurs), задолжав, вынуждены были продать часть своей земли и перешли в ряды батраков или по крайней мере оказались в весьма близком к этому состоянии. Пока новые хозяева вели обработку земли, создавая мелкие фермы, для этих деклассированных людей еще оставалась возможность, которую многие использовали: приарендовывать кое-какую землю за денежную плату или исполу. Но осуществленное в XVIII веке в широком масштабе «объединение ферм» окончательно низвергло большинство из них в ряды сельского пролетариата. Многие тексты того времени описывают нам эти деревни, где, как говорил в 1768 году интендант Лилля о некоторых кантонах Артуа, «один арендатор владеет всеми плугами общины, что делает его абсолютным господином жизни крестьян и наносит вред как населению, так и земледелию»{166}. Накануне 1787 года во многих общинах батраки составляли большинство, например в Лотарингии, в Пикардии, а быть может, и в Берри. Экономический и агротехнический переворот, начавший около 1750 года преобразовывать деревни большей части Франции, так же как и происшедшая позднее политическая революция, сокрушившая монархию, имели перед собой уже сильно расслоившееся крестьянское общество.
Глава VI. НАЧАЛО АГРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОРОТА
Вошло в привычку называть агротехническим переворотом те крупные перемены в сельской технике и обычаях, которые во всей Европе (в каждой стране в разное время) положили начало применению современных методов ведения хозяйства. Этот термин удобен. Он указывает как на параллелизм, правильность которого неоспорима, так и на вполне подтвержденные фактами связи между этими земельными преобразованиями и «промышленным переворотом», породившим крупную капиталистическую индустрию. Этот термин подчеркивает размах и силу явления. Очевидно, ему следует окончательно предоставить право гражданства в историческом словаре, однако при условии не допускать неточностей. Вся аграрная история представляла собой с древнейших времен постоянное движение. Даже если ограничиться областью чистой техники, то было ли когда-нибудь более значительное преобразование, чем изобретение колесного плуга, чем замена временной запашки упорядоченными севооборотами, чем драматическая борьба поднимавших целину людей против степи, леса и пользовавшихся ими людей? Перемены, к изучению которых мы приступаем, являются, несомненно, переворотом, если под этим словом понимать глубокие изменения. Но был ли он неслыханным потрясением, последовавшим после веков неподвижности? Конечно, нет. Внезапным изменением? Ничуть. Он растянулся на долгие годы, даже на многие века. Его медленный характер нигде не был столь заметен, как во Франции.
Его характеризуют две черты: постепенное уничтожение общинных сервитутов там, где они прежде царили, и появление технических новшеств. Оба процесса были тесно связаны между собой; когда они совпали, совершился переворот в полном смысле слова. Но время их протекания не совпадало в точности. Во Франции, как и почти во всех странах (например, в Англии), наступление на общинные сервитута значительно предшествовало изменениям, относящимся, собственно, к агротехнике.
I. Первое наступление на общинные сервитуты. Прованс и Нормандия
Принудительный выпас был некогда в Провансе почти столь же неукоснительным, как и в других областях открытых полей{167}. Если земледельцам и разрешалось иногда накладывать запрет на часть их полей, находящихся под паром, преимущественно для прокорма их рабочего скота, то это право (например, в Грассе, согласно статутам 1242 года{168}) распространялось на незначительную часть их владений. Но начиная с XIV века началось сильное движение против старинного обычая.
Оно было достаточно мощным, чтобы вылиться в конце средневековья в попытку официальной реформы. В 1469 году штаты Прованса, занятые чем-то вроде всеобщей кодификации публичного права, представили тогдашнему государю, королю Рене, следующее прошение: «Так как все собственные владения частных лиц должны служить к их собственной, а не чужой выгоде, штаты нижайше просят, чтобы все луга, виноградники, запретные земли и другие владения, каковы бы они ни были, которые могут быть защищены, охранялись бы круглый год под угрозой строгого наказания, несмотря на любой противоречащий этому обычай, существующий в подчиненных королю местностях». Король согласился: «Считая правильным и справедливым, чтобы каждый располагал и распоряжался своим имуществом, пусть будет так, как об этом просят»{169}. По правде сказать, этот «статут» (он стал им благодаря утверждению королем) не был совершенно ясным в том, что касалось пахотных полей. Впрочем комментаторы единодушно истолковывали его как полную отмену обязательного принудительного выпаса. Однако, подобно большинству законодательных актов той эпохи, он почти не соблюдался. Он свидетельствует об определенном умонастроении. Но подлинные преобразования зависели от другого: от местных решений отдельных общин. Эти преобразования растянулись по крайней мере на четыре века: с XIV до XVII века. Чтобы точно рассказать о них, нужно было бы детально знать историю почти всех бургов и деревень Прованса. Поэтому не приходится удивляться, что я вынужден ограничиться (из-за недостатка места, а также необходимых сведений) лишь беглым наброском[136].
Зачастую, особенно в первое время, происходило лишь сокращение принудительного выпаса. Иногда на новые культуры распространяли привилегии, которыми издавна оберегались некоторые участки: в Салоне, где исстари были свободны от выпаса лишь одни виноградники, к ним прибавили в 1454 году оливковые и миндальные рощи, даже луга{170}. Или же выпас запрещался на целом участке территории, называвшемся обычно bolles — по названию межевых столбов, обозначавших его границы; обычно это был участок, ближайший к поселению или же самый плодородный. Так было в Эксе в 1381 году. Но при этом предусматривалась отмена запрещения выпаса в случае войны, потому что тогда стада не могли слишком далеко удаляться от городских стен; это исключение действовало в Тарасконе (с 1390 года), в Салоне (в 1424 году), в Малозене (Malaucène), в Карнуле (Сarnoules), в Перне (Pernes), в Обане (Aubagne){171}.
В других местах, притом с самого начала, отважились на более радикальные меры. В Сена (Sénas) коллективный выпас искони осуществлялся по всей округе, включая и сеньориальный домен. Настал день, когда сеньоры заметили, что этот обычай наносит им ущерб. В 1322 году они запретили крестьянам в текущем году направлять свои стада на restoubles, то есть на жнивье какого бы то ни было поля; в то же время они упорно настаивали на том, чтобы посылать туда свой собственный скот. Крестьяне протестовали, по-видимому, не столько против запрещения как такового, сколько против неравноправия. Проблема носила как юридический, так и технический характер: кому принадлежало право устанавливать аграрные порядки? Вынесенное, наконец, третейское постановление, разрешило этот всегда щекотливый спор о правах путем компромисса: за сеньором было признано право запрещать выпас на жнивье, но при условии предварительного согласования этого вопроса с жителями, а также с оговоркой, чтобы сам он также соблюдал запрещение, иначе никто не будет обязан его выполнять. Видимо, арбитры считали совершенно естественным уничтожение старого обычая, которое проводилось здесь путем ежегодных публичных оповещений и, несомненно, имело тенденцию к увековечению{172}. Другие общины (правда, в самые различные сроки) разом уничтожили всякий коллективный выпас. Например, в Салоне (читателю уже известно, что до этого решительного акта уже были более умеренные постановления) решились на это незадолго до 1463 года, в Авиньоне — в 1458 году, в Риезе — в 1647 году, расположенный к северу Оранж дожидался до 5 июля 1789 года{173}. Постепенно количество этих решений возрастало. Хотя коллективный выпас и не был отменен в принципе во многих других местах, однако земледельцам то в результате специального постановления, то в результате простого попустительства (быстро превращавшегося в закон) было предоставлено право изымать из него свои поля. Иногда это право распространялось лишь на часть каждого хозяйства, так, например, в Валансоле (Valensolle) в 1647 году оно распространялось на одну треть{174}.[137] В других местах оно охватывало все поля. Достаточно было простого знака, чтобы запретить пастухам вход, — обычно это была куча камней или земли (montjoie). В конечном счете обязательное выполнение коллективных прав утратило свое значение, более или менее полно, почти по всей стране. Однако не по всей стране целиком. Некоторые общины, оставшиеся верными старым обычаям, отказывались признать какой-либо запрет. Или же это были сеньоры, которые, ссылаясь на свои давние привилегии, считали себя в праве не уважать montjoies. Если бы можно было составить аграрную карту Прованса в конце старого порядка, то на ней среди больших пространств одинаковой окраски, означающей триумф индивидуализма, были бы вкраплены пятна другого цвета, указывающие на более редкие территории, где еще существовало право выпаса на парах. Соединяя мысленно эти разбросанные точки, как это делают геологи с останцами — свидетелями размытых пластов — или же лингвистическая география с реликтовыми древними языковыми формами, можно восстановить прежний общинный характер во всем его объеме.
Почему в Провансе так рано исчез «первобытный коммунизм» прежних времен? По правде говоря, он никогда не был там, как известно, столь сильным, как на равнинах севера. Он не имел в своей основе такой же комплекс обязательных правил. А главное — он не был там столь же необходим вследствие самого расположения обрабатываемых земель. Что касается полей, длина и ширина которых были почти одинаковы и которые были беспорядочно разбросаны по округе, то не существовало серьезных препятствий при изоляции их от соседних. Но такое же расположение земель встречается и в других областях (например, в Лангедоке, расположенном совсем близко от этих мест, или в более далеком Берри), но они гораздо медленнее отказывались, от старых систем. Это явление свидетельствует лишь о возможности совершения изменения, но не о том, почему оно произошло и притом так рано.
Римские законы, всегда тщательно изучавшиеся в Провансе, были там признаны официальной основой всех правовых норм (в случае отсутствия постановлений кутюм). А римскому праву всякое ограничение индивидуальной собственности было, как говорили старые юристы, «ненавистно». Римское право давало аргументы в пользу аграрной реформы и склоняло к ней умы. Очевидно, статут 1469 года был пронизан его духом, равно как и многие судебные постановления или составленные местным юристом решения общины. Но влияние римского права лишь способствовало движению, но не породило его. Разве не жил по римскому праву также и Лангедок, где триумф индивидуализма наступил тем не менее гораздо позже? Истинные причины преобразования аграрного режима Прованса нужно искать в экономическом и географическом положении области.
Особенности почвы помешали тому, чтобы распахивание целины зашло в Провансе так же далеко, как в других районах. Там не было недостатка в необработанных землях, притом обреченных всегда оставаться таковыми. Почти не было поселения, не имевшего своей «скалы» (roche), своего «дикого поля» (garrigue), покрытых ароматическим кустарником и кое-где отдельными деревьями. Прибавьте к этому несколько обширных территорий [а именно Кро (Crau)[138]], слишком засушливых и слишком малоплодородных, чтобы быть годными для обработки, но способных давать летом драгоценную траву. Разумеется, эти невозделанные пространства служили пастбищем. Порой там свободно бродили стада, порой все жители или некоторые из них добивались признания за собой права временно присваивать отдельные участки, называвшиеся cossouls, с целью огородить их и предоставить для выпаса скота лишь некоторых собственников. Общины мужественно защищали свои права против сеньоров. Подобно пустошам в областях огороженных полей, каменистые herms Прованса (herm в точном смысле слова означает пустыню) позволяли мелким земледельцам обходиться без коллективного выпаса с большей легкостью, чем в областях, где расчистка приняла более широкие масштабы.
Получилось так, что постепенно коллективный выпас стал главным образом служить интересам, не имеющим ничего общего с интересами земледельцев. Очевидно, что у батраков и совсем мелких собственников, хотя им также были доступны общинные пустоши, не было оснований желать, чтобы поля были избавлены от древнего сервитута; не имея или почти не имея земли, они должны были лишиться при этой перемене некоторых пастбищных льгот, ничего при этом не приобретая. Во многих местах во время аграрных волнений, которые совпали с политической революцией 1789 года, они попытались восстановить коллективный выпас[139]. Несомненно, они с сожалением следили за его исчезновением. Известная враждебность, которую встречали там и сям в общинах те, кто налагал запрет, была вызвана, вероятно, именно этими чувствами{175}. Но настоящую оппозицию ограничению древнего обычая оказывала значительно более могущественная среда: крупные овцеводы (nourriguiers). В Салоне, например, именно они, опираясь на поддержку мясников, своих естественных клиентов, на протяжении многих лет уже после того, как муниципалитет добился от своего сеньора, архиепископа арльского, полной отмены обязательного выпаса на пахотных полях, не давали хода этой реформе{176}.[140] Потерпев поражение в главном и выиграв только в двух побочных вопросах (сохранение выпаса на расположенных посреди необработанных земель изолированных и потому трудно охраняемых полях и ликвидация одного cossoul, созданного общиной для того, чтобы не пускать туда их скот), они вовсе не отреклись от своей упорной вражды. Еще в 1626 году в связи с увеличением штрафов за потравы виноградников и оливковых рощ они протестовали против этого постановления, способного нанести ущерб «частным лицам, которые имеют склонность к разведению скота»{177}. Новая аграрная политика общин не случайно ущемляла скотоводов; ее основной целью было положить конец выгоде, которую они несправедливо, по мнению других жителей, извлекали из древних обычаев.
В Провансе скот издавна угоняли на лето в горы. Но с XIII века вследствие успехов сукноделия и развития городов, нуждавшихся в подвозе мяса, важность этой вековой практики в экономическом отношении возросла еще больше. Стада комплектовались в большинстве случаев богатыми лицами, которые или были собственниками скота, или брали его в аренду. Весной по широким дорогам (carreires), которые земледельцы под страхом сурового наказания вынуждены были оставлять открытыми среди полей, стада поднимались на высокогорные пастбища, взметая вокруг себя тучи пыли, что побудило назвать взимавшийся при этом особый побор живописным именем pulvérage[141]. С наступлением осени они спускались с гор и именно тогда разбредались по жнивью. Ибо овцеводы использовали в своих интересах право коллективного выпаса либо потому, что, будучи родом из данной местности, они имели на это право как жители, либо потому, что они арендовали это право у какой-либо обремененной долгами общины или (что было чаще) у какого-нибудь нуждавшегося в деньгах сеньора, несмотря на протесты крестьян{178}. Таким образом, архаический сервитут, созданный некогда для того, чтобы обеспечить каждому члену маленькой группы прокорм его скота, необходимого для его жизни, оборачивался на пользу нескольким крупным предпринимателям — «благородным и благоразумным людям», как называли себя эти салонцы, чьи овцы пожирали все. Поскольку благодаря форме полей земледельцы отлично могли содержать свой скот за счет выпаса на собственном жнивье и поскольку пустоши, сверх того, давали им дополнительно достаточно травы, они уничтожили право коллективного выпаса, которое теперь превращало их поля в жертву губительной прожорливости пригнанного с гор скота. Уничтожение старой системы общественного выпаса в Провансе было эпизодом вечной борьбы земледельца со скотоводом (можно даже сказать оседлого жителя с кочевником) и в то же время борьбы мелкого производителя против капиталиста.
Уничтожение старой системы не привело к видимому изменению аграрного пейзажа. Никаких или почти никаких изгородей (кипарисовые изгороди, которые так характерны теперь для многих провансальских деревень, имеют целью защитить поля от ветра, а не от стада; до XIX века их почти не было){179}. Никакого единения парцелл. Так, не задевая установленной прошлыми поколениями материальной основы, Прованс мало-помалу перешел к аграрному индивидуализму.
В районах открытых полей севера общины долго, иногда до наших дней, сохраняли коллективный выпас. Но некоторые лица, особенно начиная с XVI века, возненавидели его как помеху. Это были собственники тех составленных ценой терпеливого собирания обширных владений, которые начали в это время в бесчисленных местах ломать прежнее дробление земельной собственности. Форма их полей позволяла им использовать пары для выпаса своего собственного скота. Их социальное положение делало для них невыносимым подчинение правилам наравне с мелким людом. Наконец, их стойла с многочисленным скотом доставляли им достаточно навоза, чтобы они могли иногда обходиться без мертвого пара. Вместо того чтобы оставлять свою землю в течение года под паром, они охотно сеяли там в это время некоторые второстепенные зерновые культуры — просо, масличные растения и особенно овощи, фасоль или лук-порей. Такую практику называли «похищенный пар». Разве не лишала она почву отдыха? Ее рекомендовали уже агрономы классической древности. С тех пор ее, конечно, никогда не теряли полностью из виду, но использовали ее крайне редко и спорадически. Однако постепенно ее стали использовать в некоторых провинциях, где городские рынки представляли для производителей соблазнительные возможности сбыта товаров. Фландрия, вероятно, широко применяла ее с конца средних веков. В Провансе на последнем этапе движения против общинных прав она, так же как и страх перед перегонявшимся скотом, возможно, способствовала тому, что собственники окончательно решились на это преобразование. В Нормандии она засвидетельствована с начала XVI века{180}.
В тех сельских местностях, где общее стадо продолжало пастись на полях, с которых был снят урожай (то есть почти во всех районах открытых полей, следовательно, исключая Прованс), эта индивидуальная эмансипация не могла быть эффективной иначе, как под защитой хороших изгородей или глубоких рвов. Начиная с XVI века во Франции там и сям воздвигались новые ограды, против которых протестовали общины. Однако большая часть таких оград защищала не пахотные поля. По соображениям, которые мы изложим ниже, их предназначали для защиты лугов или же, подобно тем оградам, которые были запрещены чуть позже 1565 года графом де Монбельяр, причиной их появления было превращение засеянных пашен в сады или огороды{181}. Вплоть до конца XVIII века пахотные земли большей части страны не знали ничего подобного тем огораживаниям, которые начиная с эпохи Тюдоров изменили пейзаж старой Англии. Взгляните, например, на межевые карты Бос или Берри начала XVIII века, где простираются обширные поля собирателей земель{182}; они совершенно открыты, так же как и узкие полоски мелких крестьян. Обычные правила слишком укоренились, движение к собиранию парцелл встречало в наследственности держаний слишком большое препятствие, чтобы преобразование такого масштаба было возможным или даже очень желанным. Но было одно исключение — Нормандия.
Три факта определяют эволюцию старинных областей с открытыми полями в Нормандии с XVI века. Один из этих фактов — аграрного порядка: по крайней мере в некоторой части этих районов (в Ко) расположение многих земель было беспорядочным, что было особенно удобно, как и в Провансе, для ликвидации сервитутов. Другой факт — юридического порядка. Нормандское герцогство, централизованное с ранних пор, имело единую кутюму, оформленную с начала XIII века в сборниках, которые, хотя и были частного происхождения, но, тем не менее, признавались юриспруденцией в качестве источника права и должны были в 1583 году послужить основой для настоящей официальной редакции. А ведь по своему аграрному устройству герцогство было, напротив, очень далеко от единообразия — наряду с открытыми полями там имелись и бокажи, где огораживание обычно разрешалось. Сборники кутюм XIII века, составленные для тех и для других областей и, несомненно, плохо их различавшие, пришли к ублюдочному и неясному решению. Они признавали обязательный выпас (banon) на необработанных землях, «если они не были огорожены с давних времен». Но существовало ли право свободного огораживания? Вероятно, в этом вопросе исходили из местных обычаев. Однако как легко приспособить текст к интересам огораживателей, тем более что сборники кутюм имели силу писаного права; местные же обычаи, напротив, существовали только в устной традиции. Наконец — и это третий, чисто экономический факт, — в старой Франции с XII века не было более плодородных местностей, чем Ко или Нижняя Нормандия. Земледелие рано достигло там высокой степени совершенства. С XIII века практика глубокой вспашки паров привела к тому, что в сборниках кутюм были сокращены сроки обязательного выпаса даже на неогороженных землях, и он разрешался только до половины марта[142]. Очень скоро «похищенный пар» оказался в почете. Богатства буржуазии были обширны и солидны. Следовательно, воздействие крупной обновленной собственности было могущественным.
Действительно, на этих плодородных равнинах огораживание пашен приняло с XVI века размах, не виданный нигде в другом месте. Крупные пахотные участки, которые упорно собирали члены семьи Перот де Кэрон вокруг Бретвилль лОргейёза (Bretteville lOrgueilleuse), представляют огороженные земли, parcs{183}. Их можно было бы принять за одну из карт огораживаний, опубликованных английскими историками. Теория и судебная практика склонялись к признанию неограниченного права огораживания полей. С 1530 года его признает один из первых комментаторов текстов кутюм, Гийом ле Руй[143]. В 1583 году официальная кутюма, уточняя и дополняя предшествовавшие сборники, определенно санкционирует огораживание. В XVIII веке на Канской равнине было много живых изгородей — больше, чем в наши дни, ибо многие из них, служившие убежищем для шуанов, были срублены во время революции, а другие были уничтожены владельцами более мирным образом в XIX веке, когда во всей этой области исчез обычай обязательного выпаса, который один только и делал их необходимыми. Но изгородь, помимо всего прочего, дорого стоила. Не проще ли было признать за каждым собственником, даже открытого наследственного участка, право, если он этого желал, воспрепятствовать доступу на его участок соседского скота? Самые ранние комментаторы кутюмы не осмеливались заходить так далеко. Они отважились на это лишь после Баснажа[144], который писал в 1678 году. Но в судебной практике долгое время наблюдались колебания. Еще в XVII веке парламент кассирует приговор низшей судебной инстанции, признавшей притязания одного сеньора, соглашавшегося на обязательный выпас на землях своего домена лишь за плату. В следующем столетии его постановления стали более благоприятными для крупных собственников, особенно в Ко. Существование там в городах и даже в деревнях развитой суконной промышленности порождало классический антагонизм между земледельцами и скотоводами. «В этой области нередко можно видеть, — говорится в одном мемуаре 1786 года, — что те, кто не имеет овец, находят возможность запретить тем, кто их имеет, выпас на своих землях в период после снятия урожая и до посева (bаnon) и что судьи бывают достаточно снисходительны и поддерживают систему, столь противоречащую общественным интересам». Движение не обошлось без протестов, особенно сильных (что весьма показательно) в деревнях, вроде альермонских[145], которые возникли в результате относительно недавних расчисток и отличались от древних скандинавских поселений своими удлиненными и узкими парцеллами. Несмотря на это сопротивление, нормандская деревня либо с помощью огораживания, либо посредством простого и полного признания права каждого быть у себя хозяином вступила с середины XVIII века в стадию аграрного развития, сильно отличавшуюся от той, на которой в основном остались области, сохранившие коллективное пользование пашнями, как например Иль-де-Франс или Лотарингия[146].
II. Уничтожение коллективных прав на луга{184}
Там, где царил еще мертвый пар, для владельца пахотного поля обычного типа, если только он не должен был, как в Провансе, защищаться против посягательств крупных скотоводов, было в конце концов неважно, будет его земля открыта после уборки урожая для скота всей общины или нет. Он терял при этом только немного соломы и сорняков, а получал (не считая обоюдности) навоз в результате прохода общего стада. Иначе обстояло дело с лугами. Уже издавна заметили, что почти повсюду траву можно было косить два раза в год. Но также почти везде эта отава, пожиравшаяся на корню общим стадом или же скашивавшаяся усилиями всей общины и в eie пользу, не доставалась собственнику. С большим неудовольствием следил он, как от него ускользало драгоценное сено, которое он охотно собрал бы сам для зимовки своего скота или же продал за добрую звонкую монету. Тем более, что это изъятие ничем не компенсировалось. Лугов было мало, и они были сосредоточены в немногих руках; многие жители, извлекавшие выгоду из коллективного сервитута на чужую траву, ничего взамен этого не давали.
А недовольство хозяев лугов было опасным, ибо в большинстве случаев это были влиятельные лица: сеньоры, которые во время ликвидации доменов уступили свои пашни, но сохранили за собой пастбища, и собиратели всякого рода, которые позднее скупили эти пастбища. Более способные, чем сельские общины, навязать, даже незаконно, свою волю, менее склонные бояться наказаний, они давно уже стремились либо вовсе избавиться от обязательного выпаса, либо по крайней мере разрешать его только после второго укоса. Они охотно защищали свою траву хорошими и крепкими барьерами. Уже с XIII века по этому поводу возникали многочисленные процессы между ними и жителями. Их усилия вовсе не были безуспешны. Если им удавалось на протяжении многих лет подряд запретить общественному стаду — совсем или по крайней мере до второго укоса — доступ в их владения, злоупотребление приобретало силу давности, и судам не оставалось ничего другого, как считать это законом. Впрочем, с XVI века судьи проявили в этом отношении большую снисходительность, доходя в Шампани до признания достаточным трехлетнего срока давности и создавая, подобно парламентам Дижона и Руана, судебную практику, благоприятную для этого рода огораживаний и изъятий, если только они не были юридически абсолютно невозможны{185}. В других местах списки повинностей, акт признания и договор давали сеньору возможность заставить своих подданных признать привилегию домениальной травы{186}. Постепенно возникло три вида лугов: одни были закрыты все время; другие (prés gaigneaux, prés de revivre, их было больше), лишенные постоянных оград, открывались все же для выпаса, но только после второго покоса; наконец, те (наиболее многочисленные), которые продолжали подчиняться древнему сервитуту со всей строгостью. Равновесие местных сил определяло размеры тех или иных видов лугов. Ибо обычно крестьяне не подчинялись этому без сопротивления. Разве в силу традиций, которые восходили к самому отдаленному прошлому и приобрели в конце концов чуть ли не моральный оттенок, не считалась трава в значительно большей степени, чем какой-либо другой продукт, общим достоянием? «От сотворения мира и до настоящего времени, — гласил в 1789 году один лотарингский наказ, — второй урожай травы принадлежит общинам».
Но настал момент, когда в спор вступили более высокие власти. Разбазаривание отавы в результате общего пользования, особенно в том случае, когда первый укос был плохим, беспокоило власти, ответственные за общее состояние экономики области: губернаторов, интендантов, парламенты. Тем более, что оно затрагивало, особенно вблизи границ, один весьма чувствительный пункт — интересы королевской кавалерии, крупной потребительницы фуража. Постепенно, начиная с XVI века и все чаще в XVII веке, вошло в привычку при слишком сырой или слишком сухой весне издавать ордонансы, которые предписывали или разрешали оставлять в пострадавшем районе про запас второй укос, целиком или частично. Сначала это делалось очень осторожно и лишь в тех случаях, когда эти меры были действительно необходимы. Однако постепенно это вошло в привычку. Парламенты, претендовавшие во многих провинциях на право осуществлять эти функции сельской полиции, были склонны защищать права собственников. Интенданты, вначале склонные покровительствовать общинам, испытали на себе начиная с середины XVIII столетия влияние новых экономических доктрин, охотно жертвовавших интересами мелкого люда и правами общин ради потребностей производства. В 1682 году была сделана попытка полностью уничтожить обязательный выпас на отаве в одной из провинций, наиболее подверженных военной опасности, в Эльзасе. Это постановление осталось почти мертвой буквой, так как оно было преждевременным, встретило сопротивление общин и мало соблюдалось судами. Но в XVIII веке в значительной части королевства эдикты и постановления, в принципе всегда чрезвычайные и действительные только в данном году, при малейшем предлоге, а то и вовсе без него стали следовать друг за другом через все более и более короткие промежутки; по крайней мере в двух провинциях (в Беарне — в начале столетия и во Франш-Крнтэ — в конце) они издавались регулярно каждый год. «Мелкий люд» деревень протестовал, и довольно ожесточенно, но в общем безуспешно. Но это не обеспечило полностью победы индивидуальной собственности. В теории охрана отавы была легким делом. Но кому это приносило выгоду? Здесь начинались трудности. Многие претенденты заявляли о своих правах; разумеется, это были собственники. Но были также и общины, способные предпринять на свой собственный счет сбор и распределение или продажу сена. Среди них самих отнюдь не было единодушия. Их интересы противостояли интересам собственников лугов, составлявших незначительное меньшинство. Но среди жителей, совсем не имевших пастбищ, встречались как земледельцы (laboureurs), так и батраки; различные способы раздела могли благоприятствовать либо одним, либо другим. Наконец, над крестьянами возвышался сеньор, обычно собственник лугов, обладавший довольно часто привилегиями: пастбищными правами, вроде права на «отдельное стадо» (troupeau à part) или на «сухую траву» (herbes mortes), которые, утратив свою ценность в результате наложенного на отаву запрета, должны были быть компенсированы (в Лотарингии в форме взимания третьей части всех общинных доходов). Как не поколебаться перед лицом стольких противоположных требований, отражавших сложное общество, опутанное множеством пережитков? Такой парламент, как Мецский, постоянно колебался между самыми различными концепциями. В других местах судебная практика стабилизовалась, но, в зависимости от провинций, в самых разнообразных направлениях. Там, где, как во Франш-Контэ и в Беарне, помимо ставшего ежегодным запрета, осуществлялась практика, отдававшая всю отаву собственнику, исчез окончательно всякий след древнего общинного сервитута. В других местах, например в Бургундии или в Лотарингии, этот сервитут не совсем исчез, ибо обязательный выпас на отаве еще осуществлялся в некоторые годы; в другие же годы собственники, лишившие общее стадо корма, возмещали этот ущерб общинам, полностью или частично, но в другой форме. Но так как раздел сена производился обычно пропорционально числу голов скота, принадлежавшего отдельному земледельцу, то батраки, будущие жертвы агротехнического переворота, во всяком случае, много теряли от этих перемен. Старые общинные привычки пользования лугами постепенно исчезали в результате незаметного их подтачивания. Это происходило разными путями, но не путем общей реформы.
III. Техническая революция
Сущность технической революции, которая должна была дать новый толчок борьбе против общинных сервитутов, можно выразить в нескольких словах: уничтожение того, что один агроном, Франсуа де Нефшато, называл «позором паров». Отныне земле, привыкшей до сих пор, при наиболее усовершенствованных системах, отдыхать один год из каждых двух или трех лет, была запрещена всякая лень. В материальной жизни человечества нет более значительного достижения. Во-первых, это дало возможность увеличить в два или полтора раза сельскохозяйственную продукцию и, следовательно, прокормить гораздо большее количество людей; во-вторых, это давало возможность лучше, чем раньше, кормить людей, к тому же более многочисленных, ибо увеличение обрабатываемых земель не поспевало за ростом населения. Без этого небывалого завоевания невозможны были бы ни развитие крупной промышленности, собирающей в городах массы людей, которые не извлекали средства для своего существования непосредственно из земли, ни, вообще говоря, «девятнадцатый век» в том смысле, в каком употребляют слово для обозначения кипения человеческой энергии и ошеломляющих преобразований.
Но старые аграрные распорядки представляли собой хорошо согласованные системы. Нелегко было нарушить их, не уничтожив всего целиком. Для совершения революции в способах обработки земли необходимы были многие условия.
Что посеять на земле, отводившейся прежде под пар? Хлеб? Мысль об этом порой возникала, но она была слишком плоха, чтобы за нее держаться. Опыт показал, что постоянно сеять одно и то же растение или схожие растения на одной и той же земле — это значит обречь себя на ничтожные урожаи. Нужно было найти растения, корни которых проникали бы в почву совсем на другую глубину, чем корни зерновых. Овощи? Обычно с них начинали. Но их разведение можно было рекомендовать далеко не везде, а их потребление не могло быть расширено до бесконечности. Это же замечание справедливо для льна и рапса. Действительно, ради этого не стоило еще низвергать весь прежний аграрный распорядок.
К тому же дело было не только в том, чтобы найти растение. Как бы ни было удачно чередование посевов, непрерывность обработки была связана с риском истощить почву, если бы не был найден способ доставлять ей усиленную порцию удобрений, то есть навоза, поскольку химические удобрения еще не были изобретены. Отсюда необходимость увеличить поголовье скота. Но здесь имелось противоречие, на первый взгляд неразрешимое. Ведь пар имел своей целью не только обеспечение земле отдыха — он служил в то же время пастбищем для скота. В XVII и XVIII веках постановления Парижского парламента обязывали многие соседние со столицей деревни соблюдать старинный севооборот с годом отдыха. Это объясняется тем, что новые методы казались ему опасными для овцеводства и, следовательно, для снабжения парижского населения{187}. Уничтожить пар и вместе с тем не только поддержать, но и интенсифицировать скотоводство — не означало ли это искать квадратуру круга?
Разрешение этой двойной трудности было осуществлено благодаря травосеянию. В сущности, именно фуражные растения при новом чередовании культур заменили зерновые и в то же время, по словам поэта Сен-Ламбера[147], «предложили удивленным стадам нежную траву на недавно сжатых полях»{188}. Эти культуры (вроде клевера, эспарцета и люцерны), имевшие более длинные корни, чем корни зерновых, не требовали, кроме того, от почвы такого же количества химических элементов; или же это были растения с мясистым корнем, вроде репы, знаменитого турнепса (столь часто упоминаемого в агрономических сочинениях той эпохи), которые, помимо достоинств вышеназванных трав, обладали тем преимуществом, что они требовали прополки, благодаря чему пашни периодически очищались от сорняков. Были ли это новые культуры? Не обязательно. Большинство их разводилось издавна, но в небольших количествах и не на полях. Они предназначались для огородов. Революцию в способах обработки можно в некотором смысле рассматривать как победу огородничества над пашней: заимствование растений, заимствование методов (прополка и интенсивное унаваживание), заимствование правил ведения хозяйства (исключение всякого обязательного выпаса и в случае необходимости огораживание)[148]. В конце XVIII века картофель, известный с того момента, как он был привезен из Америки, но долгое время разводившийся лишь в небольших количествах и только в некоторых восточных провинциях, главным образом на корм скоту, пополнил список ботанических открытий, помогая крестьянскому населению, до тех пор кормившемуся лишь зерновыми, избегнуть призрака голода. Затем появилась сахарная свекла, сочетание которой с зерновыми дало самый классический севооборот. Но на первом своем этапе «новое земледелие», как говорили его теоретики, полностью находилось под властью фуражных культур.
Вполне естественно, что первой мыслью его инициаторов было сохранить старинный двухгодичный или трехгодичный севооборот. Только пар «похищали». Но скоро заметили, что многие кормовые культуры давали лучшие урожаи, когда они непрерывно росли в течение нескольких лет на одной и той же земле. Когда затем возвращались к зерновым, их колосья были от этого только тяжелее и гуще. Так возникла мысль об устройстве на некоторое время настоящих искусственных лугов и о выработке более длительных и в то же время более гибких циклов севооборота, которые совершенно перевернули древнюю систему.
Необходимо было еще и другое условие (не для победы технической революции, ибо ее успех был возможен только в результате некоторых юридических изменений, исследование которых последует ниже, но для ее начала) — необходимы были как представление о ней, так и потребность в ней.
Импульс для введения новых методов Франция получила в основном из-за границы. Агротехнический переворот — явление европейского масштаба — распространялся путем преемственности, исследование которой весьма любопытно. Области с густым населением и в еще большей степени области с многочисленными городами повсюду первыми уничтожили пар. Таковы пригороды некоторых немецких городов, некоторые сельские районы Нормандии или Прованса, но в особенности Северная Италия и Фландрия; две великие страны городской цивилизации Европы еще со средних веков. Однако, несмотря на то, что один венецианский агроном еще в XVI веке (несомненно, первый во всем западном мире) рекомендовал севооборот без пара с кормовыми культурами{189}, и несмотря на некоторые ссылки во французских работах XVIII века на сельскохозяйственную практику Ломбардии, итальянский пример не оказал, по-видимому, сколько-нибудь сильного влияния на способы ведения хозяйства за Альпами. Напротив, Фландрия с Брабантом была поистине матерью реформ в методах обработки. К тому же ее методы, несомненно, лучше подходили для нашего климата. Но если исключить ради простоты небольшой район Франции (Франции после Людовика XIV), который представляет собой всего лишь кусок Фландрии, то влияние Нидерландов, хотя и пограничных с Францией, сказалось у нас только через посредство Англии. «Рассуждение о земледелии в том виде, как его практикуют в Брабанте и Фландрии» («Discours sur lagriculture, telle quon la pratique en Brabant et dans les Flandres») — таково название первого английского сочинения 1650 года, которое излагает совершенно ясную программу севооборота, основанного на кормовых растениях{190}. В Англии, рождавшейся для крупной промышленности, потребительницы хлеба и мяса, где земля все более и более оказывалась в руках крупных собственников, охотно вводивших новые методы, «новое земледелие» находило благоприятную почву; там оно получило сильное развитие и было усовершенствовано. Но можно почти не сомневаться, что его пионеры позаимствовали принципы «нового земледелия» в основном у фламандских равнин. В свою очередь, французские теоретики приняли эстафету от Великобритании, особенно начиная с 1760 года, когда появились «Элементы земледелия» («Eléments dagriculture») Дюамеля дю Монсо, составившие целую эпоху[149].
Действительно, сначала следует говорить именно о теориях и идеях. «Нет такого землевладельца, — писал в 1766 году один туренский наблюдатель, подразумевая, конечно, крупных собственников, — который бы не размышлял о выгодах, которые он может извлечь»{191}. Пессимисты, вроде Гримма, издевались над «кабинетными земледельцами». Они не всегда были неправы. Однако размышления, влияние книги на практику, стремление осуществить технический прогресс в соответствии с требованиями разума — вот, что показательно. Сельскохозяйственные преобразования прежних времен никогда не имели подобной интеллектуальной окраски. Но новая доктрина добилась некоторого успеха только потому, что она встретила тогда во французском обществе во всех отношениях чрезвычайно благоприятные условия.
Население сильно возросло. Лица, озабоченные общественным благосостоянием, делали отсюда вывод о необходимости увеличить средства к существованию и не ставить это, насколько возможно, в зависимость от ввоза из-за границы, всегда случайного и находившегося постоянно под угрозой ввиду многочисленных войн. Это же демографическое явление обеспечивало собственникам, если им удавалось поднять доходность своих имений, надежный сбыт. Было создано целое экономическое учение, проникнутое заботой о производстве и готовое пожертвовать ему другими человеческими интересами. В результате собирания земель, осуществленного дворянством и буржуазией, были восстановлены крупные имения, представлявшие благоприятные условия для технических усовершенствований. Ввиду того, что промышленность и торговля предоставляли капиталу недостаточные и часто случайные возможности вложения, он охотно обращался к земле, ища там применения более прибыльного, чем сеньориальные ренты. Наконец, дух века Просвещения был проникнут двумя важными идеями. В этом веке стремились наряду с верованиями рационализировать и практику и отказывались впредь уважать традиции сами по себе; старые земледельческие обычаи, которые по причине их варварства охотно сравнивали с готическими постройками, должны были исчезнуть, если они не имели другого оправдания, кроме своего давнишнего существования. В это время очень высоко ставили права личности и протестовали против того, что ее связывали по рукам и ногам путы, порожденные обычаем и навязанные непросвещенными общинами. Пристрастие салонов к полям, царившая тогда агромания вызывают порой улыбку; поражает наивность тезиса физиократов о земле как источнике всех богатств. Что это, литературная мода? Общее настроение? Несомненно. Но прежде всего это духовные или сентиментальные проявления большой глубинной волны — агротехнического переворота.
Кто говорит об истории техники — говорит об истории контактов между умами. Подобно всем другим переменам того же порядка, источником распространения аграрных преобразований стали несколько пунктов, которые оказывали свое влияние на людей. Это были министерства или интендантства, где вскоре нашлись люди, ставшие на сторону новой агрономии; сельскохозяйственные общества, официальные более чем наполовину; особенно эти более скромные, но и более эффективные центры, которыми становились в самой деревне отдельные разумно обрабатываемые имения. Инициатива редко исходила от крестьян. Там же, где они стихийно присоединялись к новым методам, это объясняется обычно их индивидуальными или массовыми связями с более развитыми районами. Мелкие производители Перша, являвшиеся в то же время разносчиками полотна, погонщики волов или торговцы обручами для бочек узнали о новых приемах ведения хозяйства в Нормандии и в Иль-де-Франсе, куда они носили свои товары{192}. Дворянин, просвещенный книгами или путешествиями, кюре, страстный читатель новых сочинений, директор рудника или начальник почты (оба весьма чуткие к изобретениям, способным облегчить им содержание их упряжек; многие почтовые начальники сделались к концу века арендаторами у стремившихся к улучшениям землевладельцев) — вот кто чаще всего разводит на своей земле искусственные луга и чей пример постепенно оказывал воздействие на соседей. Иногда миграции идей дополняются людскими перемещениями. Эно, Нормандия, Гатинэ и Лотарингия призывали в качестве работников или арендаторов главным образом фламандцев, уроженцев родины технического прогресса. Жителей Ко старались привлечь в более отсталую область Бри. Мало-помалу разведение кормовых растений, дополняемое многими другими усовершенствованиями, осуществленными или только начинавшими вводиться (в инвентаре, в селекции пород животных, в предохранении растений и животных от болезней), распространяется от одного поля к другому. Пар начал исчезать, особенно в областях крупной собственности и преимущественно вблизи деревень, где унаваживание было более легким делом. Впрочем, это происходило очень медленно. Техническая революция сталкивалась не только с укоренившимися обычаями или с трудностями экономического порядка. Основным препятствием для торжества технической революции в большей части страны была твердо установившаяся юридическая система. Чтобы революция могла восторжествовать, нужен был пересмотр права. Правительство принялось за эту реформу во второй половине века.
IV. Стремление к аграрному индивидуализму: общинные угодья и огораживания
Повсюду в старой Франции ланды, болота и леса были предназначены для коллективного пользования жителей. Даже там, где земледелец был полным хозяином своего поля (в районах огороженных полей), эта свобода пашен была возможна лишь благодаря существованию общинных пустошей. Кроме того, в значительной части королевства сама пахотная земля была строго подчинена сервитутам в пользу общины. Агрономы новой школы начали войну против этой общинной практики. Общинным угодьям, «остаткам нашего древнего варварства»{193}, они ставили в упрек непроизводительное использование многих хороших земель, способных при разумной обработке дать богатые урожаи или, по крайней мере, кормить более многочисленные стада. «Какое упущение, — писал известный специалист граф д'Эссюиль[150], — в производстве для общей массы продуктов питания или продуктов торговли!»{194} Иногда они преувеличивали продуктивность этих земель, которые часто оставались необработанными только потому, что не поддавались обработке. Однако они не всегда были неправы. Ибо если уж заботиться о производительности, то как не согласиться с герцогом Роганом, когда он жаловался, что, «потроша» пустоши, чтобы ликвидировать на них кочки, «вплоть до обнажения скал», бретонские крестьяне сделали их «навсегда бесплодными»? {195}Что касается обязательного выпаса, не представлявшего (как говорили не без некоторого основания его враги) реальных выгод для скота, который ценой утомительных блужданий добывал себе лишь жалкую, редкую траву, то он препятствовал уничтожению пара и разведению кормовых культур либо сам по себе, либо из-за дополнительных стеснений, которые он делал необходимыми. Эти теоретические соображения вовсе не были слабыми. Но, конечно, сами по себе они были бы неспособны породить столь сильную ненависть. Более глубокие и полубессознательные чувства руководили реформаторами: это были соображения выгоды. Многие из них были крупными собственниками, и их богатство страдало от этих оков; кроме того, предоставляя мелким земледельцам и батракам возможность скудного существования за счет легких доходов, общинные угодья и пастбищные права способствовали их «бездельничанью», то есть отвлекали их от обслуживания крупных хозяйств; кроме того, склонность к индивидуализму: они утверждали, что эти стеснения «бесчестили» собственность.
Итак, оказалось, что к середине века власти приняли сторону новых идей. Провансальские штаты, как штаты Беарна с 1754 года и штаты Лангедока и Бургундии, с большим упорством начали дело аграрных преобразований. Это были интенданты и их бюро и даже министры и высокопоставленные чиновники. Бертен, генеральный контролер с 1759 по 1763 год, а затем государственный секретарь, которому помогал до января 1769 года его друг и постоянный советник Даниэль Трюдэн, выработал проект умеренных реформ, проникнутых осторожным эмпиризмом. Особенно в Генеральном контроле, практически ведавшем до 1773 года сельским хозяйством, интендант финансов д'Ормессон, прикрываясь именами недолговечных министров, направлял твердой рукой управление по пути, который его суровый и последовательный ум считал истинным прогрессом.
Эти теоретические воззрения вылились в целую серию законодательных мероприятий, осуществленных, как правило, после проведения обследований. Конечно, это происходило постепенно в одной провинции за другой; объединение Франции при старом режиме было довольно несовершенным. С 1769 по 1781 год раздел общинных угодий был разрешен эдиктами в Трех епископствах[151], в Лотарингии, Эльзасе, Камбрези, Фландрии, Артуа, Бургундии, в генеральстве Ош (Auch) и По (Pau). В других районах ордонансы и постановления чисто местного значения, исходящие от королевского совета или местных властей, разрешали провести ту же операцию в отдельных деревнях. В Бретани продолжается в широких масштабах сдача ланд в аренду путем простого использования судебной практики в интересах сеньоров. Кроме того, распространявшиеся на расчищенные земли всякого рода льготы, особенно, налоговые, побуждали обрабатывать многие земли, давно превращенные — в силу обычая или попустительства — в общее пастбище, и практически поощряли их захват либо богатыми людьми, либо массой мелких распахивателей целины.
Такой же натиск был направлен против коллективных сервитутов. В 1766 году штаты Лангедока добились от Тулузского парламента постановления, согласно которому в значительной части провинции был запрещен, в принципе, обязательный принудительный выпас, кроме тех случаев, когда общины высказывались против этого. Руанский парламент полностью запретил его на некоторых полях, где росли кормовые культуры, то же сделали Верховный совет Руссильона и Парижский парламент (в некоторых районах, подлежащих его компетенции). В других местах аналогичные решения в пользу искусственных лугов принимали суды бальяжей, интенданты, даже простые общины, обычно по внушению вышестоящих властей. В 1767 году под воздействием д'Ормессона королевское правительство включилось, в эту кампанию. Просто-напросто уничтожить обязательный выпас — этот переворот кажется слишком значительным, способным вызвать народные «волнения», чтобы можно было решиться на него. Но, во всяком случае, считается разумным и уже эффективным бороться против двух старинных обычаев: прежде всего против запрещения огораживаний (отныне собственник свободен огородить свои владения, и если он согласен потратиться на сооружение изгороди или рва, то он действительно будет хозяином своего поля и сможет во всякое время воспрепятствовать доступу на него соседского скота), затем против межобщинного выпаса, который, ставя всякое преобразование в зависимость от согласия многих деревень, сделал практически невозможным для каждой группы в отдельности ограничение на ее собственной территории (если она того хотела) пастбищных прав. С 1767 по 1777 год целая серия эдиктов установила свободу огораживания в Лотарингии, Трех епископствах, Барруа, Эно, Фландрии, Булонэ, Шампани, Бургундии, Франш-Контэ, Руссильоне, Беарне, Бигорре и на Корсике. С 1768 по 1771 год был официально отменен межобщинный выпас в Лотарингии, Трех епископствах, Барруа, Эно, Шампани, Франш-Контэ, Руссильоне, Беарне, Бигорре и на Корсике.
Эта попытка (которая была в какой-то степени подражанием делу, предпринятому по ту сторону Ламанша английским парламентом) была грандиозна. Она прервалась довольно внезапно. Эдикт для Булонэ от 1777 года знаменует собой конец эдиктов об огораживаниях. К тому же этот эдикт был лишь результатом переговоров, начатых восемью годами ранее. Фактически движение прекратилось с 1771 года. После этого эти мероприятия проводятся лишь кое-где и носят чисто местный характер. Кажется, будто дух робости и уныния охватил умы; администраторы, информируемые при случае относительно результатов прежних реформ и о возможности новых, почти всегда советовали на будущее осторожность и воздержание. Дело в том, что эта попытка большой аграрной политики столкнулась с трудностями, о которых ее инициаторы и не подозревали. Сельское общество старого режима в силу самой сложности своей структуры создало многочисленные препятствия для ниспровержения прежних обычаев, которые было тем более трудно предвидеть и преодолеть, что они варьировали от района к району.
* * *
Оставим в стороне, если угодно, некоторые побудительные мотивы оппозиции, хотя они имели подчас большое значение. Некоторые дворяне опасались, что новые изгороди повредят их охоте, составлявшей удовольствие и гордость их класса. Разве не по этой причине егери его величества запрещали огораживания на землях, зависевших от королевских егермейстерств? Многие администраторы и особенно судейские чиновники испытывали уважение к старым правам, к «этому виду собственности, принадлежащему общинам», как говорил об обязательном выпасе генеральный прокурор Парижа. Экономисты, не желавшие видеть в собственности ничего, кроме ее частного характера, были по-своему революционерами. Большое число лиц, часто из тех же самых кругов, боялось всякого потрясения, которое, затрагивая установившийся порядок, могло бы пошатнуть все социальное здание и особенно те сеньориальные привилегии, которые самые смелые из агрономов охотно осуждали наряду с коллективными сервитутами. Наконец, просто-напросто культ самой традиции. Эта власть привычки, которая противодействовала одновременно и техническим новшествам, и реформам земельного права, но была присуща всем слоям населения. Питаемая неудачами некоторых скорее восторженных, чем умелых новаторов, она вызывала отвращение у многих богатых и относительно образованных лиц (таковы сеньоры из парламента Нанси, высмеивающие предвзятые агрономические мнения интенданта Ла Галезьера). Но нигде эта власть привычки не была более распространенной и сильной, чем в крестьянских массах, где она сливалась со смутным сознанием тех опасностей, которыми угрожал мелкому люду агротехнический переворот.
Если даже рассматривать этот процесс несколько упрощенно, что отчасти искажает живую реальность, и подходить к нему с точки зрения элементарных интересов, надо сказать, что преобразования в технике и законах повсюду по-разному затрагивали различные классы, которые прямо или косвенно жили за счет земли. Ярко выраженные местные различия еще более усиливали эти контрасты. Конечно, классы не всегда ясно представляли себе свое экономическое положение; даже их контуры были иногда неопределенными. Но как раз этот переворот и привел к усилению и прояснению у них чувства неизбежного антагонизма и, следовательно, к самоосознанию. Он дал представителям этих классов возможность сговориться о их действиях (сеньорам — на провинциальных штатах или в парламентах, крестьянам всех слоев — в общинных собраниях), пока политическая революция 1789 года не представила им случай выразить в наказах свои пожелания, в которых часто звучат отголоски споров предшествующих лет.
Что касается отмены коллективных сервитутов и, тем более, уничтожения паров, что грозило уменьшением пастбищ, то позиция батраков, к которым нужно присоединить мелких земледельцев, постоянно находившихся под угрозой превращения в пролетариев, не вызывала никаких сомнений. Не имея земли или имея ее незначительное количество, привыкшие обрабатывать изо дня в день свои клочки, слишком мало образованные, чтобы приспособиться к новым методам, и слишком бедные, чтобы пытаться ввести улучшения, неизбежно требовавшие некоторых, хотя бы самых малых капиталовложений, — они совершенно не были заинтересованы в этой невыгодной для них реформе. Больше того, они имели все основания опасаться ее, ибо большинство из них имело несколько голов скота, который они могли пасти только на общинных угодьях и на подчиненных общему выпасу сжатых полях. Разумеется, правила, регламентировавшие выпас, устанавливали обычно долю каждого жителя пропорционально размерам его недвижимости, следовательно, давали преимущества богатым. Но либо сами эти правила, либо простая снисходительность, которую агрономы охотно рассматривали как узурпацию{196}, почти всегда давали возможность бедняку, даже если он не владел и пядью земли, посылать на поля несколько голов рогатого скота. Лишенные этой помощи, эти обездоленные люди были обречены или умереть с голоду, или же попасть в еще более тесную зависимость от зажиточных крестьян или крупных собственников. Могли ли они не понимать этого? Единодушные в своем сопротивлении, они повсюду создавали боевые крестьянские отряды, враждебные как усовершенствованиям, которые пытались провести отдельные собственники, так и самим эдиктам об огораживаниях. Их руку можно узнать во всех разрушениях изгородей, которые были выражением общественного недовольства, вызванного в Оверни и Эльзасе начинаниями отдельных лиц, а в Эно, Лотарингии и Шампани — законодательством.
С гораздо меньшим единодушием относились они к проблеме общинных угодий. Конечно, всякое посягательство на коллективную собственность сильно ущемляло пастбищные права, за которые мелкий люд не без основания так цепко держался. Однако для деревенских пролетариев раздел мог иметь и свои привлекательные стороны. Разве не предоставлял он им возможность реализовать издавна лелеемую ими мечту — стать в свою очередь собственниками? Само собой разумеется, при одном условии: чтобы способ распределения был наиболее благоприятным для самых бедных людей. Вместе с большинством крестьян батраки оказывали энергичное сопротивление коварным или грубым захватам общинных пастбищ, осуществляемым сеньорами или «деревенскими петухами»[152] без всякой компенсации беднякам, или, например, бретонской «сдаче в аренду». Сопротивлялись они и решениям некоторых общин, которые под давлением крупных собственников делили общинную землю лишь для того, чтобы распределить ее пропорционально величине уже существующих владений. Королевские указы проявляли больше заботы об интересах масс. Они предписывали осуществлять разделы в соответствии с числом хозяйств, что является знаменательным проявлением той традиционной заботы о деревенском населении, которая, однако, у администраторов все более и более уступала место заботе о производстве[153]. Задуманное таким образом мероприятие нравилось батракам, готовым превратиться в распахивателей нови. Исключение составляли горные районы, где, по правде говоря, никто из сельских масс не был заинтересован в уменьшении высокогорных пастбищ. В Лотарингии, например, батраки иногда использовали то подавляющее большинство, которым благодаря своей численности они располагали в приходских собраниях, чтобы навязать упрямым зажиточным земледельцам проведение в жизнь законов о разделе.
На другом конце социальной лестницы находились сеньоры, интересы которых определялись различными соображениями, иногда противоречивыми и очень разнообразными, в зависимости от местности. Они были крупными собственниками и к тому же обычно владели компактными землями, которые представляли благоприятную почву для сельскохозяйственных улучшений и для вполне самостоятельного хозяйства. Кроме того, в очень многих провинциях они пользовались коллективными сервитутами не только на тех же основаниях, что и другие жители, но в гораздо более широком масштабе, чем крестьянские массы. Они могли содержать на общинных угодьях или на паровых полях почти неограниченные стада либо на основании определенных признанных обычаем привилегий, вроде «отдельного стада» в Лотарингии и в части Шампани или беарнской «сухой травы», либо, как во Франш-Контэ, благодаря злоупотреблениям, принявшим полностью или частично силу закона. Эти льготы оказывались тем более доходными, что перемены в экономике обеспечивали скотоводу ценные рынки сбыта и открывали ему в то же время возможности ведения капиталистического хозяйства: взятое на откуп богатыми предпринимателями лотарингское право «отдельного стада» обеспечивало шерсть для многочисленных мануфактур, а для Парижа — мясо. Необыкновенно ясным выражением сознательного классового эгоизма является политика беарнских сеньоров, бывших хозяевами в парламенте и обладавших большинством на штатах: на землях временной запашки, на холмах, где они владели обширными участками земли, они были за свободу огораживания; «а равнинах, где все участки, даже их собственные, были слишком малы и слишком запутанны, чтобы имело смысл их ограждать, они были против огораживаний; но они требовали сохранения, даже при наличии оград, права «сухой травы» или же большой выкуп за него. По второму пункту они вынуждены были уступить; по двум другим, наиболее важным, они одержали верх. Нигде, за исключением беарнских равнин, сеньоры не препятствовали свободе огораживания; они знали, что на своих обширных полях они одни могли извлечь из этого выгоду. Зато уничтожение межобщинного выпаса, которое привело бы к уменьшению пастбищных привилегий, ущемляло их самые насущные интересы; почти везде они противодействовали ему; в Лотарингии и во Франш-Контэ при поддержке парламентов им действительно удалось помешать этому.
На общинные угодья они зарились всегда. В течение всего столетия они не прекращали попыток захватить их. Но даже и раздел по закону был им обычно выгоден; эдикты предусматривали в принципе применение права триажа, но не определяли детально формы раздела; они открывали путь для юридической практики, благосклонно относившейся к любым притязаниям. Соблазнительная перспектива — получить без всяких затрат треть подлежащих разделу земель. В Лотарингии сеньоры объединились с батраками, чтобы оказать давление на общины[154].
Пахари же (laboureurs) не представляли собой, однако, совершенно однородного класса. Но почти повсюду они были единодушны относительно одного особенно важного пункта. Они единодушно противились разделу общинных угодий, если он должен был происходить по хозяйствам и с изъятием сеньориальной трети. Подобный раздел увеличил бы их земли лишь в ничтожном, по их мнению, размере. Он лишал их пастбищных прав, которыми они тем более дорожили, что общинное стадо состояло главным образом из их скота. Наконец, превращение батраков в мелких собственников привело бы к тому, что они лишились бы рабочей силы, в которой очень нуждались. Ведь роль батрака в деревне, заявляли в 1789 году в своем наказе крупные и средние крестьяне из Френель-ла-Гранда (Frenelle-la-Grande), в том и состоит, «чтобы оказывать помощь земледельцу»{197}. Характерно, что штаты Лангедока, фактически решавшие вопросы аграрной политики, отдали предпочтение не разделу, а отдаче в аренду; этим они одновременно удовлетворяли как сеньоров, за которыми они позаботились сохранить право требовать при случае раздела общинных угодий, так и зажиточных крестьян, которые одни только могли выступить в качестве арендаторов{198}. Это означало искусную организацию союза собственников. В Лотарингии, где объединение сил пошло по иному пути, битва из-за общинных угодий (пахари против союза батраков и сеньоров) приняла характер настоящей борьбы классов. В остальном интересы пахарей были очень различны. Наиболее богатые, чаще арендаторы, чем собственники, имели почти те же интересы, что и земельная буржуазия. Они стремились в одиночку присвоить себе часть общинных земель. Иногда они содействовали разделу — когда можно было добиться от общин, чтобы раздел осуществлялся пропорционально земельной собственности или сумме уплачиваемых налогов. Будучи собственниками или арендаторами довольно обширных полей, созданных в результате собирания парцелл, они, естественно, стали сторонниками непрерывной обработки и кормовых культур. Они стремились огородить свои владения, тем более что в результате странного правонарушения эдикты (за одним-единственным исключением — Фландрия и Эно) разрешали огораживателям без какого бы то ни было ограничения участвовать в обязательном выпасе на оставшейся открытой части территории. Сплошной выигрыш и никакого убытка!
Наоборот, масса крестьян, в том числе и собственники, была гораздо более привержена к старым обычаям. Косность? Несомненно. Но в то же время это был очень верный инстинкт, предупреждавший о грозившей опасности. Приспособление к новому экономическому строю было бы, во всяком случае, весьма затруднительно для этих людей скромного достатка, чьи владения были подчинены еще старому расположению земель. Реформы, которые служили совершенно другим интересам, добавляли к этим тревожным соображениям еще и новые угрозы.
Обычно лугами владели богачи, причем луга давали им необходимые ресурсы, возмещавшие им коллективные пастбища; свобода огораживания давала им возможность полностью присваивать эту драгоценную траву. Средние крестьяне чаще всего не имели лугов или же имели их очень мало; чтобы прокормить свой скот, они нуждались в общинных пастбищах, в коллективных сервитутах на чужих пашнях и лугах. По правде говоря, кормовые травы могли расти и на их «полях. Но это земледельческое нововведение таило в себе много трудностей, особенно в районах длинных полей. Севооборот мог быть там изменен лишь в пределах целых картье. Нужно было договориться друг с другом. В сущности, соглашение вовсе «е было невозможным. Во многих лотарингских общинах в конце XVIII века удалось выделить, обычно по краям земель, пространства, регулярно используемые под искусственные луга. Но как защитить в течение года, посвященного пару (и, следовательно, обязательному выпасу), эти особые клинья против посягательств всех тех, кто был заинтересован в сохранении прежних пастбищ: не только против батраков, но и против имевших отдельное стадо сеньоров, против крупных собственников, которые, огородив свои собственные владения, не желали отказываться от пастбищных прав во владениях своих соседей? Изъять в принципе все кормовые культуры из-под действия коллективных прав? Как было сказано, в некоторых провинциях ордонансы или указы решили дело именно в таком духе, в других местах это сделали аналогичные постановления общин. В Камбрези и в Суассонэ эти последние, по-видимому, как правило, соблюдались. Но в других районах их часто оспаривали в судах и кассировали, особенно в областях, на которые распространялись эдикты об огораживаниях[155]. Так как эти эдикты были категорическими, то, чтобы избежать обязательного выпаса, нужно было огораживать поля. Но для крестьян среднего достатка именно это было очень трудным. Изгородь всегда стоила дорого, особенно в те времена, когда дороговизна леса вызывала бесчисленные жалобы. Более того, по правде говоря, это становилось поистине неосуществимым, когда речь шла о том, чтобы огородить узкие и очень вытянутые участки, границы которых по сравнению с их площадью были чрезмерно длинны. Огораживание, осуществлявшееся свободно, но бывшее необходимым для защиты полей, фактически превратилось в своего рода монополию богачей. Оно преграждало другим земледельцам доступ к техническим усовершенствованиям, к которым стремились наиболее опытные из них. Можно ли удивляться тому, что в целом крестьяне, конечно вполне способные постепенно расстаться со старыми обычаями, но при условии облегчения этой эволюции, оказались почти везде в одних рядах с батраками, требовавшими просто-напросто сохранения традиционного порядка вещей, и вместе с ними протестовали против аграрной политики монархии?
В основе попыток реформаторов лежало, по определению парламента Нанси, полное изменение старой «экономики полей» и даже больше — социального порядка. Не следует, однако, думать, что они совершенно закрывали глаза на серьезность такого потрясения. Конечно, они не оценили должным образом сопротивления большинства крестьян. Но они хорошо понимали, что мелкий люд, особенно батраки, мог быть раздавленным. Разве архиепископ Тулузский, хотя он и был сторонником новой агрономии, не признавал в 1766 году на заседании штатов Лангедока, что обязательный выпас может «рассматриваться как следствие товарищества, необходимого между жителями одной и той же общины и осуществляющего всегда справедливое равенство»? Агрономы не относились легко к опасным последствиям агротехнического переворота. Эти последствия заставляли колебаться министра Бертена и его помощника Трюдэна. Умному наблюдателю, президенту Мецского парламента Мюзаку, они внушали опасения массовой эмиграции из деревни, которая приведет к обезлюдению сельских местностей и лишит крупных собственников как рабочей силы, так и потребителей их продуктов[156]. Самые смелые люди, Однако, не отступали перед этой вечной трагедией, связанной с прогрессом человеческого общества. Они жаждали прогресса и считали, что жертвы должны быть принесены. Они нисколько не испытывали отвращения к экономической организации, которая поставила бы пролетариат в более тесную, чем прежде, зависимость от крупных производителей. Зачастую предложения реформаторов не лишены были жестокости. Орлеанское сельскохозяйственное общество, сильно озабоченное нехваткой и высокой ценой рабочей силы, отвергло, правда, в 1784 году, мысль о том, чтобы заставить ремесленников наниматься на период жатвы, ибо «в большинстве своем они совсем не приучены к тяжелой работе». Но оно предложило запретить деревенским женщинам и девушкам собирать колосья после жатвы: вынужденные искать других источников существования, они стали бы хорошими жницами. Действительно, разве не привыкли они «склоняться к земле»? Администраторы охотно рассматривали нищету только как результат преступного «бездельничанья»{199}.[157]
По правде говоря, столь жестокая бесчеловечность способна была возмутить чувствительные души. Но они находили утешение в, удивительном оптимизме, светоч которого господствующая экономическая наука, кузина доктора Панглосса[158], должна была передать «классической» школе следующего столетия. Разве не было признано, как писал об этом в 1766 году субделегат в Монтьеан-Дер (Montier-en-Der), что «все, что выгодно народу, обязательно становится выгодным и для бедняка». Другими словами, благополучие бедняка, все чаяния которого должны состоять в том, чтобы легко находить работу и не знать голода, зависит в конечном счете от процветания богача. «Вообще, — говорил Кдлонн, в то время молодой интендант в Меце, — поскольку батраки и поденщики являются по отношению к сельским хозяевам не чем иным, как дополнением к главному, не нужно беспокоиться об их участи, если улучшается участь сельских хозяев. Постоянно действующий принцип состоит в том, что увеличение продукции и средств существования в каком-либо округе вызывает улучшение благосостояния всех тех, кто в нем проживает, независимо от их положения и состояния: перемена совершается сама собой, и сомневаться в этом хоть сколько-нибудь — значит не понимать естественного хода вещей». Во Франции, как и в Англии, агротехнические проблемы раньше, чем проблемы промышленные, впервые предоставили капиталистической доктрине (назовем ее так, за неимением лучшего слова) возможность выразить с наивностью молодости и простосердечные иллюзии, и жестокость ее чудесного плодотворного творческого задора.
* * *
Однако ни юридическим реформам последней трети столетия, ни тем более движению за технические усовершенствования не удалось изменить заметным образом аграрное лицо страны. Единственными районами, претерпевшими настоящую метаморфозу во всем, вплоть до пейзажа, были те, которых агротехнический переворот коснулся уже тогда, когда они переставали быть пашнями и почти полностью превратились в пастбища, — это восточная окраина Эно, Булонэ. В течение XVIII века успехи транспорта и экономического обмена, близость больших хлебных равнин, способных прокормить скотоводов, и городов, готовых поглощать мясо, позволили в этик районах отказаться наконец от прежнего господства хлеба и использовать особо благоприятные условия, которые почва и климат создали здесь для скотоводства и кормовых культур. Этими преобразованиями руководили крупные собственники, которые одни только и способны были извлечь выгоду из новой экономики. Свободу огораживания, которой они добились, они использовали для насаждения вокруг своих старых или новых лугов многочисленных живых изгородей, защищавших их от коллективных прав, осуществление которых грозило расхищением сена. Вместо пустынных пашен повсюду появились зеленеющие огороженные участки. В других провинциях тоже кое-где появились ограды, обычно на сеньориальных или буржуазных землях. И там также по большей части вокруг лугов. Особую заботу проявляли именно о защите травы. О защите полей заботились гораздо реже. Та же нерешительность наблюдалась и в собственно агрономическом прогрессе. За исключением нескольких особенно развитых провинций, вроде Нормандии, на огромном большинстве крестьянских участков и даже во многих более крупных владениях к концу века продолжали широко практиковать пар. Нет сомнения, что улучшения вводились, но медленно. Это объясняется тем, что в значительной части королевства, особенно в районах длинных полей, для торжества новой агрономии необходимо было еще более глубокое потрясение, чем то, которое проектировали аграрные реформаторы, а именно — полная перестройка землевладений, как это было в Англии и во многих районах Германии.
Прежде всего существовало одно препятствие, которое мешало земледельцу возвести изгородь или, вообще говоря, освободить свою землю от всяких сервитутов и сковывало попытки даже самых богатых собственников. Этим препятствием была раздробленность — закон мелких хозяйств. Избежать его целиком не удавалось даже крупным хозяйствам, несмотря на объединение земель. Сгруппировать эти разбросанные поля незначительной протяженности и неудобной формы в несколько обширных цельных кусков, из которых каждый имел бы доступ к дороге и, следовательно, был бы независим от других, на бумаге было совсем просто. В Англии это осуществлялось на деле. Всякий или почти всякий акт об огораживании предписывал здесь одновременно и перераспределение имуществ. Земледельцам оставалось только подчиниться этому приказу; Но подобное принуждение, естественное в стране, где большинство держаний так и не стало наследственным, — было ли оно мыслимо во Франции? Экономисты и администраторы не могли даже представить себе такой возможности. Они ограничивались тем, что требовали всячески способствовать обмену земель. Это означало положиться на силу убеждения. Но, связанные старыми привычками, зная свою землю, питая недоверие к земле соседа, желая уменьшить, согласно старому правилу, риск сельскохозяйственных случайностей (orvales, как говорили во Франш-Контэ) путем распределения своих участков по всей округе и, наконец, будучи склонными (и не без оснований) опасаться мероприятий, которые неизбежно были бы проведены сеньорами и богачами, крестьяне даже в таких провинциях, как Бургундия, где закон посредством налоговых льгот старался способствовать обмену, лишь в виде исключения соглашались на это, а еще реже на всеобщие переделы, которые пытались провести в жизнь некоторые дворяне-агрономы. Прочность крестьянской собственности, рожденная обычаем в то время, когда земли было больше, чем людей, и укрепленная затем королевской юрисдикцией, не только уменьшала завоевания сельского капитализма, но и задерживала агротехнический переворот, замедляя его и не давая ему возможности слишком жестоко задеть сельские массы. Батраки, которые так и не добились собственной земли или потеряли ее, оказались неизбежными козлами отпущения этих технических и экономических преобразований. Зато пахари сохранили надежду постепенно приспособиться к ним и извлечь из них выгоду.
Глава VII. ПРОДОЛЖЕНИЕ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Аграрную историю французской революции можно подробно описать, только тесно связывая ее с исследованием политической стороны революции и ее различных этапов. Несмотря на несколько превосходных монографий, касающихся различных районов, аграрная эволюция XIX и начала XX веков еще слишком мало известна, чтобы можно было сделать правильные выводы, без искажений. В основном наше изложение должно закончиться 1789 годом. Но в заключение важно остановиться на тех отзвуках, которые имело вышеизложенное развитие в недавнем прошлом и даже в наше время{200}.
* * *
Революционные Собрания[159], приступая к аграрной политике, начинали не с пустого места. Монархия поставила проблемы и попыталась их разрешить. Новый порядок действовал во многих отношениях в аналогичном духе. Но он вовсе не ограничился рабским подражанием. Из прошлых неудач он извлек полезные уроки; он выполнял совсем иную классовую задачу; наконец, он созидал на почве, очищенной от многих препятствий.
Несомненно, большинство сельского населения, если бы оно имело свободу действий, просто-напросто возвратилось бы к старым общинным обычаям. Именно это предсказывал в 1789 году иностранный наблюдатель, английский агроном Артур Юнг. Во многих районах, затронутых эдиктами об огораживаниях или, как Прованс, еще более старыми преобразованиями, во время аграрных волнений начала революции крестьяне попытались вновь ввести в действие коллективные сервитуты, часто с помощью силы. Восстановления этих сервитутов требовали в своих наказах многие приходские собрания, а позднее — сельские муниципалитеты и деревенские народные общества. «Этот закон, — писали относительно права огораживания санкюлоты из Парли (Parly) в департаменте Ронна, — мог быть придуман только богачами и для богачей в те времена, когда свобода была еще пустым звуком, а равенство — лишь химерой». В других наказах, в других клубах, вроде Народного общества в Отэне, разоблачается «изменническое сообщество» эгоистичных земледельцев», «жадных собственников» и «алчных арендаторов», которые, превращая большинство своих земель в искусственные луга, лишают тем самым народ хлеба{201}. Но революционные Собрания состояли отнюдь не из батраков или мелких земледельцев и совсем не отражали их мнений. В них заседали образованные и зажиточные буржуа, которые верили в священный характер частной собственности. Разве не предложил один член Учредительного собрания, Эрто-Ламервиль, разработать отдельную статью конституции о «независимости земли»? Самые смелые члены Конвента периода его величия вполне могли подчинить эти свои принципы потребностям войны против иностранных государств и врагов революции; тем не менее в глубине сердца они всегда оставались им верны. Кроме того, эти люди, проникнутые тогдашней философией, понимали экономический прогресс, в который они верили всей душой, только как рост производства, а агрономический прогресс — только как введение кормовых культур. «Без удобрений нет урожаев, без скота нет удобрений», — этим изречением ответила сельскохозяйственная комиссия Конвента Народному обществу в Ножан-«Республиканском» (Nogent-le-Républicain), которое требовало издать закон, обязывающий земледельцев соблюдать пар{202}. Они охотно рассматривали прежние навыки как досадное наследие «феодального» варварства. «Пары для земледелия — то же, что тираны для свободы», — говорили на II году Республики администраторы из департамента Эр и Луар{203}.
Многие трудности, стеснявшие аграрную политику монархии, более не существовали. Исчезли парламенты, столько раз препятствовавшие мероприятиям, затрагивавшим сеньориальные интересы или просто нарушавшим установившийся порядок. Такая же судьба постигла и провинциальные штаты. Перестали соблюдаться интересы привилегированных: не стало «отдельного стада», «сухой травы» и триажа. Исчезли и стимулы для проведения реформы, которая была бы наиболее благоприятна очень крупным собственникам. Революция почти не позаботилась о батраках, но она попыталась удовлетворить в основном пожелания наиболее знающих крестьян среднего достатка. Наконец нация стала единой и неделимой, и законодательство уже не было, как прежде, провинциальным. «Всеобщий закон», мечту о котором в период великих реформаторских порывов при старом режиме лелеял одно время дОрмессон, так и не решившись ее осуществить, мог стать теперь реальностью.
Однако осторожность по-прежнему была в моде. Принудительный севооборот слишком противоречил новому, совершенно индивидуальному понятию свободы, чтобы можно было хоть на минуту подумать о его сохранении. Провозгласив право собственников «варьировать по своей воле обработку и эксплуатацию своих земель», Учредительное собрание тем самым сочло его незаконным. Что касается обязательного принудительного выпаса, то дело доходило порой до составления проекта его полного уничтожения. Но эти предложения никогда не принимались всерьез. Учредительное собрание удовольствовалось тем, что продолжало проводить политику эдиктов об огораживаниях, несколько расширив ее: оно провозгласило по всей Франции неограниченное право огораживания. Однако к этому распоряжению оно добавило два новых предписания, отменявших самые серьезные неудобства, которые, по мнению крестьян, были присущи старым ордонансам. Отныне права собственников на обязательный выпас были ограничены или отменены — соразмерно с огороженными ими землями. Кроме того (в соответствии с проектами, которые многократно обсуждались в конце старого режима и которые — если бы он продолжил свое существование и утратил характерную для своих последних актов робость — были бы, возможно, в конце концов приняты[160]), «искусственные луга» были теперь закрыты для выпаса во всякое время. А это означало дать возможность массе земледельцев приобщиться к сельскохозяйственному прогрессу. В то же время отмена сеньориальных повинностей способствовала увеличению их производства и избавляла их от перспективы работать, как они говорили недавно, только «для сборщиков десятины и оброка»{204}.[161]
Оставался вопрос о естественных лугах или, лучше сказать, об отавах. И по этому поводу мог быть издан всеобщий закон, запрещающий всякий обязательный выпас, пока не скошена вторая трава. Комиссия, которой Учредительное собрание поручило выработать Земельный кодекс, имела одно время такую мысль. Но ей не дали хода. Перед лицом сложного переплетения интересов долгое время придерживались той же робкой политики старого режима: издавались лишь местные постановления, принимавшиеся муниципалитетами, дистриктами, департаментами и даже комиссарами Конвента в армиях, ибо кавалерия Республики имела те же потребности, что и королевские эскадроны. Укос предназначался либо для раздела между собственниками и общинами, либо только для этих последних. Возможно даже, что в некоторых местах он весь целиком передавался собственникам. Но якобинский Конвент, исполненный почтения к пожеланиям мелких крестьян, совсем не имевших лугов, по-видимому, считал эти решения противоречащими справедливости. Термидорианцы считали иначе. Издав в 1795 году постановление, исключительное по своему охвату и предписывавшее охрану отавы на всей территории, обновленный Комитет общественного спасения отдал траву хозяевам лугов. В следующем году снова появились местные постановления, привычка к которым не исчезла и в наши дни. Но отныне в принципе законным считалось (быть может, с оговоркой некоторых местных обычаев) только право собственника, исключавшее всякие другие претензии. Этот факт лучше всего показывает как непрерывность развития, так и колебания кривой. Что касается управления лугами, то наши префекты стали преемниками интендантов. Очень старый обычай выпаса на «второй траве», подвергавшийся мелким атакам на протяжении последних трех столетий существования монархии, в течение XIX века прекратил во многих местах свое существование под воздействием таких же повторных атак и также без всякого всеобщего закона. Но революция, более смелая, чем королевское правительство, уничтожила после некоторых колебаний все права общин «а этот урожай, если они не принимали формы выпаса, и тем самым совершила все эти преобразования в интересах нескольких лиц, и не без определенного намерения. Постановление 1795 года определенно взывало к «священному характеру» собственности, которой угрожают «системы безнравственности и лени». Характерно, что этот решительный акт был делом преображенного Собрания, которое только что свирепо подавило «голодные бунты» и восстановило для собственников монополию избирательного права.
Обязательный выпас, сроки которого были сокращены, но который не был уничтожен на лугах, в тех местах, где он был традиционным, в течение долгих лет принудительно осуществлялся на жнивье, если поля не были огорожены или превращены в искусственные луга. Почти все правиггельства, которые сменяли друг друга во Франции после 1789 года, мечтали о его уничтожении, и почти все, какую бы симпатию они ни питали к частной собственности, отступили перед явным недовольством крестьянских масс. Третья республика кончила тем, что возродила умеренное решение, применявшееся с 1766 года штатами Лангедока: уничтожение в принципе сервитута и права муниципалитета требовать его сохранения. Старый общинный обычай остается вписанным в наши законы.
* * *
Медлительность и колебания законодательства соответствовали кривой технического развития.
Крестьянские общины, особенно в районах открытых полей, долгое время упорно оставались верны старым обычаям. Нельзя было просто огородить свое поле, нужно было еще добиться, чтобы соседи уважали эти изгороди. В период Июльской монархии отнюдь не исчезла традиция разрушения изгородей — наказание, которому подвергал огораживателя пострадавший коллектив. Для защиты неогороженных «искусственных» лугов нужен был, как говорили в 1813 году в департаменте Верхней Соны, «сторож для каждой борозды». В первой половине столетия суды низшей инстанции, черпая свои аргументы в местных обычаях, отказывались иногда считать законным огораживание кормовых культур. Постепенно, однако, по мере распространения технических улучшений права личности получили большее признание. Но, за исключением районов, где поля были успешно заменены пастбищами, изгороди были все еще очень редким явлением. Большинство прежних районов открытых полей сохранилось и до наших дней в виде равнин. Контраст между равниной и бокажем для современного путешественника не менее ярок, чем во времена славного поэта Уаса. Разумеется, на части территории обязательный выпас исчез; но в областях открытых полей и особенно в областях длинных полей он сохранялся в течение долгих лет и еще и сейчас господствует на многих землях. В 1889 году Палаты полностью уничтожили его на лугах. На следующий год, в связи с сопротивлением крестьян, они вынуждены были снова восстановить его. В Лотарингии, в Шампани, в Пикардии, во Франш-Контэ и в других местах многие общины с пользой употребили предоставленное им законом право сохранять обязательный выпас на пашнях или на пастбищах. Английский историк Сибом, привыкший в поисках следов коллективных сервитутов, уже давно исчезнувших на его родине, обращаться к старинным текстам, был удивлен, увидев в 1885 году собственными глазами бродящие по жнивью босские стада. Юридическое упразднение принудительного севооборота вызывало много сожалений еще в эпоху Первой империи. Фактически же он существовал еще очень долго, являясь почти столь же обязательным, как и в прошлом. В областях длинных полей он применялся вплоть до наших дней — необходимость, диктуемая формой парцелл, и даже моральное принуждение. На лотарингских плато, на эльзасских или бургундских равнинах три типа полей (saisons) не перестают соперничать весной друг с другом разнообразием своего колорита[162]. Только почти везде на тех из них, которые прежде отводились под пар, новые растения заменили редкие травы на паре. История замены парового поля определенными культурами — новая победа человека над землей, столь же волнующая, как и великие средневековые расчистки, — будет, вне всякого сомнения, одной из самых прекрасных историй, которую расскажут в тот день, когда это станет возможным. В настоящий же момент материалов для этого недостаточно. Едва лишь различимы некоторые из причин, способствовавших этому движению: появление технических культур; изобретение химических удобрений, которые, разрешив проблему унаваживания, разорвали древний союз пашни и скотоводства и избавили агрономию от постоянной заботы о кормах, разведение которых в широких размерах казалось в XVIII веке крайне необходимым и в то же время тягостным условием всякого агротехнического улучшения; рациональная специализация земли, чему благоприятствовало. развитие европейского, а затем мирового обмена; наконец, прогресс связей иного рода, а именно интеллектуальных, приобщающих отныне мелкие сельские группы к более образованным и более смелым кругам. Еще один факт является достоверным: темп изменений, конечно различный в разных районах, нигде не был быстрым. До второй половины XIX века во многих деревнях, особенно на востоке, сохранялись пустые пространства паровых полей (sombres или somarts), по которым бродили пастухи и охотники. Однако в конечном счете понемногу привыкли требовать от земли, чтобы она ежегодно приносила плоды, за исключением районов, которые природа осудила на неизлечимое бесплодие. Но урожаи остаются в среднем ниже, чем во многих иностранных государствах. Почти везде в европейском или европеизированном мире земледелие имеет тенденцию сделаться более рациональным, более научным, руководствоваться техническими и финансовыми методами, схожими во многих отношениях с методами крупной промышленности. Франция вступила на путь этой эволюции, которая является одной из самых характерных черт современной экономики, более неуверенно и в целом ушла не так далеко, как большинство соседних наций. Даже там, где восторжествовала монокультура (особенно в винодельческих и пастбищных районах), что является одной из форм прогресса обмена, французский крестьянин в отличие, например, от американского производителя продолжает существовать отчасти за счет своего собственного хозяйства (по меньшей мере за счет своего огорода и птичника, а часто и за счет своего скотного двора и свинарника).
Выяснить некоторые причины этой приверженности к прошлому не так трудно. Одна из них, которая прежде всего бросается в глаза, материального порядка. Старое расположение земель в районах открытых полей и особенно в районах длинных полей, то есть в некоторых из наиболее плодородных областей, в основном почти не изменилось, и оно продолжает поддерживать и навязывать те аграрные обычаи, согласно которым оно было создано. Переделать его? Об этом часто думали. Но чтобы добиться всеобщего перераспределения парцелл, нужно было предписать его сверху. Марат, обладавший душой диктатора, не отступал перед мыслью о подобном принуждении. Но разве могли последовать за ним члены Учредительного собрания и Конвента, а позднее экономисты и власть имущие? Уважение независимости собственника лежало в основе их социальной философии. Заставить хозяина земли отказаться от его наследственных полей — можно ли представить себе более жестокий удар по его правам? Не говоря уже о том, что потрясение такого масштаба немедленно вызвало бы возмущение сельских масс, причем даже такие правительства, которые не были созданы в результате свободных выборов, не могли остаться к этому равнодушными. Факты устранения чересполосицы, которого приходилось добиваться путем убеждения, всегда были очень редкими. Подлинный исторический парадокс заключается в том, что тот же самый культ частной собственности, который заставил реформаторов отбросить старые общинные принципы, мешал им сделать решительный шаг, который один только и мог действительно распутать опутывавшие собственность узы и одновременно ускорить технический прогресс. По правде говоря, перераспределение могло бы быть достигнуто автоматически, путем простой экономической революции, которая привела бы мелкие хозяйства к гибели. Но эта революция также не совершилась.
* * *
Глубокий кризис, начавшийся в 1789 году, не уничтожил крупную собственность, воссозданную в предшествующие столетия. Те дворяне или буржуа — собиратели земли, которые не эмигрировали (они были гораздо более многочисленны даже среди дворян, чем это обычно считается), сохранили свои имения. Некоторому числу эмигрантов также удалось сохранить свои имения, либо выкупив их при помощи родственников или подставных лиц, либо получив их обратно во времена Консульства или Империи. Сохранение дворянских имений в некоторых районах Франции, особенно на западе, является одним ив наиболее плохо изученных, но и наиболее неопровержимых фактов нашей недавней социальной истории. Даже продажа национальных имуществ — имений духовенства и эмигрантов — не нанесла крупной собственности особенно жестокого удара, ибо сами формы этой операции благоприятствовали покупкам больших участков или даже целых имений. Крупные арендаторы сделались крупными собственниками. Буржуа терпеливо продолжали эффективный труд предыдущих поколений по собиранию земель. Богатые крестьяне приумножили свои наследственные земли и окончательно перешли в ряды сельских капиталистов.
Однако, пустив в продажу столь многочисленные земли, революция, кроме того, укрепила мелкую собственность. Многие простые крестьяне, особенно в тех районах, где коллективная жизнь была очень интенсивной и нажим общин давал себя чувствовать вплоть до определения условий покупки, также приобрели земли, упрочив тем самым свое экономическое положение. Даже батраки приняли участие в разделе добычи и поднялись тем самым до класса собственников, Раздел общинных угодий привел к подобному же результату. Он был предписан (за исключением лесов) Законодательным собранием после 10 августа наряду со многими мероприятиями, которые должны был», как об этом заявил депутат Франсуа де Нёфшато, «привлечь деревенское население на сторону революции». Чтобы соответствовать такому намерению, раздел, разумеется, должен был проектироваться только по числу хозяйств[163]. Действительно, именно в таком виде установил его несколько позднее Конвент, придав, впрочем, приказу лишь форму разрешения. Само собой разумеется, без всякого триажа, ибо не было больше сеньоров. В августе 1792 года дошли до отмены в принципе всех старых триажей, произведенных после 1669 года. Кроме того, за общинами было признано нечто вроде преимущественного права на пустоши. Словом, Собрания позволили себе роскошь удовлетворить одновременно и индивидуализм экономистов — посредством раздела, который должен был постепенно положить конец прежнему коллективному землепользованию, и пожелания мелкого сельского люда (в поддержке которого нуждался новый режим) — самим порядком проведения этого мероприятия. Но в результате эволюции, подобной той, которую претерпело дело, об отавах, эти благоприятные для бедняков разделы были запрещены буржуазными правительствами конца революции, Директорией и Консульством. Более того, некоторые разделы, осуществленные без соблюдения необходимой законной формы, были аннулированы, зачастую при поддержке муниципальной администрации, находившейся отныне в руках богачей; на севере дошли даже до отмены разделов, произведенных при монархии. Отныне было разрешено наряду с раздачей участков общинных угодий в простое пользование только отчуждение за плату; правда, сначала по закону это также запрещалось, но оно скоро вошло в употребление и было признано судебной практикой. В течение XIX века такое отчуждение сделало возможным в некоторых районах, особенно в центральных, прогрессирующее сокращение общинных угодий, а иногда почти полное их исчезновение (развитие этого явления и его формы, еще очень плохо изученные, ускользают от нас). Но оно не могло, конечно, привести к появлению многочисленных новых собственников. Однако, несмотря на этот поворот назад и несмотря на то, что мы очень плохо осведомлены относительно проведения в жизнь декретов Законодательного собрания и Конвента, можно не сомневаться, что политика разделов, какой бы недолговечной она ни была, дала многим беднякам возможность обзавестись столь страстно желанной землей. Наконец, освободив крестьянина от сеньориальных повинностей, революционные Собрания избавили его от одной из самых могущественных причин той задолженности, которая с XVI века угрожала его власти над землей. Короче говоря, если рассматривать явления в общих чертах и не учитывать детали, которые, однако, было бы очень важно уточнить, сосуществование крупной собственности капиталистического характера и мелкой крестьянской собственности, возникшее в результате эволюции старого режима, осталось и в обновленной Франции. Большинство деятелей революции, за исключением тех, которые предвидели в разгар борьбы необходимость поддержки со стороны мелкого люда, думали о батраках немногим больше, чем реформаторы XVIII столетия. Член Конвента Делакруа считал, что дать им землю — это значит подвергнуть промышленность и само сельское хозяйство опасности лишиться рабочих рук. Термидорианский Комитет общественного спасения, отняв у них все права на отаву, советовал им, если они хотели, раздобыть немного травы для своих животных, наниматься к хозяевам лугов. Подобно некоторым правителям старого режима, он ставил под сомнение само существование нищего класса в деревне: «даже неимущие жители (если они еще существуют)…» Уничтожение коллективных сервитутов нанесло фактически сельскому пролетариату удар, от которого он уже не оправился. Несомненно, в результате королевских эдиктов и революционных законов он извлек некоторые выгоды из дробления общинной земли и кое-где приобрел некоторые клочки национальных имуществ. Но эти выгоды были зачастую иллюзорными; на этих посредственных землях и в этих очень мелких хозяйствах распахивателей целины ожидало слишком много трудностей. Не все было ошибочным в предположениях земледельцев из Френель-ла-Гранда (Frenelle-la-Grande), предсказывавших в 1789 году, что разделы приведут временно к чрезмерному увеличению рождаемости, за которым последует усиление нищеты. Остальное довершили привлекательность городских заработков, упадок деревенских промыслов, которые в свое время помогали жить сельским рабочим, трудности приспособления к новой экономике, само изменение общего умонастроения людей, менее крепко, чем прежде, привязанных к традиционным занятиям, новая склонность к жизненным удобствам, вызывавшая отвращение к жалким условиям жизни сельскохозяйственного рабочего. Предсказания президента Мюзака осуществлялись: поденщики и мелкие крестьяне в массовом порядке стали покидать поля. Началось их бегство из деревни, на которое столько раз указывали и которое ощущалось уже при Июльской монархии, а с середины столетия его темп непрерывно нарастал. Это бегство, сопровождавшееся с 1850 года или примерно с этого времени кризисом рождаемости, а затем, в наши дни, страшным кровопусканием мировой войны, ускорило, уменьшив количество рабочих рук, некоторые технические преобразования: прогресс в использовании сельскохозяйственных машин, завоевание пастбищами многих пашен. Место перенаселенной деревни конца XVIII и первой половины XIX века заняла гораздо более обезлюдевшая сельская Франция, даже слишком обезлюдевшая, где местам» уже возрождаются залежные земли, но, быть может, более способная приспособиться к экономике, свободной одновременно и от духа традиции, и от того постоянного страха перед голодом, который долгое время тяготел над методами обработки. Гораздо более сложно (и, по правде говоря, при современном состоянии наших знаний почти невозможно) дать точный отчет о судьбах мелкого или среднего крестьянского хозяйства в современной Франции: собственности, аренды или испольщины. Это хозяйство, бесспорно, выдержало много серьезных кризисов: постоянные кредитные затруднения; конкуренция чужеземных продуктов, особенно (с 1880 года или около этого) русского и американского зерна; нехватка рабочей силы вследствие ухода батраков и падения рождаемости; вздорожание промышленных изделий, в которых крестьянин нуждается больше, чем в былое время. В некоторых районах, где мелкий предприниматель является чаще всего арендатором или испольщиком, крестьянское хозяйство все еще зависит от крупных поместий. Почти везде оно также зависит от капиталиста, заимодавца и особенно купца, навязывающего производителю свои цены и умеющего лучше, чем он, использовать конъюнктуру. Экономическое положение крестьянина остается во многих отношениях неустойчивым. Однако несомненно, что в основном крестьянство победоносно прошло через XIX.век и начало XX столетия. В частности, крестьянская собственность (во всем юридическом значении этого термина) продолжает господствовать на значительной части территорий. Она даже охватила еще более значительные пространства. Совсем недавно, во время войны и послевоенных лет, сначала продовольственный кризис, а затем денежный сослужили ей, как и в эпоху Столетней войны и последующих лет, неплохую службу. Сказать, что сегодня она еще представляет крупную экономическую и социальную силу — значит сказать банальную, но вместе с тем неоспоримую истину. Замкнувшиеся в своих землях, планировку которых они отказывались менять, мало склонные к поспешным нововведениям («столько величия в древнем способе обработки земли!», — говорил еще старый Оливье де Серр), крестьяне лишь с трудом отрешались от дедовских обычаев и медленно воспринимали технический прогресс. Несмотря на новую революцию которая происходит в наши дни в умах под влиянием растущего знакомства с машиной во всех ее формах и от которой, без сомнения, надо ожидать многого, крестьянская собственность еще до сих пор весьма мало усвоила различные усовершенствования. Но ее по крайней мере не раздавили сельскохозяйственные метаморфозы. Франция остается нацией, где земля принадлежит многим.
* * *
Таким образом, прошлое господствует над настоящим. Ибо нет почти «и одной черты в сельском облике сегодняшней Франции, объяснения которой не следовало бы искать в развитии, корни которого уходят во тьму веков. Массовый исход деревенского пролетариата? Это завершение старого антагонизма батраков и зажиточных крестьян, продолжение истории, первая страница которой была записана в средние века в грамотах, противопоставивших друг другу ручные и плужные барщины. Откуда цепкая сила крестьянской собственности, ее приверженность к традициям в расположении земель, долгое сопротивление общинных привычек новому духу, медлительность технического прогресса? Юридически она коренится в обычае сеньории. Ее экономической причиной было изобилие земли и малочисленность населения еще до того, как королевские суды окончательно санкционировали права держателей. Но мелкий крестьянин — вовсе не единственный владелец земли. Крупные хозяйства, которые были и сейчас являются его жестокими конкурентами и без которых, быть может, был бы невозможен зародившийся в них агротехнический переворот, являются творением дворянского и буржуазного капитализма нового времени. В областях открытых и длинных полей земельное раздробление столь же старо, как и наши древнейшие аграрные цивилизации; ключом к пониманию его развития являются перипетии в жизни семьи от патриархального манса и через подразумеваемую общину следующего периода. Объединения парцелл и применение к сельской жизни новой экономической системы объясняют исключения, которые оно вынуждено было допускать. Что касается коренного контраста между открытыми и длинными полями, открытыми полями неправильной формы и огороженными полями и связанных с ними контрастов в обычаях, которые навязали, например, сельским местностям севера и востока ту коллективную психологию, с которой, по-видимому, не знакомы в такой же степени ни деревни юга, ни поселки запада, то тайну их следовало бы искать, если бы это было возможно, в истории освоения земли, в характерных чертах социальной структуры, теряющихся в тумане бесписьменного прошлого. По мнению всякого мыслящего человека, в этих наблюдениях и состоит захватывающий интерес исследования аграрной истории. В самом деле, где найти такой тип исследований, который еще настоятельнее заставляет постигать истинную сущность истории? В том непрерывном процессе, каким является эволюция человеческих обществ, колебания распространяются от молекулы к молекуле и на такое дальнее расстояние, что понимание любого взятого в ходе развития момента никогда не может быть достигнуто путем исследования лишь непосредственно предшествующего мгновения.
РИСУНКИ
Рис. I.
Расчистки леса: поля наподобие скелета рыбы
План поселка Пти-Буа-Сен-Дени (Petit-Bois-Saint-Denis); фрагмент плана сеньории Ла Фламангри (Aisne, cant. La Capelle), 1715.
Arch. Seine et Oise, D, fonds de S Cyr.
Рис. II.
Новые поселения, расположенные на дороге между Парижем и Орлеаном
Источники: Аквебуй (Acquebouille), 1142–1143 годы — Lu chaire, Louis VII, No 98; Ле Борд (Les Bordes), 1203–1225 годы — “Cartul. de s' Avit d'Orléans”, No 50–55; Бург-ла-Рен (Bourg-la-Reine, вначале Préau Bédouin), до 1134 года — Lu chaire, Louis VI, No 536; Шалу-Мулинё (Chalou-Moulineux), до 1185 года — “Arch, Nat.”, S 5131; Этамп, Новый рынок, 1123 год — Luchaire, Louis VI, No 333; Ла Форе-ле-Руа (La Forêtle-Roi), 1123–1127 — Luchaire, Louis VI, No 601; Ла Форе-Сент-Круа (La ForSt-Sainte-Croix), 1155 — “Cartul. de Ste Croix d'Orléans”, No 75, 115; Лонжюмо (Longjumeau), до 1268 — “Arch. Seine et Oise”, II, fonds de Longjumeau; Мантарвиль (Mantarville), около 1123 — “Cartul. de S'Jean en Vallée”, No 33; Ле Пюизе (Le Puiset), между 1102 и 1106 — “Liber Testamentorum Sancti Martini”, No 56; Руврэ-Сен-Дени, 1122–1145 — Suger, De rebus, с. XI; Торфу, 1108–1134 — Luch aire, Louis VI, No 551; Вильнёв-Жукст-Этамп (Villeneuve-Jouxte-Etampes), 1169–1170 — Luchaire, Louis VII, No 566. Cp. J. M. Alliot, Cartulaire de Notre-Dame d'Etampes, No XIII et CI; Вильнёв (около Анжервиля), до 1244 года — “Arch. Seine et Oise”, H, fonds d'Yerres (основатель неизвестен); Вильнёв (около Артенэ), до 1174 года — “Arch. Loiret”, G 1502 (под названием Essart).
Рис. III.
Открытые и длинные поля в Канской равнине; раздробление
План Бра (Bras) (Calvados, cUne lfs) — на левой стороне плана и Юбер-Фоли (Hubert-Folie) (Calvados, cant. Bourguébus) — на правой стороне, 1738 год.
“Arch. Calvados”, H 2503.
Парцеллы заштрихованные
принадлежали одному достаточно богатому держателю, Клоду Ванье; нгобходимо отметить некоторую тенденцию к собиранию земель. Парцеллы, закрашенные черным
принадлежали другому, менее богатому держателю — Жану Лефевру (согласно межеванию, H 2489). Он владел 17 парцеллами, тогда как Клод Ванье располагал только 16 (одна из них на плане не указана, можно насчитать только 15). Но если раздробленность была более значительной, то общая площадь хозяйства была меньше, чем у Клода Ванье. То там, то здесь вокруг деревень имеются огороженные участки, чаще всего засаженные яблонями. См. по этому поводу то, что было сказано в главе VI об аграрных изменениях в Канской равнине начиная с XVI века.
Рис. IV.
Земли, расположенные почти целыми кусками
Севооборот в Монбленвиле (Montblainville) (Meuse, cant. Varennes), согласно плану 1769 года.
(“Cabinet des Titres de Chantilly”, E reg. 35.)
Куски полей на востоке этой территории являются, возможно, сравнительно недавними расчистками
Рис. V.
Земли, раздробленные лишь относительно; земли, находящиеся вне упорядоченного севооборота
Севооборот в Дзне на Маасе (Meuse) в 1783 году (согласно плану “Cabinet des Titres de Chantilly”, E reg. 39).
Рис. VI.
Открытые и длинные поля при одной из средневековых распашек
Фрагмент из атласа Спуа (Spoy) (Côte d'Or, cant. Is-sur-Tille), составленного в 1782–1786 годы. “Côte d'Or”, E 1964, plan 2.
Название Rotures, применяемое к одному из картье, означает распашку. На берегу реки было расположено небольшое картье Bas de la Rochette, напоминавшее по форме треугольник (название его пропущено в рисунке), которое платило кюре десятину под названием novales, что свидетельствует о том, что оно также было создано в результате расчисток после создания прихода и присвоения десятины патроном церкви. Мы имеем здесь очень ясный случай увеличения обрабатываемой площади вокруг старой деревни. Спуа (Spoy) упоминается начиная с 630 года.
Рис. VII.
Открытые поля неправильной формы в Берри
Лист № 9 плана Шаро (Charost или Cher) в 1765 году, копия 1829 года. “Arch. Cher”; атлас без шифра.
Заштрихованные парцеллы принадлежали Бодри, очевидно, одному из тех буржуа — собирателей земель, о которых идет речь в главе IV.
Рис. VIII.
Открытые поля неправильной формы на юге Лангедока
Согласно фрагменту плана Монгайара (Montgail-lard) (Haute-Oaronne, cant. Villefranche), XVIII век. “Arch. Hte Garonne”, С 1580, plan 7.
Легенды на рисунке сделаны в соответствии с легендами плана. Там, где нет легенд, земля находится под пашней.
Рис. IX.
Открытые поля неправильной формы в области Ко (Caux)
Фрагмент плана Бреоте (Bréauté) (S. Inférieure, cant, de Ooderville), 1769 года.
“Arch. S. Infer.”, plans No 165.
Обратить внимание на появление нескольких огороженных участков — результат изменений в аграрном распорядке Нормандии в новое время. См. главу VI.
Рис. X.
Огороженные участки в Нормандских бокажах
Фрагмент плана Сен-Обера (St Aubert) на Орне (Orne, cant. Putanges) около 1700 года. “Arch. Calvados”, H 3457.
Обратить внимание на огороженные участки, объединяющие несколько парцелл, например парцеллы 1336–1339, 1340–1342, 1332–1334,
Парцеллы 1340–1342 принадлежали различным владельцам, обладавшим правами первоначального хозяина. На позднейшем плане, имеющемся в описи 1758 года (Н 3458), парцеллы 1332 и 1333 разделены изгородью, так же как и парцеллы 1097 и 1098, расположенные вверху карты,.
Рис. XI.
Огороженные участки и деревушки бретонцев
План Керуарна (Kerhouarn) (Сune de Marzan, Morbihan), 1777 года.
“Arch. Nat.”, N II, Morbihan, 8.
Рис. XII.
Огороженные участки Центра (Combrailles)
План деревушки Жоберт (Joberts) и фермы Ла Буар (La Boire) (Cune St Sauvier, Allier) в 1785 году. “Arch. Cher”, E 717, plan 59.
Обратить внимание, что большинство земель в 1785 году принадлежало буржуа Франсуа Бела (Belat) и его жене, тогда как в 1603 году они находились в руках различных держателей (ср. обе описи Е 693 и 690)..
Рис. XIII.
Увеличение сеньориального домена
План картье Шаи-Пото (Champs-Potots), земли Томире (Thomirey) (Côte d'Or, cant. Bligny-sur-Ouche), сделанный между 1754 и 1764 годами.
“Arch. Côte d'Or”, О 2427, plan R.
В 1635 году местный сеньор владел в Шан-Пото 7/12 журналями 1/4, 1/24, 5 першами (опись, G 2414). В 1754–1764 годы (опись, О 2426) каноники Нотр-Дам в Отэне (Notre Dame d'Autim), купившие 25 мая 1652 года сеньорию, располагали там 227/12 журналей (на плане они закрашены черным цветом). За полтора столетия площадь домена была почти утроена.
Рис. XIV.
Формирование крупной собственности в Бос
В соответствии с фрагментом плана Моннервиля (Monnerville) (Seine et Oise, cant. Méreville) 1699–1702 годов.
“Arch. Seine et Oise”, D, fonds de S Cyr.
Рис. XV.
Формирование крупной собственности в Бос
Та же часть земель Моннервиля, что и на рис. XIV, в соответствии с кадастровым планом 1831 года (section A, feuille 3).
За исключением парцеллы 163–170 предыдущего плана (на юге), которая принадлежала Себастьяну де Виллье и была разделена с течением времени, все крупные парцеллы, существовавшие в 1699–1702 годах, сохранились и в 1831 году.
Рис. XVI.
Собирание парцелл и огораживание в Канской долине
Фрагмент плана баронии Рот (Rots) 1666 года, на котором показаны деревня Бретвилль-л'Оргейёз (Brctteville-l'Orgueilleuse) (Calvados, cant. Tilly-sur-Seulles) и часть земель, расположенных непосредственно к югу от нее.
“Arch. Calvados”, H 3222; см. опись 1666 года (Н 3229); опись 1482 года (Н 3226); сопоставление двух документов, произведенное в 1748 году (Н 3351).
Огороженные участки 18, 29, 31, 33, 34, 35, 36 принадлежали семейству Кэрон. Все они представляли собой пашню, но на участке 31, кроме пашни, были также разбиты сады. В 1482 году вместо участка 30 существовало 42 парцеллы, разделенные на 5 частей (délie), вместо участка 31–48 парцелл, разделенных на 7 частей; вместо участка 35–25 парцелл; вместо участка 36–34 парцеллы. Участок 33 был создан до 1482 года семейством Кэрон путем покупки и обмена. Он носил уже тогда название “Orand Clos” и получил его, очевидно, потому, что был в тот момент единственным огороженным участком с такой обширной территорией.
Рис. XVII.
Лимузенские и Маршские хутора (mas)
“План деревни, хутора и держаний” в Шатене (Chatcing) и держаний в Беларбре (Belarbre) (Creuse, Cune St. Moreil) 1777 года.
“Arch. Hte Vienne”, D 587, plan 2.
“Mansura qui vocatur lo Castaint” (“манс, называемый Ло Кастен”) впервые упоминается около 1100 года (Cartulaire d'Aureil, “Bullet, soc. archéologique du Limousin”, t. XLVIII, № CXLV).
Рис. XVIII.
Семейная община (fréréche) Центра, положившая начало деревушке
План семейной общины Ла Бодриер (La Baudrière) (ныне выселки общины Скорбе-Клерво — Scorbé-Clairvaux, Vienne) 1789 года.
“Arch. Vienne”, E 66 bis, plan 43.
Участки, обозначенные буквой В (внизу плана), принадлежат соседней семейной общине Боде (Baudets), а участки, обозначенные буквой А, — семейной общине Ла Бодриер.
Примечания
1
Бос — область в центре страны, отличающаяся исключительным плодородием, житница Франции. — Прим. ред.
(обратно)2
Замечу мимоходом, что я не мог дать все цифровые данные, которые я хотел бы сообщить, особенно о размерах парцелл, ибо аппарат для исследования старинных мер отсутствует почти полностью.
(обратно)3
Цензовая монархия — период Реставрации и Июльской монархии. — Прим. ред.
(обратно)4
Братья Хенгист и Хорза — вожди первых отрядов саксов, вторгшихся в Британию и обосновавшихся в Кенте около 450–455 годов. — Прим. ред.
(обратно)5
Под новым временем здесь и повсюду дальше автор имеет в виду XVI–XVIII века; соответственно средние века охватывают время до XVI века, а конец средневековья — это XV век. — Прим. ред.
(обратно)6
Тоннеруа — округ города Тоннера в Шампани. — Прим. ред.
(обратно)7
См. стр. 225 и сл. — Прим. ред.
(обратно)8
Я буду впредь употреблять слова «essart», «essartage» и др. в их средневековом смысле, который означает попросту «распахивать новь». Сам термин не указывает, была ли расчистка окончательной (как в случае расчисток, которые я здесь рассматриваю) или временной (как те, которые мы найдем в следующей главе и которые иногда открывали путь к постоянной обработке). Было бы неправильно ограничить употребление этого термина вторым из указанных значений, как это предлагает Блаш (M. J. Blache) в очень интересной, впрочем, статье («Revue de géographie alpine», 1923).
(обратно)9
Бастиды — укрепленные деревни, создававшиеся одновременно и по единообразному плану в XI–XII веках на юге Франции на основании договоров между сеньорами и верховной властью. В XIII веке это название стали применять также в отношении вновь построенных городов, имевших стратегическое значение. — Прим. ред.
(обратно)10
Тьераш — небольшая территория на севере Парижского района с влажной почвой. Там много лесов и лугов, сравнительно мало пашен. В древности там был сплошной лес, примыкавший на севере к «Угольному лесу». — Прим. ред.
(обратно)11
Альермон — графство в Верхней Нормандии. — Прим. ред.
(обратно)12
Но некоторые «новые виллы» (villeneuves) значительно старше XI века и были франкскими или, быть может, римскими. Вильнев-Сен-Жорж (Viileneuve-Saint-Georgês), около Парижа, был уже со времени Карла Великого довольно крупной деревней.
(обратно)13
Ныне официально Neuville-Champ-d'Oisel; но хартия Людовика Святого, данная несколько позже основания поселения (L. Del isle, Cartulaire normand, No 696), содержит название Noveville de Cantu Avis.
(обратно)14
Essarts-le-Roi — «Королевские расчистки»; Villeneuve, Neuville — «Новые поселения»; Villeneuve-l'Archevêque — «Архиепископское новое поселение»; Neuville-Chant-d'Oiseî — «Новое поселение с поющими птицами; Francheville, Sauvetat — «Свободные поселения».
(обратно)15
Пюизэ — область в центре Франции, изобилующая бокажами и прудами. — Прим. ред.
(обратно)16
Аргонна — область на северо-востоке Франции на реке Эр; по западному ее берегу тянется Аргоннский лес. — Прим. ред.
(обратно)17
Magny-les-Essarts — Маньи-расчистки; Magny-les-Hameaux — Маньи-поселки. — Прим. ред.
(обратно)18
Цистерцианцы носили белые одежды. — Прим. ред.
(обратно)19
«Роман о Лисе» состоит примерно из 30 отдельных сказок (браншей) — Прим. ред.
(обратно)20
Ср. рис. VI.
(обратно)21
Крёз — приток Вьеины. — Прим. ред.
(обратно)22
Хартии poblaciones — хартии поселения, выдававшиеся в Испании королем или феодалами городам и деревням, создававшимся на отвоеванной земле. — Прим. ред.
(обратно)23
Имеются в виду области на юго-западе, принадлежавшие в XII–XV веках то англичанам, то французам. — Прим. ред.
(обратно)24
Так как повинности, уплаты которых требовал при Карле VII аббат Сен-Жермен-де-Пре, угрожали обезлюдением деревни Антони (Antony), расположенной на дороге из Парижа в Орлеан, король, чтобы убедить прелата умерить свои требования, указал на опасности, которые повлекло бы за собой опустение населенного пункта на этой дороге. См. D. Anger, Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t. II, 1907, p. 275.
(обратно)25
Бедье, Жозеф (1864–1938) — исследователь средневековой французской поэзии, автор теории о происхождении французского эпоса. — Прим. ред.
(обратно)26
Крупный кризис XIV и XV веков будет более подробно исследован ниже, в главе IV.
(обратно)27
В графстве Монбельяр (Montbéliard) между 1562 и 1690 годами были основаны четыре новые деревни; кроме того, в 1671 и 1704 годах были восстановлены две разрушенные в старину деревни; см. С. D., Les villages ruinés du comté de Montbéliard, 1847.
(обратно)28
Иногда даже горох и бобы, вероятно потому, что их подмешивали к муке для выпечки самого плохого хлеба; см. Guérаrd, Cartul'aire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 314, No XIII. Об английском хлебе см. для сравнения W. Ashley, The bread of our forefathers, 1928. В 1277 году каноники маленького капитула Шампо (Charnpeaux), в Бри, считали пребывание в этой деревне мало приятным, так как часто они не могли купить там белого хлеба; см. «Bibl. Nat.», lat. 10942, fol. 40.
(обратно)29
Ож — одна из наиболее плодородных областей Нижней Нормандии в долине реки Тук с прекрасными лугами. — Прим. ред.
(обратно)30
Чаще сеньор требовал, чтобы стада держателей в течение нескольких дней паслись на его полях, оставляя там свой навоз.
(обратно)31
Видаль де ла Блаш, Поль (1845–1918) — крупный французский географ, автор работы «Картины географии Франции» и составитель большого географического атласа Франции. — Прим. ред.
(обратно)32
Плохие орудия и крайний недостаток удобрений долгое время способствовали широкому применению огня, который быстро очищал землю и оставлял на ней богатую поташом золу; иногда сжигали даже солому; см. А. Еуsselle, Histoire administrative de Beaucair, t. II, 1888, p. 291; R. Brun, La ville de Salon, 1924, p. 309, с 63.
(обратно)33
«Рай» в Индокитае и «ладанг» в Индонезии — неорошаемые поля, обработка которых часто носит временный характер (переложное земледелие). — Прим. ред.
(обратно)34
Щони — город на реке Уазе, около Лана. — Прим. ред.
(обратно)35
Область Шони — единственная, для которой существование временной запашки наряду с непрерывным севооборотом не является ни достоверным, ни по крайней мере вероятным. Не идет ли здесь речь о неудачной попытке улучшения? Во всяком случае, в 1770 году непрерывный севооборот не предполагал здесь искусственных лугов; следовательно, нельзя смешивать эту практику с теми порядками, которые появились в связи с агротехническим переворотом.
Относительно урожайности постоянно засеваемой и даже неудобряемой земли (урожайность эта, конечно, низка, но все же существует) см. «The Economic Journal», 1922, p. 27.
(обратно)36
Вот несколько взятых наудачу цифр. В Бургундии, в Сен-Сен-л'Эглше (Saint-Seine-1'Eglise) (1736–1737) — 227, 243, 246 журналей; в Романь-су-Мон-Фоконе (Romagne-sous-Mont-Fauсоп), в Кдермонтуа (Clermontois) (1778) — 758, 649, 654 журналя; в Маньи-сюр-Тиле (Magny-sur-Tille), в Бургундии, один крестьянин (J. В. Gevrey) располагал в 1728 году четырьмя-пятью журналями на каждом поле (sole); см. «Arch. Côte d'Or», E 1163 и 332; «Chantilly», reg. E 33.
Журналь — (journal) — древняя французская мера площади земли, которую один человек мог вспахать в течение дня. — Прим. ред.
(обратно)37
Hivernois — зимние хлеба; bons blés — хорошие хлеба; gros blés — грубые хлеба; marsage и trémois — яровые хлеба; grains de carême — великопостные хлеба. — Прим. ред.
(обратно)38
Страсбургские ворота (portes de Strassbourg) — геологический термин. — Прим, ред.
(обратно)39
Что бы ни думал об этом Мюссе (R. Musset, Le Bas-Maine, p. 288 et suiv.), речь здесь идет не о трехпольном севообороте, ибо здесь нет последовательности озимых и яровых хлебов. Но очевидно, что трехпольный севооборот, более или менее смешанный с временной запашкой, также существовал наряду с описанным выше типом.
(обратно)40
Наследственные сержанты — управляющие сеньориями, их должность передавалась по наследству. — Прим. ред.
(обратно)41
Клермонтуа — округ города Клермона на севере Иль-де-Франса. — Прим. ред.
(обратно)42
Кроме плана Юбер-Фоли (Hubert-Folie) и Бра (Bras) (см. рис. III), см. планы Спуа (Spoy), Томирея (Thomirey), Моннервилля (Monnerville) (см. рис. VI, XIII, XIV и XV) и план маленькой территории Буа-Сен-Дени (Bois-Saint-Denis) (см. рис. 1). Создается впечатление, что некоторые из этих деревень своим названием (Monnerville) или своей аграрной терминологией (délie — в Юбер-Фоли и Бра) свидетельствуют о влиянии германских поселений. Это чистая случайность. Выбор рисунков был продиктован важными техническими соображениями. Но — приведем только два примера, — если бы планы Жансиньи (Jancigny) и Маньи-сюрТиль (Magny-sur-Tille), в Бургундии («Arch. Côte.d'Or», E 1126 et 334), были бы пригодны для воспроизведения, они представили бы глазам читателя в населенных пунктах бесспорно галло-римского происхождения рисунок полей, совершенно аналогичный тому, который так ясно виден в Юбер-Фоли и Бра.
(обратно)43
Я заимствую это выражение, аналогичное Flurzwang немецких историков, из поистине дифирамбического похвального слова этому способу, составленного в начале XIX века одним агрономом из Пуату: De Verneilh, Observations des commissions consultatives, t. III, 1811, p. 63 et suiv.
(обратно)44
«Arch. Nat.», E 2661, No 243. См. E. Martin, Cahiers de doléances du bailliage de Mirecourt, p. 164: «Только общий выпас обеспечивает существование деревень».
(обратно)45
Некоторые кутюмы определенно запрещают огораживание только шампарных земель, то есть земель, владельцы которых обязаны уплачивать сеньору повинность натурой пропорционально собранному урожаю. Не следует думать, что они разрешали свободное огораживание других земель. Они исходили из того положения, что огораживать пашню можно лишь с целью превращения ее в сад, виноградник, конопляник и т. д. — словом, для того, чтобы изменить характер культур, что в принципе запрещено на полях, урожай с которых частично причитается сеньору, если, разумеется, нет на то его разрешения. См. очень ясный текст из «Coutumes du bailliage d'Amiens», с. 115 («Coutume réformée», с. 197).
(обратно)46
Квиритская собственность — то есть римская собственность. — Прим. ред.
(обратно)47
Постановления XVII века (у Delamare, Traité de la Police, t. II, p. 1137 et suiv.) ограничиваются тем, что запрещают пользоваться обязательным выпасом тем жителям, которые не соблюдают общий севооборот. О значении этих постановлений см. данную работу, стр. 276. См. ордонанс графства Монбельяр от 30 августа 1759 года, «Arch. Nat.», К 2195(6), а также данную книгу, стр. 82 и 83.
(обратно)48
Оссуа — графство на севере Бургундии. — Прим. ред,
(обратно)49
Производились ли первоначально, после расчистки по общему плану, периодические переделы вместо окончательного раздела? В Шомбуре в конце XVIII — в начале XIX веков имеются безусловные примеры применения практики периодических переделов, связанных с нерегулярной запашкой («Arch. Nat.» N. 1486, No 158, p. 5: Соlehen, Mémoire statistique du département de la Moselle, an XI, p. 119); но эти обычаи являются лишь формой часто описывавшегося института — мозельских Gehoferschaften, которые нельзя исследовать здесь в целом; Gehoferschaften, вероятно, сравнительно недавний институт, но он свидетельствует о древнем и глубоко укоренившемся общинном духе (см. F. Rörig, Die Entstehung der Landeshoheit des Trierer Erzbischofs, 1906, p. 70 et suiv.). В других местах, тоже в довольно близкие к нам времена, встречаются случаи «попеременной собственности» (propriété alternative), в частности в Лотарингии на луга («Arch. Nat.», F10 284: «Soc. des Amis de la Constitution de Verdun», ср. с очень распространенным в Англии институтам lot-meadows); в Майенне (на некоторых неогороженных местах) — на пашни («Arch. Parlementaires», t. CVI, p. 688). Эти факты слишком редки, и развитие их в настоящее время слишком плохо известно, чтобы можно было сделать на основе этого даже самый незначительный общий вывод. Что касается обычая совместной пахоты, с которым Сибом, конечно, неправильно связывал происхождение английской системы открытых полей (open-field system), то его следы во Франции мне неизвестны; крестьяне часто помогали друг другу, пахари («laboureurs») одалживали или сдавали свои запряжки «батракам» («manouvriers»), но там это была только моральная обязанность или разумное использование капитала; ни тот, ни другой способы не приводили к работе сообща. Остается недавняя диссертация Штейнбаха (F. Steinbaсh, Gewanndorf und Einzeldorf, «Historische Aufsätze Aloys Schulte gewidmet», 1927), в которой он рассматривает раздробление и коллективные сервитута как поздние явления; она кажется мне бездоказательной.
(обратно)50
Лорьер, Эзеб (1695–1728) — юрист, автор многих трудов по обычному праву. — Прим. ред.
(обратно)51
Иногда при распределении соломы собственники имели право преимущественной доли; сеньор также участвовал в этом (см. «Arch. Nat.», F10» 284 (Gricourt).
(обратно)52
В округе Тулузского парламента право огораживания стало в XVIII веке почти везде считаться законным, что вовсе не означает, что на практике оно не встречало никаких препятствий.
(обратно)53
Естественно, что последующие разделы — иногда введение в более поздние времена колесного плуга, роль которого мы ниже рассмотрим, — могли породить в некоторых областях полей неправильной формы группы длинных парцелл; такое же явление имело место, как мы это покажем, и в областях огороженных полей. Но нетрудно видеть, что там это были исключения.
(обратно)54
Некоторые авторы считали, что резец присущ только колесному плугу (charrue à roues). Это, конечно, ошибка. Истина заключается в том, что, поскольку бесколесный плуг (araire) не проникает в плотные почвы столь глубоко, как колесный, наличие у первого двух режущих частей часто скорее мешало, чем помогало, поэтому они чаще встречались у колесного плуга. В виде исключения у провансальского бесколесного плуга (araire) встречается одно-единственное колесо, расположенное совершенно иначе, чем передок на двух колесах у колесного плуга (charrue), и служащее просто для направления борозды.
(обратно)55
Конечно, имелись некоторые колебания. А именно: в Северной Италии слово pio (которое произошло от германского слова, превратившегося в немецком языке в Pflug) означало, согласно Форстеру (Foerster), бесколесный плуг (araire), a ara, как сказал мне М. Жабер (M. Jaberg), означало колесный плуг (charrue). В Норвегии, по-видимому, слово, ard применяется ныне лишь к архаическим образцам без отвала или с отвалом с винтовой поверхностью; термин plog служит для обозначения более усовершенствованных орудий, но еще не имеющих колес.
(обратно)56
В Руэрге, области бесколесного плуга (araire), Carrugo означает еще маленькую повозку; см. Mistral, Trésor (упомянутое слово).
(обратно)57
(«Недавно в Галлии придумали добавить к нему два колеса, каковой [плуг] реты называют ploum».)
(обратно)58
Лично я с большой пользой для себя обращался к департаментским директорам сельского хозяйства, которых я имею честь поблагодарить здесь за их любезность. Чтобы правильно истолковать современные факты, важно помнить, что в первой половине XIX века получило некоторое распространение бесколесное орудие, рекомендованное агрономом Матье де Домбалем.
(обратно)59
Роллон — предводитель норманнов, захвативших в 911 году устье Сены и прилегающее побережье. — Прим. ред.
(обратно)60
Мейтцен, по-видимому, придавал чрезмерное значение перекрестной пахоте, но нет сомнения, что бесколесный плуг привел к увеличению количества поверхностных борозд во всех направлениях. Эта практика особенно характерна для Пуату, о чем свидетельствует мемуар, указанный выше (стр. 110, прим. 45). Для проверки сравните изменения, которые произошли в форме некоторых участков виноградника в результате замены мотыги колесным плугом; см. R. Mi Ilot, La réforme du cadastre, 1906, p. 49. В Китае колесный плуг также, по-видимому, был причиной удлинения полей (см. данную книгу, стр. 61, прим. 15).
(обратно)61
Уас (приблизительно 1100–1174) — нормандский трувер, сложивший около 1160 года стихотворную хронику «Роман о Роллоне». — Прим. ред.
(обратно)62
Котантен — полуостров в Нижней Нормандии. — Прим. ред.
(обратно)63
Нет ничего более характерного, чем одно старинное положение сельского права, соблюдавшееся почти везде в областях открытых полей. Когда там встречается изгородь, разделяющая участки различного характера, то она считается принадлежностью того из них, который в принципе наиболее пригоден для огораживания: то есть сада или виноградника в большей степени, чем луга, и луга в большей степени, чем пашни. В большинстве областей с огороженными полями это правило совсем неизвестно.
(обратно)64
Субделегат — наместник интенданта в одном из округов интендантства. — Прим. ред.
(обратно)65
Ср. рис. X. В бретонской области Броэрек (Bröërech), где практиковалась domaine congéable (форма владения, при которой земля принадлежала землевладельцу, а постройки — арендаторам), новые изгороди, которые считались постройками и стоимость которых в случае расторжения договора должна была быть, следовательно, возмещена арендатору, не могли воздвигаться без согласия землевладельца (которым фактически был сеньор, а арендатор был держателем). См. Е. Сhénоn, L'ancien droit dans le Morbihan, 1894, p. 80.
(обратно)66
Дворяне могут налагать запрет на свои земли, если они достаточно обширны, даже не сооружая изгороди или в лучшем случае довольствуясь легкой оградой; в обоих этих случаях они сохраняют свои права обязательного выпаса на других полях. Недворяне тоже могут огораживать свои поля, но должны делать это как следует; в случае если они хотят наложить запрет на свои земли без такого рода изгороди, они могут это сделать, но, если чужие животные забредут на их поля, они имеют право только прогнать их: никаких штрафов, никаких возмещений ущерба, ибо общее пастбище необходимо для существования «мира» (monde), и ему надо покровительствовать. Недворяне, которые огораживают или налагают запрет на все свои земли, теряют всякое право обязательного выпаса на чужих пашнях. Наконец, в § 280 отмечается, что до середины апреля нельзя утверждать, будет ли та или иная земля распахана или оставлена под паром. Это свидетельствует о крайне беспорядочной системе севооборота.
(обратно)67
См. дарования пастбищных прав на все земли, «как равнинные, так и покрытые лесом», «за исключением засеянных земель и лугов» в картулярии Бонлье (Bonlieu): «Bibl. Nat.», fat. 9196, fol. 33, 83, 74, 104, 130.
(обратно)68
В силу этой причины изгородь часто была обязательной; см. Poullain du Parc, Journal des Audiences et Arrêts du Parlement de Bretagne, t. V, 1778, p-. 240.
(обратно)69
Здесь я везде рассматривал расположение полей как чисто экономическое явление. Может возникнуть вопрос, не играл ли определенной роли в устройстве этих земель религиозный фактор, чрезвычайно действенный во всех примитивных обществах? Религиозные действия, переродившиеся позднее в магические, долгое время считались необходимыми для произрастания хлебов. Кроме того, границам вообще и границам полей в особенности часто придавался священный смысл (см. S. Czarnowski, в «Actes du Congrès international d'histoire des religions… en octobre 1923», t. I). Различные религиозные воззрения могли породить разные контуры полей. Но эту проблему можно лишь поставить; при обсуждении ее почва ускользает из-под ног. С другой стороны, разве нет в нашей стране следов римской разбивки земли по центуриям (centuriatio), аналогичных тем следам, которые встречаются в Италии, Африке и, быть может, в Рейнской области? Вопрос этот был поставлен (см. «Revue des Etudes Anciennes», 1920, p. 209), но он еще ждет своего решения. Но каковы были форма парцелл и аграрные обычаи внутри основных границ centuriatio? И в данном случае исследование карты не может удовлетворить нас; к этому обязательно нужно добавить изучение методов обработки земли. Таким образом, мы снова возвращаемся здесь к проблеме, указанной в начале этого примечания; не является ли римское поле своего рода религиозным упорядочением (templum) поля с почти равными измерениями, которое крайне необходимо в областях бесколесного плуга? Это свидетельствует о том, сколько существует еще нерешенных вопросов.
(обратно)70
В Парижском округе. — Прим. ред.
(обратно)71
Мюй (франц. muid, от лат. modius — «мюдий») — старая единица измерения объема жидкости и сыпучих веществ во Франции. Мюй для жидкости равен 274,239 литра, а мюй сыпучих веществ равен 268,241 литра. Значение мюя сильно изменялось в зависимости от района и от измеряемого вещества. — Прим. ред.
(обратно)72
Как почти все буржуазные историки, Блок ошибочно считает крупную римскую латифундию капиталистическим предприятием. — Прим. ред.
(обратно)73
По ходу изложения я еще займусь (в гл. V) более детальным определением манса и классификацией его различных категорий. Здесь же читатель найдет лишь указания, совершенно необходимые для понимания сеньории.
(обратно)74
Норвежский хусменд — безземельный крестьянин. — Прим. ред.
(обратно)75
Будучи принудительной, барщина не всегда была совершенно бесплатной, иногда сеньор обязан был кормить крестьян (пример: «Polyptyque de Saint-Maur des Fossés», с. 10 y В. Guérard, Polyptyque de l'abbé Irminon, t. II, 1844; имеется и много позднейших примеров).
(обратно)76
Укселлодунум — город галльского племени кадурков в Аквитании, точное расположение которого неизвестно. — Прим. ред.
(обратно)77
Во времена ранней Империи барщинные работы в виллах (villae) были, по-видимому, незначительными. Но, как обычно, мы не имеем достаточных сведений о Галлии; какой бы свет пролила на нашу аграрную историю надпись такого рода, какие найдены для крупных африканских сальтусав. Ср. Н. Gummerus, Die Fronden der Kolonen, «Oefversigt aï Finska Vetenskapssocietetens Fôrhandlingar», 1907–1908.
(обратно)78
Случалось, что в XII и XIII веках жители многих городов и даже некоторых деревень получали право назначать эшевенов или участвовать в их назначении. Но это было уже результатом нового движения за автономию отдельных групп.
(обратно)79
В силу того же самого права бана сеньор принуждал иногда жителей пользоваться услугами некоторых ремесленников, таких, как цирюльники или кузнецы, которым он жаловал настоящую монополию (за различные преимущества в свою пользу); см. P. Boissonnade, Essai sur l'organisation du travail en Poitou, 1899, t. I, p. 367, n. 2, t. II, p. 268 et suiv.
(обратно)80
В виде исключения римское право, возможно, продолжали преподавать в некоторых школах Прованса, но большого влияния оно не имело. Каноническое право, которое преподавали всегда, почти не касается социальной структуры.
(обратно)81
Ги Кокиль (1523–1603) — юрист и публицист, автор многих трудов по истории и теории обычного права и комментариев к кутюмам Франции и Наварры. — Прим. ред.
(обратно)82
Бретонские mottiers и quevaisiers находились на таком положении, которое можно определить как разновидность серважа; это хорошо показал Сэ. Руссильонские homines de remensa, бесспорно, являются сервами; если их избегали называть именно сервами (servi), то только потому, что этот термин в Руссильоне обозначал рабов в собственном смысле слова, которые были там довольно многочисленны вплоть до конца средних веков; см. данную книгу, стр. 145–146.
(обратно)83
Я заимствую это выражение у Герара, одного из историков, который, несмотря на несколько схоластическую форму своего изложения, бесспорно, отличается наиболее глубоким пониманием социальной эволюции средневековья: «Polyptyque d'Irminon», t. I, 2, p. 498.
(обратно)84
Для Тиэ (Thiais) каролингского периода («Polyptyqye d'Irminon», XIV) к свободным и рабским мансам следует добавить три гостизы, подвергавшиеся различному обложению. Об освобождении см. «Polyptyque d'Irminon», éd. Guérard, t. I, p. 387.
(обратно)85
Сеньор мог получить некоторое количество рабочих рук от держателей и без барщины, заставляя их сыновей и дочерей некоторое время служить у себя; такова Gesindedienst, сыгравшая большую роль в некоторых немецких сеньориях (правда, начиная с конца средних веков и особенно на востоке). Но, хотя в капетингской Франции кое-где и наблюдались попытки сеньоров навязать, по крайней мере своим сервам, принудительный домашний труд, эти попытки всегда были единичными и не имели большого практического эффекта.
(обратно)86
Сочинение Сугерия (около 1081–1151) — это так называемая «Книга о делах своего управления». — Прим. ред.
(обратно)87
Ср. аналогичную картину, которую дает нам для XIII века книга ценза о доменах аббатства Сен-Мор-де-Фоссе (Saint-Maurdes-Fossés) и хозяйственной деятельности аббата Петра I (1256–1285); «Arch. Nat.», LL 46. Самый обширный пахотный домен — почти ненормальной длины — равен 148 арпанам, что представляет площадь порядка 50–75 га. Это крупная собственность согласно современной официальной классификации, но не «очень крупная», поскольку она далеко не достигает 100 га. Подобным же образом организовался домен при устройстве большинства новых поселений.
(обратно)88
Блок называет французских юристов XII–XIII веков средневековыми романистами по аналогии с историками-романистами XIX века, выводившими средневековые учреждения из римских порядков (в противоположность германистам). — Прим. ред.
(обратно)89
Филипп де Бомануар (около 1250–1296) был судьей в нескольких областях королевского домена; около 1280 года он составил «Кутюмы Бовези» — свод обычного права северной части Иль-де-Франса. — Прим. ред.
(обратно)90
Освобождение аббатом Уа (Oyes) супружеской пары сервов мотивировалось необходимостью для монахов уплатить десятину королю (см. конец данного примечания); Froissart, éd. Luce, t. V., p. 1, n. 1; «Arch. Nat.», L 780, No 10 (1255, déc). Аббатство Сен-Жермен-де-Пре, которому эти освобождения нанесли ущерб, выразило протест против того, как были истрачены эти 2460 ливров; оно считало более справедливым употребить эти деньги на свои собственные покупки; в конце концов оно удовлетворилось довольно сложной финансовой сделкой; см. «Bibl. Ste Geneviève», ms 351, fol. 123, перечень, составленный для каноников св. Женевьевы и озаглавленный «Iste sunt possessiones ques emimus et aedificia que fecimus de denanis libertatum hominum nostrorum et aliorum quorum nomina inferius scripta sunt» («Перечисление купленных владений и воздвигнутых построек, которые мы осуществили на выкупные деньги наших и других крепостных, чьи имена приведены ниже»). Среди различных приобретений, построек и починок — уплата флорентийским купцам (mercatoribus florentinis) 406 ливров (сумма, несомненно, слишком крупная, чтобы представлять собой уплату папской десятины), а также уплата королевской десятины (pro décima domini regis).
(обратно)91
«Лже-Ренар» («Renart le Contrefait») — подражание «Роману о Лисе» (см. примечание на стр. 53), созданное между 1319 и 1328 годами неизвестным клириком из Труа; это своего рода историческая и политическая энциклопедия, изложенная вначале в стихах, затем в прозе. — Прим. ред.
(обратно)92
В 1328 году французский престол перешел от основной ветви династии Капетингов к боковой ветви, Валуа. — Прим. ред.
(обратно)93
Солонь — плато на юге от Орлеана с глинистой почвой, покрытое болотами и лесами. — Прим. ред.
(обратно)94
В соседнем графстве, то есть во Франш-Контэ. — Прим. ред.
(обратно)95
В обеих Бургундиях, то есть в герцогстве Бургундском и во Франш-Контэ. — Прим. ред.
(обратно)96
Конта-Венессен (Comtat-Venaissin) — область на восточном берегу Нижней Роны. — Прим. ред.
(обратно)97
Сенонэ (Sénonais) — округ города Санса в Шампани. — Прим. ред.
(обратно)98
Гатинэ — область на востоке от Орлеана, получившая свое название от gatines — «земель, заболоченных в результате зимних дождей»; имеется много прудов и болот, хорошие леса и луга. — Прим. ред.
(обратно)99
Канцлер Фортескью (около 1385–1479) — английский политический деятель и писатель, автор трактата «Управление Англией или различие между абсолютной и ограниченной монархией». — Прим. ред.
(обратно)100
Искушенный читатель извинит неполноту этого очерка. Нет ничего более неясного, более неизвестного, чем экономическая история денег. Особенно это касается изменений (mutations) в конце средневековья или тяжелого кризиса XVI века. Вместе с тем нет ничего более важного для знания социальной жизни древней Франции, в частности ее аграрной жизни. Я обязан был вкратце (то есть слишком схематически) указать на самые важные черты этой эволюции, которая сама по себе в высшей степени сложна. Чтобы сделать это лучше, потребовались бы длинные рассуждения, которым здесь не место.
(обратно)101
Впрочем, это не значит, что все платежи, где фигурировали либо монеты, либо по крайней мере название монет, совершались в денье. Не говоря уже о платежах в натуре, но с «оценкой» предметов в денежной стоимости, или об употреблении слитков, крупные суммы довольно часто уплачивались в иностранной, византийской или арабской, золотой монете. Но этот последний способ расчетов не оказывал влияния на сеньориальные повинности. Я надеюсь, что смогу в другом месте рассмотреть более подробно эти сложные проблемы денежного обращения.
(обратно)102
Эти цифры взяты мной у N. De Wailly («Mém. de l'Acad. des Inscriptions», t. XXI, 2, 1857), но со следующими изменениями: 1) я перевел все эти цифры в стоимость франка по новому денежному закону (То есть в стоимость франка после 1918 года. — Прим. ред.); 2) поэтому я вынужден был учитывать стоимость старинных счетных единиц только в золоте; эта условность, оказавшаяся почти неизбежной из-за нашего современного монометаллизма, имеет различные неудобства: содержание серебра в монетах изменялось не всегда в соответствии с содержанием золота; узаконенный курс золота, орудия международного обмена, был часто довольно далек от его коммерческого курса (обычно ниже); наконец, сеньориальные повинности почти всегда уплачивались в серебре; к счастью, у меня здесь речь идет только о категориях величины, которые не подвержены возможности подобных ошибок; 3) я решительно абстрагировался от десятых долей ниже сантима; они производят лишь совершенно ошибочное впечатление математической точности.
Конечно, я не могу здесь рассмотреть кратковременную попытку, предпринятую правительством в 1577 году с целью порвать с расчетом на ливры, су и денье.
(обратно)103
Ален Шартье (1385–1429) — крупный французский поэт и публицист, юрист и секретарь Карла VII, автор патриотических произведений. — Прим. ред.
(обратно)104
Побочной причиной упадка дворянских владений была практика разделов, поскольку право первородства применялось не столь широко, как это полагали: см. Y. Вezard, La vie rurale dans le sud de la région parisienne, p. 71 et suiv; Ripert-Montclar, Cartulairedelacommanderie de Richerenches, 1907, p. CXXXIX et suiv.; см. также пример для Прованса, приведенный на стр. 194 (Lincel).
(обратно)105
Ярмарка Ланьи — одна из четырех шампанских ярмарок. — Прим. ред.
(обратно)106
Тюшены — так называли крестьян Лангедока, восставших в 1382–1384 годах. — Прим. ред.
(обратно)107
Domaine direct — земли держателей; domaine utile — барские земли. — Прим. ред.
(обратно)108
Дюмулен (1500–1566) — юрист, комментатор кутюм, в том числе парижской. — Прим. ред.
(обратно)109
Разумеется, можно привести гораздо более многочисленные случаи, когда держатель предстает как имеющий не собственность на землю, но право на землю; по правде говоря, недвижимую собственность именно так и понимали в средние века; она означала скорее вещные права, чем непосредственно саму недвижимость.
(обратно)110
Эта столь оскорбительно охарактеризованная опись является единственной сохранившейся описью из серий древних описей Клермонтуа. Не были ли другие умышленно уничтожены агентами принца?
(обратно)111
Быть может, смягчение кризиса в конце XVIII века явилась причиной возобновления крестьянских покупок, которое констатировал Лучицкий, по крайней мере для Лимузена. Но сама сущность описанного Лучицким явления остается весьма неясной; ср. статью G. Lefebvre в «Revue d'histoire moderne», 1928, p.'121.
(обратно)112
Юридические или фактические налоговые иммунитеты, которыми пользовались привилегированные сословия, делали увеличение дворянских или церковных владений очень невыгодным для королевского фиска; таким образом, восстановление крупной собственности по-своему способствовало кризису монархии.
(обратно)113
Роже, граф Бюсси-Рабютэн (1618–1693) — писатель и политический деятель, кузен и постоянный корреспондент мадам де Севинье — был выслан в 1666 году в свое бургундское поместье за опубликование вызвавшего скандал произведения «Histoire amoureuse des Gaules». — Прим. ред.
(обратно)114
Отенуа — округ города Отена, в Бургундии. — Прим. ред,
(обратно)115
По правде говоря, в Бретани создание крупных ферм не обязательно имело своим результатом уничтожение мелких хозяйств; часто «богатые лица», которые захватывали в общине «почти все фермы», сдавали их для обработки многим субарендаторам (см. работу E. Dupont в «Annales de Bretagne», t. XV, p. 43). Но во многих других областях, например на равнинах севера, в Пикардии, в Бос, произошла настоящая замена мелкого хозяйства крупным. О сопротивлении крестьян см. данную работу, стр. 255–256.
(обратно)116
Оливье де Серр (1539–1619) — французский агроном, автор трактата «Театр агрикультуры и полевое хозяйство», опубликованного в 1600 году. — Прим. ред.
(обратно)117
Я знаю, что слово «манс» — варваризм. На настоящем французском языке следовало бы сказать meix. Но только на французском; на провансальском это было бы mas. Кроме того, на том и на другом языках надо учитывать диалектные формы. Прибавьте к этому, что сегодня (уже долгое время) meix или mas обозначают, как мы увидим, реальности, очень отличные от того, что обозначалось словом mansus во франкский период. Изменчивость форм, изменение смысла — все это побуждает нас избегать модернизации и со спокойной совестью сохранить на этот раз слово, которое, вопреки фонетике, историки привыкли воспроизводить, следуя латыни, — manse Герара и Фюстеля.
(обратно)118
То есть земля одной семьи. — Прим. ред.
(обратно)119
Следовало бы заняться очень интересным исследованием о цельных мансах, обнаруживающихся благодаря указаниям границ и примыкающих территорий. Я нахожу их, не без удивления Ошерэ (Oscheret), в Бургундии (см. Pérard, Recueil de plusieurs pièces curieuses, 1664, p. 155).
(обратно)120
Смысл слова casata (ménage) становится ясным из послания папы Захария, который в качестве синонима приводит выражение «семейство сервов» (conjugio servorum), слово servus взято здесь в широком значении — «зависящий от сеньории»; см. Е. Les ne, Histoire de la propriété ecclésiastique, t. II, 1, 1922, p. 41 et suiv.
(обратно)121
В Бретани, по-видимому, имелись деревушки совладельцев (parsonniers), но они, возможно, произошли из простых семейных общин, о которых речь будет ниже; проблема эта не была как следует изучена; см. «Annales de Bretagne», t. XXI, p. 195.
(обратно)122
Foris familiati — «находящиеся вне семьи». — Прим. ред.
(обратно)123
Эжен Леруа (1836–1907) — автор нескольких романов из жизни перигорской деревни («Jacquou le Croquant» и др.); Андрэ Шамсон — современный французский писатель, автор многочисленных романов. — Прим. ред.
(обратно)124
В 1660 году в Нормандии казначеи сельских комитетов (fabriques) приняли участие в выборе депутатов от третьего сословия в провинциальные штаты; см. M. Baudot в «Le Moyen Age», 1929, p. 257. В других местах задолго до официального учреждения комитетов верующие принимали участие в управлении имуществом прихода; один из примеров, относящийся к началу XII века, см. В. Guérard, Cartulaire de Saint-Père de Chartres, t. II, 281, No. XXI.
(обратно)125
Деревенский консулат был главным образом лангедокским явлением, но в Провансе многие сельские общины очень рано добились права юридического лица под названием синдикатов. Деревня юга, настоящее средневековое укрепление (oppidum), очень сильно отличалась от деревень севера.
(обратно)126
См. примечание на стр. 166.
(обратно)127
Никола Эдм Ретиф де ла Бретонн (1734–1806) — французский писатель. Будучи сыном крестьянина, он воспроизвел в своих романах многие черты деревенской жизни. — Прим. ред.
(обратно)128
В марте 1320 года парламент кассировал доверенность, выданную жителями деревень Тиэ (Thiavs), Шуази (Choisy), Гриньон (Grignon), Антони (Antony) и Вильнёв-Сен-Жорж (VilleneuveSaint-Georges), так как, не имея «ни корпорации, ни коммуны», жители должны были бы сначала получить согласие своего сеньора, аббата Сен-Жермен-де-Пре; но в то же время парламент сохранил за собой право (если бы вызванный по подобному делу аббат не явился в суд) заменить своим решением решение отсутствующего сеньора; а это явно открывало дорогу довольно широкому вмешательству («Arch. Nat.», L 809, No 69). Было бы очень хорошо, если бы какой-нибудь историк права взялся проследить подобную эволюцию судебной практики; документов достаточно, но пока они не изучены, по поводу этой серьезной теоретической и практической проблемы нельзя высказать ничего, кроме неопределенных и, возможно, ошибочных суждений (см. другое дело, от 1339 года, относящееся к Сен-Жермен-де-Пре: «Arch. at.», К 1169A No 47 bis).
(обратно)129
Гильом Жюмьежский — нормандский монах (конец XI — начало XII века), составивший около 1070 года хронику «История норманнов». — Прим. ред.
(обратно)130
По-видимому, грамота Хлотаря III, относящаяся к Ларрею (Larrey), в Бургундии, говорит о тяжбе по поводу общинных угодий; Pardessus, Diplomate, t. II, No CCCXLIX.
(обратно)131
«Барселонские обычаи» — свод обычного права старой Каталонии, составленный около 1076 года. — Прим. ред.
(обратно)132
Ламберт Ардрский (конец XII — начало XIII веков) — каноник из городка Ардра (близ Кале), составил в начале XIII века хронику «История графов Гинских». — Прим. ред.
(обратно)133
Намек на басню Лафонтена. — Прим. ред.
(обратно)134
Эдм де ла Фуа де Фременвилль (1680–1773) — юрист, автор многочисленных трактатов по феодальному праву. — Прим. ред.
(обратно)135
Колен — персонаж сатирической сказки Вольтера «Жанно и Колен». — Прим. ред.
(обратно)136
Характер напечатанных и даже рукописных документов дает возможность исследователю, которому трудно пересмотреть материал по всей области, хорошо познакомиться с протоколами собраний общин, уже полугородских. В этом нет большого греха, ибо все эти провансальские «города» (villes), даже Экс, имели еще сильно выраженный сельский характер. Вопрос о праве выпаса на соседних землях был для жителей Экса столь важным, что он толкнул их в XIV веке на подлог; см. Benoit, Recueil des actes des comtes de Provence, t. II, p. 57, n. 44 (ранее 4 августа 1351 года см. «Arch. d'Aix», AA 3, fol'. 139).
(обратно)137
В Альмани (В 3356, fol1. 154) в 1647 году devandudes были разрешены пропорционально уплачиваемому налогу.
(обратно)138
Кро (Crau) — старая каменистая дельта Дюрансы, пригодная только для овцеводства. — Прим. ред.
(обратно)139
О департаменте Приморские Альпы (развитие в Ниццском графстве, отделившемся в 1388 году от Прованса, по-видимому, было таким же, как и в остальной области) см. доклад префекта в «Arch. Nat.», F10 337 (10 фримера XII года). В Буш-дю-Роне, в общине Пюилубье (Puyloubier), по-видимому, сохранился обязательный выпас; в IV и V годах крупные держатели захотели его упразднить; это был «процесс богачей против бедняков»; F10 336; см. «Arch, des B.-du-Rhône», L 658.
(обратно)140
Предписание, запрещавшее выпас на пахотных полях, с которых был уже снят урожай, относится ко времени кардинала де Фуа (9 октября 1450 года — 11 февраля 1463 года). Процесс, начавшийся в королевском суде у генерального наместника сенешалэ Прованса (juge mage), окончился в архиепископском суде, и приговор был вынесен 26 октября 1476 года. Уже статуты 1293 года — статья LXXVII, в конце (in fine), и статья LXXVIII — свидетельствуют о большой враждебности по отношению к чужому скоту.
(обратно)141
Pulvérage — от латинского pulvereus — «поднимающий пыль». — Прим. ред.
(обратно)142
Впрочем, это предписание соблюдалось довольно плохо, по крайней мере в Ко (см. данную работу, стр. 298, прим. 21).
(обратно)143
Гийом ле Руй (1494 — около 1555), — юрист, комментатор кутюм Нормандии и Мэна. — Прим. ред.
(обратно)144
Анри Баснаж дю Фракнэ (1615–1695) — адвокат руанского парламента, комментатор кутюмы Нормандии. — Прим. ред.
(обратно)145
См. примечание третье на стр. 49.
(обратно)146
Вот главнейшие тексты: «Summa de legibus», éd. Tardif, VIII. В тексте из главы 1 во фразе «nisi clause fuerint vel ex antiqurtate defense» слово «veb надо понимать как «то есть». Это явствует из последующих слов: «ut haie et hujusmodi» и в еще большей степени из главы 4; «Le grand coustumier… avec plusieurs additions composées par,.. Maistre Guillaume le Rouille», 1539, с VIII; G. Terrien, Commentaire…, 2e éd., 1578, p. 120; «Coutumes de 1583», с LXXXIII; Basnage, La coutume réformée, 2e éd., 1694, t. I, p. 126; постановление от 1 июля 1616 года, отказывающее сеньору Агону в его претензиях на получение оплаты за обязательный выпас («Arch. Seine-Infer.», регистр, озаглавленный «Audiences», 1616, Costentin; ср. «Bibl. Rouen», ms 869); постановление от 19 декабря 1732 года, относящееся, правда, к участку, засаженному дубками, но с характерной пометкой на полях: «Никто не обязан огораживать свой участок; засеянные земли находятся под запретом и не будучи огороженными» («Arch. S.-Inf.», «Recueil d'arrêts… depuis la Saint-Martin», 1732, p. 24–26); докладная записка синдика муниципальной ассамблеи Бомон-ле-Араца (Beaumont-le-Hareng), адресованная посреднической комиссии («Arch. S.-Inf.», С. 2120).
Надо отметить, однако, что постановление от 26 августа 1734 года, относящееся к Альермонскому графству (Recueil d'arrêts… depuis la Saint-Martin, 1732, p. 204), как бы ни было оно благоприятно для крупных собственников в других отношениях, запрещало обязательный выпас только на время запрета (с середины марта до 14 сентября) в соответствии с писаной кутюмой, но в противоположность обычаю. Несомненно, что после этого решения судебная практика изменилась. В Ко крестьяне больше не организовывали общее стадо для всего прихода, а просто более мелкие стада внутри кантонов (cueillettes). Судебная практика, в целом мало благоприятная для обязательного выпаса, с XVII века стала враждебной межобщинному выпасу (Basnage, 1.1, p. 127; я проверил постановления). В Версоне (Verson) в XIII веке вилланы при устройстве изгороди уплачивали сеньору побор, porpresture (L. Delisle, Etudes, 670, v. 103 et suiv.). Но, по-видимому, речь идет об изгороди, которую ставили с целью изменить культуру, возделываемую на этом участке (вероятно, превратили пашню в огород или фруктовый сад), поскольку этот сеньориальный побор возник из шампара.
(обратно)147
Жак-Франсуа Сен-Ламбер (1716–1803) — поэт, член французской академии. — Прим. ред.
(обратно)148
В бедных областях вроде Марша даже пшеница, более прихотливая, чем рожь, была иногда огородным растением (см. статью G. Martin в «Mém. de la Soc. des sciences naturelles de la Creuse», t. VIII, p. 109). Иногда место старинных конопляников, которые во всякое время были освобождены от коллективных сервитутов, занимали искусственные луга (см. «Arch. Nat.», H 1502, No 1, fol. 5v°). Имеется, особенно для окрестностей Парижа XVII века, довольно много примеров возделывания эспарцета; многие тексты, относящиеся к десятине, свидетельствуют об этой практике и ясно указывают на то, что эта кормовая культура возделывалась тогда на огороженных участках, зачастую в фруктовых садах (см. «Recueil des edits… rendus en faveur des curez», 1708, p. 25, 73, 119, 135, 165, 183).
(обратно)149
Анри-Луи Дюамель дю Монсо (1700–1781) — знаменитый ботаник, агроном, метеоролог. — Прим. ред.
(обратно)150
Жан-Франсуа де Барандьери, граф д'Эссюиль — автор трудов по юридическим и экономическим вопросам. — Прим. ред.
(обратно)151
Три епископства — область лотарингских епископских городов: Меца, Туля и Вердена с их округами. — Прим. ред.
(обратно)152
«Деревенские петухи» — самые богатые и самые влиятельные люди в деревне. — Прим. ред.
(обратно)153
Однако эдикт, относящийся к Эльзасу, предоставляет общине выбор между разделом и сдачей общинных угодий в аренду тому, кто больше даст. Я не знаю причин этой своеобразной системы, гораздо более благоприятной для богатых.
(обратно)154
Однако парламент оказал здесь противодействие эдиктам о разделе, быть может потому, что он признавал право триажа лишь за сеньорами, обладавшими правом высшей юстиции, которые были в герцогстве малочисленны; однако здесь что-то неясно.
(обратно)155
В Эльзасе эдикт об общинных угодьях от 15 апреля 1774 года разрешал изымать из обязательного выпаса по одному арпану искусственных лугов на каждую голову тяглового скота. Это единственная мера в этом отношении, которую предприняла при старом режиме центральная власть.
(обратно)156
Впрочем, это массовое бегство стало, кажется, ощущаться уже в XVIII веке; см. докладную записку (несомненно, д'Эссюиля) относительно раздела общинных угодий, «Arch. Nat.», H 1495, No 161 (необходимость приостановить эмиграцию в города и бродяжничество «бедных подданных» выдвигалась как один из мотивов, требующих раздела, и притом раздела по хозяйствам); для Эно см. «Annales d'histoire économique», 1930, p. 531.
(обратно)157
В 1765 году интендант Бордо писал по поводу неурожая хлебов: «Эта дороговизна, которая неизбежно ведет к обогащению вследствие стремления к наживе, легко может вызвать жалобы кое-кого из черни, которая вынуждена влачить нищенское существование, ибо она ленива; но жалобы этого рода заслуживают только презрения» (см. «Arch, de la Gironde», С 428). Собрать подобные тексты, касающиеся общинных угодий или законодательства об огораживаниях, не составляет труда, и я попытался это сделать в другом месте.
(обратно)158
Доктор Панглосс — персонаж романа Вольтера «Кандид». — Прим. ред.
(обратно)159
Имеются в виду Законодательное и Учредительное собрания и Конвент. — Прим. ред.
(обратно)160
Реформа эта была частично осуществлена в Эльзасе, по крайней мере официально; см. данную работу, стр. 300, прим. 40.
(обратно)161
Вопрос о том, должны ли платить десятину с новых культур, часто разбирался в XVIII веке; обычно он разрешался, по-видимому, в интересах получателей десятины.
(обратно)162
Равным образом законными являются также баналитеты покоса, жатвы и сбора винограда. Лишь последние имеют действительно практическое значение.
(обратно)163
Ошибка, отмеченная Блоком в одной из его статей 1932 года. Следует читать: по числу жителей. (Marc В loch, Les caractères originaux… t. II. Supplément.., p. 205). — Прим. ред.
(обратно)Ссылки
1
М. Вlосh, Les caractères originaux de l'histoire rurale française, t. II, Supplément établi d'après les travaux de l'auteur par Robert Dauvergne, Paris, 1956. В 1955 году вышел второй тираж второго издания первого тома книги Блока, выпущенного в 1952 году. — Прим. ред.
(обратно)2
Об обследованиях XVIII века, которые будут довольно часто упоминаться в дальнейшем, см. «Annales d'histoire économique», 1930, p. 551; о планах — там же, 1929, р. 60, 390.
(обратно)3
F. Seebohm, French peasant proprietorship, «The Economic Journal», 1891.
(обратно)4
Я с пользой для себя прочел книгу, к сожалению несколько путанную, Леви Грея (Н. Levi Gray, Englisch fielld systems, 1915) и различные английские работы об огораживаниях, из которых я упомяну только самые полезные сочинения синтетического характера: G. Slater, The emglish peasantry and the enclosure of common-field, 1907, и H. R. С u r 11 e r, The enclosure and redistribution of our fields, 1920.
(обратно)5
Дополнить статьями того же автора: «La crise des prix au XVI e siècle en Poitou» в «Revue Historique», t. CLXII, 1929., и «Essai sur la situation économique et l'état social en Poitou au XVIe siècle» в «Revue d'histoire économique», 1930.
(обратно)6
Ср. превосходную синтетическую работу: A. Grenier, Aux origines de l'économie rurale, «Annales d'histoire économique», 1930.
(обратно)7
C. Jullian, в «Revue des études anciennes», 1926, p. 145.
(обратно)8
К примерам, приводимым Лоньоном (A. Lоngnоn, Les noms de lieux de la France, 1920, No 875), необходимо добавить примеры Фошера (D. Faucher, Plaines et bassins du Rhône moyen, p. 605, n. 2 (Rochemaure).
(обратно)9
Благодаря счастливой случайности мы располагаем очень полными сведениями об основании этих поселений: «Dipl. Karol», I, No 179; «Histoire du Languedoc», t. II, pr. No 34, 85, lil2; t. V, No 113; cp. «Bulletin de la commission archéologique de Narbonne», 1876–1877.
(обратно)10
A именно: 257 из 1239; см. A. Coville, Recherches sur l'histoire de Lyon, 1928, p. 287 et suiv.
(обратно)11
C. Brune!, Les plus anciennes chartes en langue provençale, 1926, No 292.
(обратно)12
M. Quantin, Cartulaire général de l'Yonne, 1854, t. I, No CCXXXIII.
(обратно)13
Ср., для Германии, прекрасные исследования R. Gradmann, последнее из них — в «Verhandlungen und Wissenschaftliche Abhandlungen des 23 d. Geographentags» (1929), 1930; а для Франции, разумеется, Vidal de la Blache, Tableau de la France, p. 54.
(обратно)14
A. De Charmasse, Cartulaire de l'église d'Autun, t. I, No XLI.
(обратно)15
Главные работы о лесе (кроме общих работ, указанных в «Библиографической справке», и различных полезных монографий, перечислять которые было бы слишком долго): A. Maury, Les forêts de la Gaule et de l'ancienne France, 1867; G. Huffel, Economie forestière, 2 части в З томах (два первых — второе издание, 1910 и 1920 годы, третий том — первое издание, 1919 год); L. Вoutry, La forêt d'Ardenne, «Annales de Géographie», 1920; S. Deck, Etude sur la forêt d'Eu, 1929 (cp. «Annales d'histoire économique», 1930, p. 415); R. De Maulde, Etude sur la condition forestière de l'Orléanais.
(обратно)16
Я ограничусь некоторыми ссылками для деталей, которые недостаточно широко известны: липовая кора для плетения веревок — «Arch. Nat.», No 13, S. 275; слуги дамы Валуа — В. Guérard, Cartulaire de l'église de Notre-Dame de Paris, t. I, No XXV, p. 233; охота и библиотеки — «Dipl. Karolina», i. No 191; охота Альфонса, графа Пуатье — H. F. Rivière, Histoire des institutions de l'Auvergne, 1874, vol. I, p. 262, n. 5; хмель — «Polyptyque de l'abbaye de Montierender», с XIII, éd. Ch. Lalore, 1878, или Ch. Lalоre, Collection des principaux cartulaires du diocèse de Troyes, t. IV, 1878; яблоки и груши — J. Gamier, Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne, t. II, 1867, No GGCLXXIX, с 10; С h. de Beaurepaire, Notes et documents concernant l'état des campagnes de la Haute-Normandie, p. 409; лесные стада сеньора Губервилля — А. Тоllemer, Journal manuscrit d'un sire de Gouberville, 2e éd., 1880, p. 372, 388; о коровах и табунах лошадей в бретонских лесах см. H. Du Hаlgоuët, La vicomte de Rohan, 1921, t. I, p. 37, 143 et suiv.
(обратно)17
«De consecratione ecclesiae S. Dyonisii», с III.
(обратно)18
«Arch. Nat», S. 206; ср. В. Guérard, Cartulaire de NotreDame de Paris, t. II, p. 307, No 1.
(обратно)19
Ср. карту, приведенную Ж. Сионом (J. Siоn, Les paysans de la Normandie Orientale, fig. 14) и особенно (для расположения парцелл) великолепный план графства Альермон от 1752 года, выполненный с оригинала 1659 года («Arch. Seine-Inférieure», plans, No 1). Это «лесные деревни» (Waldhufendôrfer) немецких историков. Можно сравнить с картой китайских расчисток у J. Siоn, L'Asie des Moussons, t. I, 1928,. p. 123. Расположение парцелл здесь аналогично, но дома не строятся в один ряд.
(обратно)20
Vathaire de Guerchy, La Puisaye sous les maisons de Toucy et de Bar, «Bullet, de la Soc. des sciences historiques de l'Yonne», 1925, p. 164; четыре населенных пункта (последний с названием Betphaget) — выселки общины Сен-Верен (St-Verain).
(обратно)21
Например, Guérard, Cartulaire de l'abbaye Saint-Père de Chartres, t. I, p. 93, No 1.
(обратно)22
Впрочем, они не всегда совершенно исчезали: ср. F. Cumont, Comment la Belgique fut romanisée, 2e éd., 1919, p. 42.
(обратно)23
Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 236, No XLIV.
(обратно)24
E. Сlоuzоt, Cartulaire de La Merci-Dieu, «Arch, historiques du Poitou», 1905, No VIII, CCLXXI, CCLXXV; «Arch, de la Gironde», Inv. sommaire, Série H., t. I, p. VII.
(обратно)25
Curie-Seimbres, Essai sur les villes fondées dans le Sud-Ouest, 1880, p. 297.
(обратно)26
«Bibl… Nat.», Doat 79, fol. 336 v° et 80, fol. 51 v°.
(обратно)27
Curie-Seimbres, Essai sur les villes fondées dans le Sud-Ouesl, 1880, p. 107, 108; J. Maubourguet, Le Périgord Méridional, 1926, p. 146; Suger, De rebus in administratione sua gestis, с VI, G. Desjardins, Cartulaire de l'abbaye de Conques, No 66.
(обратно)28
R. Leоnhard, Agrarpolitik und Agrarreform in Spanien, 1909, S. 287.
(обратно)29
Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 223, No XVIII; «Arch. Nat.», S. 275, No 13; Guérard, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, t. II, No 1023 (1197, 27 févr.).
(обратно)30
De Dienne, Histoire du dessèchement des lacs et marais, 1891.
(обратно)31
См. для этой главы Marc Bloc h, La Lutte pour l'individualisme agraire au XVIII siècle, «Annales d'histoire économique», 1930; там можно найти в приложении необходимые справки о крупных обследованиях XVIII века.
(обратно)32
J. Jud, «Romania», 1923, p. 405; см. прекрасные исследования этого же автора в том же журнале за 1920, 1921, 1926 годы и в «Archivum romanicum», 1921 (в соавторстве с P. Aebischer).
(обратно)33
См. «Archives historiques de la Corrèze», vol. II, 1905, p. 370, No LXV, и комментарии издателя, G. Clément-Simon.
(обратно)34
Мариенбург и округ Живе (Givet); см. «Arch, du Nord», Hainaut, С 695-bis. См. очень любопытные ордонансы князей Нассау-Сарребрюкских, совсем рядом с нашей границей: J. M. Sillel, Sammlung der Proviocial- und Partikular Gesetze… t. I, 1843, S. 324, 394.
(обратно)35
Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. I, p. 258, No XVI.
(обратно)36
«Arch. Nat.», H. 1502, No 229, 230, 233 (Chauny) и H. 1503, No 32 (Angoumois). «Arch, du Nord.», С Hainaut 176 (Bruille-Saint-Amand и Château l'Abbaye); досье содержит план деревни Брюиль (Braille) с весьма неправильными парцеллами; население этой деревни, разоренной во время войн Людовика XIV и затем заселенной вновь, было очень бедным. См. H. Sée, Les classes rurales en Bretagne du XVI siècle à la Révolution, p. 381 et suiv.; Borie, Statistique du département d'ille et Vilaine, an IX, p. 31; С h. Etienne, Cahiers du bailliage de Vie, 1907, p. 55, 107.
(обратно)37
«Bibliothèque de l'Ecole des Chartes», t. LUI, No 5, p. 389.
(обратно)38
«Arch. Nat.», LL, 1599B, p. 143.
(обратно)39
Ордонанс от 20 января 1641 года в «Mémoire» парламента Нанси, «Arch. Nat.», H 1486, No 158; постановление Верховного суда от 18 апреля 1670 года (см. François de Neufcha.teau, Recueil authentique, t. II, 1784, p. 164); ср. недатированное ходатайство арендатора поместья Зпиналь (Epinal), «Arch. Meurthe-etMoselle», В 845, No 175; и для графства Монбельяр (Montbéliard) см. ордонансы от 19 сентября 1662 года и от 27 августа 1705 года, «Arch. Nat.», К 2196(6).
(обратно)40
R. Krzymowski, Die landwirtschaftlichen Wirtschaftsysteme Elsass-Lothringens, 1914; cp. Ph. Hammer, Zweifeldwirtschaft im Unterelsass, «Elsass-Lothringisches Jahrbuch», 1927 (этнографические выводы этой последней статьи совершенно бездоказательны); R. Pyot, Statistique générale du Jura, 1838, p. 394; A. Aula nier и F. Habasque, Usages… du département des Côtes du Nord, 2e éd., 1851, p. 137–139.
(обратно)41
Реконструкция картулярия Анжерского аббатства Сен-Серж, выполненная Marchegay, «Arch, de Maine-et-Loire», fol. 106, 280, 285; G. Dur vil le, Catalogue du Musée Dobrée, 1903, p. 138, No 127 (упоминания о двух saisons).
(обратно)42
Marc, «Bulletin de la Soc. d'agriculture… de la Sarthe», Ire série, t. VII (1846–1847).
(обратно)43
«Columelle», II, 6.
(обратно)44
R. Pyot, Statistique générale du Jura, 1838, p. 418.
(обратно)45
«Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vaast», éd. Van Drivai1, 1875, p. 252.
(обратно)46
«Description de la terre et seigneurie de Varennes» (1763): Chantilly, reg. E 31, fol. 162 v°.
(обратно)47
«Arch, de la Somme», С 136 (subdélégué de DoullensJ. О «пожирателях борозд» говорят бесчисленные тексты. Пример увеличения парцеллы взят у F.-H.-V. Nоizet, Du cadastre, 2-е éd, 1863, p. 193; текст о «воровстве» взят из одного мемуара 1768 года: «Bibl. Nat.», Joly de Fleury, 438. fol. 19. Для средних веков см. Jacques de Vitry, Sermo ad agricolas, «Bibl. Nat.», 17509, fol. 123.
(обратно)48
Жансиньи: сравнение плана межевания 1667 года и более позднего плана, «Arch. Côte d'Or», E 1119 — Дюн, Варенн, Клермонтуа, Монбленвиль: «Chantilly, Éreg. 39(1783), légende; E reg. 31 (1762), fol. 161; E reg. 28 (1774), légende; E,reg. 35 (1769), légende. Ср. рис. IV и V.
(обратно)49
P. Guyot, Répertoire, 1784–1785, art. «Regain» (par Henry).
(обратно)50
«Olim», I, No VI, p. 516; «Arch. Nat.», AD IV, 1 (Nogentsur-Seine, 1721; Essoyes, 1779).
(обратно)51
J. M. Ortlieb, Plan… pour l'amélioration… des biens de la terre, 1789, p. 32 nº, «Arch. Nat.», H. 1486, No 206; конкретный пример такого дела: «Puy de Dôme», С 1840 [округ Тьер (Thiers)].
(обратно)52
«Procès-verbal… de l'Assemblée provinciale de l'Ile de France… 1787», p. 367, «Arch, de Meurthe-et-Moselle», С 320.
(обратно)53
См. прекрасную страницу Матье де Домбаля (Mathieu de Dombasle, Annales agricoles de Roville, t. I, 1824, p. 2).
(обратно)54
Расчистки и новые поселения см. на рис. 1 и VI, а также см. примечание 46 к главе II; о Бессе (Bessey) см. примечание 10 к главе IV; О Оссуа (Auxois) см. «Bullet, de la soc. des sciences histor. de Semur», t. XXXVI, p. 44, n. 1.
(обратно)55
«Commentaire sur les Institutes de Loysel», ÎI, 15. Это изречение, которого нет в первом издании 1710 года, появляется во втором (1783 год), откуда оно перешло в издание Дюпена (Dupin, 1846), Вероятно, но не достоверно, что оно было заимствовано, как и другие дополнения этого издания, из оставленных Лорьером заметок.
(обратно)56
Guérard, Cartulaire de Saint-Victor, No 269; несколько более ярко выражена длина в Юзежуа (Uzégeois), No 198.
(обратно)57
Старинный обязательный выпас в районах открытых полей неправильной формы: Прованс (см. данную книгу, стр. 262), Лангедок и Гасконь; мы имеем многочисленные примеры: Е. Вligny Bondurand, Les coutumes de Saint Gilles, 1915, p. 180, 229; B. Alart, Privilèges et titres relatifs aux franchises… du Roussillon, 1874, t. I, p. 270; «Arch, histor. de la Gascogne», t. V, p. 60, с 34. В Ко, Берри и Пуату — бесчисленные примеры вплоть до XVIII века и позже; отметим для Пуату очень интересное постановление: J. Lelet, Observations sur la coutume, 1683, t. I, p. 400. Обязательность пара: Villeneuve, «Statistique du département des B. du Rhône», t. IV, 1829, p. 178.
(обратно)58
По истории пахотного орудия существует весьма обширная библиография, но очень неравноценная. Древняя иконография имеет незначительную ценность и трудна для использования. Я только укажу на полезную диссертацию К. H. Rau, Geschichte des Pfluges, 1845; H. Вehlen, Der Pflug und das Pflügen, 1904; см. также R. Braungart, Die Ackerbaugeràthe, 1881; «Die Urheimat der Landwirtschaft», 1912 (см. также «Landwirtschaftliche Jahrbucher», B. XXVI, 1897), пользоваться которыми нужно лишь крайне осторожно. См. также некоторые исследования археологов (J. Сhr. Ginzrоt, Die Wagen und Fuhrwerke der Griechen und Rômer, 1817; Soph us Millier, «Mémoires de la Soc. royale des Antiquaires du Nord», 1902), славистов (J. Peisker, «Zeitschrift für Sozial- und Wirtschaftgeschichte», 1897, и различные работы на чешском и французском языках Л. Нидерле) и особенно лингвистов (R. Meringer, «Indogermanische Forschungen», В. XVI, XVII, XVIII; A. Guebhardt, «Deutsche Literaturzeitung», 1909, col. 1445). Карта распространения колесного плуга из «Лингвистического атласа» Жильерона и Эдмона (Gilliéron et Edmont, Atlas Linguistique) почти непригодна, так как они игнорировали различия между разными типами орудий, поэтому совершенно различные вещи с законно различными названиями они рассматривали как одинаковые, но имеющие разные названия. Но она дала повод для блестящей статьи W. Foerster, «Zeitschrift für romanische Philologie», 1905 (с дополнениями).
(обратно)59
См. комментарий Сервия к «Георгикам», I, 174.
(обратно)60
«Hist. Nat.», XVIII, 18; текст, восстановленный Байстом (G. Вaist, Archiv für lateinische Lexikographie, 1886, p. 285): «Non pridem inventum in Gallia duas addere tali rotulas, quod genus vocant ploum Raeti» (в рукописях — «in Raetia Galliae» и «vocant plaumoratb).
(обратно)61
О пахоте в Пуату см. очень интересный мемуар: «Arch. Nat.», H 15103, No 16.
(обратно)62
Кроме планов Альермона (Aliermont), указанных на стр. 61 в прим. 15, см. великолепный план деревни NeuvilleChamp-d'Oisel, XVIII века в «Arch. Seine Inf.», pi. No 172.
(обратно)63
«Arch. Nat.», H 1486, No 191, p. 19.
(обратно)64
«Arch. Ille-et-Vilaine», С 1632.
(обратно)65
Многочисленны свидетельства XVIII и XIX веков. Несколько загадочное постановление Бретонского парламента относится, несомненно, именно к champagnes; см. Poullain du Parc, Journal des Audiences, t. III, 1763, p. 186.
(обратно)66
«Arch, d'Ille-et-Vilaine», С 3243.
(обратно)67
Ed. Planiof, § 256, 273, 274, 279, 280, 283.
(обратно)68
См. L. Halphen, Etudes critiques sur l'histoire de Charlemagne, 1921, p: 260–261. «Об Антенэ (Anthenay) см. В. Guérard, Polyptyque de l'abbaye de Saint-Rémi de Reims», 1853; к сожалению, меры здесь указаны в mappae, которые, по-видимому, в разных местах имели разную величину; тем не менее ясно, что при любых расчетах получится не более гектара.
(обратно)69
«Statuts», éd. Levillain, «Le Moyen-Age», 1900, p. 361, cp. p. 359; «Capitularia», t. II, No 273, с 31.
(обратно)70
«Capitularia», t. И, No 297, с. 14.
(обратно)71
S. F. Grant, Every day life in an old Highland farm, 1924, p. 98.
(обратно)72
Fustel de Coulanges, Recherches, 1885, p. 125. Cp. запись в Хенхир-Меттихе, С. I. L., t. VIII, No 25902, ex con-suetudine Manciane.
(обратно)73
В. Аlаrt, Privilèges et titres… du Roussillon, t. I, p. 185; A. J. Marnier, Ancien Coutumier inédit de Picardie, 1840, p. 70, No LXXIX.
(обратно)74
О десятине см. юридические исследования П. Виара (P. Viard) 1909, 1912 и 1914 годов и в «Zeitschrift der Savigny Stiftung»; К. А., 1911 и 1913 годов; «Revue Historique», t. CLVI, 1927. О талье см. F. Lot, L'impôt foncier… sous le Bas-Empire, 1928, и перечисленные там на стр. 131 статьи Карла Стефенсона; легко увидеть, по каким пунктам я расхожусь с этими авторами; см. также «Mêm. de la Soc. de l'histoire de Paris», 1911.
(обратно)75
См. «Исход», 23, 19. 9
(обратно)76
Я руководствуюсь здесь собственными исследованиями о серваже; перечисление уже опубликованных работ можно найти в последней по времени статье в «Revue Historique», t. CLVII, 1928, p. 1. О рабстве см. «Annales d'histoire économique», 1929, p. 91; «Revue de Synthèse Historique», t. XLI, 1926, p. 96, t. XLIII, 1927, p. 89; к литературе, поименованной в этих работах, следует добавить R. L i v i, La schiavitù domestica nei tempi di mezzo e nei moderni, Padoue, 1928.
(обратно)77
«Arch. Nat.», S 5010', fol. 43v°; «Bibl. Nat», ms. lat. 5415, p. 319 (1233, 15 mai); L. Mer let et A. Moût ié, Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, 1857, No 474 (1249, juin); B. Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 291.
(обратно)78
Сравните трудности, с которыми столкнулась попытка осуществить в Польше в новое время правило прикрепления к земле. См. J. Rutkowski, Histoire économique de la Pologne avant les partages, 1927, p. 104; «Le régime agraire en Pologne au XVIII siècle» (извлечение из «Revue d'histoire économique», 1926 и 1927 годов), р. 13.
(обратно)79
R. Mer let, Cartulaire de Saint-Jean en Vallée, 1906, No XXIX (1121); B. Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. I, p. 388 (1152); «Arch. Nat.», S. 2110, No 23 (1226 n. st., février).
(обратно)80
E. Mabille, Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois, 1874, No XXXIX (1077).
(обратно)81
E. De Lépinois et L. Merlet, Cartulaire de NotreDame de Chartres, t. I, No LVIII (1116–24 janv. 1149).
(обратно)82
«Mélanges d'histoire du moyen-âge offerts à M. F. Lot», 1925.
(обратно)83
Я обязан этим наблюдением г-ну Делеажу, который готовит труд об аграрном развитии Средневековой Бургундии.
(обратно)84
«Arch, Loiret», H 4; булла Александра III, Segni, 9 Sept. (1179, ср. J, W., 13 467 и 13 468). Ср. A. Luсhaire, Louis VI, No 492.
(обратно)85
«Etablissements de Saint Louis», éd. P. Viollet, t. I, с CLXX; cp. t. IV, p. 191.
(обратно)86
Quérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 339, No IV; «Arch. Nat.», L. 846, No 30; Paris, Bibl. S te Geneviève, ms 351, fol. 132v°.
(обратно)87
J. De La Monneraye, «Nouvelle Revue Historique de Droit», 1921, p. 198.
(обратно)88
«Arch. Nat.», J J 60, fol. 23 (1318, 17 dec).
(обратно)89
Конечно, имеются некоторые более древние примеры: см. статью De Vathaire de Guerchy, и «Bullet, de la Soc. des Sciences Historiques de l'Yonne», 1917.
(обратно)90
J. Garnier, Chartes de communes et d'affranchissements, t. II, p. 550; см. также статью J. Finot в «Bullet, de la Soc. d'Agriculture … de la Haute-Saône», 1880, p. 477.
(обратно)91
Marc Bloch, Rois et serfs, 1920; J. Gamier, Chartes de communes et d'affranchissements, Introduction, p. 207; см. статью P. Raymond в «Bullet, de la Soc. des Sciences … de Pau», 1877–1878; обследование 1387 года; в No 98 и 119 см. упоминания о двух предыдущих кампаниях.
(обратно)92
«Cligès», v. 5502 et suiv.
(обратно)93
Du Cange, под словом «Manumissio» и «Recueil des Histoir, de France», t. XXI, p. 141; Guérard, Cartulaire de N. D. de Paris, No VII, t. II, p. 177. По этому вопросу имеется чрезвычайно много сведений, которые невозможно здесь привести.
(обратно)94
V. 37203 et suiv.
(обратно)95
См. статью G. Robert в «Travaux de l'Académie de Reims», t. CXXVI, 1908–1909, p. 257–290.
(обратно)96
Ни кризис, ни восстановление не изучены в достаточной мере. Я даю здесь ссылки только к тем из приведенных фактов, которые взяты не из указанных в библиографической справке локальных монографий: H. Deniîle, La désolation des églises, t. II, 2, 1899; p. 821–845; J. Maubourguet, Sarlat et le Périgord méridional, t. II, 1930, p. 131; см. статью J. Quant in в «Mémoires lus à la Sorbonne, Histoire et philologie», 1865 (Sénonais); Rose rot, Dictionnaire topographiq'ue du département de la Côte d'Or, p. 35; «Arch, de la С. d'Or», E 1782 и 1783 (Bessey); С. D., Les villages ruinés du comté de Montbéliard, 1847; «Bulletin de la Soc. des Sciences historiques de l'Yonne», 1925, p. 167, 184 (Puisaye); см. статью Сh. H. Waddington в «Annales de la Société Historique et Archéologique du Gâtinais», t. XXXIX, 1929, p. 14 et suiv. (Gâtinais).
(обратно)97
Olivier Martin, Histoire de la Coutume de Paris, t. I, 1922, p. 400–401.
(обратно)98
L. Delisle, Mandements… de Charles V, 1874, No 625.
(обратно)99
«Chronique des quatre premiers Valois», éd. S. Luce, 1862, p. 302.
(обратно)100
«Ordonnances», t. XI, p. 132; L. Lièvre, La monnaie et le change en Bourgogne, 1929, p. 49, No 1; Planiol, La très ancienne coutume, 1896, p. 386.
(обратно)101
«Le Quadriloge invectif», éd. E. Droz, 1923, p. 30.
(обратно)102
А. Vaсhez, Histoire de l'acquisition des terres nobles par les roturiers dans les provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais,
(обратно)103
См. статью Bourquelot в «Biblioth. de l'Ecole des Chartes», 1867 (недостаточно); L. Mirot, Les d'Orgemont, 1913; Beaurepaire, Notes et documents sur l'état des campagnes en Normandie, p. 491.
(обратно)104
Старинные примеры этой практики; R. Merlet, Cartulaire du Grand-Beaulieu, 1907, No CCCXXI, 1241 (где слово «собственник» является определенно синонимом выражения «наследственный держатель»); «Arch, de Seine et Oise, H, fonds de Livry, 1 (1926). Для XV века см. J. Legras, Le bourgage de Caen, 1911, p. 126, n. 1, p. 220, n. 2; R. Latouche, La vie en Bas-Quercy, p. 72. В юридической литературе эта тенденция начинается с J. d'Ableiges (особенно II, с. XXIV); см. Dumonlin, OEuvres, éd. de 1681, t. 1, p. 603; Pot hier, Traité du droit de domaine, § 3; cp. Championnière, De la propriété des eaux courantes, 1846, p. 148.
(обратно)105
Guyot, Répertoire (к слову terrier); ср. об эволюции судебной практики О. Martin, Histoire de la Coutume de Paris, t. I, p. 406.
(обратно)106
Отчет гражданских комиссаров в Лоте (Lot) от 15 марта 1791 года; см. «Arch. Parlementaires», t. XXV, p. 288.
(обратно)107
Письмо от 2 декабря 1769 года, помещенное в начале описи 1681 года (Chantilly, reg. E 41).
(обратно)108
«Revue d'Auvergne», t. XLII, p. 29.
(обратно)109
См. статью L. Dubreuil, в «Revue d'histoire économique», 1924, p. 485; Du Halgouët, Le duché de Rohan, 1925, t. il, p. 46; cp. M. Sauvageau, Arrests et règlements, 1737, livre I, ch. 289–291; «Annales d'histoire économique», 1930, p. 366, 516.
(обратно)110
«Annales d'histoire économique», 1930, p. 535; Le Père Collet, Traité des devoirs des gens du monde, 1763, p. 271.
(обратно)111
См. статью Aubert в «Comité des Travaux Historiques»; «Bull, historique», 1898. Текст, относящийся к документу 33, «Arch. Calvados», 3226, fol. 271. В архиве Кальвадоса имеется картулярий семьи Кэрон, начатый 13 февраля 1460 года, подробное исследование которого (я не смог его осуществить) было бы очень интересным.
(обратно)112
A. De Charmasse, Cartulaire de l'église d'Autun, 3 partie, 1900, p. CXIV.
(обратно)113
О Монморильоне см. Rave au, L'agriculture… dans ié Haut-Poitou, p. 54; сведения о Лимузене были любезно сообщены мне г. А. Пти, архивистом департамента Верхняя Вьенна, или собраны мною; о Монбельяре см.. С. D., Les villages ruinés, 1847; ср. для Комбрайлья (Combrailles) рис. XII.
(обратно)114
Rapin, Les plaisirs du gentilhomme champêtre; упоминается П. Де Вэссьером (Р. De Vaissière, Gentilhorrimes campagnards, 2” éd., 1928, p. 205).
(обратно)115
Сведения об этом собраны и остроумно истолкованы Ж. Лефевром (см. «Revue d'histoire moderne», 1928, p. 103 et suiv.).
(обратно)116
«Le Châtelain de Coucy», v. 6387; Сh. V. Langlois, La vie en France au moyen-âge, t. II, 1925, p. 154, n. 1; J. Allen ou, Histoire féodale des marais de Dol, 1917, p. 57, с 17, p. 63, с 20.
(обратно)117
A. Tollemer, journal manuscrit, 2eéd., 1880; «Mérn. de la Soc. des Antiquaires de Normandie», t. XXXI, XXXII; «Lettres missives de Charles de Brucan», éd. Blangy, 1895; A. de Вlangy, Généalogie des sires de Russy, 1892; Y. Bezard, La vie rurale dans le sud de la région parisienne, p. 108; Сh. De Ribbe, Une grande dame dans son ménage… 1890; Сh. Hirschauer, Les Etats d'Artois, t. I, 1923, p. 121, n. 3. Обо всем этом см. P. De Vaissière, Gentilshommes campagnards de l'ancienne France, 2e éd., 1928.
(обратно)118
«Arch, de la Côte d'Or», G 2412 и 2415.
(обратно)119
A Petit, La métairie perpétuelle en Limousin, «Nouvelle, Revue Historique de Droit», 1919.
(обратно)120
J. Donat, Une communauté rurale à la fin de l'Ancien Régime, 1926, p. 245.
(обратно)121
См. M. Prouet A. Vidier, Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, t. I, 1907, p. 16; см. статью Zeumer в «Neues Archiv», t. XI, p. 331, а также L. Le villa in в «Le Moyen-Age», 1914, p. 250. Разумеется, тексты (такие, как Formul. Andecav., 25), где mansus имеет значение дома, здесь не учитываются.
(обратно)122
Actus pontificum Cenomannensium, éd. G. Busson et A. Ledru, 1902, p. 138. В Италии с VI века: Cassiodore, Variae, V, 10. О значении термина (и о колебаниях Моммзена по этому поводу) см. правильные замечания Дж. Луццато (G. Luzzato, I servi nelle grande propriété ecclesiastiche, 1910, p. 63, n. 3).
(обратно)123
B. Guérard, Polyptyque de l'abbé Irminon, «Polyptyque des Fossés», t. II, p. 283, с 2.
(обратно)124
«Bibl. Nat.», nouv. acq. lai, 1930, fol. 45 v°, 46.
(обратно)125
См. F. Lot, Le tribut aux Normands, «Biblioth. de l'Ecole des Chartes», 1924.
(обратно)126
G. Th., XI, 20, 6; cp. A. Piganiol, L'impôt de capitation, 1916, p. 63.
(обратно)127
См. статью F. Lot в «Mélanges d'histoire offerts à H. Pirenne», 1926, p. 308. Пример цельного манса на западе см. в «Сагtulaire de la cathédrale d'Angers», éd. Urseau, No XX. Следовало бы лучше изучить бретонский ran, быть может аналогичный мансу.
(обратно)128
«Polyptyque des Fossés», с. 14.
(обратно)129
«Bibl. Nat.», nouv. acqu. lat., 1930, fol. 28 v° (Anjou); Tardif, Cartons des rois, No 415, et «Arch. Nat», S 2072, No 13 (Villeneuve-le-Roi); «Revue belge de philologie et d'histoire», 1923, p. 337 (Prisches); «Arch. Nat», LL 1351, fol. 7 (Limoges et Fourches); «Arch. Loiret», H 302, p. 438, et «Arch, du Cher», fonds de Saint-Benoît-sur-Loire, cartulaire non coté, fol. 409, v° (сообщение M. M. Prou et Vidier, Bouzonville et Bouilly); см. статью Flour de Saint Genis в «Bulletin du Comité des travaux historiques, Section des sciences économiques», 1896, p. 87 (Semur).
(обратно)130
Аналогичные примеры мы встречаем в Нидерландах; см. G. Des Marez, Le problème de la colonisation franque, 1926, p. 165. В Лотарингии же наблюдались не имевшие большого успеха попытки ввести фиксированные держания; см. Сh. Guyot, Le Lehn de Vergaville, «Journal de la Société d'archéologie lorraine», 1886.
(обратно)131
Magnus Olsen, Farms and fanes of ancient Norway, 1928, p. 48.
(обратно)132
Сведения о лимузенском mas были собраны мной лично или сообщены мне г. А. Пти. О mazades см. статью J. Bauby (впрочем, весьма неполную) в «Recueil de l'Académie de législation de Toulouse», t. XXXIV.
(обратно)133
Сh. De Ribbe, La société provençale, p. 387; R. Latouche, La vie en Bas-Quercy, 432.
(обратно)134
Jehan Masselin, Journal des Etats Généraux», éd. A. Bernier, 1835, p. 582–584.
(обратно)135
См. в архиве Вьенны серию очень любопытных планов Уарэ (Oyré) и Антонье (Antogné), возможно XVIII века.
(обратно)136
По этому поводу см. превосходные замечания L. Laсroсq, Monographie de la commune de la Celle-Dunoise, 1926.
(обратно)137
См. статью G. Robert в «Travaux de l'Acad. de Reims», t. CXXVI, p. 257.
(обратно)138
Jacques de Vitry, Ëxempia, éd. Crane, 1890, p. 64, No CXLIII.
(обратно)139
Lа Вorderie, La révolte du papier timbré, 1884, p. 93 et suiv.
(обратно)140
«Layettes du Trésor des Chartes», t. V, No 876.
(обратно)141
E. Bligny-Bondurand, Les coutumes de Saint-Gilles, 1915, p. 183; см. то, что относится к городам, в тезисе, выставленном от имени жителей Лиона, «Olim», t. I, p. 933, No XXIV.
(обратно)142
G. Robert, L'abbaye de Saint-Thierry et les communautés populaires au moyen-âge, 1930 (оттиск из «Travaux de l'Acad. Nationale de Reims», t. CXLII, p. 60).
(обратно)143
«Capitularia», t. II, No 273, с 8, 9, 20.
(обратно)144
В. Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 17.
(обратно)145
«Arch. Nat.», LL 1043, fol. 149 v° (1291). См. регламент 1211 года (задержание животных вместо убоя), относящийся к Мэзону (Maisons), S. 1171, п. 16.
(обратно)146
«Arch, de la Moselle», В 6337 (Longeville, 18 dec. 1738; Marty, 8 sept. 1760).
(обратно)147
«Revue bourguignonne d'enseignement supérieur», 1893, p. 407; L. Mer let et A. Moutié, Cartulaire de Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, t. II, 1858, No 1062; «Arch. Nat.», L 781, No 12 et LL 1026, fol. 127 v° et 308; «Bulletin de la Soc. des sciences historiques … de l'Yonne», t. XXX (1876), 1re partie, p. 93.
(обратно)148
L. Delisle, Etudes sur la condition de la classe agricole, p. 105; «Olim», t. III, 1, p. 98, No XLVII; «Cartulaire de Saint-Père de Chartres», t. II, p. 307, No LIV; «Arch, de Seine et Oise, H. Maubuisson, 54; «Bibl. de Ste Geneviève», ms 356, p. 154; «Arch, de la Moselle», В 6337.
(обратно)149
Кроме локальных географических или исторических монографий, см. работы J. Lefort, 1892; F. Debouvry, 1899; С. Boulanger, 1906. Некоторые выражения я заимствую из мемуаров и эдиктов, опубликованных Буланже, и у E. De la Poix de Frémin ville, Traité Générale du gouvernement des biens et affaires des Communautés, 1760, p. 102 et suiv., и из «La pratique universelle pour la rénovation des terriers», t. IV, 1754, p. 381 (cp. Denisart, Collection de décisions, t. III, 1786; слово «Berger»). Для Лотарингии см. ордонанс герцога Карла IV от 10 июня 1666 года, направленный против «монопольного сговора» (monopoleuse intelligence) арендаторов: François de Neufchâteau, Recueil authentique, 1784, II, p. 144.
(обратно)150
Rétif de la Bretonne, La vie de mon père, 3e éd., 1788, t. II, p. 82.
(обратно)151
B. Alart, Cartulaire roussillonnais, 1880, p. 51 (1027); см. другой пример в областях прежней Испанской марки: Ковалевский M. M., Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства, т. Ill, M., 1903; A Bernard et А. Вruel, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, t. VI, No 5167 (1271).
(обратно)152
Guérard, Cartulaire de Saint-Père de Chartres, t. I, p. 172, No XLV.
(обратно)153
См. как оценивал П. Лакомб (P. Laсombe, L'appropriation du sol, 1912, p. 379) толкование, которое дал этому тексту Брютайль. В основном (с оговорками относительно его понимания слов «alodium» и «dominicum») я присоединяюсь к толкованию Лакомба.
(обратно)154
«Car reson monstra que différencia sia entre lo senhor et los vassalhs»; «Arch. Bouches-du-Rhône», В 3343, fol. 342 (1442, 28 janv.).
(обратно)155
«Olim», t. I, p. 334, No III, p. 776, No XVII (но речь идет о людях, не живших постоянно у заинтересованного сеньора, и правовой вопрос в суде не обсуждался); L. Ver ri est, Le régime seigneurial, p. 297, 302, 308.
(обратно)156
Рoullain Du Parc, Journal des audiences … du Parlement de Bretagne, t. II, 1740, p. 256 et suiv.; J. Qarnier, Chartes de communes, t. II, No CCCLXXI, CCCLXXII; G. Lefebvre, Les paysans du Nord, p. 67, n. 1.
(обратно)157
Essuile, Traité politique et économique des communes, 1770, p. 178; С Trapenard, Le pâturage communal en HauteAuvergne, 1904, p. 57; cp. «Arch, du Puy-de-Dôme, Inventaire», C, t. II, n. 2051.
(обратно)158
Fréminville, Pratique, 2e éd., t. II, p. 254.
(обратно)159
Poullain Du Parc, Journal des audiences… du Parlement de Bretagne, t. II, 1740, p. 258.
(обратно)160
«Séances et travaux de l'Acad. des Sciences Morales», t. CXII, p. 357.
(обратно)161
M. Prou et A. Vidier, Recueil des chartes de SaintBenoit sur Loire, 1900 et suiv., No CXCIV (текст говорит о «masures»; следует подразумевать «хозяйства»); Marc Bloch, Rois et serfs, 1920, p. 180.
(обратно)162
«Bibl. de Meaux», ms 64, p. 197 (Varreddes); С Douais, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sernin, 1887, No CVI (Grisolles); L. Delisle, Etudes, p. 135, n. 36 (Curey); см. L. Rédet в «Mém. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest», t. XIV, No LXXXV (St-Hilaire); F. S о eh née, Catalogue des actes de Henri Ier, 1907, No 26 (Marizy).
(обратно)163
Depoin, Liber testamentorum Sancti Martini, No LXXX.
(обратно)164
R. De Maulde, Etude sur la condition forestière de l'Orléanais, p. 178, n. 6, p. 114; Chantilly, reg. E 34.
(обратно)165
См. статью A. De Calonne в «Mém. de la Soc. des Antiquaires de Picardie», 4e série, t. IX, p. 178–179; см. статью 9 общего наказа лотарингских деревень Баннэй (Bannay), Лутреманж (Loutremange), Конде-Нортен (Condé-Northen), Водонкур (Vaudoncourt) и Вариз (Varize); см. «Quellen zur lothringischen Geschichte», t. IX.
(обратно)166
«Arch. Nat.», H 1515, No 16.
(обратно)167
Об аграрной истории Прованса (которую почти целиком еще предстоит написать, для чего имеется достаточно документов, особенно о выгоне скота в горы, изучение которого дало бы столь интересные данные для истории социальной структуры) см. работы юристов старого режима, особенно J. Morgues, Les statuts, 2е éd., 1658, p. 301; см. ответы интенданта и генерального прокурора при расследовании 1766 года об обязательном выпасе; см. ответы супрефектов и мэров департамента Буш-дю-Рон (Bouchesdu-Rhône) при обследованиях 1812 и 1814 годов («Arch, des B.-du-Rhône», M 136, и «Statistique agricole de 1814», 1914); см. также изданные местные обычаи департамента Буш-дю-Рон (Сh. Таvernier, 1859) и Вар (Var) (Cauvin et Poulie, 1887, но по расследованию 1844 года); наконец, см. статью P. Mass on в Les Bouches-du-Rhône, Encyclopédie départementale, t. VII, L'Agriculture, 1928.
(обратно)168
F. Benoit, Recueil1 des actes des comtes de Provence, 1925, t. II,_ p. 435, n. 355, с VII.
(обратно)169
«Arch. B.-du-Rhône», В 49, fol. 301 v°.
(обратно)170
R. Brun, La ville de Salon, 1924, p. 287, с 9; p. 300, с XX; p. 371, с 27; ср. для более позднего времени для Альмани «Arch, des B.-du-Rhône», В 3356, fol. 154 (1647, 21 juillet).
(обратно)171
«Arch. d'Aix», AA 2, fol. 42 v°, 46, 45; E. Вondurand, Les coutumes de Tarascon, 1892, с CXI; «Arch, des B.-du-Rhône», Livre vert de l'archevêché d'Arles», fol. 235; F. et A. Saurel, Histoire de la ville de Malaucène, t. II, 1883, p. LV (1500, 4 juin); «Arch, des B.-du-Rhône», В 3348, fol. 589 v° (1631, 28 sept.); Giberti, L'histoire de la ville de Pernes, p. 382; L. Barthélémy, Histoire d'Aubagne, t. II, 1889, p. 404 et suiv.
(обратно)172
«Arch. B.-du-Rhône», В 3343, fol. 412 v°, 512 v° (1322, 5 od.). Распри возобновились в 1442 году (см. «Arch. B.-du-Rhône», В 3343, fol. 323 v° et suiv.). Этот последний текст, впрочем неясный, как будто показывает, что запрет выпаса на жнивье не всегда точно соблюдался. Обработка пустошей (herms) и распространение на них пастбищных прав также вызывали ожесточенные споры; кроме упомянутых текстов (здесь и выше, стр. 259, прим. 41), см. в том же регистре, fol. 400 v° (от 5 декабря 1432 года, подтверждено 6 августа 1438 года) и 385 (от 29 декабря 1439 года). В Дине (Digne) обязательный выпас на жнивье в 1365 году был также запрещен на три года; см. F. Guichard, Essai historique sur le cominalat, 1846, t. II, No CXXIII.
(обратно)173
О Салоне (Salon) см. данную работу, стр. 297, прим. 12; J. Girard et P. Pansier, La cour temporelle d'Avignon, 1909, p. 149, с 95, p. 155, c. 124; «Arch, des B.-du-Rhône», В 3356, fol. 705 v°; «Arch. d'Orange», BB 46, fol. 299 (по инвентарю; несмотря на то, что я искал на месте, я не смог найти документ).
(обратно)174
«Arch, de B.-du-Rhône», В 3355, fol. 360 v° (по-видимому, налагавшие запрет желали большего).
(обратно)175
См. о районе Динь (Digne) «Arch, des Bouches-du-Rhône», В 159, fol. 65, 66 (1345); о Валансоле (Valensolle) см. данную работу, стр. 297, прим. 9.
(обратно)176
«Arch, de Salon», Copie du Livre Blanc (XVIII век), р. 674 et suiv. Документ с неточной датой (адресованный архиепископу Филиппу, он должен быть датирован между 11 февраля 1463 года и 4 ноября 1475 года) и без полного изложения дела был опубликован Р. Брюном (R. Brun, La ville de Salon, p. 379).
(обратно)177
«Arch, des Bouches-du-Rhône», В 3347, fol. 607.
(обратно)178
См. поучительную жалобу жителей Со (Sault), относящуюся к 1543 году, у T. Gavot, Titres de l'ancien comté de Sault, t. II, 1867, p. 137; ср. с bandites Ниццского графства, исследованными Л. Гюйо (L. Guyot, Les droits de bandite, 1884); J. L a b a rrière, Le pâturage d'été, 1923.
(обратно)179
См. все же тяжбу об огораживании (H. Boniface, Arrests notables, t. IV, 1708, 3e partie, 1, H, t. I, с XXI]?.
(обратно)180
«Arch. B.-du-Rhône», В 3348, fol. 589 v° (Carnoules); «Le grand coustumier du pays et duché de Normandie… avec, plusieurs additions… composées par… Guillaume Le Rouille», 1539, с VIII. Для Бургундии свидетельство о выращивании проса (milot) в 1370 году на паровом поле в Семюре см. В. Рrost, Inventaires mobiliers, t. I, 1902–1904, No 1171 (указано Делеажем).
(обратно)181
«Mém. de la Soc. d'émulation de Montbéliard», 1895, p. 218. Запрет огораживания был возобновлен в 1703 и 1748 годах [см. «Arch. Nat.», К 2195 (6)].
(обратно)182
См. рис. VII и XIV.
(обратно)183
См. рис. XVI.
(обратно)184
Относительно всех вопросов, которые я затрагиваю в этом и в последующих параграфах, а также в главе VII, я отсылаю к статьям, которые я опубликовал в 1930 году в «Annales d'histoire économique» под названием «La lutte pour l'individualisme agraire dans la France du XVIII siècle». Ниже будут даваться ссылки только на некоторые факты, не указанные в этих статьях. См. также H. Sée, La vie économique… en France au XVIII siècle, 1924; об общинных угодьях см. статью G. Bourgin в «Nouvelle revue historique du droit», 1908.
(обратно)185
Taisand, Coutumes générales des pays et duché de Bourgogne, 1698, p. 748; I. Вouvot, Nouveau recueil des arrets, t. II, 1728, p. 764; P. J. Brillon, Dictionnaire des Arrêts, t. V, 1727, p. 108, 109. Противоположные постановления см. Frém in ville, Pratique, t. III, p. 430 et suiv. О Нормандии см. «Bibl. de Rouen», ms 870, fol. 283; «Arch. Seine-Infer.»; список постановлений за июль — август 1588 года; постановление от 7 июля; P. Duchém i n, Petit-Quevilly, 1900, p. 59. Ta же тенденция наблюдается с XVI века и у Парижского парламента; любопытные постановления см. у J. Imbert, Enchiridion, 1627, p. 194.
(обратно)186
Примеры (среди многих других) об Сент-Уан-ан-Бри (Saint-Ouen-en-Brie) см. в «Bibl. Nat», lat. 10943, fol. 297 (1266, juin); A. Lacroix, L'arrondissement de Montélimar, t. V, 1877, p. 24, 183 (1415 24 avril, 1485 27 janvier); P. L. David, Amance en Franche-Comté, 1926, p. 458 (1603).
(обратно)187
См. выше, гл. II, прим. 27; мотивы заключений генерального адвоката д'Агессо от 22 февраля 1722 года см. в «Journal des Audiences», t. VII, p. 647.
(обратно)188
Saint Lambert, Les Saisons, L'automne, éd. de 1826, p. 161.
(обратно)189
C. Torello, Ricordo d'agricoltora. (Первое издание, если не ошибаюсь, 1556 года; в Национальной библиотеке имеется венецианское издание 1567 года.)
(обратно)190
R. Е. Рrothero, The pioneers, 1888, p. 249, 32; ср. «Diet, of National Biography», art. R. Weston.
(обратно)191
G. Weulersse, Le mouvement physiocra tique, 1910, t. II, p. 152.
(обратно)192
Dureau de la Malle, Description du bocage percheron, 1823, p. 58 et suiv.
(обратно)193
«Mémoire de la Soc. d'agriculture de Bourges», «Arch. Nat.», H 1495, No 20.
(обратно)194
«Traité politique», 1770, p. VI.
(обратно)195
Du Halgouët, Le duché de Rohan, p. 56.
(обратно)196
«Arch. Nat.», H. 1495, No 33 (Soc. d'agriculture d'Angers) и «Annales d'histoire économique», 1930, p. 523, n. 2.
(обратно)197
Е. Martin, Cahiers de doléances du bailliage de Mirecourt, 1928, p. 90.
(обратно)198
«Annales d'histoire économique», 1930, p. 349.
(обратно)199
«Arch. Nat», К 906, No 16 (Soc. d'Orléans).
(обратно)200
См. о революции статью G. Lefebvre в «Annales d'histoire économique», 1929 (с библиографией, которая освобождает меня от других ссылок) и статью G. Вourgin «Revue d'histoire des doctrines économiques», 1911.
(обратно)201
«Arch. Nat», F10 284 (1793, 29 août).
(обратно)202
«Arch. Nat.», F10 212.
(обратно)203
[L. Mer let], L'agriculture dans la Beauce en l'an II, 1859, p. 37.
(обратно)204
Письмо интенданта Суассона от 26 октября 1760 года в «Vierteljahrschrüt für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», 1906, S. 641.
(обратно)
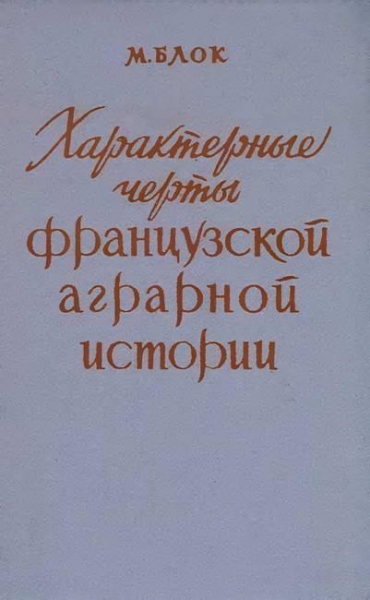

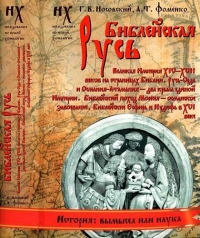
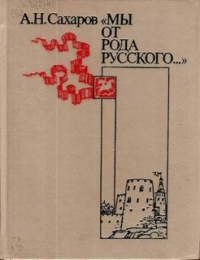

Комментарии к книге «Характерные черты французской аграрной истории», Марк Блок
Всего 0 комментариев