Этносы и «нации» в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время
ETHNOSES AND «NATIONS» IN WESTERN EUROPE
IN THE MIDDLE AGES AND THE EARLY MODERN TIME
Edited by N. A. Khatchaturian
Saint-Petersburg
ALETHEIA 2015
Издание подготовлено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) Проект № 06-01-00486а
Редакционная коллегия:
д. и.н., профессор Н. А. Хачатурян (ответственный редактор), к.и.н., доцент И. И. Варьяш, к.и.н., доцент Т. П. Гусарова, д.и.н., профессор О. В. Дмитриева, д.и.н., профессор С. Е. Фёдоров, А.В. Романова (ответственный секретарь)
Рецензенты:
доктор исторических наук, профессор Л. М. Брагина
доктор исторических наук, профессор А. А. Сванидзе
Этносы и нации: преемственность явлений и проблемы «актуального средневековья»
Настоящая монография стала итогом работы общероссийской конференции медиевистов, организованной Оргкомитетом научной группы «Власть и общество» при кафедре истории средних веков и раннего Нового времени Исторического факультета МГУ, состоявшейся 15–16 февраля 2012 г.
Сама конференция – восьмая по счету, и девять опубликованных монографий, восемь из которых являются коллективными1, позволяют, по нашему мнению, признать, что решение членов кафедры в начале 90-х годов создать научную группу, которая бы консолидировала в масштабах страны медиевистов, по преимуществу специалистов по политической истории Средневековья, с целью возродить и обновить эту область знания в отечественной науке, – в целом оправдало себя. Предлагаемые Оргкомитетом группы к разработке проблемы и их решения отражают современный уровень мирового исторического знания. Их отличает разнообразие аспектов изучения, в которых присутствуют государственная и институциональная история, в частности, в контексте актуальной сегодня концепции Etat moderne; политическая история, часто в рамках микроистории (события, люди), или тоже актуальных сегодня параметрах её культурно-антропологического измерения (имагология, политическая культура и сознание). Специальное направление исследований составляют социологические проблемы потестологии с темами: феномен власти и средства её реализации, в исследовании которых историю традиционных политических институтов несколько потеснили формы репрезентации монарха, апеллирующие к сознанию членов общества и рассматриваемые властью в качестве своеобразного диалога с ними.
Показателем требуемого сегодня научного уровня работы группы, служит неоднократная поддержка её исследовательских и издательских проектов со стороны РГНФ. Концептуальная и проблемная целостность изданий, которые обеспечивают программные проекты конференций с последующей редакционной работой над текстами, само содержание материалов с их проблемной рубрикацией делают труды группы не сборниками статей, но de facto, – коллективными монографиями.
Что касается научной значимости материалов данной публикации, то её определяет несколько слагаемых. В их ряду следует назвать тот факт, что предыстория современных западно-европейских государств началась именно в эпоху Средневековья. В рамках этой эпохи они пережили процесс трансформации этносов в более сложные социополитические и культурные этнонациональные образования, обретшие уже в Новое и Новейшее время статус национальных государств, обозначивших основные контуры политической карты сегодняшней Западной Европы. Более того, востребованность этой тематики подчеркнули процессы современной глобализации мира, которые во многих случаях обострили не только межгосударственные отношения, но и внутреннюю жизнь в ряде стран, благодаря возвращению казалось бы изжитых процессов самоопределения этносов вплоть до попыток образования ими новых государств или возвращения некогда потерянной политической самостоятельности. Усилия в формировании новой этнонациональной архитектуры современного мира только в Западной Европе демонстрируют регионы северной Италии на Аппенинском полуострове, страна басков и Каталония на Пиренейском полуострове, носители романского и фламандского языков в Бельгии и Нидерландах; наконец, население Ирландии и Шотландии в Британском содружестве. Современные этнонациональные проблемы, подтверждая неизбывность процесса исторического развития, вместе с тем приближают к нашему сегодня – далекое средневековое прошлое, которое обнажает генезис интересующих нас явлений: полиморфизм начальной истории этносов, сложный путь их консолидации в новую более зрелую общность, специфику условий, предопределявших выбор того или другого этноса на роль ведущего в национальном самоопределении общности, наконец, возможности или слабости последней, которые, в частности, могли зависеть от положения в ней малых этносов.
К сожалению, отечественные историки-медиевисты не создали специального направления по изучению данной тематики. На страницах наших работ она возникает чаще всего в качестве сопутствующих сюжетов, в контексте проблем освободительной борьбы или формирования национального сознания и чувства патриотизма, восприятия «свой-чужой». Уступив эту область исторического знания преимущественному вниманию этнографов, антропологов и социологов, историки-медиевисты обеднили собственный предмет анализа, в известной мере облегчив возможность нарушения принципа исторической преемственности в решении интересующего нас вопроса. Эту ошибку часто допускают исследователи – «новисты», особенно политологи и социологи, рассматривая такое явление как нация исключительно в пространстве проблем Нового времени и современности.
Несомненную остроту теме сообщает состояние современного научного знания, связанное с изменениями в эпистемологии и в первую очередь с новыми оценками роли сознания в историческом процессе и подходах к его изучению. Итогом, и следует признать весьма плодотворным, подобных изменений стало специальное внимание исследователей к проблемам эмоционального и отрефлексированного восприятия человеком этнонациональных общностей. Именно в этом контексте исследований появились, к примеру, новые темы идентификации и самоидентификации этнонациональных групп. Бесспорную значимость чувственного начала в формировании в конце XVI – начале XVII вв. глубоко осознавал выдающийся для своего времени английский историк Уильям Кэмден. Воссоздавая на страницах своих сочинений сложную структуру британской общности (география, народы, языки, историческое прошлое, памятники…) – он справедливо заметил: «Язык и место всегда держат сердце»2. Однако процесс исторического познания столь же убедительно демонстрирует собственные сложности, – одной из которых является, с почти непреложной настойчивостью повторяющееся стремление исследователей придавать очередной новации в видении исторического процесса исключительное значение. Подобная «эмоциональность» ученых чаще всего оборачивается нарушением комплексного видения процессов и явлений. Категоричные заявления, согласно которым, этнос и нацию «делает ощущение индивида своей принадлежности к ним», – не должно для исследователя обесценивать факта реального формирования и существования соответствующей общности. На наш взгляд, этот давний, казавшийся вечным спор о «первичности яйца или курицы», в свете исторической эпистемологии сегодня выглядит, если не решенным до конца, то безусловно менее схоластичным, благодаря преодолению в философии истории традиционной альтернативы в вопросе соотношения материи и духа. Оба условия – возможность соблюдения принципа исторической преемственности в оценке явлений «этнос» – «нация», подобно задаче преодоления разрыва в толковании связки «явление – представление о нем», с преимущественным вниманием к «представлению», – лежат в анализе интересующей нас темы на путях её комплексного видения и рассмотрения. Именно этот методологический подход стал одной из ведущих линий в материалах данной публикации.
Было бы неправильным считать, что авторы тома решили задачу соотношения и природы этносов и наций, тем не менее, материалы публикации делают очевидной преемственность этих явлений, подчеркивая, таким образом, отнюдь не «внезапное» появление национальных общностей Нового времени, в любом случае ставших результатом внутренней трансформации аморфных этнических социумов в более зрелые образования. Вместе с тем, факт преемственности этих явлений и повторяющиеся компоненты в их характеристике: «малые» или «ведущие» этносы, – общая историческая судьба и историческое существование социумов в очередных геополитических границах государств, – затрудняют возможность уловить «начало» качественного перехода.
В материалах, представленных Н.А. Хачатурян, сделана попытка найти решение вопроса в контексте анализа условий общественного развития, которые подготовили этот переход. Совокупность изменений – экономических, социальных, политических, – начавшихся в условиях модернизации средневекового общества, при их относительной координации, – автор определила понятием «консолидации», подчеркнувшим глубинность процесса. Именно этот процесс, в качестве решающего средства преодоления средневекового партикуляризма, обозначил, по её мнению, вектор движения к возникновению «национального» единства (потенциал мелкого производства, связанное с ним умножение социальных связей и расширение пространства их действия; преодоление личностного начала в них; выравнивание социального статуса крестьянства и горожан, их сословно-корпоративная самоорганизация; социальная динамика; формирование института подданства…)
Дополнительный научный интерес к теме сообщает её дискуссионный характер, вызванный состоянием понятийного аппарата проблемы. Номинацию явления формировали опыт греческой и римской истории [понятия этнос (ethnos), нация (natio/, связанные с глаголом рождаться (nascor)], тексты Библии, раннесредневековых и средневековых авторов и документов создавали множественность, неопределенность и переплетенность терминов из-за разности смыслов, вкладываемых в повторяющиеся во времени слова-понятия, или наоборот, из-за употребления разных понятий к однопорядковым явлениям (племя, народ). «Осиное гнездо понятий» – оценка ситуации, встречающаяся в современной научной литературе, весьма убедительно свидетельствует на наш взгляд о нецелесообразности чрезмерного увлечения терминологией явлений, поскольку оценку сущности последних, как содержательного наполнения их условных по характеру номинаций, может обеспечить только конкретно – исторический анализ с учетом того, что ни одно из понятий не может передать содержательную множественность явлений. Убедительность последнего соображения показал анализ общественных предпосылок интересующего нас явления в упомянутой выше публикации Н.А.Хачатурян. Именно такой, лишенный ригоризма подход к понятийному аспекту темы демонстрирует М.А. Юсим в своей теоретической по характеру главе. Специальный интерес в ней вызывает толкование автором модных сегодня в исторической и социологической литературе тем, связанных с проблемой номинаций, но посвященных изучению иных форм сознания, которые в контексте этнонациональных процессов реализуют себя в явлениях идентификации (соотнесения субъекта с группой) и самоидентификации (субъективное осознание субъектом или группой своего образа).
Наша позиция в отношении понятийного ригоризма, излишняя увлеченность которым часто подменяет собой собственно научный анализ реальных явлений, получает дополнительные аргументы в весьма интересной и значимой для нашей темы главе, написанной Р. М. Шукуровым. Содержащийся в ней материал представляет собой органическое соединение исторического и философского аспектов исследования, посвященного византийским моделям этнической идентификации. Оставляя в стороне принципиально важный в эпистемологическом контексте для предпринятого автором анализа вопрос об «архаизации» исследовательской манеры византийских интеллектуалов, я позволю себе выделить его соображения по принципиальным проблемам, затронутым в нашей публикации. Р.М. Шукуров, к примеру, подтверждает впечатление о возможности множественных подходов или маркеров при выработке (формировании) понятий для этнических явлений. По данным византийских текстов автор вычленяет модель этнической идентификации по номинации народов – близких или дальних соседей Византии, в основе которой лежал локативный (пространственный) параметр. Оценивая базовую логику византийского метода систематизации и классификации объектов исследования, автор, подобно византийским интеллектуалам, уделяет специальное внимание аристотелевской логике в части рассуждений великого философа о соотношении общего и единичного (род и вид), – в конечном счете о соотношении абстрактного и конкретного мышления. Эта теория, в качестве вечной истины получившая подтверждение и новое дыхание в контексте современного толкования принципа относительности в историческом процессе и эпистемологии, побуждает и нас, в хитросплетениях понятий непременно помнить об их условности.
Констатация Р.М. Шукуровым пространственного измерения идентичности народа или человека обозначила, на наш взгляд, некую проявившую себя особенность в материалах нашей публикации. Астрологические и климатические теории в трактатах Клавдия Птолемея, Гиппократа, Плиния Старшего, Посидония, – не позволили автору главы остановиться только на роли локального маркера в номинации этнических процессов. Они побудили его дать по существу, расширительную характеристику географического (пространственного) фактора в этих процессах, отмечая его влияние на нравы, характер и даже историческую судьбу народов в контексте идеи «баланса», «равновесности» в греческой философии. Эти наблюдения в совокупности с анализом политического влияния пространственных мутаций на этнический полиморфизм в условиях формирования этнонациональных государств (гл. Н.А. Хачатурян), – подчеркнули целесообразность рассмотрения роли географического фактора в качестве специальной линии исследования интересующего нас сюжета.
Группа глав в материалах тома с преимущественным вниманием к явлениям духовной жизни, пополнили картину социально – экономических и политических факторов показателями процессов формирования «национального» сознания, то есть анализом таких явлений как язык, культура, религия, мифы об историческом прошлом, историческая, политическая и правовая мысль. Исходный для авторов глав настрой на органическую связанность личностных и «материальных» параметров в этом анализе позволил им отразить современное видение людей далекого прошлого. Оно преодолело свойственный позитивизму настрой исключительно «социального» человека. Бывший ярким достижением исторического знания XIX века образ «социального» человека, то есть человека, включенного в общественную жизнь и в большей или меньшей мере зависимого от нее, изживал себя в условиях смены парадигм на рубеже XIX–XX веков, отмеченных нами выше. Новый образ человека-актора сегодня должен был быть восстановлен в свойственной ему полноте, – то есть в связке социального и природного начал прежде всего – его психологии.
Историческая, политико-правовая мысль, культурные феномены (поэзия в качестве объекта внимания) в монографии представляют собой по преимуществу формы отрефлексированного сознания, будучи, если не результатом творчества интеллектуалов, то в любом случае людей письменной культуры, образованной частью общества. Особенностью отрефлексированной, в первую очередь политико-правовой линии, явились свойственная ей выраженная печать организующей роли государственных структур или субъектная ангажированность позиции в отношении этнонациональных процессов.
Специальный интерес в этом контексте (и не только) представляет глава, написанная С.Е. Федоровым, значимость которой определяют две особенности: объект анализа и уровень его реализации. Речь идет о чрезвычайно трудном варианте формирования коллективной общности в условиях композитарной британской монархии XVI – нач. XVII веков, пытавшейся преодолеть партикуляризм составляющих ее компонентов, – английского, шотландского, ирландского и валлийского. Процесс исследуется на субъективном уровне конструирования концепции коллективной общности, с использованием дискурсивного анализа культурно-логических инструментов в текстах, созданных представителями интеллектуальных групп антиквариев, юристов и богословов. Дополнительный интерес авторской попытке сообщает многолинейность содержательной стороны исследовательского поиска с обращением к историческому прошлому региона. Последнее обстоятельство позволило автору включить в свой анализ такие сюжеты, как проблемы культурного и территориального сосуществования кельтских и германских племен с пропагандистской тенденцией в концепции этих племен, а также теории континуитета в социально – политических институтах и церковной организации (гемот, инсулярная церковь) в истории британского содружества.
Любопытной перекличкой с материалами, публикуемыми С.Е. Федоровым, выглядит исследование А.А. Паламарчук, которое посвящено сложной судьбе «британской» общности в условиях той же композитарной политической структуры, которое она реализует в контексте редкого в отечественной медиевистике и потому особенно ценного анализа права. Дополнительный интерес анализу сообщает факт неунифицированной и сложной правовой ситуации в Англии, где действовали параллельно общее и цивильное право, признающее до известной степени влияние Римского права. Автор иллюстрирует неодинаковое восприятие идеи британской идентичности теоретиками цивильного права с настроем на объединение общности, – и общего права, с настроем на сохранение региональных особенностей.
Монография содержит материалы своеобразной переклички вариантов функционирования политического фактора в стратегии формирования протонациональной идеологии. Её могли создавать в качестве гарантов справедливости высшая судебная инстанция и, следовательно орган государственного аппарата, каким является Парламент во Франции и Парламент Англии как общественный институт (статьи С.К. Цатуровой и О.В. Дмитриевой).
III раздел в монографии: «"Свои” и "чужие”: конфликты или сотрудничество?» – группирует публикации, которые объединяет идея «противопоставления» народов – как почти непременный, весьма эмоциональный и потому опасный компонент этно – национального самосознания.
Материалы раздела отличает конкретность и убедительность, которые обеспечены тщательным анализом не только нарративных, но и документальных источников – немецких, французских, венгерских и австрийских. Они отразили как разнообразие вариантов комбинации этно-конфессиональных элементов в гетерогенных политических образованиях типа Священной Римской империи, Австро-Венгрии или государствах Пиренейского полуострова, так и разнообразие в выборе маркеров, с помощью которых происходила «сортировка» на «своих» и «чужих». Они, наконец, дают любопытные «подсказки» на путях возможного смягчения позиций в восприятии «чужих», которые демонстрировало средневековое Западноевропейское общество – будь то нужда в грамотных профессионалах в управлении немецкими княжествами, – неизбежность «интернационализации» исполнительного верховного аппарата в многоэтнической Австро-Венгрии (Т.Н. Таценко, Т.П. Гусарова), или объективная необходимость в иностранных специалистах в условиях формированиях мануфактурного производства, в частности по причине заинтересованности в освоении новых видов производства во Франции (Е.В. Кириллова).
В главе, написанной Т.П. Гусаровой, проблема кадровой политики Габсбургов в Венгерском королевстве, в частности её хорватского компонента, персонифицирована и документально подтверждена биографией и деятельностью юриста-хорвата Ивана Китонича, что сообщило анализу красноречивую убедительность. Обращают на себя внимание два факта, замеченные автором, которые по нашему мнению свидетельствуют о заметном отставании композитарной монархии Габсбургов и её составляющей – Венгерского королевства на путях модернизации средневекового общества и институционализации здесь государственности. Оба эти обстоятельства не могли не сказаться на процессах формирования «национальной» консолидации. Показательными примерами служат толкование «нации» в правовых нормах государственной жизни, ограниченные рамками дворянского происхождения и причастности к политическому управлению; а также ограничение доступа членов социума к королевской юстиции, – знак выраженного средневекового партикуляризма, затруднявшего оформление института «подданства».
Особый интерес представляют материалы, отразившие этнические и национальные процессы на Пиренейском полуострове в сравнительном сопоставлении их решения в исламской и христианской организациях политического устройства, которые обнаруживают известные совпадения: в вариантах маркирования населения не по принципу крови, но конфессиональной принадлежности; в формальной (вероятно не исключавшей возможного насилия), но «толерантности», благодаря факту признания автономного самоуправления конфессиональных социумов мусульман, иудеев, христиан, – самоуправления, регулируемого договором (И.И. Варьяш).
Выраженный теоретический аспект анализа отражает интересную попытку решения вопроса автором главы в контексте моделей политической культуры, в данном случае, модели, которая формировалась под влиянием особенностей Римской государственности, – отличной, от варианта развития, в Восточном Средиземноморье и ролью Византии в нем.
Итак, материалы, опубликованные в настоящем издании, отразили результаты многостороннего анализа этнонациональных процессов, происходивших в Западной Европе на уровне медленных глубинных изменений в общественной системе, более подвижных государственных форм, с учетом организующей роли политического фактора на уровне идей и эмоций участников процессов, а также примеров опыта взаимодействия «своих» и «чужих», ведущего этноса и малых образований. Подводя итоги коллективного исследовательского поиска, я позволю себе не только подчеркнуть исключительное значение «средневекового» этапа в историческом процессе, в данном случае по показателям этнонационального вектора развития, но попытаюсь аргументировать эту могущую показаться чрезмерной высокую оценку соображениями, в тоже весьма рискованном и обязывающим автора контексте «актуального Средневековья». Попытка не окрашена чувством реванша за долгую недооценку средневековой истории в советской исторической науке XX столетия. Утверждение не продиктовано встречающимися иногда в истории «повторами» старых форм общественного развития, которые, как правило, в современной жизни выглядят неорганичным явлением, будучи только слабым отражением своих оригиналов (рабство сегодня; апроприация публичных государственных служб, публичной власти или собственности, создание частных «дружин» защиты). Речь идет о значимости средневекового опыта при весьма выразительной множественности оснований, обусловивших на наш взгляд эту значимость. Назову три из возможных аргументов.
Это, во-первых, место «средневекового» этапа на шкале исторического времени. Он стал непосредственной «предысторией» современного общества, благодаря потенциалу общественной системы, отличительным признаком которой в условиях социального неравенства был экономически зависимый, но личносвободный мелкий производитель, владеющий орудиями труда, – обстоятельство, которое стимулировало его инициативу. Это позволило именно на данном витке развития обеспечить радикальный поворот в историческом процессе, положив конец доиндустри-альному этапу в мировой истории, обозначив, довольно отчетливо на какое-то время контуры будущего общества. Специфика западноевропейского региона и по ряду показателей Европы в целом, – сделала его лидером социально-экономической, политической и культурной модернизации мирового исторического процесса.
Конечная временная граница этапа, условная и растянутая и для западноевропейского региона, отделена от нас в масштабах исторического времени всего тремя-двумя с половиной столетиями, что делает живой нашу историческую память.
В качестве второго аргумента можно указать на познавательную сторону интересующего нас вопроса, поскольку средневековый опыт обнажает генезис движения от этнической незрелой общности к «национальному» объединению, конкретизируя процесс.
Начальный этап этого движения, который определяет в известной степени будущие возможности, слабости или, наоборот, достижения его результатов, облегчает, таким образом, понимание и усвоение уроков прошлого, или поиски выхода из трудных ситуаций сегодня.
Последний аргумент касается эпистемологии вопроса, убедительно демонстрируя важное условие современного потенциала мирового исторического знания – плодотворность и необходимость комплексного видения явления как наиболее полного из возможных приближений к его воссозданию и пониманию исследователем.
Примечания
1 Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда / Отв. ред. Н.А. Хачатурян. СПб.: Алетейя, 2001; Королевский Двор в политической культуре Европы в средние века и Раннее Новое время. Теория. Символика. Церемониал / Отв. ред. Н.А. Хачатурян, М.: Наука, 2004; Священное тело короля. Ритуалы и мифология власти / Отв. ред. Н.А. Хачатурян, М.: Наука, 2006; Искусство власти: В честь профессора Н.А. Хачатурян / Отв. ред. О.В. Дмитриева, СПб.: Алетейя, 2007; Власть, общество, индивид в Средние века и раннее Новое время / Отв. ред. Н.А. Хачатурян. М.: Наука, 2008; Хачатурян Н.А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века. М., 2008; Властные институты и должности в Европе в Средние века и Раннее Новое время/ Отв. ред. Т.П. Гусарова, М. 2010; Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время / Отв. ред. Н.А. Хачатурян, М.: Наука, 2011; Королевский двор в Англии XV–XVII веков / Отв. ред. С.Е. Федоров. СПб., 2011 (Труды Исторического ф-та. СПбГУ Т.7).
2 Пронина Е.А. У истоков национального историописания: Андре Дюшен и Уильям Кэмден: Опыт историко-культурного анализа) Автореферат дисс. на соискание степени кандидата исторических наук. Санкт-Петербург, 2012.
Хачатурян Н.А.
I. Этнонациональные процессы: факторы, результаты, номинация явлений
I.I. Проблема этносов и протонаций в контексте социально-экономической и политической эволюции средневекового общества в Западной Европе[1]
Побудительным мотивом для написания раздела монографии стали не только научные интересы автора, но и состояние вопроса в исторической литературе. Являясь объектом преимущественного внимания этнологов, социологов и культурологов, тема этнос – нации имеет долгую историографическую судьбу, благодаря которой отечественная и западная наука располагает солидной базой конкретных и теоретических, часто спорных исследований.1 Изучение вопроса сегодня (имею в виду вторую половину XX – первые десятилетия XXI столетия) впечатляет разнообразием направлений, многие из которых тяготеют к разработкам биологических, социо-функциональных, культурно-исторических аспектов темы. Весьма заметный интерес в последнем случае к проблемам восприятия явления и его образа в коллективном или индивидуальном сознании членов этно-национальной общности, реализованной в темах «образ другого», идентичность и самоидентификация этносов и наций, – был определен радикальными изменениями в философии и истории второй половины XX века. Они дали новое понимание роли и природы фактора сознания в историческом процессе и эпистемологии, в частности, благодаря преодолению традиционной альтернативы в оценке соотношения материи и духа.
В этом потоке множественного разнонаправленного поиска неизбежно, как показывает опыт изучения исторической мысли, появление крайних оценок, или максимализация значимости какого-то одного научного направления. Подобный настрой делает возможными парадоксальные (даже с коррективой на «вырванность» из контекста) заявления в виде вопроса о том, – группа ли порождает идентичность, или индивиды, идентифицирующие себя, – порождают группу? Аналогичное впечатление производит утверждение: «нет общности, поскольку она не воспринята»…
Очевидно, авторы подобных крайних заявлений стремились подчеркнуть значимость фактора «состояния умов» в истории. Но рассуждения по принципу альтернативы, казалось бы уже изжитые наукой, – как правило упрощают понимание явления или процесса, не будучи соотнесенными, хотя бы в виде упоминания, – с более широкой картиной факторов, других подходов и других соображений по поводу их анализа.
Специалиста по политико-государственной истории, несомненно, заинтересуют встречающиеся в литературе рассуждения о «нациях». Нельзя не согласиться с утверждением известного американского социолога Б. Андерсона относительно национального сознания сообщества, по мнению которого оно предполагает способность его членов понять и помнить обо всем, что объединяет их, и забыть все, что их разъединяет. Однако оценка нации как «воображаемой конструкции», существование которой не только гарантируется, но и «создается стратегией управления» (imaginaire politique) вызывает возражение категоричностью акцента, напоминая о необходимости соблюдения комплексного подхода к анализу исторических явлений. Именно последняя оценка побудила нас обратиться к спорному сюжету, поставив вопрос о роли социального и политического факторов в процессе движения общества от этнических образований к протонациональным и далее национальным государствам. Будучи медиевистом, автор могла себе позволить анализ только предыстории такого явления как «нация», на этапе которой, тем не менее, закладывались базовые условия генезиса явления, что позволяет, таким образом, конкретизировать когнитивные возможности подобного решения темы, поскольку именно этап становления явления может выразительно высветить глубинные компоненты в качестве условий его конституирования и даже дальнейшего существования, его будущей прочности, или слабости… В индустриальной и постиндустриальный период, когда явление «нации» получит качественную завершенность и станет общим фактом, подобно более или менее сбалансированному типу социального развития современных стран или их парламентского устройства, – быстротекущие политические события потеснят в сознании современников глубинные процессы. В этой ситуации может показаться, что нации, существуя в динамичном и быстроменяющемся пространстве «короткого времени», как знак «гражданственности», действительно обязаны своей данностью исключительно усилиям и способностям государства, которое, в свою очередь, оказывается в положении явления, «шагающего в воздухе, как в китайских картинах, где отсутствует земля».2
Требуемую в подобных случаях научную коррективу может обеспечить апелляция к принятой сегодня научной методологии исследования, основными принципами которой являются комплексное и системное видение исторического процесса, а также связанный с ними социальный подход к политической и духовной истории. Став величайшим достижением исторической мысли XIX века, все три принципа увеличили свой эпистемологический потенциал благодаря процессу обновления исторического знания в новейшее время, что помогает исследователям с большим успехом уловить и отразить в своих «конструкциях действительности» гибкость и динамичность последней. В контексте интересующей нас темы, в ряду новаций следует выделить признание ученым сообществом сложного неоднозначного характера внутрисистемных связей разноуровневых компонентов комплексного процесса; возможность опережающего или исключительного значения одного из факторов процесса; подвижность и гетерогенность самой системы, её креативные способности…
Новые решения, предлагаемые историческим знанием, могут облегчить трудную задачу достижения гибкой и по возможности взвешенной оценки роли политического фактора в историческом процессе. Неизбежная связанность с инициативным, волевым, организующим началом, которое воплощают верховная власть, деятельность государственного аппарата, политическая мысль, – ставила политический фактор в особое положение в общественной жизни хотя и при прочих экономических, социальных и культурно-исторических условиях ослаблявших или усиливавших его роль.
Его история начинается с момента вступления человеческой общности на путь цивилизационного развития, оказываясь, таким образом, связанной с формированием этносов, хотя функциональная множественность и степень исходного воздействия этого фактора были заметно ограничены. Тем не менее, принятая в научной литературе расшифровка определения «этнос» выглядит неполной, часто будучи ограниченной упоминанием таких параметров явления как общность происхождения, языка, территории, традиций, мифологической культуры. Очевидно, что в этом случае во внимание приняты только природно-естественные и культурноисторические компоненты явления. Однако человек становится фактором исторического процесса как член сообщества – социального организма, который институционализирует себя пусть в примитивных, но политических формах также. Даже на этапе догосударственной истории задачи военной защиты, реализации поведенческих норм и общих жизненных проблем, будь то хозяйственного или правового порядка – общины решали в политической форме народных собраниях, с помощью «публичных» лиц – старейшин, действовавших властью убеждения.
В контексте поставленной в статье проблемы этнонационального вектора развития полагаю целесообразным уделить специальное внимание «пространственному» или «территориальному» фактору, который должен был оказывать влияние не только на хозяйственные занятия членов сообщества, но формы их расселения и социальные связи. Изменения в пространстве расселения отражали и вызывали процессы трансформации этнических сообществ и их самосознания в эволюции от кровнородственных объединений к сложным племенным союзам и затем территориальным образованиям, в том числе государственным, в рамках которых возникали связи, послужившие основанием для появления понятий «страна», «народность»… Непрочные границы раннесредневековых политических образований, их гетерогенность (вариант империй) или относительная гомогенность позволяют выделить в качестве особо значимых «объединительную» функцию государства и объединительные тенденции в общественном развитии.
В этом соотношении социального и политического факторов на этапе раннего средневековья, результативность воздействия последнего на этнические процессы выглядит более очевидной. Социальная действительность и происходящие в ней сдвиги реализовали себя, в отличие от политических событий, в пространстве медленно текущего времени, отражая близость западноевропейских народов первобытнообщинному периоду их истории, пребывая на начальных стадиях становления мелкого производства в его формах натуральной экономики, когда только возникал, в более или менее ускоренных темпах в зависимости от регионов, новый тип зависимого мелкого производителя, который, начав терять землю, – утверждал свой статус в качестве собственника орудий труда. Тем не менее, оба фактора – по-разному и в разной степени, – но влияли, в частности, на масштабность и характер объединительных процессов в этносах. Эти процессы реализовывались в условиях неравномерного развития и поэтому в неизбежных противоречиях центростремительных и центробежных тенденций. И государство, и общество, – могли при этом по каким-то показателям способствовать гетерогенности этнических процессов: государство – своей экстенсивной универсалистской политикой, подавляя какие-то племена и народы; общество – самим фактом непреодоленного полиформизма в составе своего населения и слабыми пока резервами для его преодоления. Малый этнос мог в большей или меньшей степени инкорпорироваться в более крупные объединения, или, наоборот, жестко сохранять свою автономию по отношению к «ведущему» или структурообразующему этносу в племенных союзах, народностях и далее – этнонациональных государствах.
Эти особенности отчетливо проявили себя в истории одного из самых крупных раннесредневековых государств в Западной Европе, с самой продолжительной по времени своего существования историей – государстве франков в эпоху Меровингов и Каролингов. Уже на этапе династии Меровингов исходная гетерогенность ведущего этноса – племенного союза франков, существующего к тому же в комбинации с галлоримским населением, была усилена поглощением королевств вестготов, затем бургундов с последующим присоединением Прованса. Имперские амбиции Карла Великого обеспечили новые импульсы для гетерогенных тенденций с иллюзией восстановления прежних границ Римской империи. Но нельзя не признать, что весьма «продвинутые» для того времени институциональные формы патримониального государства Каролингов делали заметными его объединительные усилия. Их консолидирующий общество знак несли королевские указы, регулирующие судебную процедуру, состояние монетного дела, контроль за общественным порядком. В них имелись даже попытки контролировать соблюдение взаимных обязательств сеньоров и вассалов. Тем не менее, отмеченная нами «продвинутость» государственных форм на том этапе была весьма относительной, так как реализовалась в нормах практики «кормления» и личностных связей. Знак этнического полиморфизма отмечал попытку, условно говоря, «унификации» обычного права, точнее попытку трансформировать племенной принцип в территориальный, в 802 году, закончившуюся только редактированием и частичной модификацией Аллеманской, Баварской, Рипуарской и Саксонской правд, при сохранении легального действия упрощенного Кодекса Юстиниана и бревиария Алариха. Тем не менее, красноречива и сама попытка верификации обычного права, подобно факту перевода текста Салической правды на верхненемецкий язык. Наконец, за рамки оценки объединительных тенденций только в политическом контексте выходит неоднозначный, но подготовленный объективными условиями, факт распада универсалистской империи Каролингов при формировании в ее недрах трех больших агломераций – народностей, прорисовавший дальнюю перспективу национальной истории трех западноевропейских народов и государств – Франции, Германии, Италии.3
Собственно средневековый этап западноевропейской истории, когда утвердилась новая общественная система, изменил, но не отменил полиморфизм общества в целом, по определенным параметрам даже умножив его. Условия реализации крупной земельной собственности, предопределив необходимость политического иммунитета ее владельцев, – легализовали их частную власть, результатом которой стал полицентризм политической структуры.4 Это обстоятельство не способствовало политической стабильности, особенно в условиях «феодальной раздробленности» (X–XII вв.), тем более, что верховная государственная власть, борясь с внутренним для нее злом полицентризма, – во многих случаях не отказывалась от универсалистских планов, на уровне международных отношений перекраивая политическую карту Западной Европы. Отмеченные тенденции подпитывала, делая возможными, глубинная основа общественной структуры – мелкое производство, что в совокупности условий предопределило сущностную черту средневекового общества – его партикуляризм. Это обстоятельство не могло не отразиться на судьбах интересующего нас вопроса этнического развития, обнажив главное условие в процессе формирования социально – политических организмов, какими должны были стать нации – непременное преодоление средневекового партикуляризма, должное обеспечить рождение нового «единства» человеческих сообществ. Подобный процесс имел постепенный, относительный по своим итогам характер и, главное, – не мог стать результатом только политического развития.
В этом контексте особый интерес представляют процессы, происходившие в западноевропейском обществе в период XIII–XV вв. и раннее Новое время, которые открывали и реализовывали движение по данному пути.
В исторической литературе, особенно общего характера, оценка значимости отмеченных изменений часто ограничивается, в частности, для «отправного» отрезка времени XIII–XV вв., – их ролью в процессе централизации – действительно очень важного рубежа в истории западноевропейских народов и государств. Однако само понятие «централизации» оказывается недостаточным для обозначения глубины начавшейся модернизации самой структуры средневекового общества, замыкая внимание на государственной политике, даже если при этом не игнорируются социально-экономические предпосылки для ее реализации. Общий и вместе с тем сущностный смысл процесса модернизации в интересующем нас аспекте анализа целесообразнее было бы определить понятием «консолидации», способным стать общим и знаковым для всей совокупности общественных отношений – экономических, социальных, политических и духовных. Применительно к процессам формирования протонациональных образований в условиях сохранявшего себя этнического полиморфизма, понятие «консолидация» также демонстрирует свою известную корректность, не купируя ни одну из трудностей на этом пути: вариативный и неоднозначный характер процессов, возможность их конечной незавершенности, могущей взорвать на каком-то этапе «национальную» общность.
Именно консолидация сообщества как глубинный и комплексный процесс способствовала с большим или меньшим успехом и в зависимости от конкретно-исторических условий, – преодолению любых локальных, в том числе этнических, привязанностей и норм жизни, не всегда уничтожая, но перекрывая их, отодвигая в сферу по преимуществу частных отношений, предлагая членам сообщества в вопросах существования и выживания новые социально-экономические, политические и культурные формы и масштабы жизнедеятельности.
Наша попытка суммировать основные социально-экономические условия процессов консолидации, красноречиво рисует формирование уже для периода XIII–XV вв. нового образа средневекового общества, в известном смысле несущего на себе знаки его будущего конца. Однако, соблюдая принцип «восхождения», было бы правильнее оценить формирование этого нового образа как свидетельство потенциала средневековой общественной системы, не преувеличивая вектора направленности на будущее, во всяком случае в его разрушительных последствиях. Среди причин, призывающих исследователей к осторожности, можно назвать длительную временную протяженность средневековых процессов в экономической и социальной жизни, несмотря на постепенное ускорение темпов развития, особенно заметное в условиях раннего Нового времени. Целесообразно в этой связи вспомнить о признании современной медиевистикой справедливости понятия «долгого Средневековья». Это понятие, некогда введенное Жаком Легофом, должно было подчеркнуть по мысли известного французского историка факты медленного изживания средневековых форм сознания даже на поздних этапах раннего Нового времени. Ныне это понятие приобрело функциональное значение для признания гетерогенности развития в раннее Новое время всей совокупности общественных отношений. Оно существенно корректирует современные представления о сложности «переходного периода» какими для Западной Европы стали XVI и XVII века, когда новый, уже ведущий уклад еще не обрел качественной системной определенности.
Возвращаясь к вопросу о «больших возможностях» средневековой общественной системы в социально-экономической сфере благодаря производителю, хотя и зависимому, но владеющему орудиями труда, – важно обратить внимание на явление общественного разделения труда, ставшего дополнительным и радикальным по своим последствиям фактором прогресса. Не фиксируемый точной датой, этот медленный глубинный процесс обозначил свое оформление исключительно важным делением экономики на два сектора: ремесленного и аграрного производства (VIII–X вв.). Результатом этого качественного сдвига стало развитие товарной экономики, вытеснявшее натуральные формы хозяйства, служившие основанием для экономического и политического полицентризма.
Дальнейшее развитие общественного разделения труда воплощал процесс специализации, охвативший все стороны общественной жизни – экономическую, – социальную (социальные функции и стратификация населения), – политическую (формирование системы государственного управления), – культурно – образовательную. Иными словами, этот фактор стал базовым условием формирования в обществе разнообразных и множественных связей, которые создавали по-новому консолидированное общество, выводя жизнь его членов за рамки вотчинных и общинных, цеховых и городских, сеньориально-вассальных, наконец, местных и провинциальных связей. Набрав силу в XIII–XV вв., этот процесс повысил значимость и изменил роль орудий труда в структуре производительных сил в обществе. Заметный прогресс в орудиях труда, подкрепленный освобождением собственности на орудия труда для ремесленников от контроля со стороны земельного собственника по результатом освободительного движения городов в XII–XIII вв., – подрывал монопольное в аграрных обществах положение земельной собственности в качестве основного средства производства, вытесняя постепенно ручной труд («средневековая индустриализация»). Изменения в структуре производительных сил позволяют в рамках ретроспективного анализа и «долгой протяженности» увидеть будущую конечную границу доиндустриального периода в истории западноевропейских народов. Однако для достижения этой границы им придется пережить этап крупного мануфактурного производства, развитие которого только начнет работу могильщика мелкого производства – этой основы средневековой общественной системы. Мануфактурное производство не справится с подобной задачей, оставив её решение индустриальному обществу Нового времени, существенно продвинув, тем не менее, процесс преодоления, – в пределах возможного, – партикуляризма в экономике.
В контексте вопроса об условиях преодоления партикуляризма в средневековом обществе, оценка социальных результатов в ходе его модернизации дает не менее любопытный материал.
В их ряду – изменение статуса мелкого производителя в деревне – появление лично свободного крестьянина; развитие нового социального организма – города и оформление городского сословия, консолидировавшего лично свободных мелких производителей и собственников в ремесле и торговле. Отмеченные сдвиги сообщили средневековой общественной системе необходимую полноту и относительную «завершенность».
Развитие свободной собственности на орудия труда становится источником денежного капитала (главным образом в ремесле и торговле), повысив социально – экономический и до известной степени политический статус его обладателей. Это в свою очередь способствовало социальной динамике, – вытесняя личностный принцип в социальных связях денежными отношениями, ослабляя тем самым принципы социальной стратификации.
Показателем наиболее важных по значению социальных сдвигов стал процесс социально – политического самоопределения общественных сил в Западной Европе, заметно расширивший состав людей, приобщенных к общественной активности.
Она реализовалась на разных уровнях корпоративного движения в рамках цеха, гильдии, города, сельской общины. Высшую форму социальной активности обеспечило оформление сословий, предполагавшее уровень общегосударственной консолидации и социально – политическую активность общественных сил в органах сословного представительства. Ситуация радикально меняла социально-политическую расстановку общественных сил в стране, существенно расширив состав лиц за счет непривилегированного населения, в частности горожан, оказавшихся способными (в той или иной мере) выйти на диалог с монархом, сформировав выборный общественный орган и попытавшись ограничить с большим или меньшим успехом авторитарную власть.
Сословное самоопределение, несомненно, отразило и, главное, способствовало консолидации средневекового общества. Однако этот процесс, созданный творчеством только европейских народов на этапе средневековой истории, нес на себе печать корпоративной ограниченности, которая не позволяла обществу осознать себя единым социальным организмом. Условием для достижения подобной цели должна была стать отмена сословной стратификации и внедрение принципа юридического равенства всех перед законом. Достижение подобного условия принадлежало другому времени, будучи подготовленным, тем не менее, предшествующим средневековым опытом жизни.5
Что касается политической сферы жизни в предыстории западноевропейского общества периода Нового времени, – то процессы внутренней консолидации здесь шли, условно говоря, примерно с XIII века, в рамках особой формы средневековой государственности – так называемого «государства moderne» (Etat moderne), которую посчитала целесообразным выделить современная историческая наука. В контексте социальных отношений эта форма предполагает не столько процесс установления, сколько данность существования феодальных отношений, их углубления и модернизацию.
В политическом контексте эта форма позволяет оценить теперь уже результативность для верховной власти процесса централизации, на базе которого изживались, преодолевались черты так называемой патримониальной государственности, характерной для периода генезиса феодальных отношений и раннего этапа их утверждения. Отличительным знаком этой политической формы являлся частный (личностный) принцип в социальных связях и государственном управлении. Власть монарха конституировал земельный домен, что уподобляло его крупным сеньорам, располагавшим политическим иммунитетом (он только «первый среди равных», «сюзерен» в системе сеньориально-вассальных отношений, но не «суверен»); монарх располагал только формой «дворцового управления», действующего в пространстве личностных связей (например, служба по долгу вассала сеньору; институт «кормлений»); он имел ограниченные материальные возможности для реализации функции протекции или принуждения.
Модернизация средневековой государственности сделала отличительным знаком новой политической формы утверждение публично-правовой природы власти и аппарата управления. Новая форма была подготовлена изменениями в социальной базе монархий, формированием системы государственного аппарата управления, развитием позитивного (государственного) права, импульсом и фактором для которого стал ренессанс римского права. Теперь государственный аппарат материализовал притязания монарха на высшую власть «суверена» – «императора в своем королевстве», действуя в новых по характеру связях с ним – не личностных, но «публичных», опосредованных государством: оплата службы в денежном эквиваленте формировалась из поступлений не от домениальных доходов монарха, но от налогов, сконцентрированных в казне.
Публично-правовой контекст в деятельности верховной власти резко увеличил ее функциональные возможности. В сознании средневекового общества монарх олицетворял публичное Право, Закон и Общее благо, то есть те нормы и принципы, которые оправдывали, делая более эффективной его политику, в частности по преодолению полицентризма и, что особенно важно в свете интересующего нас вопроса, – формированию института подданства. С помощью института подданства вытеснялась частная власть сеньора в вотчине, корпоративная автономия профессиональных или территориальных образований, включая города. Их население становилось открытым для государства и подконтрольным ему. Государство «перетягивало» исключительно на себя функции протекции и порядка, монополизируя таким образом решение жизненных проблем и надежды общества на реализацию именно им – справедливости и общественного блага. 6
Завершая характеристику проявлений социально-политического фактора, уводящих средневековое сообщество от партикуляризма, следует назвать уже упомянутую выше политическую форму «средневекового парламентаризма». Тогда речь шла об этом явлении в контексте социальной эволюции – процессах сословного самоопределения и консолидации общественных сил. В данном случае целесообразно отметить роль этого органа в качестве школы воспитания общественной активности. Представительный орган действовал в рамках сословного, следовательно, тоже корпоративного деления, что в известном смысле снижало его «консолидирующую значимость». Однако сословное самоопределение предполагало общегосударственный уровень консолидации для каждой сословной группы; их представители решали вопросы, связанные с общегосударственными интересами; наконец сама совокупная практика депутатов должна была содействовать выработке в обществе представлений о государстве как «общем теле»
Подобные изменения могли формировать позицию «гражданственности» в поведении членов сообщества, теперь озабоченных не только проблемой обретения политических прав, но способных испытывать чувство ответственности за «общее благо». Деятельность средневековых парламентов обеспечивала пока только первые шаги на путях превращения общности в «национальное тело», – задача, которая оказалась по плечу уже Новому времени, провозгласившему всеобщее юридическое равенство. Декларации об отмене сословного деления явились не только результатом решимости депутатов парламентов XVII–XVin веков, в частности английского или французского. Страсти политической борьбы в этих учреждениях могли провоцировать депутатов на весьма радикальные, хотя и далекие от реального наполнения заявления, двумя-тремя столетиями опережая революционное время в Западной Европе.7 Однако в последнем случае решения об отмене сословного деления определялось готовностью большей части общества принять подобную новацию.
Полученный в результате предпринятого в статье анализа материал позволяет высказать несколько заключительных соображений. Их возможность в известной мере предопределил подход к решению поставленной в разделе проблемы. Этот подход характеризовала в первую очередь попытка рассмотрения явлений этносов и наций в их временной последовательности, которая позволила на наш взгляд подчеркнуть перетекание этнических общностей в национальные, при более или менее этно-гетерогенной форме единства новых образований и естественных возможностях для каких-то этносов стать в них ведущей силой в зависимости от конкретно-исторических обстоятельств.
Специальное внимание в статье политическому фактору в развитии этнонациональных процессов не перечеркнуло комплексного видения каждого из явлений, но не позволило ограничить оценку этносов по преимуществу культурно-историческими и эмоциональными показателями, или свести характеристику наций в качестве исключительно политических конструкций. Оба явления воплощали комплексную совокупность естественно-природных, социально-экономических, социально-политических и культурных параметров развития в своем содержании. Существенно трансформированные во времени, эти параметры оставались преемственными. Модернизация средневекового общества и растущая институциональная зрелость государственности на этапе публично-правовой истории – по сравнению с этнополитическими сообществами эпохи раннего средневековья меняли формы, масштабы и историческую судьбу новой общности, чаще всего этногетерогенной. Но эти процессы не перечеркнули присущие человеку привязанности к месту своего рождения – его «малой родине» (pays de nativite), языку или диалекту, на котором он начал говорить. Принадлежность к «малой народности» не мешала принять новые формы социальных связей, соучаствовать в образовании «национальной» культуры и общенационального языка. Хотя, естественно, – подобный «плавный» исход процессов этнонациональной эволюции зависел от многих обстоятельств, в частности, – от степени самоопределения и зрелости, в том числе институциональной, этнических групп в их гетерогенном протонациональном образовании. Он также предполагал соблюдение определенных условий в сосуществовании этих общностей, и прежде всего, – взаимного соблюдения норм поведения: не насильственного со стороны ведущего в национальных образованиях этноса и согласия принять другой этнической или полиэтническойй частью сообщества, новую историческую судьбу. Подчеркнутые в статье факты преемственного развития явлений «этнос – нация» и силу этого вектора движения получили убедительное подтверждение в наши дни. Сегодня оно свидетельствует о незавершенном характере процессов трансформации этносов в нации даже в эпоху глобализации мировой истории, может быть, как раз активизируясь в качестве противовеса этой тенденции?
В предпринятом анализе, – его объектами стали по преимуществу две сферы исторической действительности – социальная и политическая. Они рассматривались в тесной связке друг с другом, хотя и на уровне, главным образом, социологических процессов, при сознательном элиминировании конкретно-исторической событийной и духовной истории, что потребовало бы специального внимания и выхода за рамки статьи. Тем не менее, именно в её заключительной части и в качестве заключения, позволю себе коротко обратиться к политической событийной ситуации из близкой моим научным интересам истории Франции с тем, чтобы подчеркнуть значение и результативность процессов, которые должны были способствовать формированию «национального» качества еще средневековых государственных сообществ.
Достаточно «нейтральный» для эксперимента по принятым в науке меркам «средневековой истории» опыт так называемого периода «классического средневековья», то есть XIV–XV века – демонстрирует для исследователя пример весьма тяжелой «проверки на прочность» французского государства и общества, и пусть начальных, но итогов процессов этнонациональной консолидации, а именно, – угрозу потери независимости в Столетней войне. Оккупация значительной части территории, гибель людей и разорение и раскол страны, английский король на французском престоле, – безвыходная, казалось бы, ситуация, получившая неожиданный и благоприятный исход. Он традиционно объясняется в литературе указаниями на фактор «освободительной» войны и успехи в конечном счете государственного строительства. Однако материалы статьи существенно дополняют картину фактами принципиальных изменений в природе власти, сделавших последнюю основным носителем
функции порядка и юстиции, – в природе общества, особенно его непривилегированной части, и характере диалога монарха и общества. Совокупность этих взаимосвязанных процессов – социальных, институциональных и Этнонациональных – сформировала политико-государственную устойчивость и возможности военного сопротивления. Разработки последних лет, в частности, в «отечественной» литературе, существенно углубляют и традиционные объяснения феномена Жанны де Арк. В них обычно подчеркиваются «размах» освободительной войны, мистическая вера в легитимного монарха, религиозное сознание общества и самой героини. Не опровергая этих объяснений, хотела бы напомнить, что это бесспорно неординарная по своим качествам личность родилась и формировалась в специфической среде французской деревни. Её актор не серв, но цензитарий, не только лично свободный человек, но производитель, получивший заметные преимущества в операциях с земельным держанием (его заклад и даже продажа); в условиях выраженной тенденции к ликвидации сеньориальной запашки превративший свое хозяйство в основную производственную единицу, наконец, – член сельской общины, реализующей формы самоуправления в её взаимоотношениях с собственным сеньором и внешним миром. Все эти особенности стимулировали общественную активность сельских жителей, повышали их ощущение самоценности, меняли поведенческие нормы. Не следует забывать, что размах и эффективность освободительной борьбы определял не только её «народный» характер, но факт организованного сопротивления в деревне и в городе, население которых действовало в привычных для них формах городских и сельских корпораций. Более того, – государство в свою очередь использовало сельское и городское ополчение, подключив их действия к военным операциям королевской армии.8 Новации в сельской жизни стали органической частью медленно набиравшего силу процесса преодоления средневекового партикуляризма, который освобождал людей от ощущения их причастности к жизни только своей вотчины, города, провинции, монастырю, стимулируя восприятие ими собственной принадлежности к сообществу в целом. Ощущение «своего корня (souche)», ранее связываемое с местом непосредственного рождения – в новых условиях могло и должно было обретать форму восприятия страны в целом как Родины, – в качестве знака общей исторической судьбы и исторического сосуществования, очерченных геополитическими границами.
Неслучайно, едва ли не определяющим мотивом многочисленнных политических трактатов XIV и особенно XV века во Франции следует признать мысль об «общем деле», «общем долге» защиты Родины. Даже с коррективой на просматриваемый в трактатах «правительственный заказ», который не могли не осознавать их авторы, часто бывшие королевскими чиновниками, подобно А. Шартье или Дезюрсену, такая позиция была знаковой9. Более определенным и «массовым» по характеру свидетельством общественных настроений стала реакция – если не общества в целом, то значительной его части на Труасский договор 1420 г., лишивший Францию права на существование её в качестве самостоятельного государства и разделивший страну на два непримиримых лагеря. Конечной стала победа противников договора, посчитавших невозможным «двойное государство», даже при сохранении самостоятельного управления для обеих частей, при одном, но «чужом» для Франции английском короле. Ситуация демонстрировала рождение новой формы государственности, судьбы которой уже не решались в лимитах только династических, тем более сеньориально-вассальных и, в целом, – связях личностного характера или принципах частного права.
Рост институциональной зрелости французской государственности шел параллельно этнонациональной консолидации наполнявшей его общности, нормы жизни которой теперь на общегосударственном уровне регулировали публичные Закон и Право.
Примечания
1 Широкогоров С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменений этнических и этно-природных явлений. Шанхай, 1922; Бромлей Ю.Н. Этнос и этнография М. 1973; Элита и этнос Средневековья / Под ред. А.А. Сванидзе М., 1995; Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья/ Под ред. Р.М. Шукурова. М., 1999; Античность, культура, этнос / Под ред. А.А. Белика. М., 2000.С. 229–276; Лучицкая С.И. Образ другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб., 2001; Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социокультурной антропологии. М., 2003; Нация и история в русской мысли начала XX в. М., 2004; Костина А.В. Реквием по этносу или «Виват этнос!» // Национальная культура. Этническая культура. Мировая культура. М., 2009; Вопросы социологической теории // Научный альманах / Под ред. Ю.М. Резника, М.В. Толстановой. М., 2010. Т. 4; Hu-isinga J. Patronism and Nationalism in European History. Men and Ideas. London, 1960. P. 97–155; Guenee B. D’histoire de l’Etat en France a la fin du Moyen Age vue par les historiens francais depuys cent-ans» Revue historique, t CCXXXII, 1964, pp. 351–352; idem, «Etat et nation en France au Moyen Age // Revue historique, t. CCXXXVII. No. 1. P. 17–31; Idem. Espace et Etat dans la France du Bas Moyen Age // Annales. 1968. № 4. P. 744–759; Weber M. The Sociology of Religion. London, 1965; Idem. Economy and Society. N.Y., 1968; Chevallier J. Histoire de la pensee politique. t. I; De la Cite-Etat a l’apogee de l’Etat-Nation monarchique. t.II, Ch.V. Vers l’etat national et souverain. P., 1979. P. 189–214; De Vos G. Ethnic Pluralism: Conflict and accommodation / Ethnic Identity: Cultural Continuities and Change. Chicago, London, 1982. (Перевод: «Личность, культура, этнос / Под ред. А.А Белика. М., 2001. С. 229–276; Anderson B. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, 1983; Beaune C. La Naissance de la nation France» P. 1985; Smith A. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, New-York, 1986; Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996; Ясперс К. Общая психопатология. М. 1997; Moeglin J-M. Nation et nation-alisme du Moyen Age a l’Epoque Moderne (France – Allemagne) // Revue historique. CCC. 1/3. 1999. P. 547–553; Idem Dela «nation allemande» en Moyen Age // Revue francaise d’histoire des idees politiques. Numero special: Identites et specificites allemandes. N. 14. 2001. P. 227–260; Geary P. J. The Myth of Nation. The Medieval Origins of Europe. Princeton, 2002; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003; Он же. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности М., 2008; Гидденс Э. Социология. М., 2005; Этнические группы и социальные группы. Социальная организация культурных различий / Под ред. Ф. Барта. М., 2006; Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М., 2008.
2 Выражение Ж. Мишле, представителя школы романтизма во французской исторической науке. Во вступлении к последнему прижизненному изданию своей «Истории Франции с конца XV века до 1789 года», он, по существу предвосхищая принципы формирующегося тогда направления позитивизма, пишет о необходимости комплексного видения исторических явлений и, в частности, «укоренения в почву» политической истории. Histoire de la France par la fin du XV siecle jusqu a 1789. P., 1869.
3 Fournier G. Les Merovingiens. Paris, 1966; Halphen Z. Charlemagne et l’empire carolingien. P., 1995; Lemarignier J.-Fr. La France medieval. Institutions et Societe. P. 1970. T.I; Favier J. Charlemagne. P., 1999.
4 Хачатурян Н.А. Полицентризм и структуры в политической жизни средневекового общества // Хачатурян Н.А. «Власть и общество в Западной Европе в Средние века. М., 2008, С. 8–13.
5 Хачатурян Н.А. Средневековый корпоративизм и процессы самоорганизации в обществе. Взгляд историка-медиевиста на проблему «коллективного субъекта // Хачатурян Н.А. Власть и общество… С. 31–46; Она же. Европейский феномен сословного представительства. К вопросу о предыстории «гражданского общества» / / Власть и общество. С. 156–227, 178–188; Она же. «Суверенитет, закон и вся община»: взаимодействие и дихотомия власти и общества» // Власть, общество, индивид в средневековой Европе / Под ред. Н.А. Хачатурян. М., 2008. С. 5–10.
6 Хачатурян Н.А. Феномен сословного представительства в контексте проблемы Etat Moderne // Общество, власть, индивид. С. 34–43; Она же. Западно-европейский монарх в пространстве взаимоотношений с духовной властью (морфология понятия власти) // Священное тело короля: ритуалы и мифология власти / Под ред. Н. А. Хачатурян. М., 2006, С. 19–28; Она же. «Король – император в своем королевстве. Политический универсализм и централизованные монархии // Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и Раннее Новое время / Под ред. Н.А. Хачатурян. М., 2001 С. 66–88; Stayer J.R. On the Medieval Origins of the Modern State. Princeton, 1970; Renaissance du pouvoir legislative et genese de l’Etat / Ed. A. Gouron, A. Rigaudiere, Montpellier, 1988; Les monarchies: Acte du colloque du Centre d’analise comparative des systems politiques / Le Roy La-durie. P., 1988; Coulet N et Genet.-Y-P. L’Etat modern: territorie, droit, systeme politique. P., 1990; Genet Y.-P. L’Etat modern. Genese, Bilans et perspectives. P., 1990; Quillot O., Rigaudiere, Sasser Yv. Pouvoirs et institutions dans la France medieval. P. 2003; Genet G.-Ph. L’Etat moderne: genese, bilans et perspectives. P., 1990; Visions sur le developpement de l’Etats europeens. Theorie et historiography de l’Etat modern // Actes du colloque, organise par la Fondation europeenne de la science et l’Ecole fransaise de Rome 18–31 mars. Rome. 1990; Les origins de l’Etat moderne en Europe / Ed. par W. Blockmans et J.-Ph. Genet. P., 1996.
7 Автор дневниковых записей заседаний Генеральных Штатов во Франции 1484 Жан Масслен отмечал факты радикальных настроений депутатов, напоминавшим всем присутствующим, что королевская власть – только «служба» на благо государства Великий сенешал Бургундии Филипп По сир де ля Рош в духе известной в Cредневековье светской концепции происхождения королевской власти, провозгласил, по его словам, идею «народного суверенитета», назвав именно народ «верховным сувереном», некогда создавшим и короля, и государство… Journal des Etats generaux tenus a Tour en 1484 sous le règne de Charles VIII, redige en latin par Jehan Masselin, depute de baillage de Rouen (publ. par A. Bernier. P. 1835 P. 140–146, 166, 644–646. См. также Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII–XV вв. М., 1989. C. 225).
8 См. попытку рассмотрения истории самообороны в сельской местности в период Столетней войны в качестве самостоятельного фактора, оказавшего воздействие не только на масштаб освободительного движения, но структуру и тактику будущей постоянной армии во Франции (роль пехоты в качестве самостоятельной части военной структуры; отход от принципов рыцарской войны). Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции. Гл. IV: Структура и социальный состав армии XIV–XV вв., раздел: Самооборона народных масс. С. 145–156.
9 A. Chartier. «Le Quadrilogue invectif» (Четырехчастный обвинительный диалог) / Ed. Y.Droz. P., 1950; Juvenal des Uzsins «Ecrits politiques» / ed. P.S. Zewis, t.I. P., 1978; t. II. P., 1985; «Audite celi»… (Внемлите, небеса.) t.I. P. 145–278.
Хачатурян Н.А.
I.II. Медиевистика и национальный вопрос (о неопределенности определений)
Речь идет о некоторых соображениях по поводу понятия «нации» в разных его аспектах (историческом, филологическом, политическом, социальном, философском).
Национальный вопрос последние несколько столетий был постоянно актуален, а между тем само «реальное» существование наций и этносов ставится под вопрос настолько, что их называют воображаемыми сообществами. И между тем, с другой стороны, изучение истории проникнуто этническими интересами до такой степени, что специализация историков, наряду с хронологией, определяется этнографией: большинство из них занимается отечественными историями, а остальные специализируются по тем странам, языки которых им ближе (так, по крайней мере, в университетском преподавании). Но являются ли этнические общности историческими реалиями, о которых возможно научное, то есть непредвзятое, объективное и систематизированное суждение, или, в силу их сконструированности и неопределенности, в силу субъективности и в то же время предзаданности национальной самоидентификации такие суждения обречены нести идеологическую нагрузку?
1. Понятие «нации» в современном языке сформировалось исторически применительно главным образом к реальности XV–XX вв. Его нужно изучать в контексте как «конструктивизма» или инструментализма, так и в его (понятия) «объективных» основаниях.
Слова служат для описания феноменов, и как слова, так и феномены выстраиваются в некоторые иерархии и имеют свою историю.
Чтобы приблизиться к пониманию феномена «национального», я предлагаю рассмотреть, что такое идентичность вообще, как она применяется к историческим субъектам, затем уточнить понятия этноса и народа и после этого перейти к конкретной идее нации в ее историческом бытовании.
2. Итак, идентичность в самом широком значении – это факт тождества нескольких предметов, который тем самым говорит об их принадлежности к общему для них множеству, или тождества предмета (его образа) с самим собой. В философском смысле понятие «идентичности» фундаментально, так как из него вытекают всякое сходство и различие, и вместе с тем противоречиво, поскольку оно абстрактно – в природе не существует полной идентичности, вещи постоянно меняются, полное тождество невозможно. Противоречивость феномена «идентичности» заключается в том, что он предполагает раздвоенность: сопоставление чего-то с чем-то, но раздвоенность уже не есть тождество, или, если речь идет об одной и той же вещи, ее тождественность самой себе только мыслится; это в любом случае прибавление к ее собственному бытию или отвлечение от этого бытия.
Феномен живой материи можно понимать как сохранение самоидентификации совокупности клеток; идея субъекта заключается как раз в наличии и постоянном воспроизведении неповторимой комбинации этих клеток, или даже отдельных молекул. Субъект представляет собой, таким образом, активную идентичность, повторение неповторимого (индивидуального).
В мире живой природы существуют не только индивидуальные субъекты, но и коллективные, а также, если можно так выразиться множественные. К коллективным относятся семьи и стада, рои насекомых; к множественным виды, подвиды и популяции. Самоидентификация природных организмов происходит почти автоматически, через общность происхождения и среды обитания; сущностные изменения происходят и накапливаются медленно. Животные руководствуются инстинктами, то есть заложенными природой инструкциями, диктующими линию поведения. Но в основе всего поведения лежит идея индивидуального и коллективного «Я», которое является мерилом ценностей. «Я» – это знак, или в семиотической терминологии, десигнат (обозначающее) идентичности.
В человеческом мире действуют те же принципы, что и в животном, но к ним прибавляется культура, то есть система приспособлений, основанная на построении языковых моделей, накоплении ценностей и технологий, познании природы для ее освоения. Знание расширяет возможности выбора, но выбор в конечном счете все равно предрешается мерилом ценности, то есть интересами индивидуального и коллективного «Я». Взаимодействие и конфликты этих интересов в основном предопределяют содержание того, что мы называем историей.
Человеческие виды и популяции формировались и продолжают формироваться по природным законам, видовые признаки и особенности организмов передаются генетическим путем. Вместе с тем в процессе истории культурный фактор все больше и больше влияет на поведение людей, а также на их отношение к себе подобным. Биологически-видовые различия, которые лежат в основе этнических, сохраняют свой базовый характер, но к ним добавляются, а иногда и вытесняют их на задний план культурные: конфессиональные (вера), социальные – место в общественной иерархии, профессиональные (род занятий), политические (подданство), цивилизационные – то есть основывающиеся на исторически сложившемся комплексе культурных признаков.
Вывод из всех этих рассуждений: этнические различия в человеческом обществе выступают не только как биологическая, но и как культурная данность. Следовательно, степень свободы или произвольности в процессе этнической идентификации или самоидентификации выше, чем при биологической видовой идентификации. Этничность является одним из инструментов так называемой социализации, то есть приспособления к социальной среде, так же как конфессия, подданство и т. д. Выбор этнической принадлежности гораздо более детерминирован, чем выбор веры, профессии или гражданства, но в какой-то мере, а именно в силу культурной составляющей этничности, он существует. Репертуар ролей, который открывается перед людьми, шире, чем у животных, благодаря богатству виртуальной реальности в обществе. А всякая роль требует самоидентификации с ней. Видовая в биологическом смысле или этническая роль утрачивает свое абсолютное главенство1.
3. Для обозначения разных уровней этнических различий и разных исторических этапов становления этничности используются разные понятия: раса, племя, народ, семья, нация, этнос и другие. Слово «этничность» кажется наиболее универсальным и нейтральным и поэтому наиболее подходящим для научных текстов. Оно восходит к греческому слову «этнос», переводимому на русский как «народ», но при употреблении последнего в этническом смысле происходит неслучайная контаминация с его другими значениями. «Народ» в русском языке может, безусловно, обозначать этническую общность (как «народность» в знаменитой триаде с православием и самодержавием), но под «народом» также может пониматься совокупность всех граждан государства, или напротив, «простой» народ, третье сословие, трудящиеся в отличие от воителей и священнослужителей и т. п. Два этих неэтнических значения, как мне представляется, являются продуктом исторического развития, а именно, античной (римской) и средневековой европейской традиции употребления слова «народ» в политическом и социальном смысле, которая была перенята Возрождением и перешла в национальные языки (лат. populus, ит. popolo).
Вообще неопределенность всей этнической терминологии в отличие от биологической классификации видов указывает, по-моему, на сильную культурную составляющую в описываемых феноменах. Дискуссии о словах «нация» и «национальность» выявляют их сконструированность и историческую природу и подтверждают невозможность их однозначного использования в средневековом контексте. Средневековая natio – совсем не то, что современная нация. Но и более нейтральное слово «народ» на поверку оказывается многозначным и ускользающим от простого истолкования. К вышеназванным смыслам для Средних веков следует добавить еще культурное противопоставление себя (Народа, или избранного народа, народа верных) «народам» (gentes), то есть язычникам, «языцем», непросвещенной толпе. Это противопоставление, с одной стороны, вполне этнично, с другой культурно; оно равнозначно античному противопоставлению культурного народа и «варваров», а возможно, и восходит к нему.
В конце концов получается, что культурная составляющая размывает сам феномен этничности. В частности, применительно к Средним векам не получается выделить один или господствующий тип этнических общностей (или, как сейчас часто говорят, «этний»). Преобладало восходящее к античности географическое, то есть привязанное к территориям обозначение «народов». В свою очередь территории получали названия по именам населяющих их племен или мифологических персонажей (Европа). В Италии жили италики, но это слово не было названием народа. Принадлежность итальянцев определялась их происхождением из того или иного города или местности2. Местность рождает людей, как флору и фауну. Раздробленность Европы, а с другой стороны, наличие надэтнических общностей: католический мир, империя, порождали локальный патриотизм. Пример другого, уже ренессансного патриотизма можно почерпнуть у Петрарки, стоявшего у истоков современной периодизации истории3. Петрарка, как и Данте, называет себя италиком, но особо подчеркивает свое римское гражданство, вспоминая при этом и апостола Павла4. Любопытно, что Петрарка, который провел многие годы в Авиньоне, критикует некоего француза (галла), хулящего Италию. Поводом для этого (1373 г.) послужило недовольство французских кардиналов при папской курии отсутствием там бургундского вина5. Надо полагать, что такой итальянско-римский патриотизм послужил формированию будущих представлений об итальянской нации6.
Интересно также, что этот новый или возрожденный римский патриотизм отвергает идею переноса империи, популярную в Средние века: империи греков, франков и германцев уже совсем не те, что у римлян7. Петрарка говорит о себе как об итальянце по «национальности» (рождению, natione) и гражданине Рима. Римское гражданство, следовательно, это античный прообраз национальности Нового времени.
4. Отсюда можно перейти и к истории термина «нация». Он имеет общую этимологию с латинским nasci рождаться8. Словарь Дюканжа приводит два основных значения «нации»: 1) происхождение, положение семьи и рода; 2) университетские «нации» 9.
Наиболее популярное, или широко известное значение слова natio в Средние века – это землячество, прежде всего применительно к студенческим объединениям в университетах. Но также и к купеческим, паломническим и другим. Логично, что такое обозначение использовалось в тех случаях, когда люди по каким-то причинам в известном количестве перемещались с места рождения.
Разнообразие значений понятия «нация» до сравнительно недавнего времени не уступает такому же разбросу в употреблении близкого ему, а иногда и противоположного, слова «народ». Мы проследим это разнообразие, опираясь на специально посвященную термину «нация» статью австрийского политического деятеля и поэта первой половины ХХ в. Гвидо Дзернатто10. В римском лексиконе слово natio, помимо того, что обозначало богиню-покровительницу родов, применялось к группе людей одного происхождения, но не к народу в целом11. Однако смысл его был скорее уничижительный и близкий к греческому «варвары» – это были иностранцы, которых отличали от римского «народа». Слово natio часто не имело никакого этнического оттенка, но почти всегда, по мнению Дзернатто, сохраняло комический. В этом смысле говорили о «нации эпикурейцев», а Цицерон применяет это слово в социальном контексте: «нация оптиматов»12.
Любопытно, что неэтническое значение слова «нация» бытовало в западных языках до Нового времени; оно напоминает русское слово «народец», которое также может не иметь этнического оттенка, будучи, применено, например, к животным. В таком смысле его использует Эдмунд Спенсер13.
Другие писатели Нового времени говорят о «нации» в профессиональном смысле: «нация врачей» (Бен Джонсон), «нация поэтов» (Буало); в сословно-профессиональном: «ленивая нация монахов» (Монтескье); наконец, у Гёте это слово встречается в применении ко всему женскому полу (или точнее, ко всем девицам)14. Ранее Макиавелли употребляет выражение di nazione ghibellino15.
Все же наиболее распространенным в Средние века было территориально-корпоративное понимание слова natio. В Парижском университете имелось четыре нации: Французская, куда входили, кроме жителей части современной Франции, испанцы и итальянцы; Пикардийская, включавшая голландцев; Нормандская для жителей северо-восточной части Франции и Германская для немцев и англичан16. На вселенских церковных соборах, куда делегаты, как отмечает Г. Дзернатто, пребывали в качестве иностранцев, наподобие студентов в университетах, они также делились на «нации». На Констанцском соборе в Германскую нацию входили, кроме немцев, венгры, поляки, чехи и скандинавы17. Особенностью положения делегатов были, по мнению Г Дзернатто, их представительные функции, что указывает на другое важнейшее значение слова «нация» в Новое время, сословно-политическое значение. В этом смысле под нацией еще в Средние века понималась только так называемая «элита», благородное сословие, в которое входило или к которому присоединялось духовенство, и которое имело исключительные гражданские права. «Политической нации» противопоставлялись те, кто работает по найму, кто беден, необразован, «не знает латыни» (Шопенгауэр)18. Территориально-земельному принципу политической организации в сочетании с феодальным дроблением и иерархией властных полномочий соответствовала возможность отчуждения целых областей. В Средние века территории присоединялись, завоевывались, продавались и закладывались. Идея о целостности нации более поздняя. Возможно, революции Нового времени выражают, наряду с прочим, рождение этого национального чувства. В эпоху романтизма, с конца XVIII в. истоки народности, национальной культуры искали именно в Средних веках, в их преданиях, истории, литературе на народных языках, культуре и искусстве.
5. Связь этического и этнического.
Сущность понятий этноса и нации, как ни странно, остается примерно той же на протяжении веков. Можно говорить о примордиализме и конструктивизме в понимании нации, и о том, что сегодня идея «нации» – скорее продукт культурного и исторического развития, обусловленный прежде всего политическими факторами. Но «национальный вопрос» лежит в несколько другой плоскости: я бы сказал, в плоскости вменя емости.
В природе видовая принадлежность предопределяет поведение, грубо говоря, от нее зависит, кто кем питается (разумеется, не только это). Виды и подвиды в природе, как и индивиды (ведь это «коллективные индивиды») могут сотрудничать, могут соперничать, но биологическая природа вида меняется только очень медленно, на протяжении многих поколений.
В обществе, как и в природе, коллективные и отдельные индивиды также могут сотрудничать и могут соперничать, это и этносы, и семьи, и социальные группы, но их поведение определяется не только внешней данностью, или законом, но и внутренним законом, представлениями о том, что правильно и что неправильно. Если нации делятся на плохие и хорошие от природы (варианты – умные и глупые, талантливые и бездарные), как животные на хищных и травоядных, то к ним нельзя в полной мере применить понятие вменяемости: их поведение предопределено. (И такой подход существовал и существует по сей день. В сущности, он основывается на инстинктах самосохранения коллективного «Я», как всякая идеология19).
В Средние века было широко распространено мнение, что характеры, склонности, нравственные качества и даже судьба людей в значительной степени связаны с обстоятельствами их рождения, с воздействием планет, что они изначально предопределены. Например, существовало предание об основании Флоренции римлянами, от которых ее жители унаследовали благородство и достоинство, но они смешались и с фьезоланцами, потомками разбитых воинов Катилины, отличавшимися буйным нравом и склонностью к раздорам. (Об этом пишут, в частности, Дж. Виллани и Данте20). На судьбу Флоренции оказывал влияние и языческий Бог Марс, даже точнее предположительно изображающая его статуя, стоявшая у Старого моста.21
Поведение определялось рождением. Еретик мог раскаяться, и веру можно было сменить (это делали целые народы), но рождение оставалось определяющим… Рождение нельзя исправить. При этом в актах идентификации и самоидентификации, как в любом сознательном действии важнейшую роль играет оценочная составляющая, «воля», желание и осмысление (выбор цели).
Если следует применять к коллективным индивидам какие-то общие критерии, правила, предписывающие, как поступать – то есть, по логике, общечеловеческие критерии, то и судить о них следует так же, как об отдельных индивидах. Тогда к ним применим принцип справедливости: мои права ограничиваются правами других; пока я отстаиваю свое достоинство наравне с другими, я прав, но когда в защите своего достоинства я посягаю на чужие права, я виноват. Средневековые люди, благодаря христианству, имели представление об общечеловеческих ценностях, но на практике ценности коллективных индивидов преобладали и выглядели объективно заданными: истинная вера, избранный народ, лучшие по рождению люди.
Только в Новое время представление об относительности ценностей, можно сказать, десакрализация ценностей, привели к условному примату общечеловеческой идеи.
Не случайно сравнение слова («нация») с монетой в статье Г Дзернатто22. Не существует абсолютной стоимости, все стоимости условны, хотя полновесная монета объективно ценнее, чем банковский билет. «Я» не есть абсолютная ценность, и нация не есть абсолютная ценность, хотя в какие-то моменты истории может на это претендовать. (Общество верующих, господствующий класс, народ – коллективные индивиды, которые претендуют быть высшими идеями отсчета).
В средневековой Европе не было национального вопроса, то есть он не был вопросом: неравенство народов, вер, сословий представлялось очевидным и незыблемым. (Хотя, повторюсь, было уже когда-то сказано «несть ни эллина, ни иудея». Да и светские дела должны были регулироваться «естественным правом»). Только когда была сконструирована идея государства-нации, возникли вопросы о праве наций на самоопределение, об интернационализме, о государственнообразующих или титульных народах, о правах меньшинств и прочие. Национально-государственная идея и идеология заместили собой религиозную23. Возможно, национальный вопрос возник тогда, когда незыблемость этнической принадлежности была поставлена под сомнение: появились государства-нации, претендующие на замену этнического родства гражданством. (Отчасти похожая ситуация была во времена Римской империи и возникновения христианства).
Этническая нация или гражданская нация идеологически стали верховными мерилами ценности в обществе, но со временем, очевидно, и эти представления изживут себя. Пока можно констатировать, что в этом отношении, как во многих других, мы являемся прямыми наследниками средневекового общества.
Примечания
1 Надо оговориться, что и биологическое понятие вида в известной степени условно; не существует «чистых» этносов, как и «чистых» культур.
2 Например, Данте в своих письмах чаще всего называет себя флорентинцем, но иногда и «италиком» или итальянцем (италийцем). Известна формулировка начала Комедии из письма к правителю Вероны Кангранде делла Скала: Incipit Comoedia Dantis Alagherii, Florentini natione, non moribus («Начинается Комедия Данте Алигьери, флорентинца родом, но не нравами»). Также humilis ytalus Dante Alagheriis Florentinus et exul inmeritus: «смиренный италик Данте Алигьери, незаслуженно изгнанный флорентинец». См.: Hollander R. Dante’s Epistle to Cangrande. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993, p. 39.
3 См.: Mommsen Th. E. Petrarch’s Conception of the 'Dark Ages // Speculum. 17, 1942, рр. 226–242.
4 Ibid., p. 233 и Petrarca F. Invectiva contra eum qui maledixit Italie // Opere latine di Francesco Petrarca / A cura di Antonietta Bufano, U.T.E.T, Torino, 1975; «Sum vero italus natione, et romanus civis esse glorior».
5 По опыту же и по примерам святых отцов, наконец, по наставлению Аннея Сенеки я могу заключить, что человеку в жизни достаточно хлеба и воды – он говорил о человеке, а не об обжоре; и это суждение выразил его племянник /Марк Анней Лукан/: «народам довольно реки и Цереры». Но не народу галлов. Однако и я, если бы был галлом, не говорил бы этого, а защищал бонское вино как высшую радость жизни и прославлял бы его в стихах, гимнах и песнях. Я, впрочем, итальянец по рождению, и горжусь тем, что я римский гражданин, а этим гордились не только государь и правители мира, но и апостол Павел, который сказал «Ибо не имеем здесь постоянного града» /но ищем будущего. Послание к Евреям 13:14/. Город Рим он называл своей родиной, и в великих опасностях говорит о себе как о римском гражданине, а не о галле по рождению, и это было ему ко спасению. Ab experientia quidem et sanctorum patrum ab exemplis, ab Anneo demum Seneca didicisse potui, quod satis est vite hominum panis et aqua – vite hominum dixit, sed non gule – ; quam sententiam carmine nepos eius expressit: satis est populis fluviusque Ceresque. Sed non populis Galliarum. Neque ego, si essem gallus, hoc dicerem, sed beunense vinum pro summa vite felicitate defenderem, hymnis et metris et cantibus celebrarem. Sum vero italus natione, et romanus civis esse glorior, de quo non modo princeps mundique domini gloriati sunt, sed Paulus apostolus, is qui dixit: «non habemus hic manentem civitatem». Urbem Romam patriam suam facit, et in magnis periculis se romanum civem, et non gallum natum esse commemorat; idque tunc sibi profuit ad salutem.
6 В этой связи можно упомянуть о гипотетическом конструировании «южноитальянского национального государства», о котором говорится в статье: Андронов И.Е. Формирование национальной историографии в Неаполе эпохи Возрождения // Средние века. Вып. 72 (1–2). М., Наука, 2011. С. 131–152. Вопросы вызывает как раз уверенность автора в наличии «национального в полном смысле слова» фундамента этого государства к началу XVIII в. В полном смысле средневекового термина или современного понимания нации? А если этот смысл общий, то почему не говорить о венецианской или флорентийской «нациях» как о ядре будущего Апеннинского государства? Конечно, мы рассуждаем пост фактум и сегодня проще говорить о неизбежности объединения областей полуострова, чем в XIV в. его предвидеть. Но значение общей истории и памяти о ней в данном случае очевидно: древний Рим отбрасывает свою тень на последующие судьбы Италии.
7 Mommsen Th. E. Petrarch’s Conception of the 'Dark Ages, р. 16.
8 Harper, Douglas (November 2001). «Nation». Online Etymology Dictionary.
9 I. Natio: 1) Nativitas, generis et familiae conditio. 2) Agnatio, cognatio, familia. 3) Regio, Gall. Pai's, contree. II. Nationes – 1) in quas Studiorum, seu Academiarum Scholastici dividuntur, 2) Plebeii. Du Cange, et al.,Glossarium mediae et infimae latinitatis, ed. augm., Niort: L. Favre, 1883–1887 по http:// ducange.enc.sorbonne.fr.
10 Этот германоязычный автор (1903–1943), судя по фамилии, итальянского происхождения, эмигрировал в 1938 г. в США. Статья «Нация: история слова» переведена на английский язык и издана посмертно (только первая часть). Zernatto Guido. Nation: The History of a Word / Transl. Alfonso G. Mistretta // The Review of Politics. Vol. 6. No. 3 (July 1944), pp. 351–366. См. http://www. jstor.org/stable/1404386.
11 Ibid., р. 352.
12 Ibid., p. 353.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 История Флоренции, II, 21. В русском переводе Н.Я. Рыковой: «происходя из гибеллинского рода». Здесь действительно имеется в виду прежде всего не партийная, а семейная принадлежность («по рождению гибеллин»). Во всех остальных случаях слово nazione Макиавелли использует в этническом или этно-территориальном смысле, см. словарь его лексики на сайте .
16 Zernatto G. Op.cit., p. 355. Интересно, что в титуле каждой нации стояло ее почетное определение: у французской «достойная» (l’honorable), у пикардийской «верная» (la fidele), у нормандской «уважаемая» (la venerable), у германской «стойкая» (la constante).
17 Ibid., р. 358.
18 Ibid., р. 362, 363.
19 Ср. характеристику идеологии как иррационального инструмента коллективной самоидентификации у Э. Эриксона: «Под идеологией здесь будет пониматься сознательная тенденция, лежащая в основе религиозных и политических теорий; тенденция в данный момент сводить факты к идеям, а идеи – к фактам, с тем, чтобы создать достаточно убедительную картину мира для поддержания коллективного и индивидуального чувства идентичности». (In this book ideology will mean an unconscious tendency underlying religious as well as political thought: the tendency at a given time to make facts amenable to ideas, and ideas to facts, in order to create a world image convincing enough to support the collective and the individual sense of identity). Erikson, Erik H. Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History. New York: W. W. Norton & Co., Inc., 1962, р. 22. Применительно к национальному чувству роль подсознания еще существеннее, так как ощущение причастности к коллективному индивиду по рождению имеет более «материальные» корни.
20 Виллани Дж. Новая хроника, или история Флоренции. М., Наука, 1997. С. 31. (Кн. I, гл. 38), с. 70 (кн. III, гл. 1). Данте Алигьери, Божественная Комедия, Ад. XV, 73–78.
21 Виллани Дж. Новая хроника, с. 34 (кн. I, гл. 42), с. 69–70 (кн. III, гл. 1). Данте Альгьери, Божественная Комедия, Рай, XVI, 145–147.
22 Zernatto G. Op.cit., p. 351.
23 В духе развития государственного суверенитета от Средних веков к Новому времени рассматривал идею нации Г. Пост: Post G. Medieval and Renaissance ideas of nation // Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas /Ed. Philip P. Wiener. New York: 1973–1974, р. 318–324.
Юсим М.А.
I.III. Некоторые замечания о Византийских моделях «этнической» идентификации
Тексты средне– и поздневизантийского периода пестрят древними именованиями народов как то «галлы», «колхи», «гепиды», «скифы», «сарматы», «гунны», «тавроскифы», «трибаллы», «геты», «даки» и т. д., никак, на современный взгляд, не коррелирующими со средневековыми народами, ими обозначенными. Казалось, византийцы избегали неологизмов и лексических заимствований из внешнего мира, географическая, этническая номенклатура, реалии чужеземного социального и культурного быта нередко (но не всегда) именовались в терминах классической науки (историографии, географии и т. д.)1. Этот известный феномен исследователи обычно именуют «архаизацией» современных византийским авторам реалий в результате перенесения традиционной, уже устоявшейся в греческой науке терминологии на новые объекты.
Проблемы истока и функции византийской «архаизации» решалась в современной литературе на базе нескольких методологий, применяемых в области исследований византийской культуры. Подавляющее большинство этих подходов развивается в контексте традиционной филологии и литературной критики и концентрируется на анализе стилистических особенностей византийских текстов. Согласно литературно-критическому объяснению, византийцы воспроизводили архаические топонимические и этнические термины, стремясь сохранить классическую целостность литературного дискурса, часто в ущерб фактологической точности2. Наиболее полно эта позиция была сформулирована Г. Хунгером, который говорил даже о стилистическом «снобизме» византийских авторов и пренебрежении их к какой бы то ни было новой информации. Исследователь интерпретировал «архаизацию» и в более осторожных терминах как «мимесис», подражательное воспроизведение византийцами языка, стилевых особенностей и тем античной литературы3. Следовательно, сама способность византийцев, якобы всецело погруженных в имитацию древних форм и образов, к адекватному отражению реальности вызывала у исследователей серьезные сомнения4. Так, например, Г.Г. Бек говорил об отсутствии у византийцев любопытства по отношению к другим народам, что было следствием принципиальной автаркичности византийского сознания. Варвары рассматривались как некое недифференцированное и гомогенное единство5.
Вклад в прояснении генезиса византийских «архаизирующих» построений внесла поэтология, представленная отечественным исследователем М.В. Бибиковым. М.В. Бибиков подверг анализу византийские описания других народов вновь преимущественно с филологической точки зрения, но с использованием более изощренного поэтологического аналитического инструментария. Как показал М.В. Бибиков, «архаизация» была не столько рабским подражанием античным авторитетам, сколько одной из функций поэтологической структуры византийских текстов. Исследователь находит возможным говорить о хронотопе варварского мира, т. е. об особой организации пространства и времени в повествовании, которое и обуславливало функциональность и предметную значимость древних этниконов в византийском контексте6. В устойчивости практики сохранения традиционных этниконов сыграли свою роль и специфические стилистические стратегии византийцев, которые избегали включения в свое повествование «чужой речи», т. е. варварских неологизмов-этнонимов, чтобы не нарушить целостность повествовательной ткани7. Исследователь толковал «архаизацию» и в контексте «этикетности» средневекового дискурса, привязывающей этнонимику к географическому пространству8.
«Архаизация» получала и социо-культурную интерпретацию, которая, однако, весьма явственно тяготеет к филологическим толкованиям. К примеру, Г Хунгер полагал, что в XIV в. «архаизация» являлась уделом интеллектуалов из слоя peaoi, для которых она являлась объединяющими знаками корпоративного единства и корпоративной исключительности. И.И. Шевченко поддерживает эту идею, рассуждая о классическом знании (и соответственно, способности к классицистической имитации), как о престижном групповом маркере, отделявшем интеллектуалов от низших классов9. Обсуждение этих и других точек зрения содержится в статье М. Бартузиса, который не только привел господствующие в историографии мнения, но и выдвинул свое видение проблемы. Исследователь справедливо рассматривает «архаизацию» как часть еще более обширной проблемы отношения византийцев к своему прошлому10.
Ниже мы предложим еще одно возможное решение проблемы «архаизации», рассмотренной в частном контексте византийской этнонимической классификации. В применении к этнической терминологии проблему «архаизации» вряд ли возможно решить только средствами литературной критики и поэтологии. На проблему можно взглянуть с более общих эпистемологических позиций, которые позволяют достичь большей ясности в понимании того, как византийцы структурировали мир вокруг них. Другими словами, следует уяснить какими критериями тождеств и различий пользовались византийцы при построении своих этнических таксономий.
Решающее значение имела сама базовая логика византийского метода систематизации и классификации объектов, которую проще всего будет проиллюстрировать на примере элементарной аристотелевской логики. По своим принципам научный метод византийцев мало отличается от современного – оба они восходят к аристотелевской эпистемологии, которая господствовала в пространстве традиционной науки вплоть до XIX в. Ключом для понимания византийской таксономии являются две связанные пары категорий, подробно разрабатывавшихся Аристотелем и воспринятых античной и византийской наукой как фундаментальные идеи: во-первых, это – общее и единичное, во-вторых, – род и вид. Единичное воспринимается чувственно и присутствует «где-либо» и «теперь». Общее – это то, что существует в любом месте и в любое время («повсюду» и «всегда»), проявляясь при определённых условиях в единичном, через которое оно познаётся11. Общее постигается умом, и именно оно является предметом науки. Частное многообразие объектов, объединяемых по общности их свойств и признаков, редуцируется к условным, «общим» родовым категориям. По определению Аристотеля, «род есть то, что сказывается в сути о многих и различных по виду [вещах]»12. Еще более ясно формулирует Порфирий: «… род есть то, что сказывается о многих и различных по виду вещах, при указании существа этих вещей, а вместе с тем мы обозначаем вид как то, что подчинено разъясненному выше роду…»13.
Другими словами, родовые категории представляют собой универсальные модели и идеальные типы, которые в классификации объединяют реальные единичности («многие и различные по виду вещи»), обладающие известными общими чертами.
Согласно описательным моделям Аристотелевой топики, «то, что род не содержит, не содержит и вид. Однако не необходимо, чтобы то, что вид не содержит, не содержал род. Но так как о том, о чем сказывается род, необходимо сказывается и какой-нибудь из его видов и так как все то, что обладает родом, или обозначено [словом], производным от этого рода, необходимо обладает одним из его видов или обозначено [словом], производным от одного из его видов»14. Виды объединяются в роды лишь по части собственных свойств, и роды, таким образом, могут объединять весьма непохожие видовые единицы, имеющие, однако, некие общие существенные черты.
В идеале родовые категории призваны охватить собой не только известные «единичные» объекты, но и вновь открываемые. В этом смысле, метод византийцев идентичен современному; оба они обращены в будущее – в освоение непознанного через подобие и аналогию. Византийская таксономическая иерархия была содержательно и методологически унаследована от античности, классифицируя и систематизируя не только известные, но и новые, открываемые объекты.
Приведем несколько примеров из историографии. Зосим в V в., определяя гуннов, подводит их под классификационную (родовую) модель скифов, отчетливо при этом осознавая, что народ этот новый и не тождественный древним скифам: «некое варварское племя поднялось на скифские народы, жившие по ту сторону Истра, которое прежде не было известным и тогда неожиданно появилось – звали их гуннами, их же следует именовать либо царскими скифами, курносым и слабым народом, как о них говорил Геродот, живущим на Истре, или же теми [скифами], которые переселились из Азии в Европу….»15. Другими словами, автор отнюдь не думает, что гунны во всем тождественны скифам Геродота; в его классификации гунны – это одна из разновидностей идеального родового понятия «скифы», аналогичная некоторым видам древних скифов.
Этот метод византийских интеллектуалов, искавших ключ к объяснению современного мира через установление подобий и аналогий (ср. с σύγκρισις «сопоставление», «сравнение» в риторике16), способствовал сохранению целостности и внутренней непротиворечивости византийской системы знаний и обеспечивал ее способность к распознаванию и систематизации новых объектов.
Проблема заключается в том, что византийская таксономическая сетка тождеств и различий, на основе которой и проводилось приведение новой информации к уже известным моделям, значительно отличалась от современной. Византийские схемы в части классификации народов существенно отличались от современных вследствие применения иных, нежели в современной науке, классификационных критериев. В отличие от современных этнических классификаций, византийцы практически не применяли языковый критерий.
Именно эта последняя особенность византийской классификационной модели, отодвигавшей языковый критерий на второй план, и делает ее столь непохожей на современную. Если современная наука выставляет главным критерием в систематизации народов их языковую принадлежность, то византийское знание классифицировало народы посредством их локативных параметров. В качестве вторичного, дополнительного критерия учитывались социо-культурные характеристики народов. В зависимости от места обитания народа (Галлия, Дунай, Северное Причерноморье, Кавказ, Анатолия, Ближний Восток, Северная Африка и т. д.) и его образа жизни (кочевой/оседлый) на него переносилась та или иная традиционная модель, а вместе с ней и маркирующий этникон.
Начнем с того, что критерий географического локуса (πατρίς, отчизна, родина) являлся базовым в персональной идентификации византийцев. Византиец ассоциировал себя и других своих соотечественников в первую очередь с местом рождения и, соответственно, с людьми, живущими там. Πατρίς может обозначать деревню, город, провинцию, историческую область (Исаврия, Фракия, Вифиния, Пафлагония, Каппадокия, Понт и т. д.), государство (например, Романия) в их географическом аспекте. Важная роль narpig, как одного из распространенных способов идентификации человека, удостоверяется моделями византийской антропонимики, и особенно прозвищами, которые указывают на географическое происхождение их носителей. Идентификация человека по локативному прозвищу, происходящему от места его рождения или жительства (Кесарийский, Газский, Каппадокийский, Трапезундский, Пафлагонец, Исавриец и т. д.), была довольно обычной для Византии, которая унаследовала этот способ маркировки от прежних времен. Локативное прозвище считалось, по-видимому, наиболее простым и удобным способом обозначить индивидуальность человека.
Любовь византийцев к родине удостоверяется многими текстами, представляющими собой особый жанр patria, который служил манифестацией этой ностальгии по родине. Одной из наиболее разработанных ветвей византийского жанра patria была Patria Constantinopolitana, «Константинопольская отчизна», скрупулезно описывающая топографию Константинополя, его памятники, церкви, святые места, административные здания, дворцы, рынки и т. д.17 Хорошо известны многочисленные аналогичные описания больших и малых городов помимо Константинополя, особенно для раннего византийского периода. Мы знаем о раннем византийском описании Антиохии, Фессалоники, Тарса, Бейрута, Милета и других городов империи18. От последующих периодов до нас дошло несколько экфрасисов, восхвалявших многие большие и малые центры византийского мира: Антиохии, Никеи, Трапезунда, Ираклии Понтийской, Амасьи т. д.19 Любовь к родине проявляется не только в patria и экфрасисах, она обнаруживается как структурно выделенный элемент в других жанрах византийской литературы. Жанрово это могла быть история родного города или области, как, например, «Взятие Фессалоники» X в., написанная Иоанном Каминиатом. Он описал арабскую осаду и захват Фессалоники в 904 г. «Наша отчизна, мой друг, Фессалоника» (Ἡμεῖς ὦφίλος πατρίδοςἐσμὲν Θεσσαλονίκης) – начинает Иоанн Каминиата свое описание красот Фессалоники, таким образом предваряя скорбный рассказ о том, как нападение арабов разрушило эти красоты города и почти сравняло Фессалонику с землей20. Значимость пространственного измерения в идентичности человека особенно ярко видна в византийской агиографии. Одним из обязательных элементов агиографического повествования было указание на точный географический локус, из которого происходит святой (как один из византийских агиографов в конце IX в. сформулировал это: «Но поскольку это является обычным при написании истории рассказать кем являлся [человек] и откуда [он происходит]…»)21. Обычно агиографы давали краткие хвалебные характеристики месту рождения описываемого ими святого («выдающийся», «славный» город», «блаженный остров» и т. д.), будучи особенно внимательными к тому, было ли это место колыбелью других святых людей в прошлом. Агиограф будто пытается найти основания для выдающихся достоинств святого, в частности, и в характеристиках его отчизны, влияющих на нрав обитателей.
Необходимо подчеркнуть, что био-географические особенности происхождения связаны не столько с этническими, племенными или религиозными компонентами идентификации, сколько с «культурной» и «психической». Византийские авторы, описывая свою собственную или чью-то отчизну, не уделяют никакого внимания этнической или конфессиональной принадлежности ее населения, однако в то же время часто подчеркивают «культурные» преимущества или недостатки (добродетели, воспитание, образование), связанные с той или иной местностью. Географический локус сам по себе, особенности его пространственности предопределяют качества и характер его жителей. Бессознательный и подсознательный географический детерминизм, коренящийся в античной традиции, оказался весьма функциональным в мировидении византийцев. Таким образом, отчизна была не более чем локусом, географическим местом происхождения и обычно не имела ничего общего с конфессиональной или этнической (в нашем смысле) характеристикой его жителей.
Внимание к географическому происхождению того или иного лица, по-видимому, имело связь с более общими «био-географическими» идеями древнегреческой астрономии/астрологии, физиологии и географии, которые сочетались в теории климатов. Климатическая теория была продуктом развития эллинистической астрономии и географии. В астрономии-астрологии изначально под климатом (κλίμα «наклон», «склонение» от греч. κλίνω) понимался угол наклона полярной оси небесной сферы по отношению к горизонту, увеличивающийся по мере удаления от экватора. Причем именно для астрологии широтные изменения были наиболее существенны – для составления гороскопа угол склонения небесной сферы в определенной точке земли имел принципиальное значение. В географии под климатом понимался угол наклона падающих солнечных лучей к земной поверхности, от которого зависела долгота дня – на юге, соответственно, дни были короче, а на севере длиннее. Климатами обозначали зоны на земной поверхности, средняя долгота дня в которых разнилась примерно на У часа, что напоминало современные временные зоны22. Позже с развитием теории климатов античная наука пришла к идее широтных зон на поверхности земли, протянувшихся с востока на запад и располагающихся с юга на север параллельно экватору. В населенной части земли выделялось 7 климатических (т. е. широтных) зон от Мероэ на юге до Борисфена (устье Днепра) на севере. Окончательное оформление идея широтных параллелей нашла у Клавдия Птолемея23.
Соединение географической, физиологической и астрологической концепций привело к представлению о влиянии широтных различий на людские нравы. Еще Гиппократ сформулировал зависимость природных качеств людей от влияния окружающей их природной среды24. Посидоний связывал интенсивность солнечного света и влияние других небесных светил с географическими характеристиками земной поверхности, а их, в свою очередь, – с нравом живущих там народов. Крайние южный и северный климаты он определял через этниконы – «эфиопский» и «скифский и кельтский» соответственно. Хотя Посидоний, по всей видимости, продолжал рассматривать климат не как широтную ленту, но как регион25. Вероятно, первым артикулировано формулировал этнографический аспект климатической теории Плиний Старший, постулировавший зависимость флоры, фауны и человеческих нравов от широтной локализации26.
Идея связи между географическим локусом и нравами как индивидов, так и народов отчетливо прослеживается в корпусе астрологических текстов. Особенности географического происхождения, влияющие на «культурные» особенности народов, в немалой степени обусловлены небесными светилами, в первую очередь, Солнцем и Луной, которые воздействуют на различные точки на земной поверхности по-разному. Астрологические описания климатов, начиная с А. Буше-Леклерка, выделяют в особый жанр астрологической хорографии: это, как правило, краткие трактаты, содержащие соответствие различных регионов ойкумены с управляющими ими знаками зодиака и светилами27. Наиболее теоретически насыщенная и стройная астро-хорографическая концепция содержится в «Тетра-библосе» Клавдия Птолемея28. Именно описание народов Птолемей считает важнейшей астрологической задачей: «… предсказание посредством астрономии обнимает два самых больших и важных раздела… первый и в большей степени родовой охватывает относящееся к целым народам, странам и городам и называющийся всеобщим, а второй и по большей части видовой – это раздел, относящийся к отдельным людям, именуемый генефлиалогиальным…»29. (Отрывок, помимо прочего, ярко демонстрирует использование родовой-видовой систематизации в научном дискурсе.) Далее, чуть ниже Птолемей говорит: «Итак, разграничение своеобразия народов осуществляется по целым параллелям и углам, через их положение относительно проходящего через середину зодиака круга и Солнца…» и затем подробно развивает эту идею на многочисленных частных примерах30. Астрономическая этнография Птолемея детально исследовалась А. Буше-Леклерком, Э. Хонигманном и Марком Рили, и мы к ней еще будем возвращаться.
Согласно общепринятым идеям, выводимым из астрологических и географических представлений, превосходство римлян и греков состоит в том, что они живут в серединной части ойкумены, находясь в наиболее благоприятном климате, который сочетает идеальный баланс между горячей и холодной натурой. Другие народы находятся в регионах, располагающихся слишком далеко от климатического равновесия, что приводит к определенному дисбалансу в их натурах. Только римляне и греки, проживающие в серединной части цивилизованной ойкумены, обладают гармоничным национальным характером31.
Теория климатов была хорошо известна в поздневизантийское время. Георгий Пахимер в XIV в. повторяет традиционную античную схему, утверждая, что природные способности людей, их характер и темперамент зависят от силы солнечного света и теплоты климата. Южане, которые получают больше солнечного света, – умны, способны в области искусств и наук, но слишком изнежены и неумелы в бою; северяне же, живущие в условиях холодного климата, – бледны, недалеки, жестоки, грубы, но и более воинственны. Географическое положение, как объясняет Пахимер, прямо влияет на характер, предрасположенность и природные способности человека32. Подобные рассуждения (хоть и не столь подробные и концептуальные) встречаются и у других авторов33.
В византийское время климатическая теория продолжала находиться в тесной связи с астрологией. Получил распространение жанр особых списков πόλεις ἐπίσημοι, «знаменитых городов», представлявших собой перечисление главных городов ойкумены (преимущественно греко-римской) с указанием их координат, которые группировались по широтным климатам34. В XIV в. астролог Иоанн Катрарий вполне закономерно в контексте греческой астрологии связывал судьбы народов с их с локализацией. Он выделял семь широтных климатов и устанавливал зависимость их от конкретных планет и знаков зодиака. В его описании занимаемое место в климате и соответствующая зона небесной сферы влияют на судьбы городов, а, следовательно, и людей, живущих там35.
Как мы видим, астро-географический детерминизм, коренящийся в античной традиции, оставался функциональным и в мировидении византийцев. Пространственные обстоятельства рождения (небесные и земные) как отдельного человека, так и сообщества людей находились в прямой зависимости от локуса.
Существенное значение локативного аспекта для формирования персональных характеров и коллективных черт людских сообществ выдвигало на первый план географическое знание. В географии византийцы вплоть до XV в. придерживались выработанной в античности карты мира, опираясь, преимущественно, на Страбона. «География» Птолемея была известна византийцам, но использовалась мало. После введения «Географии» Птолемея в научный оборот Максимом Планудом в 1295 г., ее влияние усилилось – византийские географы, корректировали Старабонову и Птолемееву системы через их сравнение и добавление новых сведений36. Пространства на север от Дуная и далее на восток до края обитаемой части земли географы продолжали классифицировать как Скифию, которая на юг простиралась до реки Инд. Каспийское море по-прежнему рассматривалось заливом Океана или озером, отделенным от Океана узкой полосой земли. В Скифии у Каспийского моря упоминались земли гуннов, гирканцев, массагетов, тохаров, саков и т. д. На Ближнем Востоке они выделяли Месопотамию, Персию, Аравию, Мидию, Армению и т. д. При этом вся поверхность обитаемой части земли делилась на семь климатов37. Народы, соответственно, именовались в строгом соответствии с этими географическими названиями.
В конечном счете, византийский метод приводил к парадоксальному, на современный взгляд, переносу древней терминологии на новые средневековые реалии, что современного исследователя нередко вводит в замешательство. Однако тут парадоксального мало, ибо современная научная таксономия работает принципиально так же, используя родовые и видовые категории, возникшие в разное время и часто весьма условные. И мы, например, употребляем именования «Америка», «Австралия» и многие другие лишь в силу научной традиции, но не от того, что они адекватно отражают какие-либо специфические географические, культурные или этнические характеристики. Отличие византийской научной классификации от современной заключается лишь в использовании разных квалификационных критериев.
Примечания
1 Постановку вопроса с характерными примерами см.: Бибиков М.В. К изучению византийской этнонимии // ВО. М., 1982. С. 148–150.
2 Dieterich K. Byzantinische Quellen zur Länder– und Völkerkunde, 5.-15. Jahrhundert. Leipzig 1912 (repr. Hildesheim, New York, 1973). S. XV–XVII; Dit-ten H. Der Russland-Exkurs des Laonikos Chalkokondyles, interpretiert und mit Erläuterungen versehen. Berlin, 1968. S. 3-11.
3 Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Bd. I–II. München, 1978. Bd. I. S. 71, 407–408 и др., и особенно S. 509; см. там же Ibid. Register (рубрика Archaisieren); Hunger H. On the Imitation (МШНХ1Х) of Antiquity in Byzantine Literature // DOP. 1969–1970. Vol. 23. P. 15–38.
4 Dieterich K. Byzantinische Quellen zur Länder– und Völkerkunde. S. XX: „Konnten denn aber die Byzantiner wirklich beobachten und Beobachtetes auch wirklich darstellen? – Schon die Stellung dieser Frage schiene absurd, wenn von irgendeiner andern Menschenklasse die Rede wäre als von Byzantinern«.
5 Beck H.G. Theodoros Metochites: die Krise des byzantinischen Weltbildes im 14. Jahrhundert. München, 1952. S. 89–90; LechnerK. Hellenen und Barbaren im Weltbild der Byzantiner: die alten Bezeichnungen als Ausdruck eines neuen Kulturbewusstseins. Thesis (doctoral) – Ludwig-Maximilians-Universität. München, 1954. S. 75.
6 Бибиков М.В. Византийские источники по истории древней Руси и Кавказа. СПб., 1999. С. 91–97; Бибиков М. В. Пути имманентного анализа византийских источников по средневековой истории СССР: (XII – первой половины XIII вв.) // Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. М., 1978; БибиковM. В. Византийская этнонимия: архаизация как система // Античная балканистика. Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1980. С. 70–72.
7 Бибиков М.В. Византийские источники по истории древней Руси и Кавказа. С. 87–88.
8 Бибиков M.В. К изучению византийской этнонимии. С. 154–155.
9 Hunger H. Klassizistische Tendenzen in der byzantinischen Literatur des 14. Jh. // Actes du XlVe Congres International des Etudes Byzantines. Vol. I. Bucureşti, 1974. P. 139–151; Sevcenco I. Society and Intellectual Life in the Fourteenth Century // Actes du XlVe Congres International des Etudes Byzantines. Vol. I. Bucureşti, 1974. P. 88–89.
10 Bartusis M. The Function ofArchaizing in Byzantium // BS. 1995. T. 56/2. P. 271–278.
11 См., например: Аристотель. Метафизика. I. 2, III. 4 и др.; Аристотель. Категории. III.
12 Аристотель. Топика. I. V.
13 Порфирий. Введение // Аристотель. Категории / Ред. Г. Александров, перев. А.В. Кубицкого. М., 1939. III.
14 Аристотель. Топика. II. IV.
15 Zosime. Histoire nouvelle / Ed. F. Paschoud. Vols. 1–3. Paris, 1971–1989. Vol. 2/2. IV, 20, 3, (p. 280. 1–5); Dieterich K. Byzantinische Quellen… Bd. 2. S. 1.
16 Аверинцев С.С. Риторика как подход. С. 162–165. О синкрисисе подробно говорит и Г. Хунгер, приводя многочисленные примеры из византийской энкомиастики и историографии, хотя его интерпретация синкрисиса находится в пределах расплывчатой концепции мимесиса: Hunger H. On the Imitation. P. 23–27.
17 Scriptores originum Constantinopolitanarum / Ed. Th. Preger. Leipzig, 190107. Bd. 1–2; Dagron G. Constantinople imaginaire: etudes sur le recueil des ‘Patria’. Paris, 1984; Constantinople in the Early Eighth Century: the Parastaseis Synto-moi Chronikai. Introduction, Translation and Commentary / Ed. A. Cameron and J. Herrin. Leiden, 1984. P. 3–9.
18 Dagron G. Constantinople imaginaire. P. 9–13.
19 См. главу Ekphraseis в: Hunger H. Die hochsprachliche. Bd. 1. S. 171–188; а также: ODB. Vol. 1. P. 683.
20 Ioannis Caminiatae de expugnatione Thessalonicae / Ed. G. Böhlig. Berlin, 1973. 3 (1).
21 Holy Women of Byzantium. Ten Saints’ Lives in English Translation / Ed. by Alice-Mary Talbot. Washington, 1996. P. 165. Об указании на происхождение святого, как обязательный элемент агиографического повествования см.: Mertel H. Die biographische Form der griechischen Heiligenleben. München, 1909. S. 90; Аопарев Х. Греческие жития святых VIII–IX вв. Петроград, 1914. C. 16 и сл.
22 Honigmann E. Die sieben Klimata und die ΠΟΛΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ: eine Untersuchung zur Geschichte der Geographie und Astrologie im Altertum und Mittelalter. Heidelberg, 1929. S. 4–7, 13–14 и далее; Bagrow L. The Origin of Ptolemy’s Geographia // Geografiska Annaler. 1945. Vol. 27. P. 320–329; Dicks D.R. The ΚΛΙΜΑΤΑ in Greek Geography // The Classical Quarterly. New Series. 1955. Vol. 5. No. 3/4. P. 248–255; Evans J. The History and Practice of Ancient Astronomy. New York, Oxford, 1998. P. 95–97.
23 Honigmann E. Die sieben Klimata… S. 58–72.
24 Oeuvres completes d’Hippocrate / Ed. E. Littre. Vol. 2. Paris, 1840 (repr. Amsterdam, 1961). 14–20. Русский перевод: Гиппократ. О воздухе, водах и местностях. 21–30 (В. В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ. 1947. Т. 19. № 2); Müller K.E. Geschichte der Antiken Ethnographie und ethnologischen Theoriebildung. Von den Anfängen bis auf die byzantinischen Historiographen. Bd. 1–2. Wiesbaden, 1972–1980. S. 137 f.; Backhaus W. Der Hellenen-Barbaren-Gegensatz und die Hippokratische Schrift Пер! äspwv üSätwv Tonuv // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. 1976. Vol. 25/2. S. 170–185 (особенно, S. 183); Dagron G. «Ceux d’en face». P. 209–210;
25 Страбон. География / Пер. с др. – греч. Г.А. Стратановский, ред. О.О. Крюгер, общ. ред. С.Л. Утченко. М., 1964. 2.11.1–3 (95–96), 2.Ш.1; Honigmann E. Die sieben Klimata. S. 24–30; Dihle A. Die Griechen und die Fremden. München, 1994. S. 90–93.
26 C. Plini Secundi Naturalis historiae libri XXXVII // Ed. Karl Mayhoff. Bd. 1–6. Stuttgart, 1967–1970. II. 5–6, VII. 41, особенно, II. 80: Contexenda sunt his cae-lestibus nexa causis. Namque et Aethiopas vicini sideris vapore torreri adustisque similes gigni, barba et capillo vibrato. etc.; Honigmann E. Die sieben Klimata. S. 33–40; Trüdinger K. Studien zur Geschichte der griechisch-römischen Ethnographie. Basel, 1918. S. 37–38, 51ff.; Müller K.E. Geschichte der Antiken Ethnographie. Bd. 1. S. 141–142. Ср.: Halsall G. Funny Foreigners. P. 91ff.
27 Bouché-Leclercq A. Chorographie astrologique // Melanges Graux. Paris, 1884. P. 341–351; Bouché-Leclercq A. L’astrologie grecque. Paris, 1899. P. 327.
28 Bouché-Leclercq A. L’astrologie grecque. P. 338–355; HonigmannE. Die sieben Klimata. S. 41–50; RileyM. Science and Tradition in the «Tetrabiblos» // Proceedings of the American Philosophical Society. 1988. Vol. 132/1. P. 67–84.
29 Claudii Ptolemaei Opera quae exstant omnia / Ed. E. Boer and F. Boll, secun-dis curis edidit Wolfgang Hübner. T. 3/1. Stuttgart, 1998. II. 1.2: dg 8üo toIvuv та реушта ка! кирштата рерг| Siaipoupevou той Si’ äuTpovoplag npoyvwffTiKoü, ка! ярштои pev övrag ка! уткштерои той ка0’ бХа £0vq ка! ушрад q яоХвд lapßavopsvou, ö KaXstrai ка0о'Хж6у Ssmxpou 8ё ка! siSiKWTspou той ка0’ sva гкасттот Tüv äv0pwnwv, önsp KaAsiTai ysvs0XialVoyiK6v.
30 Ptolem. Opera. II. 2. 1.
31 Riley M. Science and Tradition in the «Tetrabiblos»… P. 76; Dauge Y.A. Le barbare: recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation. Bruxelles, 1981. P. 806–810.
32 Pachym. T. I. III, 3 (p. 236/237 и, особенно, p. 237. 3–7). Подобные примеры из военных трактатов предыдущих эпох см.: Dagron G. «Ceux d’en face». P. 211–215. Об обсуждаемых рассуждениях Пахимера см. также: Успенский Ф.И. Византийские историки о монголах и египетских мамлюках // ВВ. 1926. Т. 24. С. 1–8; Laiou A.E. The Black Sea of Pachymeres // The Making of Byzantine History. Studies dedicated to D.M. Nicol. London, 1993. P. 109–111.
33 См., например: Eustathius Thessalonicensis. Commentarium in Dionysii pe-riegetae orbis descriptionem // Geographi Graeci Minores / Ed. K. Müller. T. 2. Paris, 1861. P. 258, 265, 339.
34 Honigmann E. Die sieben Klimata… S. 82–92.
35 Anonymi christiani Hermippus de astrologia dialogus / Ed. W. Kroll et P. Viereck. Leipzig, 1895. 2. 12–14 (p. 51–58), особенно: 56–58; Bouché-Leclercq A. L'astrologie grecque… P. 322–323, 346–347; Honigmann E. Die sieben Klimata. S. 100–101; Бородин О.Р., Гукова С.Н. История географической мысли в Византии. СПб., 2000. С. 126.
36 HungerH. Die hochsprachliche profane Literatur. Bd. 1. S. 509–514; Бородин О.Р., Гукова С.Н. История географической мысли в Византии. С. 126132 и далее; The History of Cartography / Ed. J.B. Harley and D. Woodward. Vol. 1. Chicago & London, 1987. P. 268; Laiou A.E. The Black Sea of Pachymeres. P. 95.
37 Nicephorus Blemmydes. Conspectus geographiae // Geographi Graeci Minores / Ed. K. Müller. T. 2. Paris, 1861. P. 463–467; Nicephorus Blemmydes. ῾Ετέρα ἱστορία περὶ τῆς γῆς // Geographi Graeci Minores / Ed. K. Müller. T. 2. Paris, 1861. P. 469–470; The History of Cartography. Vol. 1. P. 266–267.
Шукуров Р.М.
I.IV. Этнолингвистические критерии в описании Ирана в «Хронографии» Иоанна Малалы
В данной работе будет предпринята попытка проследить, каким критериям следует Иоанн Малала1 при описании Ирана и населения этой «беспредельной и безмерной земли, на столь большое расстояние отдаленной от Рима» (XI.6), как соотносятся между собой топонимы «Персида», «Персидская земля» и этнонимы «персы», «парфяне», «мидяне», «скифы».
Следующий шаг – определить, насколько терминология, в которой отразились этногеографические представления антиохийского хрониста VI в., является продуктом «архаизации» в ее литературоведческом и стилистическом понимании.
Происхождение Иоанна Малалы, выходца из Антиохии, его риторическое образование и положение чиновника средней руки2 позволяют смотреть на него как на носителя определенной системы мировоззрения с присущими ей стереотипами, которые разделялись многими его современниками, людьми образованными, но далекими от перипетий высокой политики (на этом фоне Прокопий Кесарийский, к примеру, с его талантом и близостью к военной элите представляется скорее блестящим исключением, чем правилом).
Особенности «Хронографии» как единственного3 дошедшего до нас произведения жанра «занимательной истории» (близкий к разговорному язык4 и, следовательно, ориентация на широкий круг читателей; легкость пера и стремление создать увлекательное повествование в ущерб фактографической точности) свидетельствуют о том, что Иоанн Малала и стремился работать в рамках данной системы представлений. Ориентируясь на вкус и запросы общества, он обращается к тому материалу, который мог бы быть интересен простому читателю, и организует его (оставим в стороне вопрос о целях и задачах, которые он себе ставил) таким образом, как то представлялось бы логичным ему и его читателям. Все это делает «Хронографию» интересным источником для реконструкции представлений византийцев VI в. об Иране.
Раз речь идет о «воображаемом Иране», целесообразно оставить на время в стороне проблему корректности передачи информации первоисточников5, зачастую неразрешимую из-за того, что произведения авторов, на которых ссылается хронист, до нас не дошли.
Предлагается воспринимать «Хронографию» как единое полотно, созданное Иоанном Малалой на основе доступных ему сведений, полученных от современников и почерпнутых из книг, и как историческую данность, без вопроса о реальном и конкретном содержании понятий, топонимов и этнонимов.
Отправной точкой для рассуждений об архаизации как о средстве и инструменте познания, описания и классификации новых явлений через уже известные понятия послужила статья Р.М. Шукурова «Земли и племена»6. Для реконструкции византийской классификации турок автор обращается к принципам византийской эпистемологии, восходящей во многом к аристотелевской логике. Прежде всего, идет речь о понятиях рода и вида и об использовании понятия рода как идеальной категории для описания новых конкретных феноменов (видов). Кроме того, подчеркивается, что в отличие от современной науки, в классификационной модели византийцев превалировал не языковой, а локативный критерий.
Как работает этот метод, мы попробуем проследить на материале Иоанна Малалы. Проанализировав соотношение понятий «Персида» и «персы», можно попробовать реконструировать механизм введения новых понятий, им используемый для описания событий в соседней стране с мифологических времен до правления Юстиниана.
В обзорных статях и работах по анализу методов совмещения христианской и античной исторических традиций7, в исследованиях славянского перевода хроники Иоанна Малалы, основа которых была заложена В.М. Истриным8, в томе исследований9, сопутствовавшего английскому переводу хроники, и в недавних работах французских исследователей10 проблематика реконструкции представлений Иоанна Малалы об Иране подробно не анализировалась11.
География
Понятие «Персида» появляется в «Хронографии» раньше, чем этноним «персы». При разделе земель между потомками сыновей Ноя (I.6) Персида достается роду Сима вместе с Сирией и Мидией. Речь идет о территории «от Персиды и Бактр вплоть до Индии».
Здесь мы встречаем единственное в «Хронографии» упоминание Бактрии (или города Бактры). Раз речь зашла о северо-востоке и севере Ирана, отметим, что топоним «Парфия» вообще не используется, Малала говорит только о парфянах.
«Индийские пределы» будут упомянуты неоднократно и впоследствии, как дальние области, где царь персов спасается бегством в случае военных неудач (Кир хотел бежать в индийские земли от Креза VI.7; в индийские пределы бежит Нарсе от Максимиана XII.39). Таким образом, восточной границей Персидской земли оказывается Индия. Далее (XVIII.15) Малала называет индами жителей Аксума и Химьяра, но это уже тема отдельного исследования.
На западе же естественной границей оказывается Междуречье. Евфрат вместе с Персидой достается Симу (I.6). Тигр разделяет Мидию и Вавилонию, и от него, согласно Малале, простирается область от Мидии на север до Британских островов, что досталась роду Яфета. Топоним «Мидия» встречается только три раза. Чаще употребляется этноним «мидийцы» (II.11, VI.14, VII.18–19, VIII.1, VIII.3).
Далее (I.8) вновь Персида упомянута вместе с Сирией и «остальной восточной землей» как территория правления рода Сима. Первым, кто стал царствовать, то есть командовать и повелевать другими людьми, был Крон, из рода Сима. «Царствовал он в Ассирии много лет и подчинил все Персидскую землю, начиная с Ассирии».
Следовательно, Ассирия воспринималась как часть Персидской земли и как родина институтов власти на Востоке. В следующем эпизоде мы находим тому подтверждение.
Пик Зевс, процарствовав в Ассирии тридцать лет, сделал царем Ассирии своего сына Бэла. Бэл правил над Ассирией два года и умер, и персы его обожествили. (I.10) Ассирией после Бэла стал править Нин, другой сын Крона, который взял в жены свою мать. И с тех пор в обычае у персов жениться на своих матерях и сестрах… Нин же, воцарившись над Ассирией, строит Ниневию, город ассирийцев, и правит в нем первым. Семирамида же Рея, мать его, была ему женой, еще раз подчеркивает Малала чуть ниже (I.11).
Стоит обратить внимание, что в терминологии хрониста Крон, Бэл и Нин правили именно Ассирией, только единожды Малала говорит о Бэле, что тот правил ассирийцам. В дальнейшем же повествовании правители носят титул «царь персов/ассирийцев/ромеев», то есть именуются василевс определенного народа, а не страны (аналогичная формула встречается у Прокопия (Bel. Pers. I.2), у Агафия (II.18), у Феофилакта Симокатты (III.16)). Топоним «Ассирия» уступает место понятию ассирийцы (I.12, VI.1, 3, 4, 13, VII.18–19).
Следующий интересный момент – связка «ассирийцы, персы, мидяне и парфяне», которые неоднократно упоминаются вместе при описании времен Александра Македонского.
«И победив Дария, царя персов, сына Ассаламы, захватил Александр его и все царство его и все земли ассирийцев, мидян, парфян, вавилонян и персов, и все царства земли, как написал премудрый Боттий; и города, и области, и всю землю римлян, эллинов и египтян освободил от рабства и повиновения ассирийцам и персам, парфянам и мидянам, отдав римлянам все, что они потеряли» (VIII.1).
Земли этих народов оказываются объединенным понятием и в предшествующем сюжете: «Ассирийцы же и царь их Ох возгордились; и восстала вся земля, и была передана власть в руки ассирийцев, персов, мидян и парфян» (VII.17). Еще раз находит подтверждение тезис о связи и родстве этих народов в глазах Малалы. Иначе представлялось бы странным, что восстание против ассирийцев заканчивается тем, что они остаются у власти (пусть вместе с другими народами). Обратный пример можно найти у Агафия, согласно которому в царствование Сарданапала, когда царство ослабело, мидянин Арбах и вавилонянин Велизис отняли власть у ассирийцев и передали ее мидянам (II.25).
Кроме того, ранее Малала называет Оха «царем персов» и сообщает, что тот взошел на трон после своего отца Артаксеркса, «царя персов». (VII.17)
Следующее сообщение, казалось бы, добавляет путаницы в этнографическую картину «У вавилонян же после Оха пришел к власти Дарий, мидянин, сын Ассалама, и подчинил себе всех» (VII.18).
Народы
Самым простым решением было бы предположить, что речь идет о синонимах «вавилоняне – ассирийцы», «мидяне – персы», «ассирийцы – персы».
Аргументом против является уже само последовательное перечисление всех четырех (а в отдельном случае пяти) народов: «ассирийцев, мидян, парфян, вавилонян и персов» (VIII.1). Если речь идет об одном и том же, в чем смысл удлинять повествование? Значит, у Иоанна Малалы были мотивы сближать эти понятия и выстраивать определенную систему.
Во-первых, правомерно предположить, что важным моментом был вопрос культурной преемственности. Малала возводит тип брака, распространенный среди зороастрийцев, к царю Ассирии и упоминает о Семирамиде. Эту деталь отмечали и его современники (Proc. Bel. Pers. I.XI.5, Agath. II.24).
Нимруд (из рода Сима, как и Крон, Бэл и Нин) основал Вавилон и «персы говорят, что он был обожествлен и стал звездой на небе, что называют Орион». Он был предводителем среди персов (I.7). Учитывая значение, которое Малала придает строительству городов и упорядочиванию пространства как важнейшей функции правителя, связка «ассирийцы – вавилоняне – персы» представляется вполне логичной.
После Нина, согласно Малале (I.12), воцарился над ассирийцами Фурас, которого отец его, Замес, брат Реи, переименовал по названию звезды Арес. Именно Аресу ассирийцы поставили первую статую, и почитали его как бога, и по сей день его называют по-персидски Ваал бог, что переводится как Арес, воинствующий бог. «По-персидски» в данном случае означает скорее «по-ассирийски» или «по-сирийски», так как Ваал – слово семитского корня.
Агафий (II.24) также уподобляет богов персов античным божествам, отмечая, что до Зороастра они почитали Юпитера и Сатурна и всех остальных богов эллинов, называя, однако, Зевса Белом, Афродиту Анаитидой.
Интерес к Зороастру проявляет и Малала. «Из этого же рода родился Зороастрий, знаменитый астроном персов. Перед смертью он молился, чтобы погибнуть от небесного огня, и говорил персам: «Если сожжет огонь меня, мои сожженные кости поднимите и храните, и тогда царство не уйдет из вашей земли все то время, пока вы будете хранить мои кости». И восславил он затем Ориона и был уничтожен небесным огнем. И сделали так персы, как сказал он им, и хранят они испепеленные останки его и поныне» (I.11).
Во-вторых, важным инструментом наведения порядка в истории народов были генеалогические связи. Персей, сын Пика Зевса, оказывается племянником царя Ассирии Нина. «Став взрослым, Персей страстно возжелал (заполучить) Ассирийское царство, завидуя потомкам своего дяди Нина» (П.11).
И если согласно Агафию (II.25) царство ассирийцев переходит к мидянам, и только через триста лет царством овладели персы, у Малалы на смену ассирийцам приходят персы. «После Ламеса стал царем над ассирийцами Сарданапал великий. Его убил Персей, сын Данаи, и забрал царство у ассирийцев, и стал царствовать над ними, назвав их по своему имени персами (I.12). Следовательно, ассирийцы – это те же персы, только названные по-другому.
Во втором сообщении вновь подчеркивается значение акта переименования. «Оттуда отправился через гору Аргай против ассирийцев. И победил их, и убил царя их Сарданапала, из рода которого он сам происходил. И царствовал над ними 53 года, и по имени своему назвал он их персами, отняв у ассирийцев и царство, и имя» (II.11).
Георгий Монах, чье изложение данного сюжета очень близко рассказу Иоанна Малалы, резюмирует: «Итак, первое царство ассирийское или вавилонское, второе же – царство персов, которых омонимично называют вавилоняне или ассирийцы» (I. 00131-00132).
Примечателен термин, выбранный хронистом IX века – «омонимично». Если обратиться к определению Аристотеля, которое открывает «Категории», увидим, что «одноименными называются предметы, у которых лишь имя общее, а речь (понятие) о сущности разная» (Cat. I.1), в отличие от синонимов, которые передают одно понятие. Это еще один аргумент в пользу того, что «персы», «ассирийцы», «вавилоняне» не были для византийцев равнозначными этнонимами.
Данный эпизод «Хронографии» показывает, что переименование имело политическое значение. У независимого народа должно быть свое имя, имя же подчиненного народа подводится под общую категорию рода – название народа-победителя.
Другим актом утверждения политического влияния могло считаться распространение своего имени на новой территории. «Найдя деревню, называемую Амандра, он сделал ее городом, и поставил себе статую за пределами города, с изображением Горгоны. Совершив обряд, он назвал тюхе города Персиды своим именем. Эта статуя стоит до сих пор. И назвал он этот город Эйконион, так как там он одержал первую победу с Горгоной» (ни).
Тоже делает Александр Македонский. «Тогда была освобождена персидская земля, и пришел конец царства персидского, стали македоняне и Александр со своими соратниками угнетать земли халдеев, мидян, персов и парфян; и победив Дария и убив его, вторглись они в царство его. И установил законы Александр в этих землях и стал царствовать над ними; и воздвигли ему персы медную конную статую в Вавилоне, которая стоит и по сей день» (VIII.3). Если учитывать, что во времена Малалы Вавилон уже лежал в руинах, видимо, снова следует искать цепочку преемственности Вавилон-Селевкия-Ктесифон и «ассирийцы – персы».
Помимо воздвижения статуи12, Персей «посадил дерево, называемое персея, не только там, но и в землях египтян посадил он персеи в память о себе» (II. 11). Подобный случай народной этимологии зафиксирован и у писателей «Истории августов». Персиковое дерево рассматривается как своего рода символ страны, и потому толкователи предрекали Александру Северу победу над персами, исходя из того, что лавр у дома, где он родился, стал выше персикового дерева (SHA. XVIII. 13.7).
Персей переименовал и землю мидян (II.11), научив персов обрядам с чашей (σκύφος) Медузы, которым он в юности научился от отца Зевса (II.11). Следовательно, критерий, по которому Иоанн Малала отделяет мидийцев от персов, находится в области культуры и религии.
Мидийцы и ассирийцы остаются таковыми, то есть мидийцами и ассирийцами. Но, оказавшись под властью персов, они подпадают под категорию «подданные персидских царей», и следовательно, на них может быть экстраполирован этноним «персы».
Другое тому свидетельство – история появления в персидской земле парфян. «И затем, в последующие времена, правил над египтянами Сострис, старший из рода Хама. Во всеоружии пошел он войной на ассирийцев, и подчинил он их, а также и халдеев, и персов вплоть до Вавилона. Точно также подчинил он и Азию, и всю Европу, и Скифию и Мисию. И возвращаясь в Египет, из земли скифской отобрал он из молодых воинов пятнадцать тысяч, и сделав их переселенцами, повелел, чтобы они поселились в Персиде, дав им там землю, какую они выбрали. И остались в Персиде эти скифы с того времени и по сей день. Персами они были названы «парфы», что переводится на персидское наречие как «скифы». И вплоть до сегодняшнего дня у них скифская одежда, наречие и обычаи. И очень воинственны они в войнах, как то описал премудрый Геродот» (II.3).
Даже будучи завоеваны египетским правителем, скифы остаются в сфере влияния персов, которые и дают им имя. Объяснима также и аналогия «парфы» – «скифы». И те, и другие приходят с севера (по отношению и к греко-римской ойкумене, и к персидским землям). И те, и другие – кочевники. И те, и другие знамениты мастерской стрельбой из лука (Ср. Proc. Bel. Pers. I. 12–15). Соответственно, когда на историческом горизонте появляются парфяне, оказывается логичным объяснить, кто они, используя понятие «скифы».
Дочерью царя Скифии оказывается и царевна Медея, уехавшая с Ясоном и аргонавтами (IV.9), возможно, из-за созвучия ее имени и прозвания мидийцев. Или же Малала, подобно Агафию, допускал, что колхи когда-то были колонией египтян. Агафий пишет, что Сезострис, с многочисленным войском, покорил всю Азию и дошел до Колхиды, оставив там часть своих войск (II.18).
Указание (II.3), что парфяне поселились в Персиде, подразумевает, что «парфяне» оказываются персами в значении жителями Персиды (или шире, Персидской земли). А если превалирует географическая коннотация этнонима «персы», то снимается противоречивость определения «царь персов из рода парфян». Именно так Малала определяет Меердота (XI.3), который во времена Траяна стал разграблять римские земли. В рассказе о восточной кампании этого императора Малала именует Меердота (как и его сына Санатрукия) «царем персов».
О главенстве географического аспекта в этнонимах может свидетельствовать и утверждение, что Ноев ковчег остановил в Армении, «между парфянами, армянами и адиабенцами» (I.4). Раз топонимы используются для локализации, значит, подразумевается, что за определенным народом «закреплена» определенная территория.
Исходя из этой логики, объяснимо, почему Малала, к примеру, называет испанцев италийцами (XVIII.14), ведь до того (I.10) он ставит знак равенства между Италией и Западом.
Язык
В описании похода Траяна упоминается также, что «арсак» соответствует титулу «царь» (XI.3). До того (VIII.25) Малала упоминает о Арсаке-парфянине, что восстал против Антиоха Эвергета. Повествуя о походе Юлиана, Малала включает этот титул в имя персидского царя Шапура (XIII.17, 21–22). При том, что данное наблюдение антиохийского хрониста соответствует действительности, вряд ли можно утверждать, что он в какой-то степени знал язык соседней державы.
Выше перечисленные примеры (отсылки к персидскому языку: I.12, II.3, XI.31), а также упоминание о языке персов в связи с учением манихеев (XII.42), можно рассматривать как маркер осознания границы «свой-чужой», который в то же время свидетельствует о том, что для Малалы персы выделялись из общей массы варваров (раз он идентифицирует этот язык).
В целом, конечно, для антиохийского хрониста, как и для других ромеев, персы являлись частью варварского (то есть неримского) мира, но на 430 станицах «Хронографии» Малала называет их варварами только один раз (XVIII.61), в отличие, к примеру, от эмоционального повествования Прокопия.
Как варваров Малала характеризует кочевых арабов-сарацин (XII.26, 27, 30). Оденат назван царем сарацин-варваров, а Зенобия – царицей (βασιλλισα) варваров-сарацин. Рим на какое-то время оказывается во власти «Одоакра, царя (ῥὴξ) варваров» (XV.9-10). На Западе против варваров воюет Константин (XIII.2). Варварами он называет гуннов (XVIII.13–14).
Такое противопоставление13 заставляет предположить, что концепт «варварства» связан для Малалы, во-первых, с образом жизни, и во-вторых, с отсутствием привязки к определенной территории14. Внимание же к языку, на котором они говорят, минимально.
В описании же персов с самого начала появляются понятия «город», «власть», определенная территория.
* * *
Подводя некоторые итоги, можно отметить, что Иоанн Малала, выводя новые народы на историческую сцену своего повествования, прежде всего, крупными штрихами вписывал их в современную ему систему этногеографических представлений. Так, чтобы описать гору Арарат и Ноев потоп нужны понятия «Армения», «парфяне» и «адиабенцы».
Другим способом установки связей является генеалогический принцип.
С появлением понятия «царства» географическая локализация уступает место этнониму, и устанавливается привязка «народ – территория».
Принципиально важной оказывается роль этнонимов и процесса имянаречения. Утрата политической независимости ведет к тому, что и в терминологии имя конкретного народа оказывается подчиненным, и в классификации превалирует этноним победителя. Малала передает это рассказом о переименовании народов Персеем.
Другим фундаментальным критерием были различия в области культуры и религии (случай персы – мидийцы). Языковой критерий оказывается отнюдь не решающим.
Этнонимы «ассирийцы», «вавилоняне», «мидийцы», «скифы», «парфяне» оказываются частным, исторически обоснованным случаем, видом по отношению к более общему, родовому понятию «персы», под которыми подразумеваются обитатели Персидской державы и подданные персидского царя.
Примечания
1 Ioannis Malalae Chronographia, rec. Ioannes Thum. // Corpus fontium his-toriae Byzantinae. Vol. 35. Ser. Berolinensis. Berolini, 2000. Все последующие ссылки на «Хронографию» даются по этому изданию в тексте главы.
2 Croke B. Malalas, the man and his work. // Studies in John Malalas, ed. by E. Jeffreys with B. Croke and R. Scott. Sidney, 1990. P. 1–26.
3 Jeffreys E. The beginning of Byzantine chronography: John Malalas. // Greek and Roman Historiography in Late Antiquity. Ed. by G. Marasco. Brill-LeidenBoston, 2003. P. 497–527.
4 James A. The language of Malalas. // Studies in John Malalas, ed. by E. Jeffreys with B. Croke and R. Scott. Sidney, 1990. P. 217–244.
5 Jeffreys E. Malalas’ sources. // Studies in John Malalas, ed. by E. Jeffreys with B. Croke and R. Scott. Sidney, 1990. P. 167–216.
6 Шукуров Р.М. Земли и племена: византийская классификация тюрок // Византийский Временник. 2010. Т. 69 (94). С. 132–163.
7 Удальцова З.В. Мировоззрение византийского хрониста Иоанна Малалы. // Византийский Временник. 1971. Т. 32. С. 3–23; Чекалова А.А. Иоанн Малала. Хронография. Книга XVIII. Вместо предисловия // Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. СПб., Алетейя, 1998. С. 465–466; Любарский Я.Н. «Хронография» Иоанна Малалы (проблемы композиции) // Историки и писатели Византии (VI–XII). СПб., 1999. С. 7–20; Самуткина Л.А. Концепция истории в «Хронографии» Иоанна Малалы. Иваново, Иван. ГУ 2001.
8 Истрин В.М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе (18971914). Репринтное издание М., 1994.
9 Studies in John Malalas, ed. by E. Jeffreys with B. Crake and R. Scott. Sidney, 1990.
10 Recherches sur la chronique de Jean Malalas: actes du colloque 'La Chro-nique de Jean Malalas (VI s. e. chr.): genese et transmission’ organise les 21 et 22 mars 2003 a Aix-en-Provence. Ed. par J. Beaucamp avec la collaboration de A. Ber-nardi, B. Cabouret et E. Caire. P., 2004; Recherches sur la chronique de Jean Malalas: ed. par S. Agusta-Boularot, J. Beaucamp, A. Bernardi, et E. Caire. P., 2006.
11 Об интересе к манихейству см.: Croke B. Malalas, the man and his work. // Studies inJohn Malalas, ed. by E. Jeffreys with B. Croke and R. Scott. Sidney, 1990. P. 13–14; о восточных элементах в мировоззрении Малалы см.: Jeffreys E. Malalas’ world view // Studies in John Malalas, ed. by E. Jeffreys with B. Croke and R. Scott. Sidney, 1990. P. 65–66; о месте Малалы в византийской историографической традиции об императоре Юлиане см.: Bouffartigue J. Malalas et l’his-toire de l’empereur Julien // Recherches sur la chronique de Jean Malalas. V. II. P., 2006. P. 137–152.
12 Список статуй, упомянутых Иоанном Малалой, см. в работе: Saliou С. Statues d’Antioche de Syrie dans la Chronographie de Malalas// Recherches sur la chronique de Jean Malalas: ed. par S. Agusta-Boularot, J. Beaucamp, A. Bernardi, et E. Caire. P., 2006. P. 69–95.
13 Чекалова А.А. Византия и Запад // Византия между Востоком и Западом. Опыт исторической характеристики. СПб., 2001. С. 81–104.
14 О внимании Иоанна Малалы к организации пространства как одной из важнейших функций правителя см.: Самуткина Л.А. Город в «Хронографии» Иоанна Малалы // Личность – Идея – Текст: К культуре Средневековья и Возрождения: Сб. науч. тр. в честь 65-летия Н.В. Ревякиной. Иваново, 2001. С. 33–47; Metivier S. La creation des provinces romaines dans la Chronique de Malalas // Recherches sur la chronique de Jean Malalas: ed. par S. Agusta-Bou-larot, J. Beaucamp, A. Bernardi, et E. Caire. P., 2006. P. 155–172; Cabouret B. La fondation de cites du IIe au IV siecle (des Antonins a Theodose) d’apres la Chronique de Malalas // Recherches sur la chronique de Jean Malalas: ed. par S. Agus-ta-Boularot, J. Beaucamp, A. Bernardi, et E. Caire. P., 2006. P. 173–185.
Громова А.В.
II. Формы этнонациональной самоидентификации: историческая рефлексия, и правовая мысль, культурные феномены
II.I. «Франция родина правосудия». Институционализация патриотизма[2]
Национальный вопрос относится к числу самых сложных, тонких и болезненных аспектов человеческого сознания. Степень жгучести вопроса оставалась неизменной веками, менялась лишь интерпретация самого понятия «нации». В Средние века, когда собственно закладывались основы современных наций, безраздельно господствовало представление об общем происхождении и кровном родстве тех, кто составляет «нацию», синонимичную в такой интерпретации «роду»1. Этнический компонент долгое время считался ядром нации, и в известной мере он остается основополагающим признаком национальной идентичности. Подобное единство предполагало наличие неких общих черт у людей одной крови – во внешнем облике, в обычаях и нравах. Модные в наши дни «реквиемы по этносу» и теории «воображаемых сообществ» красноречиво свидетельствуют о пропасти, отделяющей нас от таких простых и прямолинейных интерпретаций. И всё же некоторая общность – во взглядах, в образе жизни и мышления, в способах самоидентификации – характеризует все народы.
Каждая современная «нация» проделала свой уникальный путь в истории. Хотя процесс складывания «наций» был общим для Европы в период формирования «национальных монархий», но национальное самосознание, при этом, не было универсальным, в каждой стране оно имело свои особенности. Поиск слагаемых элементов для каждого типа национального самосознания в разные эпохи остается актуальным научным вопросом по сей день.
Французский вариант становления национального единства афористично охарактеризовал Б. Гёне: «государство создает нацию». Тем самым он подчеркивал первостепенную роль политического фактора в формировании французской нации, конкретно – главенствующую роль Французского королевства и персоны монарха как общепринятых коллективных ценностей2. В этом смысле французов следует отнести к типу «политических наций», где государство играло роль объединяющего фактора, создающего общие ценности и культивирующего чувство общности, скрепленное культурными кодами как опорой национального самосознания3.
Динамику этому процессу придавало «встречное движение»: не только государство было кровно заинтересовано в формировании у подданных осознания, что они единая «нация», как в прочной опоре процесса централизации, но и люди обратили свои чувства на государство как на объединяющую ценность. Как образно заметил Дж. Стрейер, «государство существует только в сердцах и в головах граждан, и если они не верят в его существование, никакая сила или логика не вдохнет в него жизнь»4. Убедив французов, что они составляют «естественную общность», государство во Франции обрело в этом факторе политическую устойчивость и получило новый импульс развития. Этого нельзя было добиться никаким «легальным насилием», даже духовным, включая умелую и красочную пропаганду. Люди сами должны были захотеть жить вместе, добровольно принять «условия игры». Следовательно, за успехами централизации и консолидации, за длящимися во времени монархическими институтами проглядывает осознанный выбор людей в пользу этого процесса. Так во Франции происходит соединение «нации» и «государства», этнического и политического компонентов, а на авансцену выходит новое явление – чувство национальной гордости, сублимирующее общественный договор.
Как и повсюду в Европе, во Франции в период классического Средневековья господствуют идеологемы «богоизбранности» французского народа, «Франции как земли обетованной» и т. д. Но, – и в этом ее отличие от других стран, – объектом национальной гордости становится не только персона короля, окруженного ореолом превосходства над другими монархами, но и возникающие монархические институты, которые начинают играть «первую скрипку» в пропаганде национальной исключительности. А на стратегии утверждения французской национальной идентичности определяющее влияние стали оказывать служители короны, прежде всего юристы, со своими специфическими представлениями об общем благе и ценностными ориентирами.
В этом русле мне бы хотелось привлечь внимание к аспекту, слабо изученному именно в контексте формирования национального самосознания, – к теме правосудия/справедливости (отмечу сразу же неустранимую синонимичность этих слов во французском языке и больше не буду на этом останавливаться) как стратегии самоидентификации французской «нации». В заглавие статьи вынесен парафраз (кстати, без знака вопроса, как констатация «очевидного») из произведения юриста и парламентария XVI в. Бернара де Ла Рош-Флавена, написавшего «Тринадцать книг о Парламентах Франции. В них на разные лады превозносится правосудие во Франции, а в «книге», посвященной прерогативам короля, сказано следующее:
«Правосудие явилось на свет одновременно с Францией, и обладает правом наследования во французской земле, как существуют страны, наделенные редкостями, не водящимися в иных местах. Индия одна имеет деревья, дающие благовония. Лишь персидские неводы приносят превосходные жемчуга. Только Аквилон дает янтарь. Точно также в одной лишь Франции отправляются истинные функции Правосудия, особенно в Парламентах»5.
Это рассуждение Ла Рош-Флавена получило большую известность в историографии благодаря классической книге Эрнста Канторовича «Два тела короля», где оно фигурирует как доказательство оформления концепции «неумирающего тела» государства через стабильные монархические судебные институты6. Однако подобное утверждение не является «изобретением» юриста эпохи раннего Нового времени, но уходит корнями в Средневековье, когда закладывались основы национальной идентичности французов (Замечу попутно, что не считаю неизменными такие идеологемы; они по-разному функционировали в разные периоды и получали различную интерпретацию.) Среди знаков избранничества французов существенное место начинает отводиться правосудию/справедливости как доказательству превосходства Французского королевства над всеми прочими. Чувство национальной гордости, патриотизм как стратегия идентификации «нации» отныне концентрируется не только на своих героях и святых, не только на истории военных побед, но и на превосходстве институтов правосудия во Франции.
Когда же возникает эта тема? Важный вопрос, помогающий понять истоки этой идеологемы. Хотя слово «патриотизм» появляется только в XVIII в., но в Средние века уже существовало идущее от Античности понятие «родины» (patria – pro patria mori, по Цицерону и Горацию)7. При этом, обратим внимание, именно юристы – из Орлеанской школы гражданского права – первыми начинают говорить о Французском королевстве как о единой стране (pays) и «общей родине». Не менее значимо и то, что происходит это в правление и под ореолом Людовика IX Святого. Около 1270 г. Жак де Ревиньи, адаптируя Дигесты, пишет о communis patria. Чуть позднее, в 1274 г., монах из Сен-Дени (Примат) впервые говорит о Франции как «нации», соединив нераздельно политический и этнический компоненты. Примерно с 1300 г. можно констатировать утверждение в политическом лексиконе понятия «нации», сам же термин «natione gallicus» появляется в 1318 г., а французы начинают верить, что представляют собой единую нацию8. В этом плане абсолютно прав Б. Гёне, заявляя, что вовсе не в период Столетней войны возникает (хотя тогда оно существенно укрепляется), а именно во второй половине XIII в. зарождается во Франции национальное самосознание и элементы патриотизма9.
Таким образом, именно правление Людовика IX Святого, с моей точки зрения, становится поворотным в процессе складывания национального самосознания и составляющих его элементов. Чем же оно было знаменательно? Святость короля, основанная вначале преимущественно на его верности крестоносной идее и личном смирении, под пером апологетов и идеологов монархии во главе с Жуанвилем трансформируется в его исключительную заботу об отправлении истинного правосудия и об «очищении нравов» чиновного корпуса (комиссия по расследованию злоупотреблений чиновников 1247 г. и изданный на основе ее выводов краеугольный для всей структуры исполнительно аппарата ордонанс декабря 1254 г.).
Роль королевского правосудия как основного инструмента складывания централизованных национальных монархий – огромная тема, и о ней написано так много, что я не буду подробно на ней останавливаться10. Отмечу лишь, пунктирно, существенные для данной темы элементы.
Функция «короля-судии», «верховного арбитра», стоящего над схваткой и воздающего каждому должное – внесла решающий вклад в повышение морального авторитета королевской власти и в укрепление ее институтов. Идентификация монарха через судебную функцию сделала отправление правосудия мерилом оценки каждого правления11. Прославление королевского правосудия во Франции постепенно удревнялось, доходя вплоть до времени царствования Хлодвига12, но именно начиная с Людовика IX Святого каждого короля оценивали через функцию отправления им правосудия. Даже излюбленный во французском политическом словаре титул «наихристианнейшего короля», трактуемый как знак избранности французского народа, обосновывался применительно, например, к королю Филиппу IV Красивому, тем, что тот якобы «блистал над всеми прочими правителями мира своим правосудием (как и верой)»13. Равным образом Кристина Пизанская, прославляя Карла V Мудрого, неизменно именует его «столпом правосудия»14.
Показательно, что высшей формой установления справедливости признается именно личный суд короля, причем, парадоксальным образом, эта идея усиливается параллельно с укреплением и разветвлением судебного аппарата короны Франции, реально и повседневно оправляющего данную функцию. Картина – сидящий под Венсеннским дубом король Людовик IX Святой, выслушивающий жалобы подданных и выносящий свое решение, – становится квинтэссенцией идеального правления. Замечу, что эта картина не имеет ничего общего с «буколическим мотивами», как полагает К. Бон, но отсылает к «древу» – архаическому символу связи земли и неба и образу истинного правосудия15.
Иконография французской монархии настойчиво пропагандировала эту мифологему. Наиболее показательный пример – «Ретабль» (Распятие) в Большой палате Парламента, картина, созданная в 1454 г. в качестве образного ориентира для судей верховного суда королевства. На ней вокруг Распятия Христа изображены один «национальный святой» – св. Дионисий (с отрубленной головой в руках) и два «французских святых короля» – Карл Великий (идентифицируемый традиционно по пышной бороде) и Людовик Святой – причем изображенный с чертами лица Карла VII – явно высокая оценка его правления «заказчиками» картины. Висящая в центре большой стены в главной зале Парламента картина, невольно притягивая взоры, олицетворяла «истинное правосудие» и «главного судию», с оглядкой на которого и должен был вершиться суд в верховной судебной палате Французского королевства16.
Отличительным знаком избранности королей Франции как вершителей истинного правосудия объявлялась такая специфически французская инсигния, как «длань правосудия» – преобразованный второй, короткий жезл короля, с навершием в виде благословляющего крестного знаменья. Король держал ее в левой руке, подражая Богу, выносящему приговор. Кстати, в связи с трактовкой именно этой инсигнии и был написан приведенный выше пассаж из трактата Ла Рош-Флавена, где толкуется о знаках превосходства Франции: «все короли имеют скипетр, но только короли Франции имеют совокупно длань правосудия как один из знаков их власти», поскольку в их Парламентах вершится истинное правосудие. Аналогичные идеи мы встречаем и у другого знаменитого юриста XVI в. Шарля Луазо: «в нашей монархической Франции рука обычно означает публичную власть, и говоря о «взятии под руку», «передаче в руки» мы подразумеваем именно эту руку, которую мы зовем дланью короля или правосудия… и наши короли, будучи облачены в королевское одеяние, держат ее как самые главные судьи-миротворцы в мире, помимо скипетра, общего у всех королей»17.
Хотя само наименование короткого скипетра (virga) как «длани правосудия» появляется в 1461 г., свидетельствуя о произошедшей важной идейной трансформации, однако его древнейшее изображение восходит к королевской печати Людовика X Сварливого, а использовался он с 1315 г. И неслучайно первый король, изображенный держащим малый скипетр с навершием в виде благословляющей руки судьи, был, разумеется, Людовик IX Святой. Впервые изображение появилось в 1299 г. на печати доминиканского монастыря в Эврё, основанного под его патронажем; затем – на витраже Троицы в церкви в Вандоме (ок. 1300–1305 гг.). Ученые справедливо относят трансформацию малого скипетра в «длань правосудия» к самому концу XIII в. как отражение перехода от короля-мудреца к королю-миротворцу и судье – уже не Давид, но Соломон18. Длань правосудия, до конца XV в. именуемая в обиходе «жезлом Господа» (baton a seigneur – как благословение), возводилась именно к «святому королю». А утверждается эта почетная «генеалогия» в правление Филиппа IV Красивого, что невозможно отделить от наступательной идеологической программы королевских советников-легистов, от существенного расширения административной власти короны, от разработки «позитивного права» и оформления монархических институтов. Обновляющейся форме правления должен был соответствовать и новый атрибут короля. Кстати, заметим, что со временем все королевские инсигнии начинают трактоваться во Франции именно как символы правосудия (в том числе цветок лилии)19.
Олицетворением превосходства французского правосудия становится особый статус Парламента, стоящего на вершине иерархической структуры органов королевской власти. Этот высокий статус верховного суда подкреплялся его функцией «репрезентации короля», означавшей не столько символические подобие, сколько чисто юридическую «заменяемость» государя Парламентом. В трактате Филиппа де Мезьера «Сновидение старого паломника» (конец XIV в.) Французское королевство восхваляется как «источник правосудия», и главным образом Парламент: «под небом не найти более достойной, ни более справедливой кузницы, чем святой Парламент в Париже»20. Современники, а вслед за ними и историки спорили, кто же был основателем Парламента. Хотя предпринимались отдельные попытки удревнить его историю, возведя к самому Карлу Великому, правителю par excellence Средневековья, или же к Пипину Короткому, но в значительной мере спор «крутился» вокруг двух знаковых для монархии имен – Людовика IX Святого и Филиппа IV Красивого21.
Важно, при этом, иметь в виду, что сами парламентарии к XVI в. настаивали на решающей роли Людовика IX Святого в «оседании» Парламента отныне и навсегда в столице королевства – в Париже, во Дворце в Ситэ, поскольку первые сохранившиеся в парламентских архивах протоколы датируются 1254 г. – важная дата, отсылающая и к великому реформаторскому ордонансу о «преобразовании нравов в королевстве»22. Потомственный магистрат, парламентарий и знаток судебных архивов XVII в. Жан Ленен даже цитирует письмо, адресованное парламентариями королю, где говорится, что именно Людовик Святой основал Парламент23. Это оседание верховной судебной палаты в Париже стало важнейшим фактором отделения функции правосудия от персоны монарха, сняв с магистратов необходимость следовать за ним и разорвав их «генетическую» связь. Что же до роли Филиппа IV Красивого, то она трактовалась как придание Парламенту новой структуры: разделение на две палаты: Верховную, выносящую приговоры, и Следственную, готовившую материалы к процессам. Не менее важным была и осуществленная им масштабная реконструкция Дворца в соответствии с новой идейной программой Французской монархии24.
Единый центр для всей страны – столица королевства – призван был сыграть важную роль в процессе централизации и складывания национального единства. С этой целью Париж прославлялся идеологами монархии на все лады: его объявляли «раем» (возводя этимологию Paris к Paradis), новыми Афинами и новым Иерусалимом. На фоне политической консолидации и процесса национальной самоидентификации возникает совмещение «Святой Земли» за морем и «милой Франции», страны нового избранного народа, сообщества свободных людей (этимология этнонима «франки» от слова franc – «свободный»). Но главное – Париж объявили новым Римом, «общей родиной» (communis patria) для всех подданных короны Франции, наряду с «малой/личной родиной» у каждого человека25. Знаменательно, что именно под пером юристов, взявших идею из Дигест, и именно начиная с XIII в., особенно в период борьбы французской короны с папой Римским Бонифацием VIII, происходит символическое отождествление Парижа с Римом как символом «общей родины» и формируется принципиально новый тип патриотизма26. В качестве иллюстрации широкого распространения этой идеи приведу лишь один пример: 14 июня 1380 г. во время весьма заурядного судебного заседания в Парламенте по поводу тяжбы между прокурором торговцев морской рыбой в Париже и королевским прево, последний в числе аргументов в пользу превосходства своей юрисдикциии напомнил, что «Париж лучший и самый знатный город королевства, он Рим в этом королевстве»27.
Надо признать, аналогичный процесс происходил едва ли не повсеместно в Европе, где активно развивались централизованные «национальные» монархии. Повсюду пропагандировались идеи богоизбранности данного «народа», а столицы складывающихся государств объявлялись новым Римом. И все же французский вариант имел свою весьма существенную особенность. Постепенно, по мере усиления судебных функций монархии и расширения компетенции верховного суда, Париж начинает прославляться в связи с нахождением в этом городе верховной судебной инстанции Французского королевства – Парламента. Причем любопытно, что иные верховные ведомства, также обосновавшиеся в столице, никогда не упоминались в доказательство приоритета Парижа, а их нахождение в столице даже не фигурировало в структуре их номинации28. Высшая судебная функция, осуществляемая Парламентом в Париже, напротив, сделалась стратегией политической консолидации и предметом национальной гордости подданных Французского королевства. Так, в указе 1390 г. о расширении судебных полномочий Парламента за счет юрисдикции церкви Нотр-Дам в Париже говорится, что этот судебный орган «находится в лучшем и самом знатном городе нашего королевства, в каковом пребывает наш престол и резиденция главного суверенного суда»29. В ряде указов высокий статус Парижа также обосновывался тем, что именно здесь «находится суверенная резиденция правосудия нашего королевства»30. В этом отношении особенно показателен указ Генриха VI как главы «соединенного королевства» Англии и Франции по договору в Труа 1420 г. Учитывая свою спорную легитимность, он намеренно подчеркивает соблюдение традиций французского законодательства. Подтверждение в 1431 г. привилегий Парижа в указе обосновывается так: «главный город нашего королевства Франции, наделенный святыми реликвиями Страстей Христовых и украшенный суверенным судом, отправляемым и находящимся в курии нашего Парламента… по образцу города Рима, каковой давние императоры почитали за главный город и больше всех остальных городов его одаряли почестями и привилегиями»31. Виднейший юрист и идеолог монархии Жан Жувеналь дез Юрсен писал в трактате «Внемлите небеса» в 1435 г.: «Париж создали три вещи – пребывание здесь монархов, суверенного суда всего королевства и университета»32. На заседании Генеральных Штатов в Туре в 1484 г. депутат от Парижа, доктор теологии Жан де Рели восхвалял те же преимущества столицы, говоря о «достоинстве, благородстве и древности доброго города Парижа, резиденции королевского величества, древнейшем местопребывании королей, ложе правосудия и доме мудрости»33.
Таким образом, Парламент превращается в один из факторов идентификации Французской монархии и в знак ее превосходства над другими странами, а отправляемая им судебная функция – в предмет национальной гордости. В указе королевы Изабо Баварской, изданном в драматичный для французской монархии момент грядущего раскола страны, в 1418 г., о статусе правосудия и Парламента говорится в возвышенном тоне и в превосходных степенях: «главный и суверенный суд королевства, чья репутация была столь велика и славна во всем мире, что нации и провинции, как соседние королевству, так и чужие и очень отдаленные часто стекались сюда, одни – чтобы созерцать правосудие, кое почитали больше за чудо, чем за человеческое творение, другие – дабы снискать здесь свободно права и разрешения в своих жарких спорах и раздорах»34. Парламентский прокурор и поэт Марциал из Оверни писал о Парламенте как о знаке превосходства Франции, которую «сверхпочитали из-за суда благородного Парламента»35.
Излюбленным доказательством беспристрастности и справедливости французского правосудия становится образ сарацина, как стали именовать на Западе мусульман. Именно фигура иноверца призвана была доказать, что во Франции перед судом все равны, и здесь творится истинное правосудие «невзирая на лица». Как следствие, пропагандируется идея о том, что иные народы часто прибегали к судебному арбитражу короля Франции, как знак превосходства Французского королевства. Филипп де Мезьер обыгрывает с разных сторон обращение «язычников и сарацинов не единожды к святому Парламенту в Париже…, чего нельзя сказать ни обо одном другом королевстве христианского мира». Кстати, и в позиции contra, для критики нынешнего состояния дел в Парламенте, он также использует образ сарацина: «что же до сарацинов, кои ищут правосудия в благословенном Парламенте, ясно, что если бы они знали, как долго длятся тут процессы, ноги бы их не было здесь»36. В ремонстрации Парижского университета, поданной на собрании депутатов Штатов в 1413 г. в ходе восстания кабошьенов, также используется этот миф: «И по причине великой славы и истинной справедливости, хранимой здесь без пристрастия и лицеприятия, не только иные нации христианского мира, но подчас сарацины, как говорят, обращались сюда за приговорами»37. В цитировавшейся выше поэме Марциала из Оверни, прославляющей французское правосудие, говорится о том же: «сарацины, язычники и неверующие, привлекаемые к суду за свои делишки и лихоимство, обращались к королю и королевству Франции из-за репутации и превосходства правосудия, царящего здесь столь высоко, в поисках справедливости., моля благородного короля Франции поручить их дело благородному суду Парламента»38. Итальянец Антонио Астесано в поэме 1461 г., восхваляя
Парламент как аналог Римского Сената, писал: «Слава этого суда до того распространена в мире, что можно видеть не только верные Богу народы, но и почитателей ложных богов и богинь…, присылающих со всех сторон земли свои дела, дабы передать их решению этих советников и уважать их приговор, словно бы божественный»39.
Знаменательно, что в стенах самого Парламента эта тема активно использовалась участниками судебных разбирательств, явно с целью привлечь на свою сторону симпатии судей: так, 10 июля 1408 г., желая передать дело из юрисдикции университета в Парламент, тяжущаяся сторона обосновала свою просьбу так: «нет на свете человека, будь он даже сарацин, кто пришел бы в этот суд за решением, и ему бы в этом отказали»; в 1433 г. одна из тяжущихся сторон заявила, что это «высокий и главный суд королевства, куда даже чужеземцы и сарацины обычно прибегают за правосудием»40.
Как следствие, Парламент начинает восприниматься как знак наилучшего политического устройства Франции, отличающей ее от всех иных королевств, как залог ее славы, стабильности и процветания. Аналогичные институты, вокруг которых строилась национальная идентичность и патриотическая пропаганда, имелись в большинстве стран Европы, например, в Англии такую же роль очевидно играл орган сословного представительства, парламент. Во Франции же эту важнейшую для национальной консолидации роль играл именно верховный суд королевства.
Отсюда проистекает восхваление Парламента как властного института, обеспечивающего устойчивость Французской монархии. Так, в «патриотическим» трактате, написанном в 1419 г., в драматичный период королевской схизмы, фигурирует идея о трех компонентах превосходства Французской монархии: двенадцать пэров, Парламент и собрания трех сословий, каковые все вместе соучаствуют в управлении страной41. В трактатах епископа Лизьё и хрониста Тома Базена, а также Бернара де Розье, архиепископа Тулузы – своего рода предтеч Клода де Сейселя с его концепцией ограниченной монархии – как знак избранничества Франции (наряду с помазанием, исцелением золотушных, лилиями, орифламмой и т. д.) отмечалось, что «король Франции стоит над всеми в мире, а Франция наилучшая из стран, поскольку в ней действиями короля руководят салический закон, Парламент и двенадцать пэров». Здесь царят право и справедливость, и потому страна процветает, пребывая в покое и счастье42. Более того, Парламент в период острых политических кризисов позиционируется как защитник суверенитета и целостности государства. Впервые о роли Парламента как спасителя Франции громогласно заявил Жан Жерсон в речи против тираноборческих идей Жана Пти в 1408 г.: «От отсутствия подобной курии погибали другие страны, как то Германия и Италия». Шарль Луазо подхватил эту идею, и его высказывание превратилось в афоризм: «Парламент спас Францию от расчленения и раздробления, подобно Италии и Германии, сохранив королевство в его целостности»43.
Превращение судебной функции в своего рода национальный миф и в стратегию национальной идентичности французов способствовало, на мой взгляд, процессу институционализации патриотизма. Парламент сделался предметом национальной гордости и знаком избранности французов, а патриотические чувства людей были умело переориентированы с помощью подобных идеологем на органы правосудия, даже и через критику инстинного положения дел в сфере судопроизводства. Эта критика, как ни странно, также способствовала кристаллизации самой идеи, закрепляя судебные институты как знак особой доблести Франции и способ самоидентификации страны.
Но у этого процесса были и иные последствия. Стоит признать, что такой способ самоидентификации страны вписывается в более широкий контекст формирования не столько правового государства, сколько государства судебного, где суд и судебная процедура становятся своего рода фетишем44. Это обстоятельство предопределило специфический юридизм политической мысли во Франции и превратило сутяжничество в характерную черту французской политической культуры на долгие века. В этом, как и во многом другом, французы веками успешно «соревновались» с англичанами: от «Адвоката Патлена», шедевра средневековой драматургии, до «Сутяг» Расина, популярность сюжета о судебных «разборках» свидетельствует в пользу приверженности французов именно такому способу разрешения конфликтов45.
В известном смысле эти идеи о превосходстве французского правосудия, заложенные в период Средневековья и получившие развитие в раннее Новое время, присутствуют в глубинном подсознании французов, подчас даже не осознающих этого. Не случайно, на мой взгляд, эта тема не нашла достойного места в работах французских историков, изучающих становление государства и нации во Франции: здесь явно требуется «эффект вненаходимости». Приведу ряд примеров.
Вот перед нами амбициозное издание XIX в. «Общего собрания древних французских законов», предпринятое в пику прежнему своду «Ордонансов французских королей третьей династии». В подробном предисловии к нему один из составителей Ф.А. Изамбер, адвокат в Королевском совете и в Кассационном суде, уличая предшественников в защите интересов судейской касты и в замалчивании форм соучастия общества в законодательной сфере, тем не менее пишет как о чем-то самоочевидном: «никакая судебная курия не может сравниться с Парижским парламентом по мудрости и авторитету своих приговоров; по крайней мере ни одна не имела такой чести – быть избранной арбитром другими народами»46. Что это, как не парафраз политической мифологии XIV–XV веков? А вот другой, не менее яркий и характерный пример. В Приложении к 3-му тому «Истории Франции», где речь шла о начале «национальной эры» в XIV в., Жюль Мишле назвал Парламент и Генеральные штаты «великими национальными институтами», невольно повторяя идеи Тома Базена и Клода де Сейселя47.
Наконец, приведу и более свежий пример. Осенью 2010 г. находясь в Париже, я невольно следила за острыми политическими спорами вокруг «неверных» действий президента Саркози. Будь то высылка из Франции цыган или увеличение пенсионного возраста, новый трудовой договор или реформа системы образования, неизменно рефреном звучал аргумент: «такое поведение невозможно во Франции, ведь мы страна справедливости». (Кстати, здесь ясно проглядывал «тонкий» намек на «не французское» происхождение президента) Слыша столь «бесспорный» аргумент, я не могла отделаться от мысли, что где-то я его уже встречала. Конечно же, это был пассаж из Ла Рош Флавена… Именно эти впечатления подвигли меня задуматься над истоками данного устойчивого национального мифа. По-видимому эта идеологема прочно укоренилась в сознании французов, и они даже не замечают, насколько во французской политической культуре важным оказался топос о «Франции как родине правосудия». Живучесть этого топоса лишний раз доказывает его эффективность в процессе формирования национальной идентичности во Франции.
Примечания
1 Такая дефиниция восходила к Цицерону через «Этимологии» Исидора Севильского. См. подробнее: Guenee B. L’Occident aux XIVe et XVe siecles. Les Etats. P., 1993. P. 117.
2 Ibid. P. 299; Idem. Etat et nation en France au moyen age // Revue historique. P., 1967. T. 237. P. 27–30.
3 Анализируя этнонациональные государства с точки зрения типологии, Н.А. Хачатурян заострила внимание не столько на факторе централизации, сколько на процессе консолидации – экономической, социальной, политической и культурной – как необходимом элементе государственного строительства. См.: Хачатурян Н.А. «Король – император в своем королевства»… Политический универсализм и централизованные монархии // Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время / Отв. ред. и сост. Н.А. Хачатурян. М., 2011. С. 84.
4 Strayer J. Les origines medievales de l’Etat moderne / Trad. M. Clement. P., 1979. P. 15–16.
5 «la Justice est nee avec la France, et a son droict hereditaire en la terre de France; comme il y a des pays, qui sont do^z de choses rares, et qui ne peuvent venir ailleurs. L’Inde seule a ceste prerogative, qu'il n’y a qu’elle qui porte des arbres odoriferante. Il n’y a que le sein Persique, qui porte des perles d’excellence. Il n’y a que l’Aquilon qui donne l’ambre. Aussi il n’y a qu’une France, oü s’exercent les vrayes fonctions de la Justice, et principalement es parlemens» (La Roche-Flavin B. Treze livres des Parlements de France. Bordeaux, 1617. Livre IV. P. 285).
6 Канторович Э.Х. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии / Пер. с англ. М.А. Бойцова и А.Ю. Серегиной. М., 2014. С. 538–541.
7 Guenee B. L’Occident aux XIVe et XVe siecles. Р. 119–120; Kantorowicz E. Mourir pour la patrie et autres textes. P., 1984.
8 «sic corona regni est communis patria, quia caput» (Guenee B. Etat et nation. P. 24–27; Idem. L’Occident aux XIVe et XVe siecles. P. 118).
9 В его трактовке явление Жанны д’Арк было не столько истоком, сколько апогеем процесса национального самоопределения французов. См. подробнее об этом: Pons N. La propagande de guerre française avant l’apparition de Jeanne dArc //Journal des savants. P., 1982. N 2. P. 191–204; Eadem. Propagande et sentiment national pendant le règne de Charles VI: l’exemple de Jean de Montreuil // Francia. Bd. 8. München, 1981. P. 127–145.
10 Ограничусь отсылкой к фундаментальным отечественным монографиям по данной теме: Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII–XV вв. М., 1989; Цатурова С.К. Формирование института государственной службы во Франции XIII–XV вв. М., 2012.
11 Опирающаяся на Библию идея получила развитие у Брактона и прочно вошла в политическую доктрину власти Средневековья: «Est enim corona facere justitiam et judicium et tenere pacem»; см. подробнее: Guenee B. L’Occi-dent aux XIVe et XVe siecles. P. 137–139.
12 См. об этом: Beaune C. Naissance de la nation France. P., 1985. P. 83–84.
13 Ibid. P. 286–287.
14 См. об этом подробнее: Цатурова С.К. Священная миссия короля-судии, ее вершители и их статус во Франции XIV–XV вв. // Священное тело короля. Ритуалы и мифология власти / отв. ред. Н.А. Хачатурян. М., 2006. С. 78–82.
15 Об этом см.: Jacob R. Images de la Justice. Essais sur l’iconographie judiciaire de Moyen âge à l’âge classique. P., 1994. P. 48–58.
16 Любопытно также, что картина эта «отвлекала» взгляд от кресла короля, находящегося в левом углу залы (так называемое «ложе правосудия»), причем Людовик Святой на картине располагался как раз со стороны этого кресла и, следовательно, ближе к персоне монарха, как бы «наставляя его». См. подробнее об этой картине и ее символике: PinoteauxH. Tableaux fran^ais sous les derniers Valois // Cahiers d’heraldique. P., 1975. N 2. P. 119–139; Merin-dol Ch. de. Le retable du Parlement de Paris. Nouvelles lectures // Histoire de la justice. P., 1992. N 5. P. 19–34.
17 Loyseau Ch. Traite des seigneurie // Loyseau Ch. Les Oeuvres. Lyon, 1701. P. 4.
18 Pastoureau M. Images du pouvoir et pouvoir des princes // L’Etat moderne. Genese. Bilans et perspectives. P., 1990. P. 227–234.
19 Beaune C. Naissance de la nation France. Р. 332.
20 Mezieres Ph. de. Le Songe du viel pelerin / Ed. G.W. Coopland: 2 vols. Cambridge, 1969. T. I. P. 480.
21 Daubresse S., Morgat-Bonnet M., Storez-Brancourt I. «Le Parlement en exile» ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIe siecle). Postface de Fr. Hildesheimer. P., 2007. P. 44–46.
22 Это утверждение коррелирует с пассажем из Жана де Жуанвиля, согласно которому, аналогично с Венсенном, Людовик IX Святой выслушивал просителей в саду на острове Ситэ, рядом с Дворцом. См.: Жуанвиль Жан де. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика. Пер. со старофранц. Цыбулько Г.Ф. СПб., 2007. С. 22 (§ 60–61)
23 Archives Nationales de France (далее – AN). Collection Le Nain. U 507. F. 31.
24 AN U 507. F. 41. О реконструкции и символике Дворца в Ситэ см. подробнее: Цатурова С.К. Формирование института государственной службы… С. 454–467.
25 Guenee B. L’Occident aux XIVe et XVe siecles. P. 124–125; Beaune C. Nais-sance de la nation France. Р. 151–152.
26 Канторович Э.Х. Два тела короля. С. 333–353.
27 «Paris est la meilleure et la plus notable ville de ce Royaume; est Roma en ce Royaume» (AN U 2014. F. 448).
28 См. об этом: Цатурова С.К. Номинация ведомств и служб как стратегия формирования суверенитета королевской власти во Франции XIII–XV веков // Империи и этнонациональные государства. С. 325–326.
29 «est assise en la meilleur et plus notable ville de nostre Royaume, en laquelle est nostre Siege et Court principal et souveraine» (Ordonnances des rois de France de la troisieme race (далее – ORF). 22 vols. P., 1723–1849. T. VII. P. 348349).
30 «Nostre ville de Paris qui est la plus principalle ville de nostre Royaume et en laquelle nos predecesseurs Roys ont accoutume de tres-long et ancien tems faire leur residence, et si y est le siege souverain de la Justice de nostredit Royaume» (ORF. T. VIII. P. 574; T. XII. P. 211).
31 Longnons A. Paris pendant la domination anglaise (1420–1436): Documents extraits des registres de la chancellerie de France. P., 1878. P. 334–335.
32 Juvenal des Ursins J. Ecrits politiques / Ed. P.S. Lewis: 2 vols. P., 1978, 1985. T. 1. P. 257.
33 «la dignite, noblesse et antiquite de vostre bonne cite de Paris, qui est le siege de vostre royale majeste, l’ancienne habitation des roys, le lit de vostre justice, la maison de sapience» (Masselin J. Journal des Etats Generaux de France tenus a Tours en 1484 sous le règne de Charles VIII / Ed. A. Bernier. P., 1835. P. 169).
34 «Siege de la Court capitalle et souveraine dudit Royaume… dont la renommee fut si grande et glorieuse par le monde universel, que les nations et Provinces tant voisines du Royaume, comme etrangeres et tres-loingtaines, souventes fois y affluoient, les aucunes pour contempler l’etat de la justice qui reputoient plus a miracle que a envie humaine, les autres liberalement se ils soumettoient pour y avoir droit et appaisement de leurs grans debats et haultes querelles» (ORF. T. X. P. 437).
35 Martial de Paris dit d’Auvergne. Les vigille de Charles VII et ses Poesies / Ed. Coustelier. 2 vols. P., 1724. T. 2. P. 182.
36 Mezieres Ph. de. Le Songe du viel pekrin. Т. 1. Р. 480, 482.
37 Moranville H. Remonstrances de l’Universite et de la Ville de Paris a Charles VI sur le gouvernement du royaume // Bibliotheque de l ecole des chartes. P., 1890. T. 51. P. 432.
38 «Et treuvent l’en passe a cinq cens ans / Que Sarrasins Paiens et mecreans, / Qui avoient plaitz pour leurs faitz et usures, / Et des proces selon les aventures, / Venoient au Roy et Royaume de France / Pour le renom et la haute excellence / De la Justice lors regnant tres haultaine, / Querir Justice comme souveraine, / En tout honneur et humble reverence, / En suppliant au noble Roy de France, / Que leurs cas fust soubzmis au jugement / De la Justice, et noble Parlement» (Martial de Paris dit d’Auvergne. Op. cit. P. 182).
39 Antoine Astesan. Poёme latine ecrit en 1461 // Les Roux de Lincy A. et Tisse-rand L.-M. Paris et ses historiens aux XlVe et XVe siecle. P., 1864. P. 542.
40 Baye N. de. Journal de greffier du Parlement de Paris, 1400–1417 / Ed. A. Tue-tey: 2 vols. P., 1885, 1888. T. 1. P. 233–234; «ad quam extraneis et Sarraceni re-cursum habuerunt» (AN U 508. F. 27).
41 «Super omnia vincit veritas. Reponse d’un bon et loyal fran^ois» // «L’Hon-neur de la couronne de France»: Quatre libelles contre les Anglais (vers 1418– vers 1429) / Ed. N. Pons. P., 1990. P. 129.
42 См. подробнее: Beaune C. Op. cit. P. 310–311, 423.
43 Gerson J. Oeuvres complets / Ed. P. Glorieux: 10 vols. P., 1960–1975. T. 7. P. 1018; Loyseau Ch. Livre des Seigneuries // Loyseau Ch. Op. cit. P. 28. Ch. V.
44 О судебной монархии как специфически французском варианте становления централизованного государства см. подробнее: Krynen J. L’Etat de justice. France XIIIe – XXe siecle. T. 1: L’ideologie de la magistrature ancienne. P., 2009.
45 Об этом см.: Цатурова С.К. Отрада сутяг и погибель Франции: адвокат как зеркало французского правосудия в XIV–XV веках // Право в средневековом мире. 2008. М., 2008. С. 68–88.
46 Recueil general des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’a la revolution de 1789 / Ed. A.J. Jourdain, Decursy et F.A. Isambert: 29 vols. P., 18221833. T. 1. P. XI.
47 Michelet J. Histoire de France. P., 1879. T. 3. P. 435.
Цатурова С.К.
II.II. Бургундская общность и проблемы ее идентификации в XV в.[3]
Известный французский медиевист Б. Гене в работах по истории средневековой Франции, в частности, отмечал, что во Франции государство создало нацию, указав тем самым на решающую роль политического фактора в лице королевской власти в утверждении (и сохранении на протяжении длительного времени) среди подданных чувства принадлежности к единой общности1. Последнее выражалось в представлении об общих истории, культурном и политическом наследии входящих в данную общность людей, об отличии от другой общности и т. д. Причем олицетворением этого общего, которое объединяло людей, выступала королевская власть2. Считается, что первичное оформление «национального» или «этнического» самосознания пришлось на период позднего Средневековья, что нашло отражение в процессе складывания этнонациональных государств (например, Франции и Англии)3. Однако наряду с ними существовали и другие территориальные политические образования – не только империи, как Священная Римская империя, но и менее обширные владения, созданные представителями одной династии на прежде разрозненных или входивших в различные гетерогенные государства территориях. Одним из таких политических образований являлось Бургундское государство4 во второй половине XIV–XV вв., включавшее в себя владения герцогов Бургундских из династии Валуа во Французском королевстве и в Священной Римской империи, многие из которых ранее имели опыт политической независимости в рамках отдельного государственного образования или же являлись частями королевства Лотаря, например, созданного в результате раздела империи Каролингов по Верденскому договору 843 г., а затем герцогства Лотарингия. Это государство, состоявшее из двух компактных блоков земель – северного (т. н. исторические Нидерланды) и южного (герцогство и графство Бургундия, графство Шароле и другие), включало народы, говорившие на разных языках, имевшие различные традиции и политический опыт. Единственное, пожалуй, что их объединяло – это власть общего сеньора, который для одних был герцогом, для других – графом, но принадлежал к бургундской герцогской династии Валуа. Эта особенность Бургундского государства, заключавшаяся в его традиционной патримониальной природе и в большой роли, которую играли личностные связи (в том числе в органах управления)5, не только характеризовала слабость политических институтов, но и создавала проблемы на пути внутренней консолидации включенных в него областей. Много копий сломано вокруг вопроса о сознательности территориальной экспансии герцогов Бургундских, их стремления к независимости и созданию собственного королевства, к осознанному поощрению зарождения среди подданных чувства принадлежности к единой общности и т. д.6 Впрочем, даже если отказывать герцогам в возможности добиться какой-либо автономии от Французского королевства или в самом желании такового, нельзя не увидеть, что некоторые существенные шаги в этом направлении все же были сделаны, в том числе и в области формирования некоего бургундского самосознания, причем решающую роль в этом процессе сыграла именно власть. Бургундское государство, на наш взгляд, является одним из наиболее показательных примеров того, как власть в лице герцога пыталась привить своим подданным подобное чувство. История Бургундского дома, казалось бы, показывает, что результаты такой политики или пропаганды оказались не утешительными. Тем не менее в настоящей статье мы постараемся показать, что конкретно удалось сделать герцогам в данном направлении и с помощью каких методов.
В историографии Бургундского государства неоднократно уделялось внимание историческим аргументам, подчеркивавшим общее прошлое всех его областей, их принадлежность к одному политическому образованию в прошлом (Лотарингия, Бургундское королевство, Фризское королевство и т. д.), наличию общих героев, предков и основателей династий (Жирар Руссильонский, Геракл, апостол Андрей и др.)7. Впрочем, несмотря на кажущуюся ясность в этом вопросе, еще не вполне понятна роль самой герцогской власти в этом процессе. Историки продолжают дискутировать не только на тему осознанности подобной политики герцогов, в частности, Филиппа Доброго, а также по поводу того, сообщали ли многочисленные исторические труды подданным герцога это пресловутое «бургундское самосознание» или, наоборот, они представляли собой скорее «региональные» хроники, призванные подчеркнуть особенность каждого региона, его древность и отличие от других8. Последний тезис, подробно рассмотренный британским историком Г Смолом, вполне справедлив, однако, на наш взгляд, он отнюдь не противоречит утверждению о том, что исторические труды и литература при Бургундском дворе внесли определенный вклад в процесс складывания «бургундской общности». Роль таких исторических сочинений, как «Хроника знатнейших герцогов Лотарингии, Брабанта и королей Франции» Эдмона де Динтера, повествующая о происхождении Филиппа Доброго от Приама, Каролингов и герцогов Брабантских, «Анналы истории славных князей Эно» Жака де Гиза, в которых история графства Эно начинается с прибытия на его территорию троянцев, и других, написанных на латыни, а затем переведенных на французский язык, не исчерпывалась поиском только общих черт в истории бургундских владений. Представляется, что исторические аргументы должны были утвердить статус герцога Бургундского как естественного сеньора каждой из вновь присоединенных территорий. Этому, как кажется, вовсе не препятствовало то, что инициатива написания подобных трудов и их перевода на французский язык часто (даже всегда) исходила не от герцога, а от высших региональных чиновников, уроженцев каждого конкретного региона, будь то Брабант, Эно или Бургундия. Позиционируя нового сеньора как естественного, они, принимавшие в том числе решение о признании его власти во время династических кризисов, тем самым придавали большую легитимность и своему положению представителей региональной администрации. Придание герцогу статуса естественного сеньора было одной из главнейших задач для бургундской власти. Дело в том, что за исключением Бургундского герцогства и графства Фландрия и зависимых от них владений, полученных вполне легитимно благодаря королевскому пожалованию и заключению брака с единственной наследницей, все остальные территориальные приобретения были «проблемными». Голландия, Зеландия, Эно, Брабант, Люксембург, Гелдерн и другие были присоединены в обход более близких наследников, либо путем завоевания и пленения законного правителя. Даже присоединение графства Бургундия (Франш-Конте) не было лишено определенных трудностей9. Естественно, что экспансия герцогов вызывала противодействие конкурентов, в числе которых был и король Франции (как в случае с Люксембургом). Дабы упрочить свою власть в новых владениях герцоги искали пути ее легитимации. В этом им помогали как раз те региональные хроники, представлявшие их законными наследниками правивших в той или иной области домов.
При этом создавались подобные труды не только в правление Филиппа Доброго или Карла Смелого. Даже после их смерти при дворе Марии Бургундской и ее наследников появлялись хроники, целью которых было аргументировать с помощью исторических фактов нахождение у власти правящей династии, продемонстрировать ее «извечность», а также указать на историческое единство северного и южного комплекса бургундских земель. В этом смысле любопытный рассказ об истории графства Фландрия представляет собой «Хроника земли Фландрия», написанная в конце XV в.10. В ней истории Бургундии и Фландрии пересекаются уже в VII в., когда владельцем фламандских земель становится сын правителя Дижона и внучки Жирара Руссильонского11, который к тому же женится на сестре франкского короля Дагоберта, давшего ему в приданое такие земли, как Артуа, Вермандуа, Пикардия и др. Написанная уже после гибели Карла Смелого при Нанси, эта хроника должна была оправдать передачу власти во всех его владениях единственной наследнице – Марии Бургундской. Это подтверждается также и тем, что особое внимание в ней уделено графиням, которые наследовали своим отцам и передали свое наследство мужьям12. В то же время «Хроника земли Фландрия» доказывала читателю «естественность» власти герцога Бургундского, унаследовавшего графство путем брака с наследницей предыдущего правителя (что, как видно из хроники, не раз случалось в истории графства).
Стремясь упрочить свою власть во вновь присоединенных владениях, герцоги считали необходимым добиться и юридического признания себя законными наследниками прежних государей. Так, долгая борьба за Голландию, Зеландию и Эно, казалось бы, закончилась подписанием договора в Делфте (1429) с законной наследницей этих графств Якобой Баварской, согласно которому последняя признавала Филиппа Доброго своим преемником и соглашалась с созданием регентского совета, большинство в котором имели представители герцога Бургундского. Однако заключение Якобой брака с Франком ван Борселе из крупной зеландской аристократической семьи без согласия Филиппа Доброго вынудило последнего вновь вступить в борьбу и заставить Якобу по договору в Гааге (1433) вообще отказаться от всех прав на Голландию, Зеландию и Эно и передать их Филиппу13.
На герцогство Брабант после смерти Филиппа де Сен-Поля (4 августа 1430), кузена герцога Бургундского, помимо Филиппа Доброго претендовали также его тетка Маргарита Бургундская (причем в силу более близкого родства с покойным герцогом Брабантским она имела больше прав на наследование, нежели Филипп Добрый), эрцгерцог Австрийский Фридрих IV, курфюрст Оттон Мосбахский и император Сигизмунд. Однако Филипп Добрый не только договорился со своим бездетным кузеном о признании себя в качестве наследника (1427 г.), но и добился признания себя таковым со стороны штатов Брабанта14.
Ситуация с герцогством Люксембург была еще более запутанной. В борьбе за это владение Бургундскому дому (Филипп Добрый) противостояла династия Люксембургов в лице императора Сигизмунда и его потомков – герцога Саксонского Вильгельма и короля Венгрии и Чехии Ласло V Постума, а затем и французского короля Карла VII15. Официально штаты Люксембурга признали Филиппа Доброго сеньором в 1451, однако борьба с другими претендентами продолжалась до 1461 г.
В случае с Гелдерном Карл Смелый первоначально пытался примирить враждующие стороны в лице герцога Арнольда и его сына Адольфа, арестовавшего отца и провозгласившего себя герцогом. В качестве арбитра Карл Смелый, как суверен ордена Золотого руна, приказал Адольфу, рыцарю ордена, освободить отца16. Отказ исполнить это предписание (герцога Бургундского в этом поддержал и папа Римский Павел II) привел к аресту Адольфа в 1471 и восстановлению власти Арнольда, который решил лишить мятежного сына наследства в пользу герцога Бургундского. После смерти герцога Гелдернского в 1473 Карл Смелый летом присоединил к своему государству новую территорию17. Дабы упрочить и узаконить свою власть над Гелдерном, где имелось немало сторонников плененного Адольфа, Карл Смелый даже пошел на принесение оммажа императору Фридриху III, ибо тот факт, что законный правитель завоеванного герцогства был жив и находился в плену у Карла, не оставлял последнему выбора. Тем более было необходимо лишний раз проявить учтивость по отношению к императору, так как Карл Смелый надеялся получить из его рук корону.
Приведенные примеры присоединения новых территорий, как кажется, ярко демонстрируют желание герцогов Бургундских придать своей власти большую легитимность, основанную не столько на силе оружия, сколько на признании себя в качестве естественных сеньоров вновь включенных в Бургундское государство регионов. Понятие «естественный сеньор» стало, таким образом, одним из ключевых в бургундской пропаганде.
Успехи натуралистических идей в общественно-политической мысли18, согласно которым все то, что сообразно природе, рассматривалось как нечто неоспоримое, а сама природа понималась как воплощение божественного закона, привели к складыванию особого образа естественного сеньора19. Во Франции это было связано в основном с событиями Столетней войны, когда королевство стояло на грани потери суверенитета и воцарения «чужой» династии. Термин «естественный» (naturel, naturalis) означал законную, основанную на принципе наследственности, связь сеньора и вассала. Он был фактически синонимом термина «законный», «наследственный». Следовательно, естественный сеньор – это тот, кто родился на данной территории, чья связь с ней освящена природой, а значит, не может быть нарушена. Более того, это законный наследник предыдущих сеньоров20. Именно этот принцип применили в 1328 г., когда встал вопрос о престолонаследии и о претензиях английского короля на французский трон. Франции был нужен король-француз. Поэтому важным преимуществом Валуа было то, что они происходили «из королевства»21. Однако естественность характеризуется еще и древностью династии, ее наследственными правами на эту территорию22. Следовательно, преимущество имеет тот, кто докажет, что правил ею с незапамятных времен. Например, Кристина Пизанская отмечает, что народ Франции счастливый, ибо им правят не чужеземные государи, а естественные сеньоры – те, кто правил им из поколения в поколение23. Не менее важно, как представляется, чтобы этот сеньор заботился о благе своих подданных, т. е. об общем благе. Влияние аристотелизма24 с его доводами о социальной природе человека, а значит, о необходимости и естественности появления государства, которое призвано не только защищать, но и обеспечивать благосостояние людей, приводило к заключению, что именно естественный сеньор должен выполнять эти функции. К тому же, во многих политических трактатах XIV–XV вв. естественный сеньор часто противопоставлялся тирану25.
Указанное понятие «естественный сеньор», концепции общего блага и общего дела, а также представление о наличии общего врага-тирана нашли отражение в речи канцлера Гийома Югоне на генеральных штатах 1473 г.26 Значение этого выступления для всей бургундской политической мысли уже неоднократно подчеркивалось27, в ней нашли отражение не только представления канцлера, но (и об этом можно говорить с большой долей уверенности) и самого герцога Карла Смелого28.
Помимо рассуждений о естественности единоличного правления, в доказательство которого Югоне приводит Аристотеля29, особого внимания заслуживают доводы канцлера, направленные на аргументацию «естественности» правления Бургундского дома. Во-первых, как указывает Югоне, Карл Смелый является легитимным наследником всех предыдущих государей, которые правили герцогствами и графствами, вошедшими в его государство. Апеллируя к истории, канцлер призывает представителей сословий вспомнить, что все эти территории были объединены Бургундским домом естественным путем, т. е. путем наследования, а не путем тирании, т. е. завоевания30. Об этом неоднократно писали и бургундские хронисты, в частности, Жорж Шатлен и Оливье де Ла Марш31. В этом объединении заключается благо для подданных герцога, ибо под властью Бургундских герцогов они обрели мир и спокойствие после долгих лет смуты и войн. При правлении представителей Бургундского дома объединенные ими земли познали процветание и благосостояние. Таким образом, объединению в единое государство противопоставляется разрозненность всех областей, которые по отдельности являются легкой добычей для врагов. Естественный сеньор, в обязанности которого входит защита общего блага, является не тираном, а пастырем, как утверждает сам Карл Смелый32.
Идея защиты общего блага является ключевой в политической мысли самого герцога и его канцлера, а также активно использовалась в бургундской пропаганде33. Герцоги охотно подчеркивали свою обязанность обеспечить мир и защитить подданных от врагов. Причем Карл Смелый, выступая перед представителями сословий в 1475, отмечает, что для достижения этой цели ему приходится тратить собственные денежные средства (доходы от его домена, наследство, оставленное его предками) и подвергать опасности свою собственную жизнь34. Не вдаваясь в подробности политической концепции последнего герцога Валуа, отметим, что в этой речи Карла как нельзя ярко выразилось его стремление доказать, что проводимая им политика отвечает интересам всех подданных, а сами они должны принимать посильное участие в «общественном деле». Конечно же, герцог не призывал подданных к участию в делах управления. Дело в том, что главным его требованием было получение денежной субсидии от сословий, необходимой для продолжения войны с французским королем и другими противниками. «Таким образом, – говорит герцог, – то, что они [фламандцы – Р.А.] платят, они дают самим себе и для своей собственной безопасности, а вовсе не ему, который владеет лишь малой частью этой страны [Фландрии – Р.А.], тогда как они – большей…»35. Однако примечательно, что в концепции герцога и его канцлера нашли отражения идеи итальянского гражданского гуманизма, согласно которым высшим долгом каждого гражданина является защита своей родины36.
В историографии многократно подчеркивалось, что катализатором процесса этнического самоопределения и формирования патриотических идей выступали наличие внешнего врага и политический кризис, связанный с возможной потерей суверенитета37. В случае с Бургундским государством таким внешним врагом являлось Французское королевство. Во всяком случае, герцоги и их советники именно в нем видели главную угрозу и пытались убедить в этом всех подданных. Призывая сословия оказать финансовую помощь Карлу Смелому, канцлер Югоне отмечает, что деньги нужны для противостояния врагам-французам (ennemis les Franchois), питающим ненависть по отношению к подданным герцога38, непредсказуемому королю Франции, который постоянно имеет наготове армию и стремится «разрушить наше общее дело» (destruction de nostre chose publique), поработить подданных герцога и лишить их традиционных свобод39. Именно французский король Людовик XI предстает в речи Югоне, да и во многих бургундских сочинениях, как главный враг не только герцога, но и всего Бургундского государства. Нагнетая обстановку, канцлер перечисляет все неблаговидные поступки короля еще со времени его пребывания при Бургундском дворе, куда он бежал после ссоры с отцом в 1456 г.40 Он продемонстрировал неблагодарность к представителям Бургундского дома, приютившего его в трудную минуту41, использовал свою хитрость (канцлер сравнивает короля с лисом42), чтобы поссорить Филиппа Доброго с сыном и внести смуту в их окружение. Затем, став королем, он продолжил вести двойную игру, поддерживая то одну сторону, то другую, развязал войну против своего брата и герцога Бретонского, против их союзника, герцога Бургундского. Для этого Людовик XI, по словам Югоне, выступил на стороне противников английского короля Эдуарда IV (шурина Карла Смелого) и направил флот графа Уорика на разграбление кораблей бургундских купцов. Более того, канцлер обвиняет короля в отравлении своего брата Карла43. Вся политика короля, как утверждал Югоне, носит исключительно антибургундский характер. Причем, по его мнению, война с королем Франции касается не столько герцога, сколько его подданных, так как герцог может потерять лишь одно из своих владений и титул графа, что произойдет в любом случае, ибо человек смертен, в то время как подданные Карла могут лишиться той жизни и благополучия, которыми они наслаждались со времен их дедов и прадедов, и попасть в рабство44. Свободы и привилегии, которыми пользуются подданные герцогов Бургундских, противопоставляются «рабству», в котором пребывают подданные французского короля, вынужденные платить многочисленные постоянные налоги и содержать постоянную армию45. Канцлер Югоне сообщает депутатам, что герцог подвергает себя опасности на полях сражения, чтобы обезопасить свой народ от врага. Призывая сословия согласиться на предоставление субсидии герцогу, Гийом Югоне обращает внимание депутатов на то, что эти деньги необходимы для поддержания «общего дела» (chose publique), а не для каких-либо частных предприятий герцога. Герцог, по мнению канцлера, в данном случае печется об интересах государства, которое рассматривается не как его личная собственность, а как «дело общественное», которому угрожает враг-тиран, держащий в рабстве даже своих собственных подданных.
Эта речь канцлера Югоне, безусловно, объяснялась определенными обстоятельствами – нехваткой денежных средств в казне для ведения войн как против короля, так и других противников. Однако обращают на себя внимание несколько моментов. Во-первых, тщательное знакомство бургундского чиновника с налоговой системой Французского королевства, как, впрочем, и с организацией постоянной армии. Дело в том, что ни постоянных налогов, ни постоянной армии в Бургундском государстве не было. В то же время выступление канцлера состоялось в апреле 1473 г.46. К концу этого года герцог Бургундский намеревался стать королем47, в связи с чем он готовил важные реформы для реорганизации системы юстиции, армии, возможно, и налогов. Не только канцлер, как один из главных сподвижников Карла Смелого, но и некоторые бургундские хронисты демонстрируют свою осведомленность в организации военной службы в королевстве48. Ордонансные роты были созданы еще в 1470 г.49, однако той финансовой базы, которая, по мнению Оливье де Ла Марша, заключалась в системе постоянных налогов, герцогу Бургундскому так и не удалось создать50. С этим связаны постоянные обращения к сословиям, одним из которых является речь канцлера Югоне.
Другое чрезвычайно важное ее значение заключалось в стремлении герцогской власти продемонстрировать единство всех объединенных ею земель под эгидой бургундской династии Валуа. Бургундский дом, как следует из официальной концепции, озвученной Югоне, объединил их по праву законного наследования, по естественному праву, а значит, герцог является естественным сеньором каждой из них. И в этом качестве он защищает интересы своих подданных, из какого бы региона Бургундского государства они не происходили (он упоминает помимо Фландрии и Намюр, и Эно, и Люксембург, и Бургундию). При этом интересы «общего дела», то есть государства, ставятся превыше всего51. В то же время и подданные должны ставить их выше своих частных интересов. Иными словами, выступление Югоне перед представителями сословий показало, что помимо исторической аргументации, заключавшейся в доказательстве принадлежности к некогда единому политическому образованию, власть пыталась выдвинуть на первый план концепцию верности правящей династии и защиты интересов государства как идею, объединяющую всех подданных герцога. Канцлер не использует в своем выступлении слов «бургундский» (кроме как по отношению к герцогам), «бургундцы», – ему достаточно определения «подданные нашего сеньора герцога» для идентификации населения Бургундского государства. Однако очевидно, что главными противниками подданных герцога являются «французы».
Несомненно, речи канцлера Югоне и герцога были обращены к довольно узкому слою бургундского общества, поэтому проблематично говорить об усвоении этих идей всеми подданными Бургундского дома. В связи с этим встает вопрос о том, как воспринимался этот посыл власти бургундской элитой и придворным обществом, в которое входили и бургундские интеллектуалы.
Надо сказать, что интеллектуалы при бургундском дворе активно включились в антифранцузскую борьбу. Бургундская литература и историография ко времени правления Карла Смелого оказались вовлечены в конфликт с французскими авторами и ориентированы на отстаивание интересов своей общности. Этот процесс начался сразу после убийства Жана Бесстрашного – события, которое выступило катализатором как политического разрыва между Французским и Бургундским домами, так и, как оказалось, литературного конфликта, продемонстрировавшего возможность использования различных жанров в политической пропаганде.
Впрочем, позиция бургундских авторов и бургундской элиты по рассматриваемому вопросу была неоднозначной, как и по другим важным проблемам официальной пропаганды, – например, по поводу власти герцога в государстве, его независимости от короля Франции и императора Священной Римской империи52. Если они сходились в том, что герцог выступал гарантом общего блага подданных, естественным сеньором, объединившим все земли по праву наследования, то вопрос о франко-бургундских отношениях решался исходя из политической позиции каждого конкретного автора. Было бы неосмотрительно утверждать, что все бургундские авторы настаивали на независимости Бургундии и особом статусе подданных герцогов, их принадлежности к единой общности, иной, чем французская. Этого нельзя сказать и о бургундской придворной элите. При бургундском дворе существовали разные точки зрения на отношения герцога и короля. Различие же в позициях хронистов определялось политической концепцией каждого автора, личным опытом, временем написания труда и т. д. Однако даже у такого сторонника франкобургундского единства, каковым был Жорж Шатлен53, просматриваются антифранцузские выпады. Причем для Шатлена вражда Французского королевского дома и происходившей от него Бургундской герцогской династии – личная трагедия, ибо идеал для него – мир и дружественные отношения между герцогом и королем, гарантирующие целостность королевства. И любой, кто стремится разрушить эту целостность – будь то король Франции или герцог Карл Смелый, заслуживает осуждения. Будучи подданным герцога, Шатлен именно на французского короля возлагает основную вину за ухудшение франко-бургундских отношений, тогда как герцог Бургундский – в случае с Карлом Смелым – удостаивается скрытой критики. В доказательство вины французского короля официальный историк приводит, например, эпизод, когда король включился в спор герцога и его соперников по поводу герцогства Люксембург на стороне последних, т. е. венгерского короля Ласло V Постума. Даже смерть Ласло не заставила короля отступить. Шатлен с иронией отмечает, что благородный и знатный французский король решил пойти против своего ближайшего родственника герцога Бургундского, поддержав притязания его врагов54. Другим, без сомнения враждебным по отношению к Филиппу Доброму поступком было заявление о его возможном участии в заговоре герцога Алансонского55. Шатлен указывает, что обвинения в адрес последнего, являвшегося рыцарем ордена Золотого руна, бросают тень на сам орден и его суверена, т. е. на самого Филиппа Доброго. В свою очередь это давало почву для рассуждений о том, что орден имеет некие враждебные цели по отношению к королю. Во-вторых, его критику вызывает и игнорирование мнения одного из крупнейших сеньоров королевства – герцога Бургундского, чьи послы не были даже выслушаны королем56. После бегства к Филиппу Доброму дофина Людовика нападки на герцога с французской стороны усилились. Это послужило причиной написания Шатленом поэмы «Слово Истины» (Dit de Verite), в котором он отвечает на все выпады французов и констатирует наличие пропасти, разделяющей подданных герцога и короля. По его словам, пришел тот час, когда «вы и мы», т. е. французы и подданные герцога, составлявшие некогда одно целое, оказались в разных лагерях, разобщенные злобой и завистью57.
Примечательно, что уже в этот период, т. е. еще в правление Филиппа Доброго и до вступления на престол Людовика XI, когда ситуация обострится до предела, Шатлен понимает, что Францию и Бургундию разделяет огромная пропасть. Однако он не подразумевает под этим те различия, о которых будут говорить другие бургундские авторы, дошедшие до фактического утверждения существования особой «бургундской общности» отличной от французов. Для него Бургундия все равно остается частью королевства, тем не менее нужно опасаться недоброжелательной политики со стороны короля и его советников. Пока именно в них он видит причину разобщенности. По мере развития конфликта отношение Шатлена к французам ухудшается. Виной тому и несбывшиеся надежды на нового короля, проведшего пять лет при бургундском дворе, а следовательно, по мысли автора, обязанного отблагодарить герцога за помощь в трудный период конфликта с отцом. Политика Людовика XI по отношению к герцогу мало чем отличалась от политики Карла VII58.
Нельзя не заметить неоднозначность трактовки Шатленом отношений Франции и Бургундского государства. Верный своему идеалу франко-бургундского примирения, он и та часть бургундской элиты, выразителем интересов которой был историк, оказываются заложниками этой своей позиции. Их идеал не мог быть осуществлен на практике в ту эпоху. С одной стороны, герцог Бургундский действовал совершенно в ином направлении, с другой же, политика Французской монархии не предполагала подобного развития событий. В итоге Шатлен сам, вероятно, пришел к выводу о невозможности мирного сосуществования Франции и Бургундии, ибо, как он отметил в «Обращении к герцогу Карлу» еще в 1468 г., «зависть и ненависть к твоему дому рождаются вместе с французами», вполне естественно, что Франция либо произведет на свет совсем иное поколение людей, другое, чем то, которое, по убеждению Шатлена, объединяет ее с Бургундией, либо последняя будет растоптана59.
Среди наиболее пристрастных бургундских исторических сочинений стоит назвать «Книгу предательств Франции по отношению к Бургундскому дому»60, в которой вся история взаимоотношений между королевским и герцогским домами начиная со времени правления Карла VI рассматривается с точки зрения предумышленных преступлений против Бургундских герцогов. Впрочем, согласно хронике, первоначально герцоги Бургундские выступали как единственные защитники королевства и противостояли его врагам, одним из которых был герцог Людовик Орлеанский. По мысли автора хроники, герцог Орлеанский замышлял лишить Карла VI власти и занять королевский трон61. Этим главным образом и объясняется убийство Людовика Жаном Бесстрашным62. Далее хроника повествует, как арманьяки разоряют королевство, убивают горожан и крестьян, своих политических противников, а также злоумышляют против короля. Бернар д'Арманьяк даже коронует Карла Орлеанского в Сен-Дени63. «Книга предательств Франции» была написана, по всей видимости, уже после гибели Карла Смелого при Нанси, во всяком случае, есть упоминание о смерти герцога, в котором повинен король Франции64. Однако повествование заканчивается подавлением восстания в Льеже в 1467 г. Еще одной характерной чертой является более подробное описание правления Жана Бесстрашного, нежели его наследника Филиппа Доброго. Помимо того, что у автора наверняка имелся подробный источник для описания событий того периода (возможно, это была «Хроника» Ангеррана де Монстреле – ее использовал, например, Шатлен при работе над своим историческим сочинением), время правления Жана Бесстрашного ярко демонстрировало, по мнению бургундской стороны, неблагодарность представителей Французского королевского дома по отношению к Бургундскому дому. Ведь все поступки герцога Бургундского диктовались единственным желанием – поддержать стабильность в королевстве и помочь королю справиться со злоумышленниками. Однако все усилия «доброго герцога» были тщетны, в итоге он сам был убит приближенными дофина. Впоследствии тема неблагодарности вновь будет поднята автором в рассуждении о поступках Людовика XI, который позабыл благодеяния, которые получил при дворе Филиппа Доброго65.
Другие бургундские историки, пережившие поражение Карла Смелого при Нанси, еще более суровы по отношению к французам. Судя по их сообщениям, именно после 1477 г. появляется некое чувство принадлежности к единой исторической общности среди подданных герцогов Бургундских. И в «Мемуарах» Оливье де Ла Марша и в «Хронике» Жана Молине в описании войны четко различаются два лагеря: французы и бургундцы. Безусловно, под этими определениями подразумевалась некая «партийная» принадлежность тех или иных людей, но она, как кажется, была первым шагом к оформлению «этнического самосознания», ибо важно было осознать и показать свою причастность к этому, а не другому лагерю, а также продемонстрировать отличия от противоположного. У наших авторов одним из ключевых моментов в доказательстве этого различия выступает понятие «ненависти». Бургундцы ненавидят французов, а те в свою очередь отвечают им взаимностью66. Бесчинства и разбой, учиняемые армией короля, естественно, вызывали подобные чувства. Молине уподобляет страдания подданных Марии страданиям избранного народа Израиля, а их преследователей, французов – египтянам и вавилонянам67.
Причем осознание своей принадлежности к бургундской общности, как оказалось, свойственно не только привилегированным сословиям. Напротив, среди аристократии имело место предательство, которое Молине не в состоянии простить (например, переход на сторону французов сеньора де Кревкера68, другие пытаются выбрать, где получат большую выгоду).
Штаты Бургундского герцогства, по сообщению хрониста, сразу же признали своим сеньором Людовика XI, тогда как городское сословие не хотело с этим смириться69. Несмотря на свое пренебрежительное отношение к горожанам, Молине часто показывает, как именно они отстаивают права Марии. В «Кораблекрушении Девы» один из персонажей красноречиво назван «Одряхлевшим дворянством». Именно это одряхлевшее дворянство призывает Деву броситься в пасть киту, символизировавшему французского короля, тогда как грубая «Община» проявляет невиданную храбрость и верность своей госпоже70. Восхищение официального историка вызывают горожане города Авен, не сдавшиеся королю, несмотря на тяжелую осаду71. Молине достаточно ярко передает накал вооруженных столкновений в этот период, что объясняется его собственной позицией и верностью Бургундскому дому72. О предательстве многих знатных сеньоров пишет и Оливье де Ла Марш73. Подобная ситуация заставляла хронистов с еще большей настойчивостью прославлять тех, кто был верен «бургундскому делу» и оставался истинным «бургундцем»74.
Если отбросить всю эмоциональность и субъективность позиции хронистов, безусловно, вовлеченных во франко-бургундский конфликт не только на страницах своих сочинений, но также на полях сражений (как в случае с Оливье де Ла Маршем), все же можно в определенной мере утверждать, что после битвы при Нанси во всех регионах Бургундского государства сохранялось чувство верности Бургундскому дому. Даже в герцогстве Бургундия, которое стало легкой добычей Людовика XI, никто не оспаривал тот факт, что Мария Бургундская является естественным сеньором после гибели своего отца, и французский король лишь на определенное время вводит свои войска на территорию герцогства, дабы защитить его население от возможной агрессии извне75. В случае с Бургундией принято говорить о сохранявшемся среди населения герцогства чувства принадлежности к Французскому королевству76, хотя какие-либо очевидные доказательства этого вряд ли можно найти, за исключением того, что французским войскам удалось быстро установить контроль над герцогством. Скорее, можно констатировать, что крупная аристократия, пошедшая на признание суверенитета короля, просто взвесила шансы сторон77. Соотношение сил было явно не в пользу Марии Бургундской, чего не могли не понимать крупные бургундские аристократы, обладавшие значительными земельными владениями на территории герцогства78. Тем не менее основная часть среднего и мелкого дворянства и горожан были настроены пробургундски. Впрочем, сопротивление в Бургундии было менее ожесточенным, нежели в северных владениях Бургундского дома. Городские власти Дижона, Бона и других крупных городов Бургундии, вскоре осознавшие, что король не собирается выполнять своих обещаний, стали готовить восстания, прокатившиеся по герцогству и графству в 1477-79 гг. (в частности, восставший Бон выдерживал осаду королевской армии в течение 5 недель79). Однако разрозненность и предательства многих представителей крупной аристократии, а также неспособность правительства Марии Бургундской в то время воевать с королем, обусловили провал всех попыток вернуть герцогство под власть наследницы Карла Смелого. Тем не менее, несмотря на неизбежность вхождения в королевский домен, герцогству удалось выторговать у Людовика XI значительные привилегии, в том числе учреждение парламента в Дижоне.
Впрочем, приближенные Марии Бургундской попытались оспорить действия французского короля, который, основываясь на апанажном праве, выдвинул свои претензии на французские фьефы80 герцогов и ввел в некоторые из них свои войска. К тому же, пытаясь подкрепить свои притязания как можно более серьезными аргументами, в мае 1478 г. (т. е. только через полтора года после гибели герцога) он обвинил Карла Смелого в невыполнении своих вассальных обязательств по отношению к королю и в совершении преступления против королевского величия81, что говорит об относительной слабости королевской власти на завоеванных территориях. Бургундская сторона еще в январе 1477 г. включилась в полемику с Людовиком XI. Уже 23 января 1477 г. Мария Бургундская направила письмо в совет Дижона, в котором обосновывала свои права на земли, принадлежавшие Бургундскому дому82. Она отмечает, что герцогство Бургундия никогда не входило в состав владений короны, следовательно, к нему не может применяться апанажное право. Не только герцогство Бургундия, но и другие территории принадлежат ей на законных основаниях. Например, графства Макон и Осер, приобретенные Филиппом Добрым по условиям Аррасского мира 1435 г. Особый интерес вызывают доводы юриста Жана д’Оффэ в пользу Марии Бургундской83. Можно выделить три основных пункта в его трактате, написанном уже в конце 1478 г., что снова говорит о том, что вопрос о правах на бургундское наследство оставался все еще актуальным. Во-первых, обвинения в неисполнении вассального долга касаются только покойного герцога, а значит, не могут применяться по отношению к его наследнице. Во-вторых, д’Оффэ отрицает, что герцогство Бургундия – апанаж, для него это фьеф, не входивший в состав королевского домена. В-третьих, этот фьеф может передаваться по женской линии (если это позволяли местные кутюмы), тогда как апанаж должен возвращаться короне в случае отсутствия наследника мужского пола. В связи с этим для него важно разобраться, на каких условиях герцогство было передано Филиппу Храброму в 1463 г. Юрист приводит два аргумента в пользу своих предположений: король Иоанн II Добрый получил герцогство не в результате возвращения к короне после пресечения прежней герцогской династии, а в результате наследования, причем по линии своей матери; затем король даровал Бургундию своему сыну и его законным наследникам за беспрецедентную храбрость, проявленную им в битве при Пуатье, а исключение права женщин на наследование не применимо к этому дару, так как такое положение было принято уже много позже 1463 г. Эти доводы должны были, по мысли бургундской стороны, подтвердить законность наследования Марией герцогства Бургундского. К тому же, герцог объявил свой суверенитет над ним, а значит, мог передать все свои владения дочери.
Действительно, герцогство Бургундия не было апанажем, оно было даровано Филиппу Храброму и всем его наследникам (пол наследников не был никак оговорен в акте дарения) и могло наследоваться женщиной, ибо никаких точных оговорок на сей счет не существовало84. Из всего комплекса французских фьефов герцогов Бургундских только графство Булонь, а также кастеллянства Руа, Перонн и Мондидье не предполагали передачу по женской линии85. Безусловно, предпочтительнее было иметь наследника-сына, чтобы чувствовать уверенность в судьбе своих владений. Современники хорошо это осознавали. Чего стоит, например, реакция Филиппа Доброго на рождение у Карла дочери: он даже не присутствовал на ее крещении, что Шатлен объяснил как раз полом ребенка86. По иронии судьбы опасения герцога оказались не напрасными.
Ситуация в северных регионах была другой. Некоторые исследователи утверждают, что здесь еще во времена Филиппа Доброго оформилось чувство некоего единства87. В этой части Бургундского государства удалось организовать сопротивление, хотя поначалу оно оказывалось не столь эффективным из-за конфликтов с городами Фландрии, в частности. Однако действия французской армии, разорявшей территории Эно, Артуа и др. провинций, судьба взятого после продолжительной осады Арраса88, жителей которого вынудили покинуть свои дома, а сам город переименовали, способствовали сплочению вокруг Бургундского дома всех, кто не желал подчиниться французскому королю. К тому же перспектива брака с Максимилианом и его последующее заключение вселяло надежды на успешное противостояние Франции. Впрочем, надо отметить, что Максимилиан тоже не стал для бургундских подданных естественным сеньором, таковым для них являлся после смерти Марии Бургундской их сын – Филипп Красивый89. Поэтому жители Гента и Брюгге часто поднимали восстания против Максимилиана и пытались установить опеку над малолетним герцогом90.
Приведенный материал свидетельствует, что одной из главных задач, которые ставили перед собой герцоги Бургундские, присоединяя ту или иную сеньорию к своим владениям, было обоснование их прав на нее. Причем делалось это и путем заключения договоров о наследовании с предыдущими правителями, и посредством переговоров с сословиями, и с помощью поиска исторических аргументов, которые доказывали родство герцогов Бургундских с правящей династией. Позиционирование себя герцогами как естественных сеньоров каждой из своих земель, защита ими интересов или «общего блага» всех подданных должно было стать, по мысли самих правителей и представителей их ближайшего окружения, важным моментом в формировании «бургундского самосознания». В официальной пропаганде главный акцент делался на факте объединения всех территорий Бургундским домом на основе легитимного наследования, а герцог Бургундский, объявлявшийся естественным сеньором всех земель, противопоставлялся другим возможным правителям-тиранам. Государство провозглашалось «общим делом», каждый подданный должен был соучаствовать в его защите от возможных врагов. Способствовать формированию чувства принадлежности к единой общности герцогам помогало наличие врага – Французского королевства, представляемого естественным врагом. Теоретические построения герцогов и и их советников, безусловно, опережали реальность: в обществе не было единства не только по вопросу о статусе герцога в его владениях, но и по поводу соотношения французов и бургундцев. Не все представители бургундской элиты, в том числе интеллектуальной, были готовы принять окончательный разрыв с Французским королевством. Об этом говорит и переход на французскую сторону многих видных бургундских дворян. С другой стороны, идея верности бургундской династии Валуа оказалась не столь эфемерной, как это иногда утверждается. Даже в самой Бургундии, которая сравнительно легко покорилась королю, городское сословие и мелкое дворянство встали на сторону Марии Бургундской. Однако отсутствие достаточной военной силы не позволило поддержать восстания в герцогстве. Сообщения хронистов, которые ярко описали события борьбы с французской агрессией на страницах своих сочинений, демонстрируют еще один примечательный факт. Несмотря на попытки герцогов опереться на представителей крупной аристократии при проведении политики централизации своего государства, отнюдь не они выступили носителями «бургундского самосознания». Ими стали представители среднего и мелкого дворянства, а также горожане, причем и в северной и в южной частях Бургундского государства. В то время как «Одряхлевшее дворянство», как назвал его Жан Молине, было готово пойти на сотрудничество с королем или находилось в раздумьях, какие выгоды даст ему занятие той или иной стороны в конфликте. Однако это самосознание было отнюдь не национальным в современном понимании – подданные Бургундского государства объединялись на почве верности правящей династии, общности политических интересов, что было характерно для многих политических образований той эпохи, в частности, для так называемых «etats princiers». На территории Французского королевства не только герцоги Бургундские, но и другие крупные сеньоры пытались создать свое государство, проводя похожие реформы91. Основные усилия правителей большинства подобных государств были направлены на то, чтобы привить своим подданным «династическую и государственную идентичность» (если использовать термин, который О. Маттеони заимствует у П. Коццо, исследовавшего политику герцогов Савойских92). Конечное поражение герцогов Бургундских определилось не только тем, что «бургундское самосознание» появилось достаточно поздно. Оно и не могло ярко проявиться до того, как сами герцоги не встали окончательно на путь автономного от Французского королевства политического развития93. А это, в свою очередь, также произошло слишком поздно. Несмотря на расширение своих владений, проведение политики усовершенствования и определенной унификации органов управления (в частности, сфер отправления правосудия), подавление местного сепаратизма крупной аристократии и богатых городов, направленных на утверждение своего статуса, как верховных правителей, герцоги Бургундские во многом оставались французскими принцами, признававшими сюзеренитет короля Франции, и не могли окончательно изжить патримониальное начало своей власти, что, без сомнения, ослабляло созданное ими политическое образование94. Лишь в 1473 г. с созданием парламента в Мехелене (Малине) Карл Смелый провозгласил свой суверенитет. Не пройдет и четырех лет, как сам Карл погибнет в битве при Нанси, его государство окажется разобщенным, а парламент будет распущен по «Великой привилегии», дарованной Марией Бургундской своим подданным95.
Примечания
1 См., например: Guenee B. Etat et nation en France au Moyen Age // Revue historique. 1967. Vol. 237. P. 17–30; Idem. L’Occident aux XIV–XV siecles. Les Etats. P., 1971. P. 113–132.
2 Krynen J. Ideal du prince et pouvoir royal en France a la fin du Moyen Age (1380–1440). P., 1981. P. 241–277.
3 Например: Guenee B. L’Occident aux XIV–XV siecles. P. 20, passim. О соотношении имперских образований и складывавшихся этнонациональных государств см.: Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время / Отв. ред. Н. А. Хачатурян. М., 2011.
4 В последние десятилетия в историографии за политическим образованием, созданным герцогами Бургундскими из династии Валуа, закрепилось название «Бургундское государство», несмотря на то, что герцоги являлись вассалами королей Франции и императоров Священной Римской империи. Французские фьефы подпадали под юрисдикцию Парижского парламента, высшей судебной инстанции королевства. Такой тип территориального образования был характерен для периода феодального полицентризма и получил в историографии название «Etat princier», что может быть переведено на русский язык как «принципат», «княжеское государство». В рамках Французского королевства такие «государства» обладали определенной самостоятельностью, пользуясь слабостью центральной власти, имели свои судебные и финансовые институты, армию, однако признавали суверенитет короля Франции. Лишь в 1473 г., создав парламент в Мехелене, Карл Смелый порвал с практикой подачи апелляций в Парижский парламент. В данной статье мы будем использовать термин «Бургундское государство» с учетом этих особенностей. Об «etat princier» и о Бургундском государстве см.: Le-guai A. Les «Etats» princiers en France a la fin du Moyen Age // Annali della Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa. 1967. № 4. P. 133–157; Idem. De la seigneurie a l’Etat. Le Bourbonnais pendant la Guerre de Cent ans. Dijon, 1969. P. 9–10; Cauchies J.-M. Un Etat inventeur de formes d'organization? // La cour de Bourgogne et l'Europe. Le rayonnement et les limites d'un modele culturel / Dir. W. Paravicini. Ostfildern, 2013. P. 109–116; Boone M. L'Etat bour-guignon, un Etat inventeur ou les limites de l'invention // Ibid. P. 133–156.
5 Подробнее об этом см.: Хачатурян Н. А. Бургундский двор и его властные функции в трактате Оливье де Ла Марша // Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда / Под ред. Н. А. Хачатурян. М.; СПб., 2001. С. 126–135.
6 Назовем основные работы по указанным проблемам: Huizinga J. L’Etat bourguignon, ses rapports avec la France, et les origines d’une nationality neer-landaise // Le Moyen Age. 1930. T. 40. P. 171–193; 1931. T. 41. P. 11–35; 83–96; Bonenfant P. Philippe le Bon. Bruxelles, 1943 (переиздано с другими работами П. Бонанфана – Bonenfant P. Philippe le Bon. Sa politique, son action. Bruxelles, 1996); Lacaze Y. Le role des traditions dans la genese d’un sentiment national au XV siecle, la Bourgogne de Philippe le Bon // Biblio-theque de l'Ecole des Chartes. 1971. T. 129. P. 303–385; Vaughan R. Philip the Good. The Apogee of Burgundy. L., 1970; Idem. Charles the Bold. The last Valois Duke of Burgundy. L., 1973; Idem. Philipp the Bold. The Formation of Burgundian State. N. Y., 1979; Armstrong C. A. J. England, France and Burgundy in the fifteenth century. L., 1983; Prevenier W., Blockmans W. The Burgundian Netherlands. Cambridge, 1986; Schnerb B. L’Etat bourguignon 1363–1477. P., 1999; Small G. Local elites and «national» mythologies in the Burgundian dominions in the fifteenth century // Building the Past / Ed. R. Suntrup,
J. R. Veenstra. Frankfourt a/M, 2006. P. 229–245. Некий итог этим спорам подводят Ж.-М. Коши и М. Боон в статьях, указанных в сноске 4.
7 См., например: Lacaze Y. Le role des traditions dans la genese d’un sentiment national au XV siecle, la Bourgogne de Philippe le Bon. P. 303–385; Le-guai A. Charles le Temeraire et l’histoire // Publications du сentre europeen detudes bourguignonnes (далее – PCEEB). 1981. T. 21. P. 47–53; Millar A. Olivier de La Marche and the Herculean origins of the Burgundians // PCEEB. 2001. T. 41. P. 67–75; Small G. Les «Chroniques de Hainaut» et les projets d’historiographie regionale en langue française a la cour de Bourgogne // Les Chroniques de Hainaut ou les Ambitions d’un Prince Bourguignon / Ed. P. Cockshaw, Ch. van den Bergen-Pantens. Turnhout, 2000. P. 17–22; Idem. Local elites and «national» mythologies in the Burgundian dominions in the fifteenth century. P. 229–245; Idem. Of Burgundian dukes, counts, saints and kings (14 C.E. – с. 1500) // The Ideology of Burgundy: the Promotion of National Consciousness, 1364–1565 / Ed. D. Boulton, J. R. Veenstra. Leiden, 2006. P. 151–194; Асейнов Р. М. Политическая мифология и проблема самоопределения Бургундии // Средние века. Вып. 68 (3). М., 2007. С. 80–101.
8 Small G. Local elites and «national» mythologies in the Burgundian dominions in the fifteenth century. P. 230, passim.
9 Принято считать, что самые большие трудности герцоги Бургундские испытывали во Фландрии, города которой (Гент, Брюгге и Ипр) являли собой ведущую политическую силу в регионе и славились своими сепаратистскими традициями. О развитии фламандских городов, их экономической и политической мощи см., например: Prevenier W., Blockmans W. The Burgundian Netherlands; Boone M. Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384-ca. 1453. Een social-politieke studie van een staatsvormingsproces. Bruxelles, 1990; Пиренн А. Средневековые города Бельгии. СПб., 2001; Haemers J. De Gentse Opstand (1449–1453). De strijd tussen rivaliserende netwerken om het stedeli-jke kapitaal. Kortrijk-Heule, 2004. Однако последние исследования показывают, что и в других регионах, в частности, в графстве Бургундском (Франш-Конте) герцогам пришлось столкнуться с оппозицией своей политике. См. об этом: BubenicekM. Entre rebellion et obeissance. L'espace politique comtois face au duc Philippe le Hardi (1384–1404). Geneve, 2013.
10 Haufricht J. Les ducs de Bourgogne, comtes de Flandre, selon les enlumi-nures de la «Chronike van den lande van Vlaendre» (fin XVe siecle) // PCEEB. 1997. T. 37. P. 87–105.
11 Ibid. P. 89.
12 Ibid. P. 97–101.
13 См.: Vaughan R. Philip the Good. The Apogee of Burgundy. P. 29–50; Schnerb B. L’Etat bourguignon. P. 207–213. О политике герцогов Бургундских в исторических Нидерландах см.: Шатохина-Мордвинцева Г. А. Нидерланды с древнейших времен до конца XVI века. М., 2004. С. 88–111; Майзлиш А. А. Политика герцогов Бургундских в Нидерландах в конце XIV – середине XV в.: Пути формирования бургундской модели государственности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2009. C. 18–22.
14 Schnerb B. L’Etat bourguignon. P. 214. О притязаниях герцогов Бургундских на Брабант см. также: Stein R. Philip the Good and the German Empire. The legitimation of the burgundian succession to the German principalities // PCEEB. 1996. T. 36. P. 33–47.
15 Schnerb B. L’Etat bourguignon. P. 214–223; Vaughan R. Philip the Good. P. 274–285.
16 Dubois H. Charles le Temeraire. P., 2004. P. 267–268.
17 Schnerb B. L’Etat bourguignon. P. 416–417.
18 Малинин Ю. П. Общественно-политическая мысль позднесредневековой Франции XIV–XV вв. СПб., 2000. С. 71–73; Krynen J. Naturel. Essai sur l'argument de la Nature dans la pensee politique a la fin du Moyen Age // Journal des savants. 1982. P. 172–173.
19 Krynen J. L’empire du roi. Idees et croyances politiques en France XIII–XV siecle. P., 1993. P. 328–336.
20 Guenee B. L'Occident aux XIV–XV siecles. P. 130–131.
21 Малинин Ю. П. Общественно-политическая мысль позднесредневековой Франции. С. 208.
22 Krynen J. L’empire du roi. P. 332.
23 Pisan Ch. de. Le Livre du corps de policie / Ed. R. H. Lucas. Geneve, 1967. P. 171.
24 В западноевропейской политической мысли идеи Аристотеля начинают активно использоваться начиная с XIII в. Во Франции более широкому их распространению способствовали переводы сочинений Стагирита на французский язык (автором переводов «Этики» и «Политики» являлся Николя Орем). Большое влияние они оказали на развитие идеи о публичной природе власти государя. См., в частности: Хачатурян Н. А. Аристотелевское понятие «гражданин» в комментариях Н. Орезма и социальная реальность во Франции XIII–XV вв. // От Средних веков к Возрождению: Сборник в честь Л. М. Брагиной. СПб., 2003. С. 19–35.
25 Krynen J. L’empire du roi. P. 333. О концепции королевской власти во Франции XIV–XV вв. см., например: Малинин Ю. П. Общественно-политическая мысль позднесредневековой Франции. С. 154–180.
26 Bartier J. Un discour du chancelier Hugonet aux Etats Generaux de 1473 // Bulletin de la Commission royale d’Histoire. 1942. T. 107. P. 127–156.
27 См., например: Vanderjagt A. «Qui sa vertu anoblist». The Concepts of noblesse and chose publicque in Burgundian Political Thought. Groninguen, 1981; Armstrong C. A. J. Les ducs de Bourgogne, interpretes de la pensee politique du 15e siecle // Annales de Bourgogne. 1995. T. 67. P. 5–34; Асейнов Р. М. Карл Смелый, Гийом Югоне и политическая мысль при бургундском дворе в 1470-е гг. // Политическая культура Средних веков и раннего Нового времени / Отв. ред. А.К. Гладков (в печати).
28 Достаточно сравнить речь Югоне и выступление герцога на штатах Фландрии 1475 г. См.: Асейнов Р. М. Карл Смелый, Гийом Югоне и политическая мысль при бургундском дворе (в печати).
29 Bartier J. Un discour du chancelier Hugonet aux Etats Generaux de 1473. P. 135–138.
30 Ibid. P. 137–138. Об апелляции к «коллективной памяти» в публичных выступлениях перед представителями сословий см.: Small G., Dumolyn J. Parole d'Etat et memoire «collective» dans les pays bourguignons: les discours prononces devant des assemblies representatives (XVe-XVIe siecles) // PCEEB. 2012. T. 52. P. 15–28.
31 Например: Chastellain G. ffiuvres / Ed. J. Kervyn de Lettenhove. Bruxelles, 1863–1865. Vol. VII. P. 214–215; La Marche O. de. Memoires / Ed. H. Beaune et J. dArbaumont. P., 1883–1888. Vol. I. P. 25, 47.
32 Collection de documents inedits concernant l’histoire de la Belgique / Ed. L. P. Gachard. Bruxelles, 1833–1835. Vol. I. P. 209. См. также: Blockmans W. «Crisme de leze mageste», les idees politiques de Charles le Temeraire // Les Pays-Bas bourguignons. Histoire et institutions. Melanges Andre Uyttebrouck / Ed. J.-M. Duvosquel, J. Nazet, A. Vanrie. Bruxelles, 1996. P. 73.
33 АсейновР.М. «Милостью Божьей герцог Бургундии…»: представления о власти герцога в бургундской политической мысли // Средние века. 2012. Вып. 73 (1–2). С. 36–37.
34 Collection de documents inedits concernant l’histoire de la Belgique. Vol. I. P. 252
35 «Et aussi ce qu'ilz en payent, ilz le donnent a eulx mesmes et pour leur seurte, et point a lui, qui a la moindre part oudit pays, et sesdits subgectz la plus grande…». Collection de documents inedits concernant l’histoire de la Belgique. Vol. I. P. 252.
36 Об использовании бургундскими интеллектуалами идей итальянских гуманистов и их переосмыслении см., например: VanderjagtA. Classical Learning and the Building of Power at the Fifteenth-Century Burgundian Court // Centres of Learning. Learning and Location in Pre-Modern Europe and the Near East / Ed. H. J. W. Drijvers, A. A. MacDonald. Leiden, 1995. P. 267–277; Idem. Expropriating the Past. Tradition and Innovation in the Use of Texts in Fifteenth-Century Burgundy // Tradition and Innovation in ah Era of Change / Ed. R. Suntrup, J. R. Veenstra. Frankfurt-am-Main, 2001. P. 177–201; Idem. The Princely Culture of the Valois Dukes of Burgundy // Princes and Princely Culture 1450–1650 / Ed. M. Gosman, A. A. MacDonald, A. Vanderjagt. Leiden, 2003. T. I. P. 51–79; Асейнов Р. М. Карл Смелый, Гийом Югоне и политическая мысль при бургундском дворе (в печати).
37 Малинин Ю. П. Общественно-политическая мысль в позднесредневековой Франции. С. 130–152. См. также: Басовская Н. И. Столетняя война: леопард против лилии. М., 2002. С. 339–340, далее; Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII–XV вв. М., 1989. С. 145–156; Калмыкова Е.В. Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья. М., 2012. С. 285–286, далее; Lewis P. S. War Propaganda and Historiography in 15th century France and England // Transactions of the Royal Historical Society. 1965. XV. P. 1–21.
38 Например: Bartier J. Un discour du chancelier Hugonet aux Etats Generaux de 1473. P. 153.
39 Ibid. P. 140, 148.
40 Ibid. P. 140–148.
41 Напомним, что в конце 1456 года дофин Людовик (будущий король Людовик XI), опасаясь ареста по приказу отца, короля Карла VII, бежал из Гренобля ко двору Филиппа Доброго, который предоставил в его пользование резиденцию в замке Женапп. Во владениях герцога Бургундского Людовик оставался до своего вступления на французский престол в 1461 году. См.: Fa-vier J. Louis XI. P., 2001. P. 157–185; Эрс Ж. Людовик XI. Ремесло короля. М., 2007. С. 48–55.
42 Bartier J. Un discour du chancelier Hugonet aux Etats Generaux de 1473. P. 140. О других сравнениях и прозвищах короля см.: Асейнов Р М. Роль прозвища в характеристике государя в сочинениях бургундских историков XV в. // Культурные коды Средневековья / Отв. ред. А. К. Гладков (в печати).
43 Bartier J. Un discour du chancelier Hugonet aux Etats Generaux de 1473. P. 146.
44 Ibid. P. 149.
45 Ibid. P. 149–150.
46 Дж. Бартье, автор публикации этой речи Югоне, ошибся с датировкой и локализацией заседания штатов. Он предположил, что это было в Брюсселе в январе1473 г., тогда как в действительности канцлер произнес свою знаменитую речь на заседании штатов в апреле 1473 г. в Брюгге. См.: Actes des Etats generaux des anciens Pays-Bas / Ed. J. Cuvelier, J. Dhondt, R. Doehaerd. Bruxelles, 1948. Vol. I. P. 177 (note 5).
47 Об этом велись активные переговоры с императором Фридрихом III. Более того, осенью 1473 г. в Трире во время встречи герцога и императора все было готово для проведения коронации. И только внезапный отъезд императора разрушил планы Карла Смелого. См.: Ehm P. Burgund und das Reich. Spätmittelalterliche Aussenpolitik am Beispiel der Regierung Karls des Kühnen (1465–1477). Munich, 2002. S. 130–188.
48 Например: La Marche O. de. Memoires. Vol. I. P. 61; Clercq J. du. Memoires / Ed. F. de Reiffenberg. Bruxelles, 1835–1836. Vol. II. P. 395–396; Escouchy M. d’. Chronique / Ed. G. du Fresne de Beaucourt. P., 1863–1864. Vol. I. P. 55–56. Жорж Шатлен указывает также на преимущество постоянной армии, позволяющее беспрерывно совершенствовать военные навыки. См.: Chastellain G. ffiuvres. Vol. V. P. 413.
49 О военных реформах Карла Смелого см.: Viltart F. La garde et les ordon-nances militaires de Charles le Temeraire, des modeles militaires? // La cour de Bourgogne et l'Europe. Le rayonnement et les limites d'un modele culturel. P. 157–181.
50 См., например: Boone M. Les ducs, les villes et l'argent des contribuables: le reve d'un impot princier permanent en Flandre a l'epoque bourguignonne // L'impot public et le prelevement seigneurial en France, fin XIIe – debut XVIe siecle / Ed. Ph. Contamine, J, Kerherve, A, Rigaudiere. P., 2002. P. 323–341. Любопытно, что вопреки распространенному мнению, основанному на активной официальной пропаганде Бургундского дома и сообщениях придворных хронистов (Оливье де Ла Марша, Жоржа Шатлена и других), герцоги Бургундские не были самыми богатыми государями Европы XV века. См. об этом: Lassalmonie J.-Fr. Le plus riche prince d'Occident? // La cour de Bourgogne et l'Europe. P. 63–82.
51 Подобная концепция была укоренена в общественном сознании, ее часто использовали для обоснования прав монарха на взимание налогов для содержания постоянной армии. См., например: Малинин Ю. П. Общественно-политическая мысль позднесредневековой Франции. С. 191–197.
52 См.: Zingel M. Frankreich, das Reich und Burgund im Urteil der burgun-dischen Historiographie des 15. Jahrunderts. Sigmaringen, 1995; Dumolyn J. Organische intellectuelen in het politieke lichaam. De staatsideologie van de laatmiddeleeuwse Bourgondische ambtenaren // Revue belge de philologie et d’histoire. 2005. T. 83. P. 1077–1102; Idem. Justice, equity and common good. The state ideology of the councilors of the burgundian dukes // The Ideology of Burgundy: the Promotion of National Consciousness. P. 1–20; Асейнов Р. М. «Милостью Божьей герцог Бургундии…»: представления о власти герцога в бургундской политической мысли. С. 17–41.
53 Например: Delclos J.-Cl. Le temoignage de Georges Chastellain. Historio-graphe de Philippe le Bon et Charles le Temeraire. Geneve, 1980. P. 171, 208.
54 Chastellain G. ffiuvres. Vol. III. P. 389. Как полагает Ж.-К. Делькло, на протяжении повествования Шатлен постепенно понимает иллюзорность мирного сосуществования Французского королевства и Бургундии. См.: Delclos J.-Cl. Le temoignage de Georges Chastellain. Historiographe de Philippe le Bon et Charles le Temeraire. P. 203–243.
55 Chastellain G. ffiuvres. Vol. III. P. 421. Напомним, что в 1455–1456 гг. Жан II, герцог Алансонский, ранее участвовавший в Прагерии, но прощенный Карлом VII, договорился с англичанами об уступке им ряда крепостей в Нормандии. После открытия заговора герцог был арестован и приговорен к смертной казни, но помилован королем и помещен под арест в Лошский замок. О процессе над герцогом Алансонским см.: Contamine Ph. Le premier proces de Jean II, duc dAlen^on (1456–1458): quels enjeux, quels enseigne-ments politiques? // Power and Persuasion. Essays on the Art of State Building in Honour of W. P. Blockmans / Ed. P. Hoppenbrouwers, A. Janse, R. Stein. Turnhout, 2010, p. 103–122.
56 Chastellain G. ffiuvres. Vol. III. P. 477.
57 «Vous et nous tous, jadis fumes ensemble / Ung corps uny soubz divin gou-verne; / Mais venue est heure, ce nous semble, / Qui vous de nous distrait et desassamble / Par viel venin et envie moderne…». Ibid. Vol. VI. P. 223.
58 Несмотря на участие Филиппа Доброго в коронации Людовика XI и в торжественном въезде нового короля в Париж в 1461 г., когда многие приближенные герцога Бургундского получили различные должности при королевском дворе (см.: Paravicini W. Le temps retrouve? Philippe le Bon a Paris en 1461 // Paris, capitale des dues de Bourgogne / Ed. W. Paravicini, B. Schnerb. Ostfildern, 2007. P. 399–469), герцогу было не суждено восстановить те позиции в королевстве, что занимали его дед Филипп Храбрый и отец Жан Бесстрашный при Карле VI. Людовик XI отнюдь не собирался «оправдывать» надежды бургундской стороны, но принялся вмешиваться во внутренние конфликты в Бургундском государстве и при Бургундском дворе, поощряя городские восстания и своих сторонников при дворе герцога. Более того, бургундские хронисты были убеждены, что король замышлял убийство Карла де Шароле (будущего герцога Карла Смелого). См.: Chastellain G. ffiuvres. Vol. V. P. 475.
59 Ibid. Vol. VII. P. 308.
60 Le Livre des trahisons de France envers la maison de Bourgogne // Chro-niques relatives a l'histoire de la Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne (Textes fran^ais) / Ed. J. Kervyn de Lettenhove. Bruxelles, 1873. Vol. I. P. 1–258.
61 Ibid. P. 20–21.
62 Анализ французского общества накануне и после убийства Людовика Орлеанского, а также последующих событий представлены в монографии Б. Гене: Guenee B. Un meurtre, une societe. L’assassinat du duc d’Orleans 23 no-vembre 1407. P., 1992.
63 Le Livre des trahisons de France envers la maison de Bourgogne. P. 61–61, passim.
64 Ibid. P. 147.
65 Ibid. P. 147.
66 Например: La Marche O. de. Memoires. Vol. III. P. 10; Molinet J. Chroniques / Ed. G. Doutrepont et O. Jodogne. Bruxelles, 1935–1937. Vol. I. P. 187; Chastellain G. ffiuvres. Vol. VII. P. 308.
67 Molinet J. Chroniques. Vol. I. P. 225.
68 Ibid. Vol. I. P. 211–212.
69 Ibid. Vol. I. P. 175.
70 Molinet J. Faictz et Dictz / Ed. N. Dupire. P., 1936–1939. Vol. I. P. 92–97.
71 «… que nullement ne desiroit de parlementer au roy, ains tenir voloit la ville pour et ou nom de mademoiselle…». Molinet J. Chroniques. Vol. I. P. 198.
72 Подробный анализ восприятия официальным историком наступления французских отрядов и французского короля см. в работах Ж. Дево и Э. Бусмара: Devaux J. Jean Molinet, indiciaire bourguignon. P., 1996. P. 116–119, passim; Bousmar E. Duchesse de Bourgogne ou «povre desolee pucelle»? Marie face a Louis XI dans les chapitres 45 et 46 des Chroniques deJean Molinet //Jean Molinet et son temps / Dir. J. Devaux, E. Doudet, E. Lecuppre-Desjardin. Turnhout, 2013. P. 97–113.
73 La Marche O. de. Memoires. Vol. III. P. 158.
74 Например: MolinetJ. Chroniques. Vol. I. P. 187.
75 Например, об этом говорится в договоре между штатами герцогства и послами короля: Plancher U. Histoire generale et particuliere de Bourgogne. Dijon, 1781. Vol. IV. P. ccclxvj-ccclxix. См.: Richard J. Les fideles de la duchesse Marie et les soulevements de 1477–1479 dans le duche // Bruges a Beaune. Marie, l’heritage de Bourgogne / Dir. B. Schnerb. Beaune, 2000. P. 61–82.
76 Например: Caron M.-Th. Noblesse et pouvoir royal en France, XIIIe-XVIe siecles. P., 1994. P. 232, 287.
77 Richard J. Les fideles de la duchesse Marie et les soulevements de 1477–1479 dans le duche. P. 78.
78 Знать, особенно крупная аристократия Бургундского государства, несмотря на попытки централизации, была неразрывно связана со своей конкретной провинцией (например: Caron M.-Th. La noblesse dans le duche de Bourgogne 1315–1477. Lille, 1987. P. 15, 533). Это, видимо, отчасти определило, кто остался верен Бургундскому дому, а кто перешел на службу к королю. Хотя пример Оливье де Ла Марша свидетельствует, что это не было единственным аргументом при выборе той или иной стороны. Сам мемуарист, выходец из графства Бургундия, имел значительные территориальные владения в герцогстве, и, следовательно, лишился их, выбрав сторону наследников Карла Смелого.
79 Richard J. Les fideles de la duchesse Marie et les soulevements de 1477–1479 dans le duche. P. 74.
80 Ранее французские хронисты также обосновывали тезис о принадлежности Бургундии и Фландрии французской короне, указывая не только на вассальную зависимость, но и на общность исторического прошлого. После 1477 г. эти концепции стали разрабатываться более тщательно, ибо необходимо было обосновать введение армии французского короля во владения Марии Бургундской. См.: Daly K. French pretensions to Valois Burgundy: history and polemic in the fifteenth and early sixteenth centuries // PCEEB. 2004. T. 44. P. 9–22.
81 См. публикацию материалов к посмертному процессу над Карлом: Blanchard J. Une lecture des Memoires: Commynes et le droit (documents inedits) // Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance. 2010. T. 72. P. 369–384.
82 Plancher U. Histoire generale et particuliere de Bourgogne. Vol. IV. Preuves. № 269.
83 AllemandM.-Th. La reversion du duche de Bourgogne au royaume de France, vue a travers des memoires contemporains // Cinq-centieme anniversaire de la bataille de Nancy (1477). Nancy, 1979. P. 212–220. См. также: Daly K. Jean d'Auffay: culture historique et polemique a la cour de Bourgogne // Le Moyen Age. 2006. T. 112 (3–4). P. 603–618.
84 Например: Schnerb B. L'Etat bourguignon. P. 40–42.
85 Schnerb B. La plus grande heritiere du monde // Bruges a Beaune. Marie, l’heritage de Bourgogne. P. 23.
86 Chastellain G. ffiuvres. Vol. III. P. 298.
87 Авторы называют его «бургундским национализмом». Prevenier W., Blockmans W. The Burgundian Netherlands. P. 198–199.
88 О судьбе Арраса см.: Paravicini W. Terreur royale: Louis XI et la ville d'Arras, avril 1477 // Revue Belge de Philologie et d'Histoire. 2011. T. 89. P. 551–583.
89 Cauchies J.-M. Philippe le Beau. Le dernier duc de Bourgogne. Turnhout, 2003. P. 25–40.
90 Брачный контракт, заключенный Максимилианом Габсбургом и Марией Бургундской, не предусматривал права наследования владений умершего супруга. Однако, опираясь на завещание Марии, Максимилиан объявил себя регентом при сыне, что вызвало ожесточенное сопротивление со стороны Генеральных штатов. См.: Blockmans W. Autocratie ou polyarchie? La lutte pour le pouvoir politique en Flandre de 1482 a 1492 d'apres des documents inedits // Bulletin de la Comission royale d'histoire. 1974. T. 140. P. 257–368.
91 Из последних работ, посвященных подобного рода государствам и реформам проводимых в них, см. исследование О. Маттеони, где ярко показано, что действия герцога Бурбонского Жана II, объединившего под своей властью территории, которые не имели языкового единства, где действовали разные правовые нормы и т. д., были направлены на консолидацию подданных вокруг правящей династии: Matteoni O. Un prince face a Louis XI. Jean II de Bourbon, une politique en proces. P., 2012.
92 Ibid. P. 191; Cozzo P La geografia celeste dei duchi di Savoia. Religione, de-vozioni у sacralita in uno stato di eta moderna, secoli XVI–XVII. Bologne, 2006.
93 Согласно устоявшейся в современной историографии точке зрения, сформулированной в работах Б. Шнерба, В. Превенье и В. Блокманса (см. сноску 6), герцоги Бургундские стремились активно участвовать в делах Французского королевства одновременно с созданием собственного государства. См. об этом: Boone M. L'Etat bourguignon, un Etat inventeur ou les limites de l'invention. P. 134.
94 Хачатурян Н. А. Бургундский двор и его властные функции в трактате Оливье де Ля Марша. С. 135.
95 Le privilege general et les privileges regionaux de Marie de Bourgogne pour les Pays-Bas / Ed. W. Blockmans. Kortrijk-Heule, 1985.
Асейнов Р.М.
II.III. Этническая самоидентификация и культурно-исторический миф в политической идеологии Франции XVI в.
Проблема национальной идентичности, тем более, национальной самоидентификации становится одной из ведущих идеологических проблем в эпоху становления национальных государств и решение ее достаточно сложно и неоднозначно. Становление национальных государств обусловило во всех странах Европы интерес к национальной самоидентификации, и само понятие национальной идентичности в этот период (да и в дальнейшем) приобретало ряд общих характеристик. Во-первых, идентичность и проявляется и осмысляется, как правило, в периоды перелома или конфликта в обществе. В этой связи вырабатываются стереотипы в массовом сознании под влиянием определенной идейной обработки его. Как правило, эти стереотипы наиболее четко выражены в мифах и ритуалах. Наконец, важнейшим образом национальной идентичности является коллективный образ национального прошлого1. И если эти тенденции получили хоть какое-то рассмотрение на примере Италии2, то для Франции проблема становления национальной идентичности мало изучалась3, тем более в отечественной науке, хотя именно во Франции этот процесс приобрел особый характер еще и в связи с утверждением на государственном уровне значения национального языка и литературы. Интерес к своему национальному во Франции был сформулирован очень отчетливо и нередко сопровождался и негативным отношением ко всему чужому, в том числе и по отношению к наследию античного Рима. Не менее важным было утверждение и сознательная интериоризация в массовое сознание и культуру новой политической идеологии, основанной на прославлении абсолютной монаршей власти и ее древности или опровержении этой идеологии. Важным элементом этого процесса стал интерес к специфике политического устройства страны, традиционно сложившейся структуры всех социальных и государственных учреждений, подчеркивающих в истории исключительность государства французского и особенности развития французского народа.
Развитие исторической мысли Ренессанса во многом определялось стремлением к поиску своих национальных корней и национальной самоидентификации, а также фактом становления национального самосознания каждого отдельного народа. Особенностью французского, как и любого другого, варианта этой общей тенденции явилось то, что этот процесс приобретает различное наполнение в зависимости от того, в какой политической и религиозной среде он формировался. В огромной литературе, посвященной истории духовной жизни Франции этого периода, почти не обращалось внимания на то, что вся политическая идеология этой эпохи построена на строго охранительных позициях, на неприятии всего инородного; имело значение и заслуживало одобрения только французское, все прочее – от лукавого. Даже особые качества королевской династии основываются на том, что король «принадлежит к чисто французскому роду». И такой подход неразрывно связан с формированием представлений, связанных с национальной самоидентификацией французов, с их взглядами на свое происхождение и прошлое народа. Огромную роль в условиях политической и конфессиональной конфронтации в стране играл культурно-исторический (нередко становившийся и политическим) миф.
В центре внимания при этом оказывались древнейшие факты национального прошлого, в частности приобрела особое значение проблема синтеза галльского и германского начал. Первоначально эта проблема решалась на основе троянского мифа, который позволял относить процесс происхождение французского народа к древнейшим временам, о которых было тогда известно в Европе, с тем, чтобы подчеркнуть предельно раннее происхождение собственных правителей по сравнению с другими европейскими народами. В связи с этим, одним из важнейших направлений политической идеологии и культуры в целом во Франции XVI в. становится создание новой политической мифологии, особенно во второй половине века, когда потребности политической пропаганды способствовали «смене вех» и возникновению новых политических мифов, чаще всего основанных на фактах, а нередко и на фальсификации исторического прошлого и настоящего Франции. В сложной политической мифологии одно из важнейших мест занимает проблема этногенеза и генезиса характера государственности, обусловленной спецификой этносов. Исторические события национального прошлого не только оценивались и переосмыслялись в исторических сочинениях, служили аргументами в политических сочинениях и основой конструируемых мифов, но и нашли свое адекватное отражение в художественной культуре. Обращение к проблемам этногенеза позволяло подчеркнуть роль французов в истории Европы, осмыслить их в качестве особого народа, причем одного из древнейших в Европе, что доказывалось с помощью истории, мифов, даже филологических сопоставлений.
Интерес к своему, национальному прошлому определил детальное изучение древнейших традиций, культуры и языка отдельных этносов, разнообразных политических институтов, и исключительной роли для Европы деятельности французских монархов. При этом в ренессансной французской историографии постепенно утверждалась концепция слияния разных этносов в единый французский народ, формировавшая представления о генезисе и этногенезе французской нации.
Особое внимание в истории формирования этносов большинство историков уделяет происхождению политических и социальных институтов, причем почти все они возводятся к начальной истории этноса. Все институты – от парламентов до института пэров, от майордомов до сословий – возводятся к древнейшим временам, к первым Меровингам. Этот подход типичен и позиция авторов одинакова (независимо от политической ориентации и конфессиональной принадлежности). По их убеждению, история эволюции всех политических институтов и государственных учреждений достойна почитания, поскольку доказывает особый путь развития народа и государства и одновременно в силу древности этих институтов их превосходство над другими народами и государствами. История французского абсолютизма определяли и характер политической пропаганды, ее приемы и методы. Это могло способствовать возникновению новых культурно-исторических мифов, чаще всего основанных на прямом политическом заказе и нередко на фальсификации исторического прошлого и настоящего. Решение подобных задач стимулировало обращение историков Возрождения к изучению древнейших нарративных и юридических источников по истории Франции. Все эти моменты не только присутствуют в политической идеологии на протяжении всего века, но находят свое адекватное отражение в исторических сочинениях и даже в художественной литературе. В целом процесс развития истории во Франции в XVI в. можно квалифицировать как стремление переосмыслить трактовки сложившихся мифов в отношении исторических фактов и перейти к новой мифологизации (если не фальсификации) истории. Результатом же становится рождение национального мифа, характеризовавшийся в числе прочего не только культом своего прошлого, но и попытками доказать великое прошлое французской монархии и французского народа. Именно этот момент стал важнейшим и популярным в процессе самосознании общества и идеологии эпохи. Вместе с тем, культивируется типичная для XVI в. синтезная концепция становления французской нации, в которой в результате анализа и критического осмысления источников поздней античности, доказывалось слияние франков и галлов в единый этнос, при полном отказе от римского начала и участие в этом процессе других этносов, вплоть до греков.
В первой половине XVI в., когда формировалась политическая идеология абсолютной монархии, а французская историография вступала на новый путь развития вслед за итальянцами, проблема этногенеза французского народа, как отмечалось выше, оказалась связана с судьбами Троянского мифа.
Источником этого мифа являлась хроника Псевдо-Фредегара (Historia Francorum), изданная в 727 г. уже под названием Gesta regum Francorum4.
Рецепция этого мифа относится к рубежу XV–XVI вв., периоду, когда в концепции власти оформилась идея об избранности Богом французских королей. Эта идея подкреплялась стремлением доказать, что французское государство и династия суть самые древние в Европе.
Миф о происхождении того или иного европейского государства или царствующей династии от выживших троянцев вообще был необычайно популярен в Европе и, судя по всему, максимально соответствовал мышлению эпохи Ренессанса с его подчеркнутым культом античности. Неслучайно, что во Франции Троянский миф оказывается наиболее популярен среди поэтов, а не историков, и именно благодаря им активно внедряется в массовое сознание. Во Франции он утвердился благодаря ритору Жану Лемэру де Бельж еще в начале XVI в. (труд де Бельжа «Прославление Галлии» вышел в свет в 1513 г.). С этого времени широко распространилась концепция происхождения французов и их государства, согласно которой Галлия как единое королевство была создана усилиями Франсиона (по одной версии, Франсион был сыном троянского царя Приама, по другой – потомком Энея или брата Приама, а по третьей – даже сыном Гектора) и уцелевших после взятия Трои троянцев. Этот миф автоматически возводил основание французского государства к наиболее древним временам, о которых только европейцы имели представление (хотя бы по греческому эпосу). Тем самым происхождение Французского королевства и первой династии Меровингов относилось к временам даже более древним, чем эпоха классической античности.
Практически все интерпретации указанного мифа так или иначе представляли собой в условиях торжества новой историографии с его культом источников попытку придать мифу статус исторического факта. Но, так или иначе, троянцев приходилось связывать с реальными этническими общностями периода становления первого государства на территории Франции. Выбор был не слишком велик: выбирать приходилось между франками (германцами) и галлами (кельтами). Троянский миф притягивался соответственно к галлам и франкам. Сам создатель Троянского мифа Жан Лемэр де Бельж усложнил первичный вариант, интегрируя в его конструкцию германские и галльские мотивы, связанные с династической стороной мифа. Потомок Гектора вступает в брак с дочерью царя галлов Ремуса, а их потомками в свою очередь оказываются Меровинги, прежде всего Фарамонд, легендарный основатель династии. Античная традиция служила облагораживанию династического мифа.
Однако, даже в начале XVI в. не все историки поддерживали Троянский миф. Еще до появления труда Лемэра интерес к происхождению франков прослеживается в трудах итальянского историка Марко Рициуса (умер в 1500 году), оставившего «Историю королей франков» и настаивавшего на германском происхождении французов5. Р. Гаген, профессор канонического права в Сорбонне, в своем труде «Происхождение и деяния франков», написанном на чистой гуманистической латыни (1495) и вышедшем незадолго до сочинения Лемэра де Бельж, прямо отмечал отсутствие доказательств этого мифа: «Я не могу найти подлинный источник и корни происхождения франков»6.
К середине века концепция де Бельжа начинает подвергаться критике с самых разных сторон, что было связано с глубоким изучением источников. Пожалуй, первым попытался выступить против этого культурно-исторического и политического мифа историк Жан дю Тийе. Юрист, советник Парижского парламента, в дальнейшем секретарь Генриха II, дю Тийе, как и многие его собратья, от права переходит к истории и интересуется, прежде всего, национальной историей, по преимуществу на ранних ее этапах. Его критика, вероятно, вызывалась тем, что он обратился к рукописным источникам и все свои положения строго подтверждал документами, что и наводит его на сомнения относительно правильности традиционной точки зрения по проблеме этногенеза французов. Цель прокламируется им, как и другими историками, в первых же фразах своего труда: сделать массовым достоянием подвиги народа и монархов, популяризовать деяния королевского дома.
Основное сочинение дю Тийе «Сборник о французских королях, их короне и королевском доме» вышло в свет в 1548 году. Автор очень осторожен, он опровергает тезис об извечном существовании единого государства у галлов и франков (считая, что завоевание римлян было облегчено раздробленностью)7 и говорит о существовании разных точек зрения относительно происхождения французского народа. Впрочем, свой взгляд на вещи он не считает нужным скрывать, напротив, декларирует его в самом начале своего труда; по мнению дю Тийе, «те, кто пишут, что французы по своему происхождению подлинные германцы, должны почитаться больше тех, кто считает, что они происходят от троянцев»8. В другом, более раннем своем сочинении «Хроника франкских королей» (De regibus Francorum Chronicon) Дю Тийе высказывается куда более определенно: по его мнению, «род франков из германской знати прибыл в Галлию и основал королевство»9. Так создавалась и распространялась прогерманская версия Троянского мифа.
К спорам относительно Троянского мифа и этногенеза франков подключается и крупнейший из французских историков-эрудитов, близкого к движению «Плеяды» Э. Пакье. Уже в первом издании его «Изысканий о Франции» (1561) он поднимает этот неожиданно ставший актуальным вопрос. С его точки зрения, сам факт существования Троянского мифа достоин удивления: «поистине великое чудо, что каждый народ с общего согласия считает для себя почетным вести свои корни от троянцев – римляне от Энея, французы от Франсиона, британцы от Брута, и даже турки – от Турка»10. Как историк и как политический теоретик Пакье считает, по меньшей мере, странной эту тенденцию: «было ошибкой возводить себя к побежденным троянцам, а не к победителям-грекам»11 и замечает, что сторонники этой версии происхождения франков «жаждут обрести величие от троянцев, жаждут как странники скитаться по миру». В его изложении древнейшие сведения выглядят уже действительно как миф, но с участием Геракла Галльского: «Геракл и его спутники подобно странствующим рыцарям двинулись тем же путем. Геракл преследовал Гериона до Испании и, проходя через эту страну, встретился с дочерью короля галлов… и унаследовал благодаря браку правление этой великой монархией»12.
Пакье был одним из первых историков, полагавших, что высокий уровень развития народа доказывается наличием развитой культуры. А поэтому и отсутствие ее означает достаточно примитивное состояние данного этноса. Следовательно, утверждает Пакье, едва ли можно говорить о высоком развитии общества в Галлии на ранних этапах, до появления там римлян. Доказательством этой позиции он считает, прежде всего, факт отсутствия высокого уровня цивилизации и государственности в Галлии ко времени появления там римлян: «нет латинских свидетельств, нет городов; где города и их жители, где государства, достигшие величия». И, тем не менее, заявляет он, существует «убеждение, что франки прямо восходят к троянцам, только впоследствии именовались сикамбрами, которые обитали на Танаисе (Дон – И.Э.) у скифов». Пакье задается вопросом: «если действительно они происходит от троянцев, то какой античный автор может послужить всем нам или свидетельствует об этом»13. Обращает на себя внимание, что и Пакье, логически доказывающий несостоятельность концепции происхождения французов от троянцев (позиция которого в принципе не вызывает сомнений), осторожен в выражениях. Причина тому проста, для историка очевиден политический смысл Троянского мифа, опровержение которого означало отрицание и политических традиций Франции, в частности идею единства Франции и извечности монархии. Он отмечает наличие противоречивых точек зрения: «некоторые доказывают, что наши предки управлялись вождями, а не королями вплоть до Фарамонда; другие настаивают на том, что со времен Трои франки управлялись монархом»14. Тем самым для историка очевидна политическая подоплека, казалось бы, абстрактного спора.
Как историк он признает (тем более, что об этом ясно свидетельствуют античные историки) наличие многих племен и раздробленности у франков: «ясно, что франки были разделены на несколько народов, иначе как бы они могли иметь одновременно несколько королей». Как политический мыслитель он понимает опасность отрицания принципа единства страны, а потому делает вывод: «что до меня, то я не осмеливаюсь выступить против (Троянского мифа) и не могу согласиться с ним»15. Хотя он понимает позицию своих собратьев, которые руководствуются самыми добрыми намерениями (стремлением возвысить свою родину), но считает, что они скорее оказывают ей дурную услугу, одновременно фальсифицируя историю и создавая миф: «историки, желая оказать честь стране, которой служат, стремятся возвести ее происхождение прямо к басне (fable), вытянутой из древнейшей истории»16. Сам термин Пакье очень показателен – басня, сказка, миф, недостойные внимания серьезного ученого-историка, но важные для массового сознания французов.
Главное творение самого историка по сути своей посвящено именно попытке определить и выявить национальную идентичность французов, неслучайно само исследование называется «Изыскания о Франции», а структура представляет собой попытку системного анализа всех сторон истории французского народа. Первая книга посвящена как раз этногенезу французского народа, вторая – истории политических институтов и политической элиты в стране, включая пэров и титулованную знать, третья – истории формирования галльской и французской церкви, четвертая – социальной структуре французского общества и ее эволюции, пятая и шестая – важнейшим событиям в истории Франции. Особый интерес представляет седьмая глава, где Пакье не только реализует свой особый взгляд на историю, но процесс становления национальной идентичности связывает с развитием французской литературы (включая окситанскую). Гигантская восьмая часть посвящена истории формирования национального языка, вплоть до лингвистического анализа отдельных современных автору слов. Последний момент принципиально важен – национальная идентичность для историка неразрывно связана с народным языком (vulgaire), который постепенно оттачивается в процессе становления языка литературного. Историк разделяет позиции своих современников гуманистов, считавших, что французский язык не уступает латыни или греческому17. Не менее любопытна и девятая книга, которая открывается тезисом, что французская литература зарождается «с древнейших времен», еще в эпоху Галлии18. Эта книга посвящена образованию в стране, и в частности деятельности университетов, в частности Парижского, и его факультетов. И, наконец, в десятой книге гуманист доказывает факт национальной идентичности и национального превосходства особой богоизбранностью первой королевской династии Меровингов. Таким образом, национальная самоидентификация связывается гуманистом с исключительными проявлениями превосходства французов над прочими народами. И особое внимание он уделяет культурной составляющей: превосходство объясняется не только спецификой социальных и политических институтов, и этногенеалогией монархов, но и характером развития национального языка, литературы и образования. И все же немалое место Пакье отводит проблеме этногенеза и связанного с ней Троянского мифа, причем посвящает этим вопросам первую книгу своего труда.
Постепенно споры вокруг Троянского мифа из сферы историографической и культурной переходят в сферу политической мысли, хотя оценки (заметим, – католиков) определяются исключительно научной добросовестностью и содержанием письменных источников. Пакье четко преследует в вопросе этногенеза французского народа свою цель: исследование «наших побед и наших обычаев, как древних, так и современных». Для этого он характеризует все народы, которые исторически проживали на территории Галлии, по его мнению, «наиболее древними следует считать галлов, а вслед за ними германцев»19, следовательно и рассматривать их следует прежде всего. И все же ему ближе галлы; Пакье гордо заявляет, что их предки галлы «стоят выше всех других народов (nations)20. Но подготавливая конечный вывод о синтезном характере происхождения французского народа, он говорит не только о галлах и франках, но и «бургундах, готах (вестготах) и других народах, которые населяли эту страну»21. В качестве дополнительного этнического компонента он характеризует кельтов-бриттов, вынужденных переселиться на континент после англосаксонского завоевания Великобритании, норманнов-завоевателей и, конечно же, римлян. При этом он подчеркивает также значение в развитии автохтонных этносов греков, обосновавшихся на южных берегах Франции с незапамятных времен, настаивая на их важнейшем вкладе в дело развития языка и культуры в Галлии, по его мнению «греки почитались за знания, галлы – за военные подвиги и высокое рыцарство». Это подтверждается тем, что существовал язык, по его выражению, «галлогреков» (впрочем, никаких доказательств этого важного тезиса он не приводит)22. Идеолог протестантов Ф. Отман, который мало в чем сходился с Пакье, также говорит о роли греческих поселений (Массилии) в развитии Галлии и прямо утверждает. что современный им французский язык: «представляет собой смесь языков нескольких народов». Скрепя сердце, поскольку он резко негативно относится ко всему, что восходит к римлянам, он признает, что наполовину язык связан с латынью, но в остальном следует «отнести одну треть слов к языку древней Галлии, другую – к наречию франков и к греческому влиянию на него».
Синтезная концепция тем самым все более усложнялась. Если первоначально речь шла о синтезе троянцев и франков, то к середине века все большую популярность приобретает концепция слияния в единый народ (французов) не германцев и троянцев, но галлов и троянцев. Интерес к галлам, вероятно, был вызван популяризацией труда итальянского историка, принадлежавщего к политико-риторической школе Л. Бруни, Павла Эмилия «О галльских древностях» (De l Antiquite de la Gaule), вышедшем еще в 1485 г. Отличие его от других сочинений состояло в том, что
Павел Эмилий обратился к изучению греческих источников, имеющихся по истории галлов, в частности, к труду Страбона. В принципе именно этот вариант предлагал и Лемэр де Бельж, когда выдвинул миф не только о троянском происхождении франкского государства, но и троянском происхождении самих галлов. По этой версии мифа галлы с незапамятных времен обосновались в Галлии, и их героем был Геракл Галльский. А поскольку один из галльских принцев, согласно Лемэру, основал Трою (вероятно, здесь сыграла свою роль информация Павла Эмилия о продвижении галлов на Восток), то троянцы сами оказывались галлами. Но если троянцы исторически происходили от галлов, следовательно, национальное самолюбие удовлетворялось в полной мере: галлы оказывались более древним народом, чем троянцы и их современники ахейцы.
Кроме того, раз троянцы (и франки) оказывались галлами, то франкского вторжения, тем более завоевания не было вообще. Троянцы (они же франки) оставались, в конечном счете, галлами. Вероятно, политическая ситуация толкала французских историков к прославлению автохтонного населения, то есть галлов. По-видимому, это обращение было связано также с глубоким усвоением материалов античных историков, в частности описанием вторжения воинственных галлов на территорию Апеннинского полуострова и их временного торжества над Римом. Естественно, что внимательное чтение римских источников, в частности Цезаря и Тацита, обратило внимание французских исследователей и на героическое сопротивление галлов римлянам (в т. ч. на Верцингеторикса).
Характеристика галлов Цезарем как автохтонного этноса также приводило к мысли о прославлении галлов как предков французов. Появляются работы, посвященные апологетике галлов и шире – кельтов. Максимального интереса проблема этногенеза французов в контексте с историей галлов достигает в середине XVI века, о чем свидетельствует появление в свет работ Г. Постеля, Р. Сено, и даже П. Рамуса23. Галлофильство Постеля отчетливо проявилось при рассмотрении именно проблемы этногенеза галлов, он подчеркивал глубокую древность этого народа: «кельтский или галльский народ» носит «священное и очень древнее имя галлов». Автор настаивал на особой избранности галлов (тем более их королей)24. Не менее важным оказался труд «Эпитома галльских древностей во Франции» французского полководца и писателя Гийома дю Белле (1491–1543), о котором высоко отзывался даже Боден25. К сожалению, автор активно и некритически использовал все легендарные мотивы, чем и вызвал позднейшие нарекания. Завершается разработка этой темы появлением «Франкогаллии» Ф. Отмана (1573).
Показательно, что уже на этом этапе Троянский миф квалифицируется именно как миф, и взамен его при рассмотрении проблем этногенеза и французской государственности предлагается обратиться либо к германским корням французской нации – к истории франков, либо к кельтским корням, – к истории галлов. Таким образом, историография отчетливо отметает миф о троянском происхождении франков (и французов) и переходит к германистской точке зрения, а затем и к прогалльской. Именно эта линия становится до определенного времени ведущей в историографии, поскольку настаивала на наиболее древнем происхождении автохтонного для Франции этноса26.
Особое место в истории самоидентификации французов в связи с культурно-историческими мифами в XVI веке занимает творчество величайшего из французских поэтов Ренессанса П. Ронсара, который дает в художественных произведениях, и, прежде всего, во «Франсиаде» как особую версию этногенеза французов, а также провозглашает идею раннего осознания французами себя как особого народа. Авторитет Ронсара стоял настолько высоко, поэт был так читаем и почитаем, что его взгляд на эти сюжеты (не говоря уже об открыто прокламируемых им целях – достигнуть величия французского народа («как римлянин и грек великим стал француз»)) непременно должен был приобрести популярность и оказать влияние на массовые представления о месте французов в истории. При этом из сферы исторической проблема этногенеза и культурного героя, тем более, самоидентификации французского народа вновь возвращается к литературе и мифу.
Важное место в истории изучения этногенеза французов в эту эпоху занимает «Франсиада» Ронсара. В данном случае обращение к Троянскому мифу было вызвано личной просьбой Карла IX в 1566 г. (а до этого нечто подобное желал и Генрих II). Подобный социальный заказ, исходящий непосредственно от монарха предполагал создание грандиозного эпического произведения, превозносящего французскую монархию и царствующую династию. Существенно, что Ронсар, личный друг Пакье, переписывающийся с ним не только по историческим, но и литературным проблемам, в этом сочинении выступает против точки зрения историка-профессионала.
Значение «Франсиады» в пропаганде властных мифов и в пропаганде древнейшего происхождения французского народа и его государственности было определено еще до того, как данное художественное произведение было написано. Ронсар работал над поэмой с 1556 года и до смерти короля-заказчика. За это время он пришел к взвешенной оценке политической и религиозной конфронтации во Франции, он был единственным католическим поэтом, кто не пожелал восславить Варфоломеевскую ночь. Поэтому во «Франсиаде» с точки зрения истории идейной борьбы эпохи больший интерес представляет не добросовестное следование за устаревшей концепцией Лемэра де Бельж. Следует отметить, что поэт внес достаточно серьезные коррективы даже в эту легенду. Согласно его версии троянцы во главе с Франсионом ушли в Паннонию, где основали город Сикамбрию (следует обратить внимание на созвучие названия с названием племени, к которому относились Меровинги (сикамбры)). На протяжении периода с XII в. до н. э. до III в. н. э. они и их потомки занимались охраной границ Римской империи (которая, как известно, возникла много позже), вплоть до нашествия аланов в правление Валентиниана. Троянцы не платили дань, оставались свободными и потому превратились во франков, т. е. свободных людей.
После отказа платить дань римлянам троянцы, ставшие, таким образом, франками, перебрались на территорию Германии во времена, когда во главе их стоял король Маркомир. Последний же оказался прародителем легендарных пращуров Меровингов, то есть тех монархов, которых упоминает Григорий Турский – Фарамонда, Хлодиона и Меровея. Объективно Ронсар в своей версии Троянского мифа также настаивает на германском происхождении французов, идентифицируя при этом франков и троянцев.
Разумеется, мифологические образы занимают у него, как и у всех других поэтов «Плеяды», большое место в творчестве. Его интерес к мифологическим образам в контексте с прошлым страны и этногенезом франков проявлялся постоянно, причем следует отметить, что его привлекали как галльские, так и франкские мотивы. Неслучайно он рисует образ Геракла Галльского как национального культурного героя, благодетеля страны, который привнес на земли Франции ради блага ее первых обитателей, живших до этого подобно диким зверям, элементы цивилизации. Ронсар подчеркивает, что обращается к этому образу чтобы «достойно возблагодарить его за благодеяния, которые он дал древним французам»27, опровергнув наветы позднейших времен. Именно Геракл, по убеждению Ронсара, «приобщил древних французов ко всем добродетелям», извлек их «из лесов, где они обитали как звери, чтобы жить в замках и городах, сеять пшеницу и выращивать виноградную лозу, почитать Бога и уважать своих соседей»28. Ронсар принимал версию двойного происхождения французов – галло-троянскую (символом является Геракл Галльский), но затем утверждал единое происхождение галлов и германцев от троянцев. Еще до выхода «Франсиады» в своей «Элегии третьей Женевре» Ронсар подчеркивал и значение для формирования нации и ее истории деятельности Франсиона, который привел троянцев на берега Сены, дабы построить столицу Франции – Париж. Это осуществляется благодаря особым качествам спутников Франсиона, в которых течет «отважная кровь этих первых троянцев». Поэтому прекраснейшая цель – строительство Парижа – достигается исключительно благодаря усилиям троянцев, «которых Франсион привел на Сену, когда возвел посреди долины твои стены, обитель царственности», ради того, чтобы в самое сердце Франции проникло совершенство этого народа (по выражению Ронсара «благородство крови, по сравнению с которым все в мире кажется безобразным»29).
Ронсар был слишком крупным поэтом, чтобы просто выполнить политический заказ власти, а потому его «Франсиада» превращается в «волнующее размышление о судьбах народов и могуществе времени»30. Неслучайно сражение Карла Мартелла с арабами трактуется как столкновение цивилизаций, определяющее судьбы народов. Характерно, что Ронсар не только прославляет подвиги великих правителей, но и рисует в четвертой песне «Франсиады» пороки властителей из династии Меровингов, показывая жадность, жестокость, безделье и разврат королей. При этом наибольшее возмущение поэта вызывают «ленивые короли», при которых «прекрасное королевство из-за низости сердца (правителей) утратило власть и силу»31.
Патриотические цели поэта не вызывают сомнений, сама же «Франсиада» становится ко всему прочему прелюбопытнейшим памятником истории борьбы различных тенденций в историографии эпохи. Но, принимая версию германо-троянского происхождения французов и династии, и одновременно подчеркивая роль Геракла Галльского в истории Галлии, Ронсар не отказывается от мифа, что уже полностью не соответствовало уровню развития историографии, опиравшейся полностью на письменные источники и отошедшей от мифов. Напротив, во второй половине века можно говорить о попытках мифологизации истории, точнее о тенденциозной мифологизированной интерпретации исторических фактов во имя политики. Однако, судьба «Франсиады» была решена и событиями сопровождавшими выход в свет первых четырех песен поэмы: к несчастью, они были опубликованы через месяц после Варфоломеевской ночи.
Тираноборцы, порвав с идеей верности королевской власти, обрушиваются на этот, в общем-то наивный историко-культурный миф, ставший в их глазах политической основой, на которой покоилась идея об извечной власти царствующей династии и неограниченности ее, – а именно, – теория божественного права королей. Идеологи тираноборчества при сохранении уже сложившейся концепции этногенеза и древнейшего синтезного происхождения французского народа, стремились разработать иную концепцию происхождения французской государственности. Отсюда, их недвусмысленно выказываемое презрение к Троянскому мифу в новом обращении к истории раннего средневековья, колыбели французской нации и государства.
Именно с новой ситуацией и был связан не только интерес к истории раннего средневековья, но и вполне сознательное и целенаправленно обновленное конструирование уже не историко-культурных, а чисто политических мифов на основе ранней истории франков. Огромную роль в этом деле сыграло программное сочинение гугенотской партии «Франкогаллия». Его автор Ф. Отман опирается на идеи, высказанные вполне благонамеренными католическими историками эпохи, но их стремление к исторической истине, отказ от легендарного материала и, главное, опыт анализа данных письменных источников он использует в политических целях.
Объективно достижения историографии и опровержение Троянского мифа приводят к созданию новых мифов, на сей раз чисто политических, но уже на иной, исторической основе – с обращением к эпохе перехода от античности к средневековью, тоже необеспеченной достаточно достоверной исторической информацией. Сознательно или подсознательно авторы этих трудов использовали историю в качестве средства политической мифологии, пытаясь в то же время эти мифы по мере возможности укоренить в национальном опыте прошлого.
Ярким примером подобных сочинений стала «Франкогаллия». Интерпретация исторических источников, а иной раз «выдергивание» цитат и подгонка их под нужды автора и предоставляет ему возможность конструирования целого ряда политических и исторических мифов. Задумывалось оно как историческое сочинение, содержание которого должно было служить доказательством незаконности абсолютистских порядков.
Огромную роль в историко-политических взглядах Отмана играет решение им проблемы этногенеза французов. Характерно, что Отман начинает изложение своей версии генезиса французского народа и государственности даже не просто с решительного отрицания Троянского мифа, но с яростного и издевательского высмеивания его.
Произведение было посвящено по преимуществу анализу истории государственных учреждений и их становлению на заре рождения французского государства. В традициях исторической и политической науки XVI века Отман широко обращается к опыту исторического прошлого, институциональной истории и на основании сравнения политических учреждений прошлого и современности делает ряд основополагающих выводов по проблеме политических перспектив развития страны. Апеллируя к ранним этапам истории французского государства, Отман поднимает проблему этногенеза французов и возникновения франкского государства, а также вопрос о роли Римской империи в истории народов, заселявших некогда территории Франции (то есть галлов и германцев). Отман утверждает, что галлы и франки развивались в теснейшем контакте, обусловленном этнической близостью и одинаковым пониманием проблемы свободы и прав народа. Доказательством этнической близости становится близость языков этносов; во всяком случае, по мнению Отмана, «галлы во времена Цезаря являлись единственными, кто разговаривал на германском языке»32. Он настаивал на принадлежности франков к германским народам, связывая формирование франкской народности с борьбой с римской империей. Само понятие «франкогаллы» вводится и употребляется им как термин для характеристики нового особого этноса, зарождающегося после появления в Галлии германцев-франков в результате постоянных контактов с галлами. Этнос характеризовался наличием определенных социальных и политических традиций. Новой была лишь постановка вопроса о соотношении германских, кельтских и романских традиций и элементов в процессе становления законов и порядков, обычаев и традиций французского народа и государства. Речь идет уже не столько о противопоставлении древних германцев римлянам или о выяснении вопроса от кого именно произошли французы, сколько о создании мифологизированной картины этногенеза французского народа, характеристика его национальной идентичности дается в контексте с описанием борьбы с извечным врагом – римлянами.
Характерно, что Отман провозглашает единство галлов и франков в этой борьбе и ни слова не упоминает о возникновении галло-романской народности накануне вторжения франков. Говоря о приходе франков, он не сообщает о том, что они поселились в Галлии как федераты, а не самовольно обосновались там путем завоевания. Самым важным тезисом, выдвинутом в этом историко-этнографическом экскурсе являлось положение об извечном свободолюбии франков.
Главный миф «Франкогаллии» – миф о франках и галлах, поскольку именно с образами этих двух народов автор связывает все свои остальные тезисы. Особое внимание он уделяет галлам как коренному населению будущей Франции. При характеристике их Отман подчеркивает, прежде всего, былую силу, воинственность и могущество галлов, а также свободолюбие и отчаянную борьбу за свою свободу. Это объясняется в трактовке Отмана их совершенно исключительным государственным строем – наличием народовластия: Именно в Галлии, утверждает Отман, и восторжествовал впервые принцип народного суверенитета, который мог делегироваться народом королю: «эти царства, прежде всего не являлись наследственными, но доверялись народом кому-либо из тех людей, кто был прославлен как справедливый человек»33. Отман также напоминает, что галлы несколько столетий сопротивлялись Риму, ненавидели его владычество и жестоко страдали под властью Рима: «Трудно даже вообразить себе тот стыд и горечь, с которыми галлы сносили коварство римлян и как же часто они восставали против римлян»34. Галлы изображаются как главные борцы против римской империи: «они оказались первыми в мире, кто начал сбрасывать с себя ярмо столь могущественного тирана и требовать для себя освобождения от рабства у столь чудовищного изверга».
Именно страсть к свободе в изображении Отмана сближает галлов с франками, и благодаря призыву одних в Галлии появились другие: «А поскольку у них не хватало своих воинов, чтобы низвергнуть римскую тиранию, то они использовали древнейший опыт – брать на службу германских наемников, призывая их к себе на помощь»35. Творя новый миф при попытках нового исторического анализа, Отман характеристизует франков как поборников свободы, почти уподобляя их образу галлов. Франки изображены как народ, превосходящий все прочие по своей страсти к свободе, в том числе и остальных германцев. Этим определено даже их самоназвание: «те, кто оказался величайшими вождями и поборниками вновь обретенной свободы, назвали себя франками, что у германцев означает «свободные», «не испытавшие рабства».
Франки в силу этого презирают тиранию Рима и всегда готовы к борьбе с тиранией. Отсюда и весьма вольная интерпретация проблемы появления франков на территории Галлии: «Когда франки покинули свою собственную территорию с этими намерениями, они освободили Галлию, как и свою германскую родину от римской тирании, и, перейдя Альпы, освободили большую часть Италии»36. Более того, франки в изображении Отмана руководствовались в своих действиях исключительно страстью к всеобщей свободе, а потому «франков называли правильно, так как они свергли рабство, установленное тиранами, и сочли долгом сохранить свою почетную свободу, хотя и жили тогда под властью королей»37. Хотя исторические франки, как известно, поселились на территории Галлии как федераты с санкции имперских властей и охраняли империю от вторжений, Отман доказывает, что племя прибыло, во-первых, по нижайшей просьбе коренного населения (галлов), а во-вторых, с целью уничтожения римского владычества и тирании. «наши предки поистине являлись франками, а, значит, подлинными стражами свободы; они не подчинялись по своей воле власти какого-либо тирана или палача, который мог бы относиться к своим гражданам так, как если бы они являлись скотом. Напротив, они ненавидели всякую тиранию и в особенности господство любого тирана по турецкому образцу»38.
Политический смысл новой мифологии сомнений не вызывал – предельно тенденциозная трактовка истории прошлого призвана была служить конкретным политическим задачам. Апология древнейших порядков и прославление мудрости предков сопровождались призывами к возвращению к установлениям этих предков: «Ясно, что наши предки были удивительно мудрым народом и сумели прекрасно оформить управление страной. И если уж я в чем-то не сомневаюсь, так это в том, что единственное лекарство от всех наших бед (состоит в том), чтобы изменить наш образ жизни, воссоздав его по образу и подобию доблести тех великих людей и возвратить наше извращенное государство к прекрасному согласию, существовавшему во времена наших предков»39.
Помимо проблем этногенеза во «Франкогаллии» предметом исследования и мифологизации становится история государственных учреждений страны. В этом плане на основании анализа событий эпохи Меровингов и Каролингов Отман развивает два основных положения: 1) существование электоральной центральной власти со времен легендарных королей и до Людовика XI включительно и 2) господство принципа народного суверенитета со времен первых Меровингов. Верховная власть (вплоть до пришествия Капетингов) передавалась только волей всего народа: «королями франков в древности становились по согласию и избранию народа, а не по праву наследования»40. Более того, верховным правом народа автор провозглашает и право сопротивления центральной власти, якобы также осуществлявшееся при Меровингах и Каролингах. Именно в передаче верховной власти в руки представителей он видит исключительность государственных учреждений во Франции и связывает их возникновение, а заодно и «обычаев, которым следовали наши пращуры в древности»41 с эпохой раннего средневековья. Восторги по поводу мудрости и доблести предков галлов и франков сопровождались постоянными напоминаниями о древности этих обычаев. Отсюда и совершенно исключительный накал в выпадах против своих оппонентов. Отман убеждает читателя в том, что предки французов вполне сознательно создавали смешанное государство, поскольку они «при учреждении королевства Франкогаллии следовали за суждением Цицерона о том, что наилучшее государство то, в котором соединены все три вида правления»42.
Одним из важнейших политико-исторических мифов «Франкогаллии» является миф о роли «общественного совета», причем автор ловко пролонгирует само существование сословного представительства, бесконечно повторяя, что оно существовало еще до правления Хлодвига: «Наши предки при создании государства обошли эти трудности так, как если бы они избегали опасных падений и установили, что государство будет управляться общим собранием всех сословий». Более того, читателям настойчиво внедрялась в сознание мысль о том, что сословное представительство извечно, при этом ссылок на франков оказалось мало. Отман доказывает наличие такого совета в Галлии еще до появления там римских легионов Цезаря: «впервые этот обычай стал использоваться в нашей свободной и древней Галлии, поскольку она управлялась собранием избранных людей»43.
Еще один миф Отмана – миф о зловещей роли всего, что имеет отношение к Риму как злейшая тирания с целью насильственной ассимиляции галлов: «сколь жестоким и бесчеловечным было владычество римлян, сколь свирепы были их разбои, сколь чудовищны были их злодейства, сколь омерзителен и ужасен был образ жизни римлян и сколь ненавистны и отвратительны они были жителям Галлии, и в особенности христианам»44. Для создания антиримских настроений Отман просто игнорирует такие факты прошлого как существование галло-римской народности ко времени появления там германцев, а также наличие на территории Галлии других германских племен (вестготов и бургундов). Миф о вредоносности римского влияния для населения Галлии во все времена усиленно поддерживается Отманом на самых разных временных примерах, нередко в связи с совершенно не имеющими отношения к римскому владычеству событиями. Отман выявляет специфические идентичные черты галльской и франкской государственности, обусловленные близостью менталитета обоих этносов: «следует отметить, что эти королевства не являлись наследственными, но передавались по воле народа кому-либо, кто имел репутацию справедливого человека, и кроме того, короли не пользовались неограниченной свободой, но находились под контролем особых законов, вследствие чего они оказывались под властью и могуществом народа не в меньшей степени, чем народ был под их властью»45. И в последующей полемике речь шла о таких проблемах как происхождение франкских племен и населения Галлии, характер общественной жизни и политической организации населении Галлии в дофеодальные времена, роль и значение Салического закона, при этом создавались новые мифы эпохи гражданских войн отличались разнообразием, и в системе пропаганды активно использовалась новая мифология. Эта мифология оказалась тесно связана с проблемой этногенеза французов и этногенеалогией правивших династий. И все же ведущий теоретик этого направления, которого впоследствии называли даже «отцом германистики» Ф. Отман, настаивавший на приоритетной роли франков в истории становления государства, нации и обычаев, выдвинул принципиально новую концепцию этногенеза французов. Он сохранил синтезную теорию происхождения этого этноса, но ввел иные составляющие – полностью отбросив троянскую версию, он настаивал на том, что в действительности происхождение французов было связано со слиянием двух народов (франков и галлов).
Следовательно, было логичным прославлять и галлов и франков; галлы объявлялись «могучим и воинственным народом», в течение долгого времени устрашавшим римлян. Но восхваление собственных предков сопровождалось принципиальным отвержением и осуждением всего, что имело отношение к римлянам; галлы и франки противопоставлялись Риму как антагонисты, и этот антагонизм объяснялся, с одной стороны, любовью к свободе, от природы присущем и галлам, и франкам и неприятием ими разврата, жестокости и коварства Рима.
По этой причине Отман рассматривает судьбы и обычаи галлов и франков по отдельности. Принципиальным новшеством является широчайшая источниковая база, явно для опровержения обвинений в фальсификации источников. Отман ссылается на данные Цезаря и излагает свою версию развития Галлии (перенесенную потом в позднейшие издания «Франкогаллии»): «Рассказывают, что до прихода Цезаря в Галлию, там почти у всех народов имелись свободные государства и ни единого ничтожного государя»46. Он подчеркивает мощь и храбрость галлов былых времен, ссылаясь на источники: «Цезарь, Полибий, Страбон, Аммиан и все остальные [писатели] рассказывали о происхождении и древности этого народа, его военных победах, развитии красноречия, а также о географии и природе страны, о частных обычаях народа». Отман уделяет несколько глав своего исследования истории древних галлов, в котором особое внимание заслуживает его рассуждения относительно структуры современного французского языка. Он вынужден отметить, что в нем сохранилось большое количество латинских слов (объясняя это системным внедрением римлянами своего языка и права), но также говорит о наличии греческих заимствований (благодаря греческим колониям на территории Галлии), а также кельтских и германских понятий. Но историческим языком древней Галлии он все же считает кельтский, близкий тому, на котором в те времена говорили в Британии (доказывая этот тезис ссылками на источники). Таким образом, и в отношении французского языка проводится идея его синтезного происхождения.
Сам факт появления на галльских территориях франков и их поселений трактуется как добровольное приглашение в целях борьбы с римлянами Потому-то галлы ничего не имели против сосуществования на одной территории с германскими племенами: «Ничего нет удивительного в том, что когда полчища германцев начали вторгаться в Галлию, то галлы были далеки от того, чтобы сдерживать это нашествие, но активно поддержали его». В отношении франков Отман следует уже сложившейся историографической традиции: он отмечает полное отсутствие информации источников о том, где именно они сформировались как этнос, но все же считает возможным утверждать, что «поселения франков находились неподалеку от берегов Батавии».
Естественно, что в поле зрения Отмана оказывается не только этногенез франков, но и этногенеалогия королевских династий Франции. Для него образцом и подлинной вершиной французской государственности является эпоха Меровингов, в силу этого на передний план выступает происхождение династии и происхождение самих франков. Отман конструирует особый миф об исторической роли Меровингов, основатели которых (в лице Меровея и Хильдериха) стали освободителями Галлии: «Когда франки покинули свою собственную территорию с этими намерениями, они освободили Галлию, как и свою германскую родину от римской тирании, и, перейдя Альпы, освободили большую часть Италии»47. Уже Меровей в его изображении выглядит двойственно; с одной стороны, он, по выражению Отмана, «не упустил случая» воспользоваться общей трагической для империи ситуации и привел франков в Галлию. Но его действия способствовали восстановлению галльской свободы, «когда многие государства обратились к нему за помощью, чтобы вернуть себе свободу, он занял многие кельтские города в центре страны»48. Величию легендарного короля способствует и его гибель – он пал в битве с Атиллой, «в царствование продажного и развратного государя Валентиниана III». Итак, первые франкские Меровинги проявили себя как апологеты народной свободы, боролись с захватчиками гуннами и противопоставлены низменности римских императоров.
Характерен еще один штрих: по мнению Отмана, и до Меровея и Фарамонда было множество франкских королей на территории Галлии, но они оставались чужаками и «ни один из них не достиг непререкаемой власти внутри Галлии»: королями Галлии они становятся только после восстановления свободы и доказанной представителями династии готовности защищать галлов. Даже Меровей, который «был, конечно же, королем франков», для галлов «остается чужестранцем и чужаком, который не был возведен на трон в Галлии по воле и избранию собравшихся народов». Основы законной власти Меровингов были заложены согласно Отману только Хильдерихом, который «в конце концов отвоевал свободу Галлии, освободив ее от римского рабства после борьбы, продолжавшейся более двухсот лет, и заложил твердые и прочные основы этого королевства» 49.
Короче, именно страсть к свободе и ненависть к поработителям сближают два народа и объединяют его в единое целое. А поэтому оба народа в согласии принимают единого правителя: «Первым же королем Франкогаллии, провозглашенным как франками, так и галлами на общем собрании двух народов, стал, как мы уже сказали, Хильдерих, сын Меровея». Опыт, по мнению Отмана, оказался удачным, так что «к моменту его (Меровея) смерти из двух народов – франков и галлов – уже было создано единое государство, и они единодушно избрали королем сына Меровея Хильдериха»50 при всеобщем ликовании. Изо всех этих весьма сомнительных по доказательству положений и явно тенденциозных выкладок Отман приходит к серьезнейшему историческому выводу. Он подчеркивает синтезный характер этногенеза французов и огромную роль в этом процессе германского начала: «после основания королевства Франкогалллии, «образовалась единая народность из двух, так если этот народ был дважды рожденным, а в результате их взаимопроникновения возник единый язык, а также сплавились воедино установления, учреждения и обычаи»51. Из этого вытекает весьма актуальный вывод о том, что французы как прямые наследники франков и галлов должны также сопротивляться тирании и любить свободу.
Расширяя масштабы исторической роли франков Ф. Отман, выдвигает тезис о спасительной миссии франков для Галлии, миф об извечной свободе франков и их законном праве на сопротивление королям и их низложение, – позиция, откровенно продиктованная политическими убеждениями идеологов тираноборчества (две позиции подряд это по моему слишком).
Таким образом, во второй половине XVI века наблюдается разрыв с уже сложившейся историко-культурной традицией; на передний план выдвигается история раннего средневековья, эпоха не только создает новую политическую мифологию, но отличается системным и последовательным обращением именно к национальной истории, причем чаще всего к ее раннему периоду, – колыбели народа и государственности. Само развитие исторической мысли Ренессанса во многом было обусловлено стремлением к национальной самоидентификации и ростом национального самосознания. Сохраняется типичная для XVI в. синтезная концепция и доказывается слияние нескольких этносов, проживавших в разное время на территории Галлии в единый народ и участии в этом процессе вплоть до греков и бриттов. Наконец, характерно, что в этой мифологии отчетливо проявляются прогерманские или прогалльские настроения в противовес романскому началу. Политическая идеология Франции XVI в. будь-то в варианте строго охранительных позиций или оппозиционна по отношению к абсолютизму, и неразрывно связана с формированием представлений о национальной самоидентификации французов, которую питало историческое прошлое народа. Весь менявшийся комплекс политических и культурно-исторических мифов по своей сути был нацелен на создание определенной концепции генезиса и эволюции французского народа и государственности, которая обеспечивала прославление их и доказывала древнейшее происхождение Франции и французов, и их превосходство над прочими народами и государствами Европы. Тенденциозная концепция в конечном счете служила процессу становления национальной идентичности и самоидентификации в коллективном сознании общества. Интерес к своим национальным корням определил детальное изучение древнейших традиций, культуры и языка, обращение к генезису и этногенезу французской нации, роли отдельных этносов в этом процессе. В этом процессе особое место занял анализ институциональной истории. В центре внимания при этом оказывались древнейшие факты национального прошлого, проблема национальной самоидентификации сопровождалась обращением к проблеме origo. Основой сложной политической мифологии становится проблема этногенеза, изучение которой послужило в итоге рождению национального мифа. Рецепция Троянского мифа позволяла отнести происхождение Французского королевства и первой династии Меровингов к временам более древним, чем эпоха классической античности, провозгласить синтезный характер этногенеза французов, перейти к германистской, а в дальнейшем к прогалльской концепции и наконец, к идее слияния многих этносов в единый французский народ (от кельтов и германцев до эллинов). При этом мифологическая составляющая была безжалостно отброшена, зато активно шел процесс мифологизации истории. Доказательством этнической общности становится близость не только менталитета, обычаев учреждений и черт характера, но и языков и литературы. Впервые доказывался тезис о формировании национального языка из нескольких языков и диалектов. Интерес к историческому прошлому и origo народов, литературе и языку, – как знаки нового аспекта в общественном сознании – самоидентификации демонстрировали рождение нового качества общности во Франции XVI в.
Примечания
1 Проблемам национальной идентичности и самоидентификации последние десятилетия было посвящено немало работ, из которых следует указать следующие: Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. L., 1983; Hastings A. The Construction of Nationhood, Ethnicity, Religion and Nationalism. Cambridge? 1997; Kristof L. The state idea, the national idea, and the image of Fatherland //Orbis, № 11 (spring). P. 238254; Smith A. National identity. L., 1991; Wodac R., de Cillia R., Reisigi M., Liebhart K. The discorsive constructions of National Identity. Edinburgh, 1999. Geary P. The Myth of nations. The Medieval Origins of Europe. Princeton, 2002.
2 На русский язык была переведена работа П. Берка. См. Берк П. Язык и идентичность в Италии //Новое литературное обозрение. 1999. № 2 (36), а также статью Якушкина Т.В. Петраркистский канон в контексте проблемы национальной идентичности //Итальянский сборник. СПб., 2007. № 10. С. 76–104.
3 Lestocquoy J. Histoire du patriotisme en France des origine a nos jours. P., 1968 Beaune C. Naissance de la nation Franfaise. P., 1985. P. 19. Применительно к более позднему периоду см.: Bell D. The Cult of the Nation in France 1689–1800. Princeton, 2001.
4 Beaune C. Naissance de la nation Franfaise. P., 1985. P. 19.
5 Ricius М. De regibus francorum. Basel, 1534.
6 Gaguin R. De rebus gestis francorum. P., 1514. P. 2.
7 Du Tillet J. Recuiel des roys de France, leurs couronne et maison. P., 1548. P. 7.
8 Du Tillet J. Recuiel des roys de France, leurs couronne et maison. P., 1548. P. 1.
9 Цит. по статье: Jouanna A. La quete des origins dans l’ historiographie franfaise de la fin de XV siecle et de debut du XVI siecle //La France de la fin du XV siecle. Renaissance et apogee. Р., 1985. P. 307.
10 Pasquier E. Les Recherches de la France. P., 1643. P. 37.
11 Ibid. P. 38.
12 Ibid.
13 Ibid. P. 17, 19.
14 Ibid. P. 38.
15 Pasquier E. Les Recherches de la France. P., 1643. P. 37.
16 Ibid. P. 38.
17 См. Дю Белле Ж. Защита и прославление французского языка //Эстетика Возрождения. М., 1982. Т. 2.
18 Pasquier E. Les Recherches de la France. P., 1643. Р. 791.
19 Ibid. Р. 10.
20 Ibid. P. 14.
21 Ibid. P. 5.
22 Ibid. P. 13.
23 Postel G. L’Apologie de la Gaule contre les malevolens escrivains. P., 1552; Ceneau R. Historia Gallica. Р., 1557; Ramus P Traite des moeurs et fafons des anciens Gaulois. P., 1559.
24 Об этом см. Плешкова С.Л. Франция XVI – начала XVII века. М., 2005. С. 308–309.
25 Du Bellay G. Epitoma de lAntiquite des Gaules de France. P., 1556.
26 Проблеме значения этого направления в историографии для становления национального самосознания посвящена монография Ж. Дюбуа. См.: Dubois C. Celtes et Gaulois au XVI siecle. Le developpement litteraire d’un mythe nationаliste. Р., 1972.
27 Ronsard P. Hylas // Ronsard P. Poesis choisies. P., 1969. P. 219.
28 Ibid. P. 219–220.
29 Ronsard P Elegie troisieme de Genevre // Ronsard P. Poesis choisies. P., 1969. P. 116–117.
30 Joukovsky F. Introduction // Ronsard. Poesis choisies. P., 1969. P. XXIX.
31 Ronsard. Franciade // Poesis choisies. P., 1969. P. 394 («le beau rouaume acquis par le harnois de tant d’aieux tres invincibles rois, par la sueuer de tant de ca-pitaines, par sang, par discours, et par peines, tout en un jour par lachete de coeur perdra puissance, accroissance et vigueur»).
32 Hotman F. Francogallia. Cambridge, 1972. P. 158.
33 Ibid. P. 154
34 Ibid. P. 178.
35 Ibid.
36 Ibid. P. 204.
37 Ibid. P. 202.
38 Ibid. P. 342.
39 Ibid. P. 142.
40 Ibid. Р. 230.
41 Ibid. P. 266.
42 Ibid. P. 294.
43 Ibid. P. 302.
44 Ibid. P. 180.
45 Ibid. P. 178.
46 Ibid. P. 216.
47 Ibid. P. 214.
48 Ibid. P. 216.
49 Ibid.
50 Ibid. P. 216.
51 Ibid. P. 284.
Эльфонд И.Я.
II. IV. Британская идентичность и композитарная монархия в раннее Новое время[4]
Формирование национальных идентичностей в условиях композитарных или составных государств раннего Нового времени отличалось от характеризовавшего унитарные государственные образования процесса. Речь идет не столько о постепенной кристаллизации коллективной идентичности, вытеснявшей прежние варианты этнокультурного и этнополитического самоопределения консолидируемых таким образом народов. Более важными оказываются присущие этой форме самосознания особенности. Неразрывно связанная с потребностями нового государства и, как следствие, ориентированная на доминирующую культурно-историческую перспективу, она оставалась не только этнизированной идентичностью, но и в более развитых вариантах могла окрашиваться в расистские тона.
Намечавшиеся такой перспективой тенденции подразумевали выдвижение на передний план всего многообразия известных форм самоопределения культурно и политически лидирующего этноса. При этом традиционные ценности других, т. е. в рамках самого процесса – адаптирующихся этносов – позиционировались в качестве изолируемых: их историко-культурное значение признавалось, но объединяющая функция нейтрализовалась. Эпохалистски ориентированная коллективная идентичность сохраняла эссенциалистски настроенные идентичности в качестве периферийных1.
Формирование британской идентичности проходит несколько последовательных стадий. 2 В настоящей главе речь пойдет о периоде, нижняя граница которого намечается во второй половине XVI века, а верхняя – в конце XVIII столетия. Именно в этот период культурным, территориальным и языковым категориям самоидентификации и, отчасти, социальной принадлежности, характеризовавшим отношения внутри и между различными этническими группами и образованиями Британских островов, стала противопоставляться искусственно сконструированная концепция «политической» этничности.3 Прежнему этническому партикуляризму стали противопоставляться более общие, пока еще туманные, но вполне насыщенные концепты коллективной идентичности, которые ориентировались на интуитивно-смутное чувство общей судьбы или истории. Такое противопоставление определяло, по меньшей мере, два существенных последствия. С одной стороны, происходила поэтапная институционализация особых интеллектуальных групп (антиквариев, юристов и богословов, а начиная с Якова I Стюарта – герольдов, поэтов, драматургов и т. д.), которые идентифицировали свою последующую деятельность с перспективами последовательного воплощения увязываемых с таким противопоставлением задач. С другой стороны, креативная деятельность этих групп определяла цепь культурных, эпистемологических и политических преобразований, открывавших перспективу для последующего оформления более структурированного националистистического дискурса первой половины XIX века.4
Продвигаясь по этому пути, такие интеллектуальные группы пытались преобразовать систему символов, сквозь призму которых англичане, шотландцы, ирландцы, валлийцы и прочие обитатели туманного Альбиона воспринимали социальную действительность, пытаясь ее преобразовать. Независимо от комплекса стоявших перед этими группами задач, их главная цель сводилась к конструированию особого коллективного субъекта, с которым органично увязывались действия верховной власти. Речь шла о формировании или попытке создания эмпирически нацеленного «мы», представителем которого должна была стать сама, теперь уже британская монархия. После 1603 года как таковая, эта задача, сводилась к вопросу о внутреннем содержании, относительной важности и смысловом соотношении двух теперь уже широко известных абстракций: назову их условно – «британскостью» и «композитарной монархией».5
Акцент на первой из них означал обращение к «традиции», «культуре», «самобытному характеру» или даже к «расе». Акцент на второй подразумевал выявление общих контуров современного им исторического процесса и, в особенности, того, что считалось преобладающим направлением и значимым фактором этого процесса, т. е. самого процесса государственного строительства. В самой общей форме вопрос о том, «кто мы такие», означал особую систему символов, использование которых актуализировало не только деятельность верховной власти в переломный для нее период, но и повседневную жизнь различных подданных монарха. При этом этнополитический дискурс, построенный на основе символических форм, взятых из местных традиций, был дискурсом эссенциалистски и отражал субъективную сторону создания коллективной идентичности. Такой дискурс был в психологическом плане достаточно близким тем этнокультурным образованиям, для которых он предназначался. Его социальные последствия оказывались изоляционистскими, поскольку не учитывали специфики современного момента. Этнополитический дискурс, построенный на основе форм, присущих главному направлению развития современной истории, т. е. задачам развития композитарной монархии, был по существу эпохалистским и отражал объективную составляющую самого процесса. Его социальные последствия, как правило, были антии-золяционистскими, а в психологическом плане этнокультурные группы воспринимали его, судя по всему, как навязанный извне. Как правило, сочетание обоих дискурсов в практике верховной власти обеспечивало для нее определенный «культурный баланс».
Приспособление или движение к искусственно создаваемой коллективной идентичности, с одной стороны, сопровождалось обострением напряженности между различными этнокультурными группами в обществе. С другой – происходило своеобразное «смягчение» сложившихся культурно-исторических форм, не исключавшее их специфического контекста, а также их последующего превращения в универсальный критерий, определявший лояльность таких групп к верховной власти. Именно таким образом осмысленные традиционные культурно-исторические формы обретали, как представляется, обновленное, т. е. исключительно политическое звучание.
Напряженность между дискурсами, опирающимися, с одной стороны, на традицию, а, с другой – на современные формы, опосредующие существование композитарной государственности, не ограничивалась интеллектуальными пристрастиями тех или иных креативно настроенных групп. Ее реальное значение определялось сочетанием таких предпочтений и нарастающих противоречий между обновленными в ходе таких преобразований социальными институтами, перегруженными на начальном этапе общественной трансформации разноречивыми культурными смыслами.
Британская идентичность, таким образом, не исчерпывалась создающими ее дискурсами. Образы, метафоры и риторические фигуры, на основе которых выстраивались такие дискурсы, были своеобразными культурно-логическими инструментами, используемыми для того, чтобы раскрыть возможные проявления формирующейся коллективной самоидентификации.
Сложилось так, что в условиях полиэтнических и к тому же композитарных государств взаимное переплетение эссенциалистских и эпоха-листских дискурсов, а также характерных для них практик всегда перегружалось интересами перестраивающегося государства. В этом смысле позиция ориентированных на традиционные формы дискурсов почти всегда проигрывала ориентированным на современный процесс стратегиям. Британская идентичность в том виде, в котором она сформировалась к концу XVIII века, была тому убедительным подтверждением.
Британский концепт, обозначавший реальные и смысловые границы ориентированного на него коллективного субъекта, и сам коллективный субъект, был подчинен определенным социально-культурным рамкам, объем и символическое значение которых актуализировали, прежде всего, составной характер самого британского государственного организма. Гальфридианский миф с его сугубо эссенциалистским содержанием, но при этом прочитанный и интерпретированный с эпохалистских позиций, выполнял не только функцию подобных социально-культурных рамок, но и примирял неизбежные в таком случае противоречия. Выражаясь языком К. Гирца, именно он обеспечивал своеобразный культурный баланс власти.
Начну с самого главного. Само понятие «британский» распространялось исключительно на территориальные владения композитарной монархии и, как следствие, но с некоторыми оговорками – на саму монархию, с известным напряжением уже при Генрихе VIII Тюдоре и куда более последовательно – при Якове I Стюарте. Вплоть до 1760-х годов это понятие покрывало, за исключением заморских территорий монархии – всю основную часть британского архипелага6. В этом смысле любая ассоциация с «британским» приобретала особый территориальный оттенок или же ориентировалась на ее островной характер, т. е. была инсулярной. Британский архипелаг был главным объектом воображаемого единства. Сформированный или сформировавшийся субъект подобной идентичности, т. е. собственно британцы, пока еще отсутствовал.
Эпохалистски настроенный дискурс содержал взамен, казалось бы, естественного «бритты» или более широкого «кельты» – достаточно громоздкую конструкцию, в которой этноним «англосаксы» или более широкое понятие «германцы» занимал доминирующую позицию. При этом бритты или кельты сохраняли статус этноплеменного образования (тем самым обеспечивалась незапамятная традиция), а англосаксы или германцы, оставляя за собой нетронутой известную часть их этноплеменной истории, обретали статус этносоциального и этнополитического образования, реализуя и обеспечивая статус самой Англии (и, должно быть, в последующем англичан) внутри композитарной триады. В данном случае англосаксы и бритты оказывались частями или элементами полиэтничной группы, в которой германские племена исполняли роль старшего брата, а остальные элементы оставались на «младших» позициях. При этом ни один из элементов этой полиэтничной группы, связанный между собой узами генетического (кровного) родства, не мыслился в качестве самостоятельного и воспринимался исключительно в категориях родовой близости.
Напомню, что интерпретируя гальфридианскую версию создания «британской» империи уже тюдоровская пропаганда исходила из того, что после смерти ее основателя – легендарного Брута она превращается в подобие составной монархии, оставаясь разделенной между его тремя сыновьями. Старший из них – Локрин, управляя Англией (Лоегрией), достиг невероятных успехов, при этом его младшие братья Альбанакт и Камбр, получившие по наследству Шотландию (Альбанию) и Уэльс (Валлию) соответственно, признавая его достижения, принесли ему оммаж и тем самым признали главенство английского трона. В дальнейшей перспективе состав уже постбрутских модификаций композитарной монархии неоднократно изменялся, но при этом отношения между ее отдельными композитами каждый раз повторяли подпитанную идеями старшинства исходную схему: Англии либо принадлежала инициатива нового образования, либо заново объединяющиеся территории, так или иначе, признавали ее политическое верховенство.
Среди британских интеллектуалов вплоть до конца XVIII века отсутствовало ярко выраженное стремление к четкому разграничению этнической и культурной природы кельтов и германцев7. Господствовавшие в среде англоязычных антиквариев подходы к истории британских этносов во многом опирались на ветхозаветные тексты, а также доступные к тому времени античные памятники, прежде всего, сочинения Плиния Старшего и открытого для европейцев в XV веке Тацита. Оба из них, как известно, не проводили четкой границы между кельтами и германцами и предпочитали описывать их собирательно, различая их не столько этнически и культурно, сколько географически, т. е. как народы, живущие к северу от Рейна.
Насколько можно судить, значительная часть «этнографических» экскурсов XVI–XVII веков во многом реализовала принципы географического испомещения кельтов и германцев, представленные в основном в текстах римских авторов, и через этот весьма доступный в инструментальном плане прием реализовывала искомую близость двух этнических образований8. При этом анализ усиливался этимологией этнонимов, при всех возможных различиях допускавшей наличие дополнительных аргументов, которые усиливали степень родства между тевтонскими и кельтскими народами.
Чаще всего использовалась развернутая схема Плиния Старшего и, в частности, его описание ингевонов. Как известно, эта группа германских племен состояла из кимвров, населявших север Ютландского полуострова, тевтонов, обитавших на западном побережье Ютландии и в низовьях реки Эльбы, а также племен хавков, оккупировавших северо-западные границы современной Швейцарии.
Все эти народы, согласно более поздней легендарной традиции, возводили свою родословную через Инге и Мана к Туискону, согласно Аннию из Витербо, одному из сыновей Гомера и, следовательно, внуку Иафета.9 Латинские этнонимы этих племен давали почву для возможных уточнений. Между названием «cimbri» и самоназванием валлийских «cambri» усматривалось семантическое и генетическое родство. Между латинским «causi», обозначавшим в классификации Плиния ингевонских хавков, и этнонимом ирландских «cauci» также обнаруживались естественные параллели.10 При этом зоны расселения племен в Ютландии, Уэльсе и Ирландии объявлялись в силу возможных перекрестных отождествлений зонами исторического (незапамятного) сосуществования германских и кельтских племен. При этом возможность именно таких перекрестных отождествлений усиливалась родством двух родоначальников истории обоих этносов. Согласно псевдо-Беросу,11 ими считались два единокровных брата Туискон и Самот, что позволяло авторам настаивать на определенных сопредельных формах культурной диффузии, подразумевавшей особые формы кельтизации германских племен и германизации кельтских племен как во времена их континентального сосуществования, так и уже островного периода12 истории (хотя бы на уровне доступных к тому времени для анализа языковых форм и практик). Дэвид Лэнгхорн писал: «Германцы, которые по существу представляют собой кимбрийцев или же гомерианцев, являются на этом основании родственным галлам народом, переселившимся на эти два острова (речь идет об Англии и Ирландии), и от которых, как утверждает Тацит, происходят наши каледонцы; точно также само название ирландских caud [кавки: у Птоломея занимают территорию современных графств Уиклоу и Дублин] подтверждает их происхождение от германских chaici [хавки – родственный фризам, саксам и англам народ – после III в. объединился с саксами и более в качестве самостоятельного не упоминался: в XIX в. Лоренц Дифенбах отождествил их с ирландскими кавками]».13
В антикварном дискурсе второй половины XVI–XVIII вв., как представляется, отсутствовали реальные основания для конструирования панкельтской (бриттской) идентичности. В этом смысле полноценный тевтонский расизм и панкельтизм были детищами пост-библейского, характерного уже для XIX в. подхода к исследованию этничности.
Начиная с конца XVI – начала XVII веков представления о культурном и территориальном сосуществовании кельтских и британских племен стали подпитываться идеями североевропейского готицизма, влияние которого ощущалось как в его наиболее раннем варианте (выступления Николаса Рагвальди на Базельском соборе), так и в уже современной описываемым явлениям версии (Франциск Иреник в Германии, Иоханн и Олаф Магнусы в Швеции).
Это влияние было связано с попытками установить степень преемственности и ореол распространения свободолюбивых нравов и демократических институтов германцев. При этом его этно-библейский момент также имел определенное значение.14
Английские интеллектуалы были увлечены поиском различных оснований влияние германского и, в частности, готского элемента в постпотопном расселении народов, обсуждали, какое место германский язык занимал во времена Вавилонской башни, применяли эвгемерические подходы при анализе тевтонского пантеона как возможного основания для приведения в соответствие германской древности с историей многочисленных потомков Ноя.15
Такой подход получил последовательное воплощение в трактатах Ричарда Верстергана (1565–1620), который полагал, что германский язык был «отрезан» Туисконом от прочих языков Сеннаарской долины, а после исхода древних германцев из Южной Вавилонии стал достоянием многочисленных народов Европы и Северо-Восточной Азии (согласно Линию из Витербо, Берос упоминал еще 30 отсутствовавших в тексте Писании детей Ноя, рожденных после потопа, среди которых был Туискон). Уже под предводительством Водана германские племена освоили крайние пределы Северной Европы и уже оттуда расселились по территории Британских островов, смешавшись с родственным им населением бриттов. Приход саксов и англов был вторым в истории острова приходом германцев. Он только усилил и без того значительное по численности германское население Альбиона.16
Тезис об общем происхождении укреплял идею незапамятного континуитета. Такой маневр в конструировании коллективного субъекта легко объяснялся последующим тиражированием приписываемых ему культурно-исторических феноменов – и в первую очередь – церковной организации и государственных институтов, определявших структуру уже более общего – коллективного объекта британской идентичности.
Конструирование первого важнейшего элемента, составлявшего объект коллективной британской идентичности, также сопровождалось известным сочетанием эпохалистских и эссенциалистких дискурсов. Так же как и в случае с коллективным субъектом наблюдалась тенденция к поиску определенных оснований для создания определенного культурного баланса власти, но и известным акцентом на его англосаксонской составляющей.
Наиболее последовательной выглядела попытка представить историю политических институтов, как более или менее непрерывное развитие особого типа британских представительных учреждений и тесно связанных с ними институтов общего права. В этом смысле доминировало представление, что англосаксонский гемот был институциональной матрицей сословного представительства последующих веков и основой сугубо британского типа смешанной монархии.17 Однако матрицей, чье последующее развитие не противоречило существовавшей у бриттов практики больших королевских советов, а лишь усовершенствовало находившиеся в их основании компоненты.
Когда представления о континуитете уступали место конструкциям, основанным на принципах культурного разрыва, тогда элементы, которыми обрастала эта матрица, воспринимались и позиционировались как искусственные, второстепенные. От этих элементов укрепившаяся при англосаксах представительная система с легкостью избавилась уже в XIII веке.
Второй элемент коллективного объекта – особая форма церковной организации также получала весьма симптоматичное освещение. Несмотря на влияние, которое англосаксонская доминанта оказывала на формирование коллективного субъекта, а также на один из двух важнейших элементов коллективного объекта, представления об истории британской церкви и островного варианта христианства оказывались почти сугубо эссенциалистскими, т. е. ориентировались в своей основной части исключительно на кельтские древности. Независимо от своего эссенциалистского содержания, они, тем не менее, обеспечивали все тот же необходимый в процессе создания коллективной идентичности культурный баланс верховной власти.
Инсулярная церковь считалась исключительно апостолическим институтом. 18 В качестве ее основателей традиция называла Симона Зилота, апостола Филиппа, Иакова сына Заведеева, Иосифа Аримаф ейского, Аристовула, Павла, некоторых других учеников и сподвижников, но никогда апостола Петра. Выдвигая эти предположения, они, как правило, приводили весьма противоречивые и фрагментарные сведения из Тертуллиана (о том, что уже до прихода римлян некоторые отдаленные области Британии находились под влиянием христианства) и Гильды (об обращении бриттов еще во времена императора Тиберия). Так или иначе, но англиканские авторы увязывали раннюю историю британской церкви с ближайшим окружением Христа. В этом смысле такая церковь обязательно возникает независимо от римской церкви и в этом плане основывается на принципах изначальной чистоты и равенства. Уже Беда отмечает, что бриттская церковь праздновала Пасху, скорее, по восточному образцу, нежели по тем канонам, которые утверждались западной церковью (например, Фокс утверждал, что бритты, скорее всего, восприняли церковное учение от греков, а не от римлян).
Историки утверждали, что бриттская церковь уже в ранний период своего существования состояла из трех провинций (Йоркской, Лондонской и Карлеонской). С приходом саксов бритты переместились на запад – в валлийские земли, где их церковь управлялась семью епископами во главе с епископом Карлеона. Августин, посланный папой Григорием с тем, чтобы обратить кентских саксов во главе с их королем Этельбертом, достиг определенных успехов и даже основал свою резиденцию в Кентербери. При этом бриттские епископы, отказавшись ему подчиниться, отстояли независимый статус вверенной их заботе церкви. В знаменитой полемике с Августином валлийский аббат Диннот Бангорский, как известно, отверг любые претензии Рима на объединение церквей, полагая, что бриттские христиане обязаны римскому папе не более чем кому-либо из других христиан19. Как следствие, британское христианство сохранилось в неизменном виде на протяжении многих веков в валлийских землях. При Генрихе I валлийская церковь, т. е. истинная церковь британских островов, лишившись значительной части своих земельных владений, была инкорпорирована в состав того, что принято называть «Ecclesia Anglicana», но после нескольких столетий Генрих VIII – монарх с валлийскими корнями, восстановил валлийскую церковь в ее первозданной чистоте.
Примечания
1 Гирц К. Интерпретация культур. М: РОССПЭН, 2004. C. 222–243.
2 Julios Ch. Contemporary British Identity. English Language, Migrants and Public Discourse. London: Ashgate, 2008. P. 6–10.
3 British Consciousness and Identity. The Making of Britain, 1533–1707/ Ed. by B. Bradshaw and P. Roberts. Cambridge: CUP, 1998. P. 1–8
4 Colley. L. Britons Forging the Nation, 1707–1837. London: Pamilco, 2003. P. 20–23
5 Федоров С.Е. «Restored to the Whole Empire & Name of Great Briteigne»: композитарная монархия и ее границы при первых Стюартах // Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее Новое Время/ Под ред. Н.А. Хачатурян. М.: Наука, 2011. С. 202–225.
6 Higgs E. Identifying the English. London: Continium, 2011.
7 Cidd K. British Identities before Nationalism. Ethnicity and Nationhood in the Atlantic World, 1600–1800. Cambridge: CUP, 2003. P. 34–52.
8 Piggott S. Celts, Saxons and the Early Antiquaries. O’Donnell Lecture. Edinburgh: EUP, 1967. P. 80–86.
9 Piggott S. Celts, Saxons… P. 21–22. Asher R. National Myths in Renaissance France. Edinburgh: EUP, 1993. P. 196–227.
10 Gruffydd R. The Renaissance and Welsh literature // The Celts and the Renaissance / Ed. by G. Williams and R. O. Jones. Cardif, 1990. P. 18–33.
11 Asher R. National Myths.P. 202.
12 Rowlands H. Mona antiqua restaurata. Dublin, 1723. P. 202–207.
13 Langhorne D. An introduction to the history of England. London, 1676. P. 202.
14 Neville K. Gothicism and Early Modern Historical Ethnography // Journal of the History of Ideas. 2009. Vol. 70. N. 2. P. 213–234.
15 Jones R. The circles of Gomer. London: Society of Antiquaries, 1771.
16 Verstegan R. A restitution of decayed intelligence. London, 1634. P. 9. Jones R. The circles of Gomer.P. 56–93. Saltern G. Of the antient lawes of Great Britaine. London, 1605. P. 16.
17 Saltern G. Of the antient laws.. P. 56–64.
18 Hearne T. A collection of curious discourses. 2 vols., London, 1773. Vol. II. P. 152–175.
19 Basire I. The ancient liberty of the Britannick church, and the legitimate exemption thereof from the Roman patriarchate. London, 1661.
Федоров С.Е.
II.V Самоидентификция английской нации в парламентских дебатах второй половины XVI – начала XVII в.
При постановке вопроса о национальной идентичности в период Средневековья и Раннего Нового времени, в эпохи, не знавшие средств массовой коммуникации, одним из самых интересных аспектов этой темы представляется проблема механизмов, которые способствовали формированию и закреплению в общественном сознании определенных представлений о собственной нации, их широкой «трансляции» и превращению в топосы политического языка. Как правило, исследуя эти вопросы, историки в первую очередь обращаются к разнообразным текстам (историческим трудам, политическим трактатам, воззваниям, прокламациям, литературным произведениям), которые, с одной стороны, отражали этапы становления этнического и национального самосознания, с другой – служили средствами формирования последнего. Значительно меньше внимания уделяется роли различных публичных институтов и форумов, в частности, представительных органов, которые нередко оказывались действенными инструментами складывания коллективной идентичности. Цель данной главы – привлечь внимание к коммуникационной функции таких органов и к их роли в процессе осмысления основных составляющих национальной идентичности, на примере дебатов в английском парламенте второй половины XVI – начала XVII в.1
В этот период английский парламент в отличие от многих континентальных представительных учреждений регулярно созывался и активно действовал, осуществляя законодательную, судебную и политическую функции. Он являл собой авторитетный форум «политической нации», обеспечивавший возможность контакта и обмена мнениями между королевской властью и представителями различных социальных элит – локальных, региональных, профессиональных. В ходе обсуждения важнейших политических, религиозных, экономических и финансовых проблем формировались не только подходы к их практическому решению, происходило также становление определенного «политического языка», специфической парламентской риторики, оказывавшей огромное воздействие на английскую политическую культуру в целом.
В ходе парламентских сессий постоянно воспроизводились одни и те же ритуальные ситуации, предполагавшие произнесение речей, имевших сходную структуру, логику и топику. Это выступления канцлеров королевства в момент торжественного открытия сессии, речи спикеров в ходе многоступенчатой церемонии избрания председателя палаты общин, а также при представлении им законопроектов, принятых парламентом, на монаршее утверждение. Наконец, это традиционные речи лордов-казначеев по поводу финансового положения страны и необходимых налогов. Подобные выступления, повторявшиеся в каждую сессию, постоянно воспроизводили определенную официальную трактовку положения дел в стране и предлагали интерпретацию природы английской «политии», принципов взаимодействия между короной и подданными. Анализ всей совокупности «речевых актов», имевших место в ходе дебатов, убеждает в том, что теоретические подходы и риторика авторитетных государственных деятелей оказывали заметное влияние на умонастроения английской политической элиты и состояние общественного мнения. Немалое место в парламентском дискурсе занимали и проблемы, связанные с национальной идентичностью англичан.
Тема патриотизма, национального своеобразия Англии неизменно присутствовала в парламентской риторике. В «оркестровке» отдельных сессий она могла распадаться на несколько самостоятельных мотивов, которые в итоге сливались в мощный гимн, прославлявший исключительность богоизбранной английской нации. Тезис о ее избранности зиждился на убеждении в том, что благодаря реформации Генриха VIII, продолжившейся при его сыне Эдуарде, страна приобщилась к истинной вере. После непродолжительного периода контрреформации Марии Тюдор реформированная церковь была восстановлена королевой Елизаветой. Этому акту, в котором парламент принимал самое непосредственное участие, придавалось огромное значение. В программных речах канцлеров королевства и в проповедях по случаю начала парламентской сессии постоянно обыгрывался мотив возвращения страны на стезю протестантизма, что обеспечивало англичанам моральное превосходство над иными народами, приверженными ложной религии, коснеющими в заблуждениях и суевериях.
Особое расположение Господа к Англии выразилось в том, что он даровал ей благочестивую правительницу, мужественную в период гонений, возвратившую народу христианскую свободу и возможность спасения души. В интерпретации парламентских ораторов королева была «правой в очах Господа», героиней, подобной ветхозаветной Эсфири или Деборе.2 Она – спасительница нации, которая обеспечивает своей стране разумное, справедливое правление, процветание и мир, однако немаловажно, что Провидение посылает ее англичанам в награду за осознанный выбор ими истинной веры.3
Парламентские ораторы неизменно настаивали на мистической связи между королевой и ее народом, на неразрывности их общих судеб и прямой зависимости безопасности страны от сохранения персоны королевы, которая выступала гарантией божественного споспешествования англичанам. Ее многочисленные моральные добродетели столь же неизменно представлялись производными от веры, которую исповедовала государыня.4
Таким образом, вера и конфессиональный выбор в пользу реформированной церкви становятся для англичан основой их самоидентификации и мощным фактором национального самосознания. Образ нации, «исповедующей неискаженное евангелие» в значительной мере формировался «от противного», в сопоставлении с «иными». Начиная с 1570-х гг., противостояние Англии как избранного «народа Израилева» другим странам, чуждым истинной вере, все чаще встречалось в парламентских речах по мере обострения противоречий с католическими державами. Лексика официальных выступлений и дебатов становилась все более «профетической» по отношению к англичанам и все более воинственной по отношению к «чужим», в особенности к подданным короля Испании, французам, ирландцам и всем, кто признавал власть римского престола. Негативные характеристики этих народов и государств определялись уничижительными оценками моральных качеств и религиозных заблуждений их правителей. Римский папа и король Испании фигурировали в официальных парламентских речах как пособники или даже воплощение самого Антихриста. Филиппа II представляли как «ненасытного тирана», стремящегося к господству в Европе и уничтожению Англии.5 Ему вменяли в вину оккупацию Нидерландов, узурпацию Португалии, поддержку французских католиков в религиозных войнах с гугенотами, стремление подчинить своей власти Францию, Англию и стать «абсолютным правителем всего мира (to make him self absolute monarke of the worlde)».6 По убеждению многих депутатов, выраженному в 1593 г. Генри Антоном, союз папы и испанского короля «отравил и в какой-то мере разрушил весь христианский мир». Они пылают злобой к Англии, и утолить их ненависть может лишь английская кровь, «реки крови».7
В конце 1580-х гг. риторика мессианства и богоизбранности английского народа и его государыни получила мощный стимул в связи провалом ряда католических заговоров и победой над Великой Армадой. Весьма характерны с точки зрения парламентского дискурса того времени, тексты речей к открытию сессии «парламента победителей» в 1589 г., над которыми работали ведущие члены Тайного Совета. Лорд-казначей У Берли предлагал сделать акцент на принципиально новом характере войны, которую вели против Англии римский папа и католические монархи во главе с королем Испании. Это не те кампании, в которые в былые времена государи втягивались из-за личных амбиций или ради незначительных территориальных приобретений и прекращали их, как только исчерпывали свои ресурсы. Берли ясно осознавал, что конфессиональный конфликт европейских держав превращает их противостояние в войну поистине «национального» масштаба, в государственно дело, затрагивавшее всех членов общества. По его словам, теперь папа и испанский король стремятся «искоренить истину и исповедание Евангелия», лишить жизни королеву, завоевать ее страну, грозя всему населению Англии от мала до велика, невзирая на звания и ранги. Защита родины в этой священной войне – «самое правое и необходимое дело в глазах Господа», который «сам явил это во многих свидетельствах». Гибель испанского флота в 1588 г. была «чудесной милостью Божией», и в парламенте следовало недвусмысленно заявить – «наше дело правое» и поэтому «все добрые люди должны упорно противостоять Его врагам».8
Лорд-канцлер Кристофер Хэттон в своей речи на открытии сессии говорил о многовековом противостоянии пап и королей Англии, которые сопротивлялись Риму, отстаивая свои «древние свободы, авторитет и честь». Он представил аудитории каталог «бесконечно низких, жестоких и варварских происков» Клемента VII, Павла III, Пия V, Григория XIII против английских монархов, и обрушился с инвективами на Сикста V, который вознамерился снарядить флот для интервенции в Англию и «обещал окончательно покорить и уничтожить всех нас, народ королевы и страну, сделав нашу землю добычей врагов». В этом контексте король Испании, пославший к берегам Англии свою Армаду, выглядел «наемным солдатом» Рима и «папским защитником». Борьба Англии и католических держав виделась Хэттону глобальным противостоянием между «нехристем-папой», этим «волком-кровососом», а также «ненасытным тираном» Филиппом Испанским, с одной стороны, и «королевой-девственницей, прославленной дамой, а также страной, которая принимает неискаженную доктрину истинной и искренней Христовой веры», с другой.9
В том же ключе в 1593 г. характеризовал текущую политическую ситуацию лорд-хранитель печати Пакеринг, которому англо-испанский конфликт виделся противостоянием с «самыми ярыми врагами Господа», а потому парламентарии, по его словам, должны были вдохновляться в своей работе «радением о Господней славе, долгом преданности ее милостивейшему Величеству и любовью к своей матери-родине».10
Истинная вера, в глазах англичан, была источником их морального превосходства не только над врагами, но также и над соседними странами, страдающими от религиозных раздоров (Франция), политических распрей (Шотландия), оккупации (Нидерланды) и прочих бедствий. Образ Англии как земного Эдема, мирного и благополучного острова, процветающего под властью королевы-протестантки, естественным образом противопоставлялся другим континентальным государствам. Показательна в этом отношении речь спикера Крука, обращенная к королеве в 1601 г., в которой он живописал ее страну как «набожную в исповедании веры», «пребывающую в мире и покое», «богатую казной, сильную воинами, мудрым советом и обильную подданными». Он предлагал взглянуть на другие королевства, раздираемые враждой, страдающие от войн, восстаний и кровопролития и осознать, что Англия – почти единственное государство, которое не тревожат бури и раздоры, несмотря на все дьявольские происки врагов.11
Тексты церемониальных речей и записи дебатов позволяют выделить в парламентской риторике еще один мотив, непосредственно связанный с национальной идентификацией. Это тезис об уникальности английской политической системы, представлявшей в глазах парламентариев идеальное воплощение так называемой «смешанной монархии». Согласно политико-правовым воззрениям, которых придерживалась значительная часть юридической и административной элиты королевства, устойчивость английской монархии и процветание ее подданных обеспечивались союзом сильной королевской власти (которая, тем не менее, не носила характера абсолютной) с парламентом. Мудрые государи по собственной воле прибегали к совету парламента и творили законы совместно с этим институтом, представлявшим интересы общества. Здесь нет необходимости в очередной раз останавливаться на этих представлениях, поскольку английским конституционным идеям XVI–XVII вв. посвящена огромная литература. То, что англичане по традиции, восходившей еще к Фортескью, противопоставляли собственную модель «смешанного правления» континентальному (преимущественно французскому) абсолютизму, – общее место. Обратимся же непосредственно к парламентской риторике, к контексту, в котором встречались высказывания на эту тему, и к тому, в какой мере они могли повлиять на формирование топики политического языка.
Следует отметить, что учение о «смешанном правлении» отнюдь не безраздельно господствовало в английской политической мысли. Представлению о том, что власть монарха ограничена законами, которые он сам творит вместе с парламентом, противостояла доктрина «божественного права королей», исходившая из принципа «что угодно кесарю имеет силу закона». Подобные высказывания, периодически звучавшие из уст юристов-цивилистов, высокопоставленных придворных и государственных деятелей, не могли не тревожить депутатов, поскольку ставили под сомнение совещательную и законотворческую функции парламента, оспаривая его авторитет как важного и необходимого элемента государственной системы.
Политическая реальность второй половины XVI в. была такова, что в официальных речах представителей власти (лордов-канцлеров или лордов-хранителей печати) упоминания о «смешанном правлении» и о том, что законы в Англии творятся «королем-в-парламенте», постепенно маргинализировались. Они, однако, постоянно звучали в церемониальных выступлениях спикеров палаты общин, напоминавших власти от лица политической нации о том, что именно составляло суть английской системы управления и обеспечивало стабильность политического режима. Настаивая на «смешанном» характере английской монархии, ораторы, осознанно или бессознательно стремились воспрепятствовать распространению в обществе абсолютистских взглядов. Подспудное противостояние этих доктрин, угроза расширения прерогатив короны в политико-юридической сфере, заставляли опытных парламентариев быть чрезвычайно осмотрительными в своих высказываниях. Свою «похвалу законам Англии» и принципу «смешанного правления» они нередко облекали в форму панегирика мудрой государыне, которая, по их словам, поддерживала древние традиции законотворчества, опираясь на мнения своих подданных, выразителем которых служил парламент.12 Королеву стремились представить адептом испытанной временем системы, а последняя превозносилась в чрезвычайно выспреннем стиле. Именно в такие моменты спикеры эксплуатировали тему национальной исключительности англичан, привилегией которых было самим творить законы, которым впоследствии им придется подчиняться.
Ярким примером подобной риторики может послужить речь спикера К. Йилвертона, обращенная к королеве при представлении ей законов, одобренных обеими палатами парламента, в 1598 г. «Если в мире то государство считали устроенным наилучшим образом и, полагали, что со всей вероятностью оно будет счастливо процветать, где подданные имеют свободу высказывать свое мнение в и одобрять принимаемые законы, согласно которым ими будут управлять, то могущественное и славное королевство Вашего величества Англия, благодаря Вашему милостивому великодушию должно признать себя самым счастливым среди всех наций под небесами».13
Английская система законотворчества противопоставлялась как традициям других народов на протяжении всего хода мировой истории, так и опыту современных европейских государств. В глазах депутатов даже авторитет величайших законодателей древности, таких как Солон, Ликург или сам Платон не мог заслонить собой того факта, что, законы, данные ими согражданам, со временем устаревали, ибо с течением жизни любые правовые нормы требуют корректировки. Не только отдельный, даже выдающийся ум, не может предусмотреть изменений, которые потребуются в будущем, но и коллективный разум ограниченной группы законодателей (как это бывало в некоторых государствах с олигархическими режимами) не способен обеспечить подлинные интересы общества, поскольку в острой борьбе одни кланы сменяют другие и падение тех, кто был у власти, ведет к неизбежному пересмотру изданных ими законов. Закономерный вывод, к которому приходит Йилвертон, отталкиваясь от исторических прецедентов, – это превосходство английской системы и как типологической модели государства, выигрывающей в сравнении с тиранией и олигархией, и как конкретного исторического феномена. По мнению спикера, предвидеть проблемы, возникающие перед государством, глубже постичь смысл законов, сделать их разумными и добиться беспристрастного их исполнения, а также того, чтобы им охотно подчинялись, можно лишь в том случае, «если сами люди участвуют в их создании».14
Наиболее законченное выражение идея превосходства английской практики законотворчества над всеми известными историческими примерами нашли в трактате, посвященным парламентской процедуре и обычаям, вышедшем из-под пера известного юриста-антиквария и депутата парламента Джона Хукера, который писал: «Ни афиняне с их Солоном и его законами, ни Спарта с ее Ликургом и его законодательством, ни Египет с его Меркурием и законами, ни Рим с Ромулом и его законами, ни итальянцы с их Пифагором и его законами… не сравнятся с этим малым островом и королевством, которое. пережило и превзошло их всех. Ибо его короли и правители… на протяжении многих сотен лет были не столь воинственны, сколь мудры, не столь бесстрашны, сколь рассудительны, не столь величественны, сколь учены, и не столь искусны на полях сражений, сколь мудры в Сенатах».15
Что же касается современной ситуации, многие парламентские ораторы не упускали случая указать на издержки неограниченной власти монархов континентальных государств, вырождавшейся в тиранию, на произвол государей, законодательные акты которых не проходили через процедуру одобрения обществом, и чьи безгласные подданные были вынуждены нести тяжелое налоговое бремя и терпеть посягательства власти на свою собственность. Так в 1567 г. Р. Онслоу, превознося английскую традицию принимать законы, утверждал, что, «хотя эти законы предоставляют государю многие царственные прерогативы и регальные права, последние не таковы, чтобы правитель мог отбирать деньги [у подданных – О.Д.] или поступать по своему соизволению, не подчиняясь порядку, но он спокойно терпит то, что его подданные могут пользоваться принадлежащим им, не будучи неправедно притесняемы, в то время, как другие государи в этом отношении ведут себя свободно и берут, сколько захотят».16
В 1576 г. спикер Д. Попэм также пустился в рассуждения о тираническом управлении некоторых иностранных государей, ссылаясь на пример «соседей во Франции и Фландрии», оккупированной испанцами, после чего восславил английские порядки управления и законотворчества.17
Противопоставляя себя другим народам, парламентарии представляли Англию едва ли не последним государством в Европе, где права граждан были защищены от подобных поползновений. Показателен в этом отношении эпизод, имевший место в парламенте 1571 г., когда в палате общин разгорелись дебаты относительно прерогатив короны. Опасаясь того, что критика может показаться королеве слишком резкой, придворный Хэмфри Джилберт (в будущем – известный мореплаватель) предостерегал депутатов от чрезмерного злоупотребления свободой высказываться в парламенте, ибо государыня могла лишить их этих привилегий и начать править единолично, по собственному усмотрению, подобно королю Франции, который, по словам оратора, «вызволил свою корону из-под опеки» генеральных штатов. Джилберт указал и на другие страны, где «короли обладают абсолютной властью, как в Дании или Португалии, где, по мере того, как власть становилась все свободнее, подданные по той же причине все больше обращались в рабов».18
Одним из постоянных мотивов, звучавших в официальных парламентских речах, была тема свобод, присущих англичанам в большей степени, чем другим народам. Концепция свободы трактовалась весьма широко, она подразумевала право безбоязненно исповедовать истинную веру, право владеть собственностью, защищенное от любых посягательств, пользоваться плодами своих трудов, наслаждаясь миром и покоем, а также могла включать комплекс политических свобод, в том числе парламентских привилегий, таких как свобода слова и свобода депутатов от ареста. Об исконных свободах англичан много и охотно рассуждали как ораторы, выступавшие от имени короны, так и рядовые депутаты, в том числе, критически настроенные к официальной политике.
С точки зрения власти, свобода англичан в первую голову предполагала право исповедовать истинную (то есть официальную англиканскую) веру, а также безопасность от внешнего врага, мир и процветание. Однако бросается в глаза, что для официальных ораторов категория «свободы» парадоксальным образом стала краеугольной в теоретическом обосновании все возраставших налоговых требований короны. Защита «христианской свободы» и собственности англичан от внешних врагов должна была стать делом не одной только королевы, но и самого общества. Поскольку цена противостояния католическим державам росла, становилось очевидным, что финансирование армии и флота не могло больше осуществляться только за счет казны: от общества ждали взноса на «общее дело», а от парламента – вотирования соответствующих субсидий государыне. Два типа ритуальных речей были призваны убедить депутатов в необходимости кровопускания кошелькам их сограждан – вступительная речь лорда канцлера или лорда-хранителя печати во время открытия парламентской сессии и речь лорда– казначея, специально посвященная финансовому положению государства и его потребности в субсидиях. Общие места, характерные для выступлений канцлеров, это прославление королевы, не желающей обременять своих верных подданных налогами, ее мудрая финансовая политика, экономия во всем ради общего блага, и как следствие – счастливое процветание Англии, в которой царят мир и покой, в то время как большинство соседних стран раздираемы религиозными конфликтами и гражданскими войнами. (На том, что страна счастливо пребывает в мире, ораторы нередко настаивали вне зависимости от реальной политической ситуации, даже в те годы, когда конфессиональный конфликт между католиками и сторонниками протестантской веры внутри страны обнаружился со всей очевидностью, а угроза интервенции извне была вполне реальной). Речам лордов-казначеев были присущи больший драматизм и нагнетание беспокойства по поводу возможной угрозы извне, поскольку в финале они должны были огласить цену «свободы англичан» по текущему курсу и сделать предложение о размерах субсидий, которые правительство хотело получить. Выступления официальных ораторов изобиловали яркими образами страны, готовой как один встать на защиту своего острова, метафорами общества как команды корабля,19 каждый член которой на своем месте делает общее дело, примерами из античной истории, превозносившими самоотречение граждан во имя родины. В то же время они были готовы апеллировать и к индивидуалистическим интересам людей, доказывая, что защита государства выгодна каждому, ибо речь идет, как утверждал Николас Бэкон, «о всеобщем процветании этого королевства, о защите нашей страны, о сохранении каждого в отдельности, его дома и его семьи».20 В 1571 г., прославляя выгоды мирного правлении королевы Елизаветы, Бэкон живописал материальное благополучие англичан, противопоставляя его «вызывающим жалость бедствиям и несчастьям соседей» и призывал сделать посильный взнос на поддержание мира.21 Лорд-канцлер Кристофер Хэттон добавил в перечень того, о чем должен радеть англичанин, наряду с государством, «его друзей, земли, имущество и собственную жизнь».22 Ярким примером подобной «мобилизационной» патриотической риторики, апеллирующей сразу ко всем возможным чувствам англичанин, может послужить речь Хэттона в 1589 г., который убеждал парламентариев: «Дело касается счастливого продолжения и сохранения этого государства, этого королевства, этой державы, всех нас, религии, Ее величества, вашей страны, ваших жен, ваших детей, ваших друзей, ваших земель, вашего добра, ваших жизней. Призывая противостоять «неистовству врага», «готового завладеть нашей землей и со всей возможной жестокостью расправиться с каждым из нас», Хэттон говорит о священной войне как о конфликте «достойном», «необходимом» и даже «выгодном» с точки зрения личного интереса. «Мы обязаны защищать себя, наших жен, детей и друзей – это заложено в нас от природы. Мы должны защищать свою страну, своего государя, свое государство, законы и свободы – это согласуется с правом наций и затрагивает честь всех нас. Мы обязаны защищать свои владения, свободы, добро и земли – это всецело касается нашей выгоды».23 Взывая к патриотизму соотечественников, канцлер апеллировал и к славным деяниям предков, и к репутации англичан, добавляя новые штрихи в коллективный портрет английской нации. «В былые времена наши благородные предки смогли защитить это королевство, не имея таких средств, которыми можем воспользоваться мы… Они… были славными завоевателями, что же мы теперь примем бесчестье, позволив покорить себя? До сих пор об Англии отзывались как о королевстве, прославленном во всем христианском мире своими доблестью и мужеством. Что же теперь мы утратим нашу прежнюю репутацию? В таком случае для Англии было бы лучше, чтобы мы вовсе не появлялись на свет».24 Уступить врагам, значило, по словам парламентария и опытного дипломата Генри Антона, ратовавшего за выделение щедрых субсидий правительству, попасть под ярмо рабства и быть навеки отмеченными клеймом зависимости.25
Понятие «свобод» встречается и у лорда-хранителя Томаса Эджертона в его речи в 1598 г., призывавшего парламентариев к священной войне за дело веры. «Когда люди исполняют свой долг, нет места никаким опасениям, ибо эта война справедливая. Она – в защиту Господней веры, нашей всемилостивейшей повелительницы, родной страны, наших жен и детей, наших свобод, земель, жизней и всего, что мы имеем».26
Рассуждения о присущих англичанам свободах встречались в парламентских дебатах не только в контексте призывов противостоять внешнему врагу. В глазах многих парламентариев понятие свобод ассоциировалось со свободой совести, с гарантиями защиты их собственности от посягательств со стороны власти, непредвзятым правосудием и политическими правами граждан английского государства. Предметом интенсивного осмысления в парламентах второй половины XVI – начала XVII в. стали так называемые парламентские свободы, в частности, привилегия свободы слова в дебатах и свобода депутатов от ареста. Представления о них были неразрывно связаны с теорией «смешанной монархии», с пиететом перед парламентом, осуществлявшим функцию совета в политических вопросах, а также законодательную и судебную функции. Спикеры нижней палаты, регулярно испрашивавшие этих привилегий у королевы перед началом сессии, неизменно отзывались о миссии парламента и «древних» свободах депутатов в самых возвышенных выражениях. Характерный пример подобной риторики – речь К. Йилвертона, который патетически провозглашал в 1598 г.: «Ничто мы не ценим столь дорого и ничто так не мило нам среди наших привязанностей, как неограниченная свобода (uncontrolled liberty), которую Ваше величество даровала своим подданным в свободном обсуждении дел (free debating of the matters) в этом великом совете».27
Симптоматично, что технические привилегии, дарованные парламентариям, трактовались спикерами в расширительном смысле, как свобода всех подданных королевы, которых депутаты представляли в парламенте.
С осмыслением политической функции парламента и миссии его членов как советников государей была связана острая полемика о свободе слова. Дискуссии о ее сути и пределах стали следствием обсуждения в парламенте острейших политических вопросов о престолонаследии и церковном устройстве. Претензии депутатов на право инициировать любые билли и обсуждать проблемы, имевшие общенациональное звучание, нередко приводили к серьезным трениям с короной, которая, прибегая к понятию королевской прерогативы, препятствовала вторжению в сферу ее компетенции. В полемике с представителями власти по поводу церковной политики пропуритански настроенные депутаты поставили свободу обсуждения религиозных вопросов в контекст борьбы за дело истинной веры, христианского долга, ответственности депутата перед Богом, королевой и государством. В их глазах свобода высказываться была тесно связана с проблемой свободы совести истинно верующих англичан. Попытки запретить обсуждение религиозных вопросов, а тем более преследования за выступления в парламенте на эту тему, и репрессии против священников, не согласных с официальной политикой англиканской церкви, они расценивали как меры, противоречащие «Господней чести, королевским прерогативам Ее величества, законам государства и свободам его подданных». Один из активных депутатов, Джеймс Моррис, квалифицировал действия властей как вопиющее нарушение английского права, в частности, Великой Хартии Вольностей. Он публично заявил: «Мы, подданные этого королевства, рождены и воспитаны в должном повиновении, но далеко не в рабстве и не в зависимости. Мы подчиняемся законным властям и приказам, но не подвластны злой воле и тирании… Это наследство было дорогой ценой куплено нашими предками, они пролили за него кровь, и святая обязанность нашего поколения – передать его потомкам».28
Важным следствием поисков аргументации в пользу свободы высказываться по религиозным вопросам в парламенте стало формирование устойчивой взаимосвязи между такими понятиями как парламентская привилегия и свободы англичан в самом широком смысле. Рассуждения о неизбежном рабстве, в котором могут оказаться потомки, если не противостоять незаконным гонениям в церкви, создавали эмоциональный фон для столь же патетической трактовки парламентской свободы слова как важнейшей гарантии древних вольностей и правовых традиций Англии. Лексика «рабства» и «свободы», мрачные образы, призванные мобилизовать депутатов на защиту свободы высказываться, были явными симптомами того, что корпоративные представления о парламентской привилегии могли постепенно трансформироваться в политический миф о свободах всей английской нации (что и произошло в недалеком будущем, в 1604 г., когда депутаты парламента стали отстаивать свои права перед Яковом Стюартом в знаменитой «Апологии палаты общин»).
Сходные тенденции наблюдались и в ходе полемики о финансово-экономической политике правительства, налогах, а также о методах регулирования производства, торговли и введении короной монопольных привилегий в этой сфере. Критикуя действия властей, парламентарии выдвинули собственную концепцию прав «свободнорожденных англичан», связывая их с гарантиями собственности, возможностью подвизаться на избранном поприще, беспрепятственно заниматься предпринимательством, торговлей или ремеслом, пользуясь их плодами, а также с правом на непредвзятое правосудие в экономической сфере. В отношении налогов они настаивали на старинном принципе – «то, что касается каждого, должно быть одобрено всеми», и недопустимости увеличения налогов и произвольных сборов без согласия на то парламента.
Таким образом, в официальных речах и дебатах в парламенте сформировался впечатляющий образ Англии как государства избранных, исповедующих истинную реформированную веру, благочестивых людей. В условиях острого противостояния с католическим миром, эта страна представлялась счастливым островком благополучия среди океана бурь – религиозных конфликтов и войн, земным Эдемом или новым Иерусалимом. Знаком особого божественного расположения к ней было то, что Господь даровал англичанам королеву-девственницу, протестантку, успешно противостоявшую дьявольским козням Рима и католических держав. Ее образ как благочестивой государыни, ревностно пекущейся о господней чести и славе, о душах своих подданных, наделенной мудростью и всевозможными моральными добродетелями, стал одним из элементов коллективной идентификации английской нации, ибо правитель, безусловно, являлся воплощением основополагающих качеств его народа. (По контрасту парламентские ораторы создали чрезвычайно негативные образы политических противников Англии, которые также превратились в клише, воспроизводившиеся вновь и вновь).
Конфессиональный выбор в пользу реформированной веры стал основой официального образа английской нации, исповедующей доктрину истинного евангелия, готовой всеми силами отстаивать свой выбор и сопротивляться попыткам извне навязать англичанам иную религию. Не вызывает сомнения то, что постоянное наличие внешней угрозы и официальная политическая пропаганда в парламенте сыграли огромную роль в сплочении нации и формировании представлений о ней как о сообществе патриотически настроенных граждан, способных самоотречению и жертвам во имя безопасности и свобод своей страны.
Топосами парламентского политического языка стали утверждения об уникальности политико-правовой системы Англии, ее парламента, обеспечивающего королевству стабильность и процветание. Англия представлялась последним оплотом против повсеместно наступающей тирании. Подданные ее короны обладали самым широким набором политических и имущественных прав и чрезвычайно ревностно относились к свои свободам, которые были готовы отстаивать от посягательств не только внешнего врага, но и собственных властей.
Принимая во внимание, что в эту эпоху страна не знала иного публичного форума, где проблемы конфессионального самоопределения, политического выбора, судеб страны, национального характера обсуждались бы с такой интенсивностью, оказывая огромное воздействие на настроения общества, делегировавшего своих депутатов в парламент, следует признать, что этот институт сыграл огромную роль в формировании национальной идентичности Англии в эпоху раннего Нового времени.
Примечания
1 Такая постановка вопроса применительно к английскому парламенту не нова: еще А.Ф.Т Поллард подчеркивал важнейшую историческую миссию парламента как центра, способствовавшего формированию единого английского языка, культуры и политическому сплочению нации. Однако этот тезис выглядел у него несколько умозрительным, не будучи подкреплен анализом парламентских дебатов как таковых. Pollard A.F. The Evolution of Parliament. L., 1920; 2nd ed. L., – N-Y, 1964.
2 Подробнее об этом см.: Дмитриева О.В. «Древо Жизни в земном Раю»: библейские аллюзии в репрезентации Елизаветы I // Священное тело короля. Ритуалы и мифология власти. М., 2006. С. 377–403; Она же. «Милостивейшая и грозная»: репрезентация Елизаветы I во вступительных парламентских речах лорда-хранителя печати // Искусство власти. Сборник в честь профессора Н.А. Хачатурян. СПб., 2007. С. 164–181.
3 См. например, речь лорда-хранителя Томаса Эджертона в 1589 г. В его глазах королева выполняла роль особой посредницы между Богом и английской нацией. С одной стороны, благочестивая правительница была дана как награда народу, исповедующему истинную веру, с другой – сама государыня была столь дорога Господу, что ради нее он даровал победы ее подданным. Сохранение их в неразрывном единстве и в безопасности приписывалось «бесконечной милости Господа». Proceedings in the Parliaments of Elizabeth I. Vol. III. 1593–1601. / Ed. by T. E. Hartley L.– N.Y., 1995. P. 185.
4 См., например, соответствующие пассажи в речах спикеров Йилвертона (1598) и Крука (1601): Proceedings… Vol. III. P. 193, 271.
5 Proceedings in the Parliaments of Elizabeth I. Vol. II. 1584–1589 / Ed. by T. E. Hartley L.– N.Y., 1995. Vol. II. P. 415–417.
6 Proceedings.Vol. III. P. 24, 55–56.
7 «… the pope and kinge of Spaine are so incorporated together in their malice against us, as nothing can quench it but our bloud, ney, rivers of bloud». Proceedings.Vol. III. P. 55.
8 British Library. Lansdowne MS 104. F. 62-62v.
9 Proceedings.Vol. II. P. 415–416.
10 Proceedings.Vol. III. P. 15.
11 «You behold other kingdoms distracted into factions, distressed with warres, swarming with rebellions, and embrued with bloud; yours (almost only yours) remaineth calme without tempest, and quiet without dissention, notwithstanding all the desperate and devillishe devises of the Romishe crue, and Jesuites…». Proceedings.Vol. III. P. 192.
12 Так, например, спикер Р. Онслоу в 1567 г. утверждал, что королева Англии в отличие от других государей не была склонна «к тирании, противоречащей нашим законам». К достоинствам ее правления он относил то, что она «не пыталась издавать законы вопреки порядку, но в согласии с ним, и созвала для этой цели парламент…» Proceedings. Vol. I. P. 170. См. сходные пассажи в речах других спикеров: Р. Белла (Proceedings in the Parliaments of Elizabeth I. Vol. I. 1558–1581 / Ed. by T. E. Hartley. Leicester. 1981. P. 339), К. Йилвертона (Proceedings.Vol. III. P. 197–198), Дж. Крука (Proceedings. Vol. III. P. 263).
13 «If that common wealth (most sacred and most renowned Quene) was reputed in the world to be the best-framed, and the most likely to flourishe in felici-tie, where the subjects had there freedome of discourse, and there libertie of like-ing, in establishing the lawes that should governe them; then must your Majestie’s mighty and most famous realm of England (by this your most gratious benignitie) acknowledge it self the most happie af all nations undr heaven, that possesseth thid favour in more frank and flowing manner then any kingdome doth beside». Proceedings… Vol. III. P. 197.
14 «… neither yet could the inconveniences of the state by so providently fore-seene, nor the reason of the laws be so deeply searched into, were they never so wise, nor the course of them be so indifferent, or so plausible; nor the people be so willing to put themselves under the dutie of them, as when the people themselves be agents in the framing of them…» Proceedings.Vol. III. P. 197.
15 The Order and Usage how to keep a Parlement in England in these days, collected by John Vowel alias Hooker gentleman, one of the Citizens for the Cittie of Exeter at the Parlement holden at Westminster Anno domine Elizabethae reginae decimo Tertio. 1571 // Parliament in Elizabethan. John Hooker’s Order and Usage / Ed. by V.F. Snow. New Haven – L., 1977. Р. 120–121.
16 Proceedings.. Vol. I. P. 169.
17 Ibidem. P. 494.
18 Ibidem. P. 225.
19 Proceedings.. Vol. II. P. 424.
20 Proceedings.Vol. I. P. 38. См. сходные пассажи у него же: Ibidem. P. 84, 187.
21 Proceedings.. Vol. I. P. 184.
22 Proceedings.Vol. II. P. 414.
23 Ibidem. P. 423.
24 Ibidem. P. 424.
25 По его словам, цель испанцев – «to imprinte f depe marke of the yoke of bondage into our neckes and into our hartes that we shall see nothinge but the markes of bondage, feel nothinge but the prints.of bondage, and suffer nothinge but never-endinge miseries and calamities». Ibidem. P. 55.
26 Proceedings.. Vol. III. P. 187.
27 Proceedings.Vol. III. P. 205.
28 D’Ewes S. The Journals ofAll the Parliaments during the Reign of Queen Elizabeth, both of the House of Lords and House of Commons. L., 1682. P. 459–460, 474–476.
Дмитриева О.В.
II.VI. Идентичность национальная, идентичность корпоративная: английские юридические корпорации и полемика о композитарной монархии в раннестюартовской Англии[5]
На рубеже XVI–XVII столетий две юридических корпорации – юристы общего права и цивилисты оказались вовлеченными в процессы формирования и трансформации на Британских островах идентичностей разного уровня. Профессиональная и интеллектуальная деятельность английских юристов отражала и оказывала непосредственное влияние на сложный процесс конструирования раннестюартовской монархией «британской» идентичности, на поиск форм организации политического, правового и культурного пространства композитарной монархии.
Переход короны от Тюдоров к шотландским Стюартам в очередной раз поставил перед британским обществом вопрос о способах конструирования представлений о национальной идентичности, а также о том, какие составляющие необходимы и являются определяющими для существования самой «нации». Английская интеллектуальная традиция раннего Нового времени продолжала активно использовать принципы построения общности, восходящие к раннему и классическому средневековью. После Реформации новую актуальность приобретает экклезиоло-гический способ построения единства «народа англов», сформулированный Бедой: общая для населяющих остров народов Церковь, автономная и самодостаточная, творила единство из множественности. Генеалогический способ построения общности реализовывался через многократное тиражирование в политической и исторической литературе легенд о происхождении ныне живущих подданных английского короля от мифологических первопредков и о «непрерывности» правящей Островами династии1. Кроме того, принцип территориального единства предполагал, что сама «земля Англии» сообщает ее обитателям на протяжении столетий общую для всех них специфическую харизму.
Наконец, для Англии традиционно значимой составляющей, на которой выстраивались представления об общности и узах, связывающих воедино жителей южной части острова Британия, была идея существования особого и превосходного по отношению к иным регионам права и связанных с ним институтов. В общем виде эта идея охотно принималась добрыми подданными английской короны, однако при ее конкретизации возникал ряд сложностей. Главная же сложность заключалась в том, что «английское право» отнюдь не было гомогенной системой.
Уникальность развития права в Англии определялась одновременным существованием нескольких правовых систем – общего права, канонического права, цивильного права и «права справедливости» (equity). Каждая из этих систем действовала в рамках собственных судебных институтов (всего к началу XVII в. в королевстве действовало более шестидесяти судебных институтов различной юрисдикции) и в определенной мере была ориентирована на различные категории, интересы и финансовые возможности тяжущихся. Помимо естественной иерархии локальных и центральных судов, они образовывали сложную систему взаимодействия, ни один элемент которой не воспринимался как полностью доминирующий. Несмотря на конфликты, на протяжение всего средневековья не раз разгоравшиеся как между короной судами, так и между судебными институтами различных юрисдикций, мысль о полной унификации английского права не посещала умы теоретиков. Можно также предположить, что описанная правовая ситуация как нельзя лучше коррелировалась с композитарным характером английской монархии. И если, следуя мысли современников, именно система судебных институтов – во всей ее неоднородности и внутренней сложности, в условиях плюрализма правовых систем, являлась стержнем и конституирующим основанием национальной общности, то принципы взаимодействия различных правовых систем, роль конкретных судов и юридических корпораций становились той моделью, которая определяла дальнейшее развитие композитарной монархии на Британских островах.
Позднетюдоровская и раннестюартовская эпоха стала периодом изменений самого английского юридического сообщества: традиционные устоявшиеся границы юрисдикции между судами цивильного и общего права были оспорены, что, в свою очередь, становилось причиной как открытого институционального конфликта, так и обширной политико-правовой дискуссии. По мере своего разворачивания конфликт между двумя корпорациями перестал быть профессиональным конфликтом и приобрел публичное измерение, затронув, в конечном итоге, вопросы об основаниях и пределах власти английского монарха2. Обе корпорации претендовали на то, что именно их правовая система является подлинно национальной – в более узком «англоцентричном» или более широком «британском» смысле.
По мере своего развития конфликт изменял облик самих корпораций. Специфические факторы и явления, конституировавшие оба юридических сообщества, не просто приобрели свою наиболее четко выраженную форму, но стали предметом рефлексии (пусть даже весьма частичной) со стороны самих современников – участников конфликта.
Столкновение двух юридических корпораций в раннестюартовской Англии представляло собой многоуровневое комплексное явление, для более глубокого понимания которого историк вынужден обращаться к разнообразным методам исследования. Одним из эффективных подходов к изучению данной проблематики является дискурс-анализ.
На социальном уровне, благодаря лингвистическим репрезентациям, дискурсивные практики могут в процессе диалога влиять на формирование групп, устанавливать или разрушать отношения власти и соподчинения между социальными, профессиональными, этническими и гендерными группами. Дискурсивный подход позволяет проследить и проанализировать связь между языковыми средствами, риторическими приемами, формами коммуникации, способами аргументации и ведения полемики – то есть конкретными лингвистическими практиками – и трансформацией политических и административных структур3.
Р. Брубейкер и Ф. Купер справедливо предлагают разделять идентичности на так называемые «сильные» и «слабые»4. «Сильные» формы идентичности основаны на фундаментальной и долговременной самоидентификации, в то время как «слабые» характеризуются подвижностью, сложностью, часто недолговечностью, а также во многом определяются конкретным социальным и историческим контекстом. Формирование «слабых» идентичностей и связанных с ними дискурсов обусловлено множественностью факторов (нормативными, экономическими, правовыми и иными практиками)5. В зависимости от социального контекста набор этих факторов и степень их воздействия меняются, что сказывается на развитии данной идентичности или, напротив, ведет к ее «растворению».
Эволюция двух социопрофессиональных групп – английских цивилистов и юристов общего права – пример взаимодействия подобного рода «слабых» идентичностей. Обе группы к началу XVII столетия уже имели длительную историю, в которой, как и в истории формирования любой группы, можно выделить несколько этапов. Во-первых, это процесс непосредственного формирования исходной общности6, которая является основой для развития любой идентичности; во-вторых, институциализация этой общности, то есть взаимодействие с уже существующими институтами или формирование новых; в-третьих, адаптация – трансформация внутригрупповых норм под воздействием внешних факторов, и, наконец, интеллектуализация (механизмы конструирования коллективной памяти, формирование собственного дискурса)7 Эти этапы могут быть пройдены общностью последовательно, однако в большинстве случаев можно говорить о параллельном прохождении двух или нескольких этапов (например, адаптации и интеллектуализации). Формирование социопрофессиональной общности, как правило, продолжается по мере взаимодействия с разнообразными институтами, структурами и группами, а интеллектуализация нередко сопровождается институциональной конкуренцией с другими фигурантами социопрофессионального поля.
Обе английских юридический корпорации прошли длительный этап институциализации, растянувшийся на несколько столетий.
Общее право изначально воспринималась самими судьями не столько как комплекс идей и установок, сколько как практика или своего рода техника. Общее право, как гласило определение, которое Эдвард Кок дал, основываясь на средневековой традиции, есть искусственный (artificial)8 разум. Уильям Фулбек давал иную формулировку: «общее право есть обычная практика или общее для всех суждение» (common law is common use or common reason»9 Термин «reason» в данном контексте означал не врожденную естественную мыслительную способность, а логику принятия решений, комплекс знаний и умение их применять. А потому неизменность основ общего права парадоксальным образом сочеталась с динамикой их непрекращавшегося воспроизведения и применения в конкретных условиях единичного прецедента. Однако право, понятое как практика и не имеющее четко очерченной теоретической основы, могло стать «осязаемым» и реализоваться лишь через систему конкретных институтов. При этом, будучи результатом развития английского неписаного права, оно могло реализоваться лишь в Англии и лишь в английской институциональной системе (или в условиях экспорта этой системы). Здесь также кроется объяснение тому, почему большая часть исследовательской традиции истории общего права, начиная с Кока и Блэкстона, использует «институциональную схему» организации и систематизации материала как наиболее выигрышную. С точки зрения теоретиков общего права, система судебных институтов и была системой административной, а сами юристы не только вершили правосудие, но и разделяли функцию упорядочения общества, которая являлась преимущественной характеристикой власти короны.
Четыре судебных инна (подворья) – Линкольнз Инн, Грейз Инн, Миддл Темпл и Иннер Темпл были местом совместного обитания и одновременно обучения юристов общего права – единственным местом и единственными корпорациями, в которых возможно было овладеть основами данной юридической системы. Примечательно, что инны, снискавшие репутацию «английского юридического университета», не были в строгом смысле корпорацией в средневековом значении: их статус не был подтвержден королевской хартией, а внутренняя организация регулировалась серией статутов и ордонансов, издаваемых членами инна. Поэтому, несмотря на востребованность и престиж самой юридической профессии, статус иннов формально не был сравним со статусом и соответствующими привилегиями университетских корпораций.
По приблизительным оценкам население иннов на протяжении XVI – первой четверти XVII в. составляло от 700 до 1000 человек, среди которых были представлены разнообразные возрастные группы и профессиональные категории – от студентов, едва приступивших к обучению, до практикующих барристеров. В иннах также могли обитать учителя, обучавшие предметам, не связанным с юридической профессией (риторике, танцам, фехтованию) и размещались слуги. Часть членов корпорации юристов общего права обитала вне иннов: высокопоставленные судьи имели собственные дома, сержанты (элита барристеров) обитали в «сержантском инне». Предполагалось, что кроме так называемых «чтений» и учебных судебных процессов, составлявших преимущественные формы обучения в иннах, студенты присутствовали на заседаниях Вестминстерских судов, таким образом сразу же начиная практическое знакомство с профессией.
Длительный процесс подготовки судей общего права, требовавший вовлечения в практическую деятельность судебных институтов, объем и специфика изучаемого материала в каком-то смысле «замыкали» их внутри собственной институциональной системы. Детализация общего права, оформление процессуальных норм и быстрое увеличения спектра прецедентов, а также увеличение числа судей и клерков сопровождалось расширением и специализацией судебных институтов как на центральном, так и на локальном уровне. В то же время сами инны отнюдь не были закрытыми общинами монастырского типа: напротив, они были местом активной социальной и культурной активности; многочисленные и тесные связи, в том числе и патронатные, обеспечивали постоянный контакт иннов с двором и парламентом, особенно с палатой Общин10. Парламентская и придворная карьера была достаточно обычной для тех, кто обучался в судебных иннах, что, насколько можно предположить, в глазах юристов общего права делало институты, не являвшиеся судами общего права, вовлеченными в орбиту их деятельности. Отсюда следовала убежденность в том, что для административных, консилиарных или репрезентативных институтов являются нормативными тот же самый стиль мышления и те представления, которые формировались в судебных иннах и Вестминстерских судах.
Институционализация цивильного права и складывание корпоративной идентичности цивилистов проходила совершенно иначе. Развиваясь, прежде всего, как университетская дисциплина и имея своей целью трактовку и интерпретацию уже известного комплекса текстов и идей, цивильное право не было в той же степени «зависимо» от институциональной реализации, как право общее. Университетское образование – даже если оно в итоге не приводило к желаемому результату – докторской степени – открывало перед его обладателем самый широкий спектр возможностей для карьеры, которая могла продолжаться как в самой Англии, так и на континенте.
Относительно медленное складывание самостоятельной корпорации (и, как следствие, корпоративной культуры и автономного дискурса) английских цивилистов определялось тем, что с момента начала своего обучения они уже были вовлечены в более масштабную и устойчивую корпорацию – прежде всего, в церковную структуру, поскольку большинство средневековых цивилистов были, разумеется, клириками. Кроме того, они были включены в корпорации университета и его колледжей, где изучаемая дисциплина была далеко не единственным фактором организации внутреннего пространства. Статус цивильного (равно как и канонического) права как самостоятельной дисциплины позволял проводить четкую границу между разработкой теории права – его «академическим» изучением, практикой применения в уже существующих судах и карьерой выпускников юридических факультетов и докторов права, которая не всегда была непосредственно связана с юриспруденцией. Кроме того, для цивилистов совершенно ясным было качественное различие между образовательными, судебными и административными институтами.
После Реформации и запрета изучать каноническое право в университетах, цивилисты обрели монополию на преподавание права в университетах Оксфорда и Кембриджа. Относительно того, почему именно цивилисты, а не юристы общего права снискали королевскую милость, среди исследователей нет единого мнения. Принимая во внимание далеко идущие внутри– и внешнеполитические амбиции Генриха VIII, можно, вслед за Д. Кокиллетом, предположить, что более активное осмысление как античного римского, так и средневекового «имперского» правового наследия должно было дать теоретические основания и подсказать пути практической реализации аналогичного «имперского» пути для английской монархии. В 1530–1533 гг. король мог в полной мере оценить пользу цивильного права, когда падуанские цивилисты по просьбе монарха на основе Corpus Juris civilis и его средневековых комментариев подготовили текстовую базу для дальнейшего разрыва с Римом. Генрих лично обращался к кодексу Юстиниана, когда ему потребовалось обосновать право короля на законодательство в отношении Церкви11. Возвышение цивилистов произошло в промежутке между 1540 и 1546 г., когда согласно монаршей воле были учреждены королевские кафедры (Regius Professorship) цивильного права в обоих английских университетах. В Оксфорде и Кембридже Генрихом было учреждено пять новых кафедр со статусом королевских: цивильного права, богословия, физики, греческого и древнееврейского языков – последние два были очевидной данью гуманистической моде12.
Профессор назначался непосредственно монархом и от него же получал стипендию в размере 40 фунтов в год. При Елизавете цивилисты продолжили пользоваться высочайшим расположением. В 1597 г. сэр Томас Грешем, финансист Елизаветы Тюдор и основатель Королевской биржи в Лондоне, по завещанию выделил средства, на которые был основан Грешем Колледж, где в числе семи кафедр (астрономии, богословия, математики, музыки, медицины, риторики) была также создана кафедра цивильного права.
Преобразования Генриха VIII повысили престиж цивильного права и увеличили количество желающих получить университетскую степень доктора-цивилиста. Можно также говорить об изменениях подходов к изучению этой дисциплины – своеобразном «гуманистическом повороте», коснувшемся изучения и прочих университетских дисциплин. В целом же весь процесс обучения и получения степени оставался неизменным. Кроме английских университетов, англичане как до, так и после Реформации могли обучаться цивильному праву в университетах Европы13. Новоиспеченные доктора цивильного права и те, кто прекратил обучение, не дойдя до высшей ступени, были востребованы не только в судах цивильного права, но также в королевской администрации и на дипломатической службе, а также могли окончательно связать себя с одним из университетских колледжей.
Если будущие юристы общего права с самого момента занесения в матрикулы инна осознавали себя членами профессиональной корпорации, то для цивилистов получение докторской степени было лишь прологом к тому. Докторская степень была необходимым формальным условием для вступления в Общину докторов (Doctor’s Commons) – профессиональное объединение цивилистов. Как и судебные инны, Община докторов в XVI и XVII в. не имела королевской хартии, но получила ее в 1768 г. Докторская степень должна была быть присуждена именно университетом: так называемые «ламбетские степени», присуждаемые по мандату архиепископа Кентерберийского, и степени honoris causae не давали такого права; впоследствии было оговорено условие, согласно которому член корпорации не мог принадлежать к духовенству.
С точки зрения численности Община докторов во много раз уступала даже одному отдельно взятому инну. Максимальная численность корпорации в XVI – первой четверти XVII в. составляла 25 докторов; кроме того, с ней были ассоциированы около сорока прокторов (по статусу равнявшихся солиситорам в системе общего права).
Первые объединения цивилистов, как полагает Ф.Л. Уизволл, возникли около 1430 г. в связи с расширением их практики в суде Адмиралтейства14. Примерно к 1500 г. группа цивилистов начинает ассоциировать себя с определенным местом обитания. Это был дом на Патерностер роу, рядом с т. н. «судом Арки» (диоцезный суд архиепископа Кентерберийского, расположенный рядом с церковью Святой Марии около Арки), и недалеко от суда Адмиралтейства, которое находилось в Саутуарке, на другом берегу Темзы. Позднее Община докторов переместилась в дом на Найтрайдер стрит, где и располагалась вплоть до ее упразднения в 1857 г. Таким образом, доктора-цивилисты стремились отделиться как от канониката собора Св. Павла, к которому они должны были формально принадлежать, так и от университетских коллегий. К 1511 г. лондонские цивилисты структурируют свою общину – Ассоциацию докторов права и адвокатов при церкви Христа в Кентербери, которая и вошла в историю как «Община докторов». Помещения Общины докторов были не только домом для юридической корпорации, но и местом проведения заседаний судов, в которых практиковали цивилисты. Главные «монополии» цивилистов15 – суд Арки, Рыцарский суд и Адмиралтейский суд, и еще восемь церковных трибуналов со второй половины XVI в. проводили слушания непосредственно в помещениях Корпорации докторов. В здании Общины докторов проводилось и значительное количество слушаний Высокого суда Делегатов – высшей апелляционной инстанции королевства16. Это объяснялось двумя факторами – с одной стороны, малочисленностью самих цивилистов, с другой – количеством судебных институтов, в работе которых они были задействованы, популярностью и востребованностью цивильной юстиции среди англичан и большим количеством рассматривавшихся дел. Концентрация судов цивильного права в одной резиденции значительно экономило время, которое в противном случае приходилось бы тратить на разъезды по Лондону.
Само название корпорации указывало на определенный статус ее членов. В ее составе находились как те, кто получил степень в английских университетах, так и те, кто получил ее на континенте. Иначе говоря, в формировании идентичности английских цивилистов важную роль играл статус и причастность профессии, изначально проницающей национальные и региональные границы. Если юристы общего права в силу самой специфики прецедентного права были вынуждены обращаться, прежде всего, к прецедентам и комментариям, созданным в рамках именно английских судебных институтов, интеллектуальное поле, открывавшееся перед цивилистами, было несравнимо шире. Библиотека в Общине докторов не уступала книжным собраниям судебных иннов, но заметно отличалась от них с точки зрения подбора литературы. Цивилисты наполняли ее самыми современными изданиями, выходившими из-под пера континентальных коллег по цеху. Это позволяло им оставаться в курсе новейших течений в области цивильного права, вступать в заочную, а иногда и в открытую полемику и поддерживать личные контакты. Несмотря на малочисленность, цивилисты, по-видимому, неизменно ощущали себя частью корпорации более обширной и древней – общеевропейской корпорации докторов права, а это, в свою очередь, становилось предметом особой гордости. Возможно, именно уверенность в прочности собственного статуса впоследствии сыграет с цивилистами злую штуку. В то время как юристы общего права прилагали огромные усилия для того, чтобы продемонстрировать обществу свою центральную роль в национальной английской истории, цивилисты не тратили на это время, ведь в общеевропейских масштабах значение римского права и его адептов было уже давно доказанным17.
В литературе часто говорится о существовании двух противоположных тенденций, разделявших европейских юристов конца XVI в. – mos Gallicus был связан с юристами гуманистического направления (Жак Кужа, Гийом Бюде, Франсуа Отман, Андреа Альциати, Ульрих Зази) и mos Italicus, сформировавшийся под влиянием глоссаторов и комментаторов, прежде всего Бартоло ди Сассоферато. Английские цивилисты, бесспорно, развивали бартолистскую традицию, что с иронией отмечали их современники – юристы общего права: «в Англии цивилист означает бартолист». Сами же цивилисты отвечали: «nemo iurista si non Bartolista». Альберико Джентили, Уильям Фулбек и Ричард Зуч были самыми последовательными приверженцами бартолистского метода, что, впрочем, не означало точного воспроизведение мнений Бартоло как окончательных и неоспоримых, а также не мешало активному цитированию и комментированию идей mos Gallicus. Что же привлекало англичан в сочинениях средневекового постглоссатора? Перед самим Бартоло стояла непростая задача адаптации римского права к условиям феодального средневекового общества и порожденного им обычного по сути права. Следовательно, ему требовалось выработать такую логику, которая позволяла бы находить компромисс в ситуациях, когда нормы Corpus juris civilis оказывались недостаточными или их применение в современных условиях было неясным. Фрагмент Дигест (Dig. 1.3.32–37)18 санкционировал сосуществование обычного и кодифицированного права в рамках одного государства; при этом римское право представляло собой основу, а обычай заполнял лакуны, возникавшие благодаря региональной и временной специфике. Подход, выработанный Бартоло для итальянских городов-государств был как нельзя более применим для английских цивилистов: он позволял с помощью классических текстов санкционировать ситуацию множественности правовых систем, которая сложилась на территории Англии.
Бартолистская трактовка обычая оказала влияние на представления цивилистов о том, в каких формах и каким образом в условиях Британских островов должно происходить взаимодействие между цивильным и общим правом, а после того, как под скипетром Стюартов оказались одновременно королевства Англии и Шотландии, а также Уэльс, Ирландия, а также острова Пролива, Ирландского и Северного морей, проблема стала еще более масштабной: каким образом следовало относиться к правовым обычаям этих разнородных регионов? Альберико Джентили в трактате «О войнах римлян» анализирует опыт строительства Римской Империи, призванной быть аналогией и одновременно образцом для империи английской19.
С точки зрения Джентили, императорская власть в Риме была высшей ступенью развития античного общества, поскольку являлась абсолютной, то есть не только не зависела от какой-либо вышестоящей инстанции и объединяла различные этнотерриториальные образования, но и наиболее адекватно повторяла естественный порядок мироустройства и его гармонию. Римское право, которое, по сути, являлось продолжением и развитием права естественного, политизировалось посредством римских судебных и административных институтов как в старых римских провинциях, так и на завоеванных территориях, и именно в силу своего наднационального характера было применимо в любых землях, на которые ступали сандалии римских легионеров. Для Джентили римское право действительно представлялось вершиной правовой мысли, но при этом не было «национальной монополией» ромеев. Как уже было сказано, бартолистская интерпретация делала цивильное право более гибким, открывая возможности для сосуществования с обычным правом и культурой, формировавшейся на основе этого обычая. Кроме того, Джентили предусматривал возможность новаций (или, точнее сказать, возможность адаптации к конкретным политическим ситуациям), о которых он писал, используя категорию «необходимости»: «для необходимости не существует законов, но она сама по себе творит право. Необходимость означает, что вещи, прежде неприемлемые, отныне возможны. Необходимость делает справедливым изменение обычных практик»20.
В «справедливой империи», которая формировалась благодаря распространению цивильного права, образующие ее композиты должны были в определенный момент прийти к состоянию правового и культурного паритета, индикатором которого являлись права гражданства, уравнивающие статус обитателей центра и периферий. Этот паритет не требовал ни механического смешения обычаев, ни их искоренения. Цивильное право, таким образом, являлось инструментом, или языком диалога, понятным для участников этого диалога в силу своего естественного характера. Право, главный инструмент построения «справедливой империи», по мнению Джентили, было укоренено не в национальной исключительности или избранности римлян\англичан, но имело универсальный, или естественный характер. В «Испанском адвокате» Джентили развивает ту же самую мысль: законы Англии предназначены для того, чтобы служить англичанам в Англии21, и регулировать те споры, суть которых определяется локальной спецификой королевства. Римское право является naturalis ratio и в силу этого стоит на ступень выше artificial reason – общего права22. Роберт Вайзман продолжает мысль Джентили: если бы даже римляне не кодифицировали цивильное право, оно все равно существовало бы, поскольку основано на естественной справедливо-сти23, и сам процесс управления есть ничто иное, как determinatio juris naturalis24.
В «Трех рассуждениях о монархии» Джентили подробно рассматривает проблему унии корон Англии и Шотландии и выражает ключевую идею в формуле «unio non est mixtio» 25. Абсолютная власть монарха призвана быть тем движущим началом, которое посредством административных институтов стимулирует процесс коммуникации между различными группами своих подданных, тем самым созидая единый политический организм26. Впрочем, Джентили настаивает на политическом и административном единстве (включая и возможное объединение церквей), но при этом настаивает на сохранении правовой и национальной самобытности. «Британия», или «Великая Британия», о которой автор неоднократно упоминает в историческом экскурсе – общность, основанная на идее подданства, а не на национальной идентичности.
Как и цивилисты – а, возможно, еще в большей степени – юристы общего права были уверены в структурирующем потенциале права, но в их представлении общее право было основой для формирования именно национальной английской идентичности27. Оно возникло и развивалось не как частный случай реализации всеобщего принципа, а как единичный феномен, порожденный в уникальных островных условиях избранной нацией, и потому не имеющий аналогий. Подобная концепция в известной степени ограничивала перспективы применения общего права в условиях композитарной монархии. Каким образом английское по самой своей сути общее право должно было соотноситься с законами и судебными практиками композитов, имевших, к тому же, неравный статус по отношению к английской короне? Было ли успешное применение норм общего права уделом одной лишь английской территории и английской нации, или данная правовая система могла быть адаптирована к иным социальным и правовым условиям?
К началу XVII столетия теоретики общего права находились в поиске ответов на эти вопросы, и однозначный ответ на них так и не был сформулирован. Скорее, можно было говорить о спектре возможных ответов, сформулированых под влиянием конкретных политических и институциональных факторов.
Наиболее радикальный вариант представляла собой концепция сэра Джона Дэвиса, с 1603 г. по 1619 г. последовательно занимавшего должности генерального солиситора и генерального атторнея Ирландии. Его перу принадлежат объемные «Отчеты»28 о делах, слушавшихся в различных судах Ирландии, и трактат «Обнаружение истинных причин, по которым Ирландия никогда не выказывала подчинения английской короне»29 – анализ неудач имперского строительства – ошибок, допущенных англичанами в процессе завоевания ирландских земель.
Объясняя причины неудач, постигавших в Ирландии сначала нормандцев, а потом и англичан, Дэвис указывает на то, что стремление к завоеванию как таковому не сопровождалось необходимым колонизационным процессом. В то время как колонизация диких ирландцев принесла бы благо как последним, так и самим англичанам; начаться же она должна была с замены дурных ирландских обычаев «настоящим» английским правом. Главный шаг в процессе завоевания – «привести всех тамошних жителей к состоянию подданных, которыми управляют обычные законы и магистраты их суверена»30. Колонизационный опыт Римской империи служит Дэвису образцом для подражания, однако картина в корне отличается от той, которую рисует Альберико Джентили в «Войнах римлян». Романизация германских народов, согласно Дэвису, начиналась с уничтожения варварских обычаев и насильственного внедрения норм римского права. Римские императоры «по опыту знали, что лучший и самый удобный способ осуществить совершенное завоевание – это дать собственные законы грубым и варварским народам, которые они покорили»31. Через небольшой промежуток времени враждебные племена, прежде угрожавшие внутренней стабильности империи, начинали пользоваться всеми благами римского правления, первым из которых был справедливый суд и устоявшееся право частной собственности. На протяжении столетий англичане не использовали возможность подчинения непокорного племени через изменение судебной системы: и вот это наконец происходит. Политика трансплантаций, заимствованная из опыта все того же Рима, переселение англичан в Ирландию и перемещение ирландских кланов с места на место, внедрение общего права и английской администрации должно было подтолкнуть местное население на путь англицизации. Таким образом, с точки зрения Дэвиса общее право не должно было адаптироваться к неанглийской этнической среде; наоборот, оно должно было сделать из ирландцев «почти англичан».
Сэр Эдвард Кок формулировал свою позицию гораздо менее прямолинейно, нежели Дэвис. Уже в полемике, развернувшейся в связи с рассмотрением дела Кальвина (иначе именуемого «делом о postnati»), Кок проявил себя как последовательный «англоцентрист»: подданные Его
величества, родившиеся вне границ королевства Англии после унии корон, могут прикоснуться к высшему достижению правовой культуры – общему праву, но только в том случае, если предмет спора находится на территории Англии и подлежит юрисдикции соответствующего суда. Таким образом, между Англией, историческое развитие которой определило формирование данной правовой системы, и иными регионами и государствами существует исторически детерминированная разница. Общее право, с точки зрения Кока, должно было остаться исключительным правом, существующим для англичан32. Примечательно, однако, что аргументация Кока в деле Кальвина была, как убедительно показала П.Дж. Прайс, была построена практически без обращения к общему праву, а основу рассуждений генерального атторнея составляли максимы цивильного права и апелляция к естественному праву33.
Определенную сложность представляла оценка статуса Шотландии, объединенной с Англией унией корон. В отличие от Ирландии, это королевство с многовековой традицией как обычного, так и кодифицированного права невозможно было низвести к статусу доминиона, нуждавшегося в «англицизации».
В четвертой части «Институций», почти в самом конце трактата Кок помещает главу, которая представляет собой сжатую рефлексию над унионистским законодательством Якова34. Разумеется, Кок проявляет себя апологетом унии, несущей долгожданный мир между «благородными королевствами» и указывает на многочисленные сходства между королевствами Англии и Шотландии. И все же образцом для сравнения, искомой нормой в его тексте являются именно английские реалии. Говоря об одном языке, лорд генеральный атторней подразумевает, конечно же, английский; принцип наследования короны, титулы знати, административные институты – такие же, как в Англии. В Шотландии распространено Общее право – и здесь Кок недвусмысленно указывает, что два основополагающих для шотландского права текста – трактаты Regiam Majestatem и Quoniam Attachiamenta35 являются повторением текстов английских. В целом же характеристика, данная Коком шотландским институтам и праву – а эту характеристику он подкрепляет цитированием исторических сочинений, главным из которых оказывается «Церковная история» Беды, создает у читателя впечатление, что Шотландия, при всем сходстве с Англией, является лишь производной, вторичной по отношению к великой английской традиции. Модель организации композитарной монархии, которую выстраивает лорд генеральный атторней – это модель иерархическая, стержнем и вершиной которой является Англия и ее общее право, а прочие композиты, начиная с «ближнего круга» – Уэльса и Шотландии, и заканчивая кругом «дальним» – заокеанскими колониями – расположены согласно уровню родственности или уподобления обычаям английским.
* * *
Как цивилисты, так и корпорация юристов общего права в равной степени претендовали на миссию арбитра по отношению к институту монархии – при том, что в равной степени являлись апологетами монархической власти и ее «абсолютного характера. Юристы общего права апеллировали к тому, что именно их корпорация, сформированная древними обычаями и хранящая их, способна корректировать развитие иных институтов, включая монархию, в подлинно «английском» духе. Залог успешности монархии заключался, по их мнению, в сохранении ее английской аутентичности.
Было бы ошибочно последовать за политическими противниками цивилистов и упрекнуть последних в отсутствии «патриотизма». Вся интеллектуальная традиция, питавшая Общину докторов, побуждала цивилистов мыслить об английской монархии не как о самобытном явлении, исключительном для европейской цивилизации, но как о частном проявлении общего. Универсальная система цивильного права, воспринимавшаяся как развитие права естественного, несла в себе большой потенциал и была способна придать власти английского монарха не только «британский», но и поистине имперский размах. Сама по себе малочисленность Общины докторов вела к складыванию среди них своего рода элитарного сознания, а высокий статус судов, находившихся в «монополии» цивилистов (два из которых – суд Делегатов и Суд Арки играли роль высших апелляционных инстанций) подводил к мысли о том, что именно эта корпорация способна и призвана корректировать развитие монархии в соответствии с универсальными, а значит, наиболее естественными и потому верными закономерностями и нормами.
Содержание полемики между цивилистами и юристами общего права парадоксальным образом сводилось к интерпретации ряда общих для них обоих политико-правовых идей. Обе корпорации – во многом благодаря параллельно разворачивавшемуся процессу развития групповой идентичности – находились в процессе интеллектуального поиска. Полемика, развернувшаяся между двумя юридическими корпорациями, в этом отношении была зеркальным отражением процесса «поиска идентичности» британским обществом в целом. Две полярные друг другу идеи, сформировавшиеся еще в Средневековье – идея синтетической британской «империи»36 и этнической избранности англичан, актуальные и «узнаваемые» раннестюартовским обществом и потому имевшие широкое социальное звучание, приобретали множество современных оттенков и интерпретаций, влиявших в том числе и на развитие социопрофессиональных идентичностей.
Примечания
1 Подробно о проблеме континуитета королевских династий в Англии см.: Паламарчук А. А. Символика и атрибутика королевской власти антикварный дискурс начала XVII в. // Священное тело короля. Ритуал и мифология власти / Под ред. Н.А. Хачатурян. М.: Наука, 2006. С. 404–419.
2 Федоров С.Е. Имперская идея и монархии к исходу средних веков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. СПб., 2013. С. 77–89.
3 The Discoursive Construction of National Identity. 2nd Edition // Ed. by R. Wodack, R. de Cillia, M. Reisigl, K. Liebhart. Edinburgh, 2005. P. 9.
4 Brubaker R., CooperF. Beyond «Identity» // Theory and Society. N 29. 2000. P. 1–47.
5 Analysing Identities in Discourse / Ed. by R. Dolon and J. Todoli. Amsterdam, Philadelphia, 2008. Р. 4–5.
6 Communities in Early Modern England / Ed. by A. Shepard, Ph. Withington. Manchester, 2000. P. 7–9.
7 Федоров С.Е., Кондратьев С.В., Питулько Г.Н. Англия XVII в. Социо-профессиональные группы и общество. СПб., 1997; Huddy L. From Social to Political Identity: A Critical Examination of Social Identity Theory // Political
Psychology. Vol. 22. N1. 2001. P. 127–153; Conover P.J. The Role of Social Groups in Political Thinking // British Journal of Political Science. N18. 1988. P. 51–76.
8 Термин «artificial» – искусственный – разумеется, не синонимичен современному выражению «искусственный интеллект», а подчеркивает, что формирование этого разума – своего рода искусство, ars; т. е. разум, сформированный юридическим искусством.
9 Fulbeck W. Direction, or preparative to the Study of Law. L., 1829. P. 172.
10 Паламарчук А.А., Федоров С.Е. Антикварный дискурс в раннестюартовской Англии. СПб., 2013. С. 48–50.
11 Wolfson J. Padua and the Tudors. Cambridge: James Clarke &Co. 1998. P. 43–44.
12 Logan F.D. The Origin of the So-Called Regius Professorships. An Aspect of the Renaissance in Oxford and Cambridge // Studies in Church History N 14. 1977. P. 271–278.
13 Здесь уместно также вспомнить о том, что английские университеты не единственные на островах могли присуждать докторскую степень в области цивильного права. В университетах Шотландии – в Сент-Эндрюсе, Абердине и, в меньшей степени, в Глазго изучение цивильного права традиционно было приоритетным направлением. Шотландские юристы полагали именно цивильное право, наряду с королевским законодательством, основой права своей страны.
14 Wiswall F.L. The Development of Admiralty Jurisdiction and Practice since 1800. Cambridge, 1970. P. 75–76.
15 Суд архиепископа Кентерберийского, высший апелляционный суд метрополии – суд Арки (или, в просторечии, «Арка»), возник в середине XIII в., пережил Реформацию, утратив лишь право апелляции к Риму (вместо этого последней апелляционной инстанцией стал король в суде Канцелярии, где апелляции по церковным делам неизменно направлялись для рассмотрения цивилистам). Кроме того, суд Арки рассматривал апелляции из епархиальных судов, тяжбы о наследовании имущества по завещаниям и вопросы, связанные с законностью заключения или расторжения брака. Трибунал, аналогичный суду Арки, существовал в архиепархии Йорка и также обслуживался цивилистами.
Суд Адмиралтейства возводил свою историю к правлению Анжуйской династии, описался на полномочия адмирала (позднее – лорда адмирала) и первоначально предназначался для рассмотрения правонарушений, совершенных моряками вне пределов английской земли. К XVI в. в ведении Адмиралтейства оказался разнообразный круг дел, связанных с внешней торговлей страны, а также тяжб, где одна из сторон не принадлежала к подданным английской короны.
Рыцарский суд, именовавшийся также «судом Констебля и Маршала», эволюционировавший из средневековой curia militaris, был изначально предназначен для рассмотрения дел, связанных с преступлениями (прежде всего изменой или дезертирством), совершенными во время военных кампаний вне Англии. Особая категория разбирательств касалась законности использования гербов и притязаний на знатное достоинство, поэтому Рыцарский суд был неизменно связан с Коллегией герольдов. Наконец, Яков I предполагал, что разбирательства в Рыцарском суде касательно вопросов чести смогут стать альтернативой дуэлям.
Помимо перечисленных судов, в которых практиковали исключительно цивилисты, ряд трибуналов привлекал к работе и цивилистов, и юристов общего права.
Высший суд Делегатов, сформировавшийся в ходе бракоразводного процесса Генриха VIII, стал последней апелляционной инстанцией для всех английских судов цивильного права, помимо суда Кембриджского университета, а также для церковных судов. Он не был постоянно действующим органом, а представлял собой комиссии, назначавшиеся для рассмотрения конкретных дел. Палата Прошений – суд, созданный в 1483 г. и выводивший свои полномочия из полномочий Тайного Совета, был прерогативным судом справедливости и предназначался для того, чтобы самые бедные подданные короны могли обрести в нем королевское правосудие.
В Канцлерском суде, также являвшимся судом справедливости, цивилисты традиционно занимали места судей (masters of Chancery); они входили в состав консилиарных судов (Совета Севера и Совета Уэльса), практиковали в церковных судах разных уровней, а также в университетских судах Кембриджа и Оксфорда.
16 Заседания суда Делегатов могли проходить фактически в любом месте, которое было указано монархом, который утверждал патент о назначении «комиссии делегатов», рассматривавшей апелляции, поданные лорду канцлеру. Менее важные дела решались комиссиями, состоявшими преимущественно из цивилистов в холле Общины докторов. Более сложные случаи, рассматривавшиеся комиссиями с участием юристов общего права, могли рассматриваться в помещениях Вестминстерских судов или в иных местах.
17 Паламарчук А.А. Цивилисты в раннестюартовской Англии. Юридическая корпорация в поисках национальной идентичности // Вестник Санкт-Петербургского университта. Серия 2. История. Вып. 4. 2012. С. 60–68.
18 «Если мы не имеем писаных законов для каких-либо дел, то следует соблюдать установленное нравами и обычаем; а если этого нет для какого-либо дела, то (следует соблюдать) наиболее близкое и вытекающее из последнего (правило); если и этого не оказывается, то следует применять право, которым пользуется город Рим. § 1. Прежний укоренившийся обычай заслуженно применяется как закон. 33. (Ульпиан). Долго применявшийся обычай следует соблюдать как право и закон в тех случаях, когда не имеется писаного (закона). 35. (Гермогениан). Но и, то, что одобрено долговременным обычаем и соблюдалось в течение многих лет, должно быть соблюдаемо как молчаливое соглашение граждан не менее, чем записанное право. 36. (Павел). Это право (обычное право) пользуется тем большим авторитетом, что доказано отсутствие необходимости придать ему письменную форму. 37. (Павел). Если дело идет о толковании закона, то прежде всего следует выяснить, каким правом пользовалось государство ранее в случаях такого рода; ибо обычай является лучшим толкователем закона…» (Dig. 1.3. 32–37).
19 Характеристика английской монархии как империи прочно укоренилась в английской политико-правовой мысли в пост-реформационный период. И для цивилистов, и для юристов общего права этот статус представлялся неоспоримым.
20 Alberico Gentili. Wars of the Romans / Ed. by B. Kingsbury and B. Straumann. Oxford: Oxford University press. 2012. Р. 151.
21 Alberici Gentilis Hispanicae Advocationis libri duo. Hanoviae, 1613. P. 8487.
22 Ibid. P. 87.
23 Wiseman R. The Law of Laws. The Exellency of civil law….L., 1686. P. 151152.
24 Ibid., The Epistle; P. 5–6
25 Alberici Gentilis Regales Disputationes Tres. Hanoviae, 1605. P. 94.
26 «Monarchia est diversiorum regnorum collection in unum», – гласит еще одна предложена Джентили формула. (Alberici Gentilis Regales Disputationes Tres. Hanoviae, 1605. P. 45). В другом фрагменте уния корон уподобляется усыновлению отцом семейства детей от первого брака супруги.
27 J.G.A. Pocock. The Ancient Constitution and the Feudal Law. P. 30–32.
28 Sir John Davies. Le premier report des causes in les courts de Roy. Dublin, 1615. Английский перевод: A report of causes and matters in law resolved and abridged in the King’s courts in Ireland. Dublin, 1672.
29 Sir John Davies. Historical Tracts of Sir John Davies, Attorney general of Ireland and Speaker of the House of Commons in Ireland. Dublin, 1787.
30 Sir John Davies. Historical Tracts of Sir John Davies, Attorney general of Ireland and Speaker of the House of Commons in Ireland. Dublin, 1787. P. 2.
31 Ibid., P. 102.
32 Hulsebosch D.J. The Ancient Constitution and Expanding Empire: Sir Edward Coke’s British Jurisprudence // Law and History Review. Vol. 21. N 3. P. 439482.
33 Price P J. Natural Law and Birthright citizenship in Calvin’s case (1608). // Yale Journal of Law and the Humanities. Vol. 9. Iss. 1. Art. 2.
34 Coke E. The Fourth Part of the Institutes of the Laws of England. L., 1654. P. 345–348.
35 Трактат Regiam majestatem был составлен не ранее 1318 г. и является первым в истории Шотландии юридическим трактатом. Статутом 1318 г. трактат вводился в употребление и, очевидно, продолжал использоваться при Давиде II и Роберте II. После периода забвения текст был заново вошел в шотландскую юридическую практику при Якове I, который распорядился исправить ошибки и противоречия в го содержании. Он представлял собой компиляцию из трактата Гланвилла, элементов канонического права, серии ранних статутов и записанных обычаев шотландского королевства и был предназначен для использования в центральных судах королевства. В некоторых фрагментах Regiam majestatem представляет собой почти точную копию Гланвилла, но глава IV, посвященная преступлениям, содержит аутентичное изложение «законов бриттов и скоттов», причем в латинском тексте воспроизводится ряд гэльских терминов. В середине XIV в. шотландское общество оставалось настолько консервативным, что основанный на Гланвилле Regiam majestatem оставался более актуальным, нежели более современный текст Брактона, несомненно, известный в стране. Составление второго трактата, Quoniam Attachiamenta, современная историографии относит к началу XIV в., хотя традиция также связывает его истоки с царствованиями Роберта I и Давида II. В отличие от Regiam majestatem, данный трактат является описанием практики феодальных судов, их процедуры, юрисдикций и полномочиях должностных лиц, тем самым свидетельствует о намерении короны перейти в отправлении феодального правосудия от неписаных форм к фиксированным. 36 Федоров С.Е. Универсализм vs этноцентризм: империя и монархии к исходу средних веков // Известия высших учебных заведений. Правоведение. СПб., 2012. N6. С. 176–189.
Паламарчук А.А.
II.VII. Поэтика идентичностей. Памфлетная война вокруг проекта испанского брака принца Карла (1623–1624 гг.)
Формирование «больших идентичностей», того, что Бенедикт Андерсон называл «воображаемые сообщества», то есть таких идентичностей, которые превосходили корпоративные или групповые и конструировали сообщества, и не могли быть воплощены в зримом образе непосредственно1 в обществах периода перехода от Средних веков к раннему Новому времени или, в терминологии Иммануила Валлерстайна, в обществах системного разрыва2, порождает целый ряд вопросов. В своей статье «Воображаемые сообщества: кто же их воображает?» Патра Чаттерджи совершенно справедливо указывает, что процесс старта «воображаемого сообщества нации» не может быть одномоментным для всех представителей большой группы, и все равно должен начаться с некоей малой группы, которая сама по себе «воображаемым сообществом» не является, но идентифицирует себя с ним3.
Для обществ, к которым обращается Чаттерджи, такой стартовой точкой являются группы интеллектуалов, получивших западное образование, и совершающих выбор между следованием западной традиции или отрицанием ее в процессе модернизации, то есть в том, что Клиффорд Гирц определял как «эпохализм» и «эссенциализм»4. Однако подобный подход, относящийся к выбору программы формирования идентичности по схеме отношения к «другому» (Западу) в условиях необходимости модернизации в духе этого «другого», не может быть применен к обществам периода XVI–XVII вв., у которых просто не было «своего Запада», а необходимость модернизации не диктовалась необходимостью «догнать» ушедшие вперед страны западного капитализма и демократии.
Таким образом, выявление групп, с которых начинается конструирование «больших идентичностей», «воображаемых сообществ», а также форм распространения их влияния в Европе XVI–XVII века, представляет собой серьезную исследовательскую проблему. Один из возможных путей ее решения предлагает нам неоисторический подход и концепция «культурной поэтики»5, выдвинутая в рамках этого подхода Стефаном Гринблаттом. Он определял культурную поэтику как «исследование коллективного создания различных культурных практик и вовлечения их в отношения с другими практиками… процесса формирования коллективных верований и опытов, их передачи, концентрации в эстетических формах, которыми можно манипулировать и предлагать к потреблению»6.
Хотя неоисторический подход весьма широк и не представляет собой единой школы, всех авторов объединяет, в качестве философско-антропологической основы, обращение к работам Мишеля Фуко, Клиффорда Гирца, Луи Альтюссера, Жака Дерриды и, особенно в последнее время, Пьера Бурдье. Один из представителей неоисторизма, Луи Монтроз, определял цели неоисторизма как «исследование сущностного или исторического базиса, на котором «литература» отделяется от других дискурсов, возможных конфигураций отношений между культурной практикой и социальными, экономическими и политическими процессами. Последствий постструктуралистской теории текстуальности для практики исторического и материалистического исследования. Средств, которыми социальные субъективности устанавливаются и связываются, процессов, в которых идеология производится и поддерживается. Схем созвучий и контрадикций среди ценностей и интересов индивида, которые актуализируются в шаговых смещениях различных субъектов»7.
Несмотря на достаточно обширную, и в отдельных моментах справедливую критику неоисторизма за чрезмерный материализм, «политизацию ренессанса» и увлечение отношениями власти8, за чрезмерное внимание к текстуальному анализу в ущерб анализу властных практик и трансляцию мифов ренессансной власти9 и даже за подрыв ценностей западного общества10, неоисторический метод, позволяющий выявлять в текстах взаимодействия групповых и индивидуальных ценностей и интересов в их социальном и политическом контексте, процессы формирования и «запуска в оборот» идеологических конструкций представляется весьма оправданным для анализа заявленной проблемы.
Кроме того, важно отметить, что исследователи, близкие к неоисторическому направлению, обращаются к вопросу границ, пределов, структурирования пространства и через это к образу другого. Торил Мои сформулировала существование того, что есть теоретический демаркированный географический ландшафт, который определяет приоритеты центра и границ как репрезентативные и конструктивные разделения символического порядка, при этом идентичность может определяться через негативные маркеры, в терминах маргинальности и отсутствия каких-либо признаков11. Подобный подход основан на тезисе Жака Дерриды о том, что «идентичность вещи определяется в равной степени тем, чем вещь не-является, и тем, чем она является, и также она несет след своих прошлых и будущих идентичностей».
При этом то «иное», что находится за сконструированной границей и присутствует маргинально, является той сущностью, через которую центр определяет свою идентичность, тем «другим», который не есть бинарная оппозиция, но необходимое условие существования ядра. Возникающий при этом «конфликт смыслов» позволяет раскрыть «письмена инаковости» в действии, через которое «иное» поддерживает свое взаимодействие с тем, чем не является, но что определяет12.
Следует также отметить, что «другой» является необходимым условием как позитивной, так и негативной идентичности. В противоречие устоявшемуся представлению о том, что негативное описание есть первая, примитивная фаза конструирования собственной идентичности, за которой неизбежно идет высшая стадия позитивной идентичности, рамках интерсубъективной логики определение себя через негативную характеристику является не менее, если не более важным. При описании себя положительными характеристиками (P есть Q, P есть X и т. д.), происходит фиксация каких-либо качеств, которые позволяют причислить себя к определенному типу, то есть идентифицировать через сходство с известными иными субъектами. Иначе говоря, идентичность формируется через включение себя во всеобщее. При негативном описании (P не-есть Q, P не-есть X) и т. д. субъект описания четко отделяет себя от остального мира, подчеркивая собственную идентичность через собственную уникальность. Это и может быть выбрано стартовой точкой формирования идентичностей, в том числе и «больших».
Событийный фон
Идея брака, призванного скрепить непростые отношения Англии и Испании возникла еще в конце первого десятилетия XVII в. Причины появления этого проекта были весьма многочисленны. Во внешнеполитическом смысле конфликт с Испанией не мог принести особой выгоды Якову, в то время как военные расходы вынудили бы короля прибегнуть к парламентским субсидиям и, соответственно, быть более сговорчивым в противостоянии с Парламентом. Богатое приданое, обещанное испанцами, позволяло Якову получить на руки мощный козырь в отношениях с Парламентом – финансовую независимость. Имелись мотивы и личного, психологического, а также идеологического свойства. В частности – стремление Якова I позиционировать себя как нового Генриха VII, который, как известно, скрепил мир с Испанией и обеспечил казне значительное пополнение за счет брака испанской принцессы Екатерины Арагонской и своего старшего сына Артура.
Смерть принца Генри вызвала перерыв в этих переговорах, которые возобновляются после инаугурации второго сына Якова – Карла в качестве принца Уэльского (1616 г.) и, особенно активно – после начала 30-летней войны. Идея испанского брака оказывается в центре запутанного клубка внешнеполитических проблем (самая важная из которых – возвращение Пфальца зятю Якова I – пфальцграфу Фридриху), сложных отношений с Парламентом и тяжелой финансовой ситуации. К этому добавлялись противоречия между группировками придворной знати, где стремительно восходила звезда Джорджа Вильерса, будущего герцога Бекингема и alter rex, и непростые внутрисемейные отношения Якова I. Дополнительным фактором был крайне негативный образ испанцев и Испании, сложившийся в сознании англичан на протяжении XVI века, а также личность испанского посла – дона Диего де Сармиенто, впоследствии – графа Гондомара.
Итак, 19 февраля 1623 г., несмотря на нежелание Якова I и противодействие некоторых его советников (прежде всего – Лайонела Крэнфилда, графа Миддлсекса), Принц Карл и тогда еще маркиз Бекингем отправляются в путь инкогнито, в сопровождении всего двух слуг. Они ехали инкогнито, под именами Джек и Том Смит, не имея охранных грамот ни от французского, ни от испанского короля (напомню, формального противника в 30-летней войне). Риск в условиях европейской войны был очень велик. Общее отношение к событиям хорошо выразил королевский шут Арчибальд Армстронг. Узнав о поездке, Арчи заявил: Вашему Величеству следует поменяться со мной головным убором». «Почему?» – спросил король. «Потому – отозвался Арчи – что не я послал принца в Испанию». «А что ты скажешь, если принц вернется домой?» – «С удовольствием я сниму шутовской колпак с вашей головы и отправлю его королю Испании»13.
И Карл, и Бекингем носили в Англии фальшивые бороды, причем это действительно помогало им скрывать свою личность. В качестве примера можно привести эпизод, когда перевозчик, получивший от Бекингема несоразмерно крупную плату, донес властям о том, что два джентльмена едут в порт и далее, очевидно, в Нидерланды на дуэль (распространенная практика в связи с запретом на дуэли в Англии). Мэр Кентербери хотел арестовать подозрительных джентльменов, но Бекингем снял бороду и объяснил, что едет для секретной инспекции флота. Они высадились в Булони 19 февраля 1623 в 2 часа дня, вечером 21 февраля приехали в Париж, где провели 2 дня. Там они при дворе встретились с королем, королевой-матерью, монсеньором Кадине. Во время танцев Карл встретил свою будущую супругу – принцессу Генриетту-Марию. 23 февраля путешественники покинули Париж и через шесть дней оказались в Байонне. Разумеется, после этого ни о каком «инкогнито» не могло быть и речи. И действительно, Генри Уоттон указывает, что в Байонне местный губернатор, граф де Грамон, лично встретил принца Карла и Бекингема, «и заботился об их личности и имуществе, поскольку считал, что перед ним джентльмены куда большего достоинства, чем говорят об этом их наряды»14.
Несмотря на то, что по прибытии в Мадрид переговоры о браке шли очень тяжело, не в последнюю очередь из-за личных противоречий между Бекингемом, английским послом графом Бристолом и фаворитом испанского короля доном Диего де Гусманом, графом Оливаресом, уверенность в успешности предприятия была сильна весной 1623. Именно в апреле Яков I приказывает подготовить флот, который доставит принца Карла и инфанту в Англию. Флот под командованием адмирала графа Ратленда, который был отправлен из Дувра в мае 1623, однако из-за встречного ветра достиг Сантандера только в сентябре. Флот состоял из 8 крупных кораблей, которые несли более 30 орудий и 2 вспомогательных (14 орудий). Флагманским кораблем был Prince Royall, под командованием капитана Генри Мэндоринга. Кроме графа Ратленда в экспедиции участвовали бароны Морли (вице-адмирал) и Уиндзор. Дипломатическую миссию осуществляли сэр Томас Сомерсет, сына графа Вустера и сэр Джон Финетт, заместитель главного церемониймейстера.
Основным камнем преткновения в переговорах были судьба Пфальца, размеры и использование приданого – Епископ Гудман вспоминал, что граф Гондомар в разговоре с герцогом Ленноксом утверждал, что его господин «даст приданое большее, чем любой христианский государь, но инфанте должна быть предоставлена свобода вероисповедания. Кроме того, брак должен служить союзу. Если король Испании дает в приданое миллион, он не хочет, чтобы на эти деньги вели с ним войну или укреплялись его враги в Голландии. Леннокс заметил, что на таких условиях брак вряд ли возможен»15. Проблемой также являлось получение разрешения на брак от Святейшего престола и религиозное воспитание будущих детей. Дипломатические усилия ничего не дали, переговоры зашли в тупик и 1 сентября 1623 Бекингем, с 18 мая герцог, пишет своему королю в Лондон: «Сир, я привезу все, что Вы желаете, кроме Инфанты, и это разбивает мое сердце, поскольку из-за этого пострадает честь Ваша, Вашего сына и всей страны».
5 октября 1623 становится известно, что принц высадился в Портсмуте, и не привез с собой ненавистной большинству английского общества невесты. Хотя, из-за провала миссии, официальных торжеств в честь возвращения принца не было, в Лондоне были бурные гуляния, звонили в колокола и жгли костры. «Весь день был наполнен весельем и благодарением, когда люди всех достоинств, знатные и незнатные, богатые и бедные в Лондоне, Вестминстере и предместьях изо всех сил демонстрировали свою любовь. Костры зажигали на улицах, площадях, в переулках и дворах, несмотря на дождь…. воздух наполнился выкриками и благословлениями, которые смешались со звуками музыкальных инструментов, залпами орудий и мушкетов, звоном колоколов, боем барабанов, звуками труб.
Знатные, джентльмены и другие раздавали бедным золото и выкатывали на улицу телеги с вином».
Итак, на этом фоне развернулась настоящая поэтическая война. Англию буквально захлестнула волна поэм, частушек, песен на манер народных баллад, авторы которых излагали свои взгляды на события. Именно на них и будет обращено внимание в представленном исследовании, за пределами которого останутся драматические произведения – пьеса Томаса Миддлтона «Игра в шахматы» и придворные представления (маски) Бена Джонсона («Триумф Нептуна в честь возвращения его сына Альбиона», «Счастливые острова и их союз» и «День рожденья Пана или праздник пастухов»), также затрагивающие тему испанского брака. Впрочем, их идеи и образы вполне соответствуют представленным ниже группам. При этом огромный массив памфлетов, опубликованных Алестером Беллани и Эндрю МакРаем, можно, достаточно условно, разделить на несколько групп. Из каждой группы будут рассмотрены наиболее типичные и наиболее яркие, хотя и маргинальные примеры. Следуя утверждению Карло Гинзбурга, рассмотрение последних может дать даже больше для понимания всего ряда, более рельефно выявить ключевые символы, связи, метафоры.
«Монарх знает, что делает» – сторонники проекта
Поскольку идею брака отстаивали в стихах не только верные подданные Якова I, но и сам монарх, элементарное чувство приличия и уважения требует от меня начать рассмотрение именно с творения венценосного поэта, с его стихотворения «Джек и Том уехали в Испанию»16:
Вдруг тьма окутала наш край, Прекрасный аркадийский рай, Не видно пышнорунных стад, Не слышно блеянья ягнят, Огонь под жертвой разожжем: Скорей вернитесь, Джек и Том!17 Весна обходит стороной18 Наш край, лишь ветер ледяной Кружит, и птицы не поют, Луга и рощи не цветут, Текут слезами воды рек: Скорей вернитесь, Том и Джек! Из-за кого же вся страна Столь тяжкой скорбью сражена? Надежда греков,19 брат искусств20 — Принц Джек – сосуд всех добрых чувств. И Том, для Пана21 лучший друг, Вернейший из надежных: слуг. Геспер22 послал могучий бриз, И ветер устремился вниз С Меналуса23 и дальше, прочь, За море, должен он помочь, Плывите мирно, Джек и Том, В страну, где у Геспера дом.24 Любовь несет тот бриз с собой, Принц стал пажом,25 но ведь любой (Коль счастье нам любовь дает, А страсть – удачу в свой черед)26 Вам скажет: Джек вернется в дом С наградой – Золотым Руном.27 Любовь – огромная земля, Там есть ущелья и поля, Утесы и зеленый луг, Там равно радостей и мук, Но здесь лишь счастье суждено — Любовь с Фортуной заодно. И твой отец, и славный дед Спешили за любовью вслед, От них тебе пример был дан В земле французов и датчан,28 Так поспешите, Джек и Том, Идти проторенным путем! Вы, пастухи,29 любили их, Утрите слезы с глаз своих, Смирите скорби голоса — В пути хранят их Небеса, Сам Пан спасает от врага:30 Его сын – Джек, а Том – слуга.Итак, Его Величество написал достаточно традиционное для себя произведение. Четкий ритм, выверенные рифмы, насыщенность (даже перенасыщенность) символическими образами античной мифологии. Безусловно, это творение царственного пера нельзя сравнить с произведениями его современников – Шекспира, Джонсона, Донна и многих других великих поэтов эпохи, но и обвинения в педантизме и «тусклости», «блеклости» текста, которые выдвигает Джон Хинэйдж Джесси, выглядят очевидно надуманными и предвзятыми. Что же представляет собой пасторальный мир Пана? Это далеко не вся Англия. Мы видим идеальный сад на священной горе Меналус. В символах стюартовского мифа, наиболее ярко продемонстрированных в масках «День рождения Пана», природа, идиллическая пастораль есть земное отражение вселенского порядка и гармонии, установленной по воле монарха Вселенной – Бога, земным отражением которого является монарх земной – Яков I31. При этом как райский сад является образцом идеально организованной Вселенной, но не присутствует во всех точках мира, так и земной пасторальный рай – двор – является образцом организации общества, но не распространен на всю страну. В масках пасторальный мир двора противопоставляется миру горожан.
Здесь остальной мир просто не упоминается. В мире этого стихотворения существуют лишь сам король, его сын, его фаворит и упомянутые в самом последнем стансе «пастухи», то есть придворные аристократы и, самое большее, депутаты Парламента. «Овец», то есть подданных в символической системе стюартовского мифа, просто нет. Даже роль пастухов абсолютно пассивна – они должны только полностью довериться могуществу Пана, который сохранит своего сына и любимого слугу.
Даже сама организация текста, разбитого на шестистишия, каждое из которых (кроме одного) заканчивается повторением имен Джека и Тома, указывает на некую замкнутость. Разумеется, схема «прощание с домом – пребывание в чужой стране – возвращение домой» характерна для подавляющего большинства стихотворений, посвященных прощанию или отбытию. Однако здесь подчеркивается противопоставление Меналус – любая другая страна (Испания, Франция, Дания). В далекую страну можно отправиться на поиски приключений, награды, по велению Любви и Фортуны, но, обретя награду, следует поспешить домой, снова на Меналус, к Пану и пастухам. То есть ко двору. Остальной Британии и «овцам» в этой схеме места просто нет.
Подобный взгляд характерен не только для самого монарха, но и авторов, так или иначе связанных с двором и интересами наиболее могущественных придворных. Один из таких авторов – Ричард Корбетт, человек из окружения Бекингема. Его стихотворение написано в форме письма к герцогу Бекингему. Поскольку в тексте Бекингем назван герцогом, но он и принц еще не вернулись, и Корбетт еще не знает о провале проекта испанского брака, можно утверждать, что поэма написана между 18 мая и 5 октября 1623 г. Скорее всего – до 1 сентября, так как в этот день стало известно, что инфанта не приедет в Лондон, о чем Бекингем написал Якову I. В тексте упоминается восход Сириуса, который царит, с точки зрения астрологии, в июле-августе, скорее всего, именно тогда стихотворение и было написано.
Читал я: остров плавал по морям В стихах чужих,32 но я не видел сам Как это было. Вы и принц сейчас Открыли чудо древнее для нас. Когда пришла Звезды Собак33 пора, У нас, как и в Испании, жара, Такой же ветер, зной и пыль столбом, Как там, где Вы. Вас ждет родимый дом. Курс пролагая, пусть Ваш компас врет, И по неверной карте так ведет, Чтоб Англия была обретена На много миль южней, чем быть должна.34 Когда, под ложной бородой35 скрываясь, Вы за спиной оставили Блэкфрайарс,36 Назвавшись Смитом,37 не прошел и день, Как у собора38 все, кому не лень Творили слух про путь на край Земли, Как май или июнь Вы провели, Как долго ваш корабль по морю плыл — Все приключенья на пути в Мадрилл.39 А после вы бы услыхали здесь Что гранды оскорбляли вашу честь, Что был наш принц вседневно окружен Испанской стражей, верных слуг лишен. И даже капеллан пройти не мог В покои принца, хоть молитвы срок И приходил. Вы были б голодны, Хоть яствами столы ваши полны, Узнав, как принц в Мадриде голодал,40 Хотя жену, не голод там искал. Протухли яйца, оленины нет, Барашков, каплунов – вот в чем секрет: Из-за жары – вот удивитесь вы — Здесь только сено, вовсе нет травы. Моря здесь обратились в кипяток И устриц нет сырых. Вина глоток В пар обратился, мех свой разорвав, А мясо пахнет так, что нет приправ, Чтоб вонь отбить. Был Вами разделенный На четверти – как делят год сезоны — Один цыпленок пищей всенедельной. Для крылышка назначен понедельник, Во вторник – ножка, шейки час пришел На третий раз, а потроха на стол Идут в воскресный день, и, несомненно, Кормление такое – акт измены. И не вернется аппетит, боюсь, К тем, кто познал мадридский перекус. Пока я новости стихами повторял, Сам захотел поесть, и приказал Подать мне завтрак; слухи же оставил На тех, чей лучший друг – апостол Павел.41 Их лично герцог Хамфри42 накормил Церковным воздухом и запахом могил. Вот новости (находит тот, кто ищет): За карточным столом четыре тыщи Милорд спустил,43 и Ваши злоключенья Ему казались легким развлеченьем. Как далеко вы – я аж чертыхаюсь! И в ссоре с Вами сам граф Осливарес,44 Слыхал – приливу равен графский гнев, Но шесть часов пройдет – и отшумев Исчезнет он. И цикл сей совершенный Нам волю Господа укажет несомненно, Что принц спешит в родимые края Но долгий путь – приманка для вранья. Коль вести доброй рады небеса, Все больше врут людские голоса. Бумаги извели – устал считать, И лучше не смотреть и не держать Известий лживые слова в руках, Они лишь портят девственность бумаг. Когда-то был «Бельгийский муравей»,45 Теперь же королевою своей Инфанту назовем. И ваш успех Сулит восторг и радости для всех. И, под конец, молитвою своей, Как мать для Зеведея сыновей,46 Того же попрошу для Вас и я — Ближайшие места от короля, И Яков будет вами окружен — Принц справа, слева Вы, а в центре трон. Гнев Господа тут в милость превратится И я коснусь губами длани принца.47 А Вам, мой герцог, царственный Ваш друг Награды даст за множество заслуг. Подарки эти сами Вы ковали, Ведь «Смит» назвавшись – кузнецом Вы стали.48 Хоть Вы еще в далекой стороне, Судьба, я верю, улыбнется мне И долю скромную уделит от того, Чем дарит Вас, любимца своего.В целом, Корбетт излагает практически те же мысли, что и его царственный собрат по перу. Он сходно излагает и интерпретирует основные идеи стюартовского мифа, прежде всего – мысль о естественности королевской власти и замкнутости мира двора. Вне описания Корбетта остался весь путь принца Карла и Бекингема до Мадрида. Принц просто перенесся из мира одного двора в мир другого. Да и возвращение его оформлено в качестве очередной иллюстрации мифа. Плавучий остров, волшебный природный объект, не имеющий никакого отношения к людям, переносит принца из мира мадридского двора ко двору короля Британии. Причем, если предположение о том, что Корбетт знал о сюжете масок, готовившихся к Рождеству 1624 (а это вполне вероятно, учитывая его близость ко двору и работу новостного агента) верно, то образ замыкается полностью – по сюжету масок остров появлялся непосредственно на сцене, в Банкетном зале, то есть принц доставлен непосредственно ко двору. В тексте неоднократно подчеркивается, что двигается этот остров только по воле короля:
Выполнен приказ, Но сына видеть пожелал сейчас Нептун, и вот отправиться спешит Плавучий остров к брегу Гесперид.Действующие лица в стихотворении Корбетта те же самые – принц Карл, герцог Бекингем и незримо присутствующий Яков I, неподвижно царящий на своем троне. Но Корбетт лишь косвенно принадлежит миру двора, он не монарх и не придворный аристократ. Поэтому в его произведении появляются «чужие». Это новостные агенты, обитатели паперти собора св. Павла. Показательно, что Корбетт, рассматривающий себя, человека из окружения Бекингема, как часть мира двора, создает негативный образ новостных агентов, хотя и сам работает таковым. Но его коллеги для него – чужие, поскольку граница мира Корбетта, как и мира Якова I проходит по палате дворцовой стражи, по линии, отделяющей замкнутый придворный мир, мир аристократии, античных символов, неоплатонических идей и мифов династии, от всего остального.
«Да здравствует король, принц и Англия! Долой испанцев и папистов!» – верные подданные
Другую группу образуют несколько памфлетов, на первый взгляд довольно сильно отличающихся друг от друга. Но есть ряд факторов, позволяющих объединить их. У них нет автора, точнее – автор неизвестен. В одном случае действительно складывается впечатление, что авторов было несколько. В других отсутствие автора – правила игры в «народные куплеты». Впечатление «народности» должен был усилить стиль произведений, которые ритмом, рифмами и нарочитой небрежностью (неточные рифмы, сломанный ритм, рифмовка одинаковых слов, глагольные рифмы) напоминали народные баллады и куплеты классического средневековья49. Среди метафор и символов напрасно искать свойственные придворной поэзии античные образы в неоплатонической трактовке.
Об Испанском браке50
Все с волненьем говорят О златой принцессе. Папа против51 – ей не быть С принцем Карлом вместе. Поскольку принц не получил Кормления для свиты, Для лошадей, для трубачей — О свадьбе позабыто.52 Гондомар берег свой план, Как несушка – яйца, Только нынче он протух… Как мне жаль страдальца!53 С ним вместе много англичан, Всем новостям в ответ Бранятся так, поскольку брак Совсем сошел на нет. Граф Бекингем54 и Коттингтон, И Портер рядом был55 — Трудились все, чтоб по весне Наш принц в Мадрид приплыл. Но там инфанта, принц наш – здесь, Их брак не состоится, И принцу пусть пошлет Господь Скорее вновь влюбиться. Граф Ратленд здесь, наш адмирал, Лорд Виндзор тоже тут, Лорд Марли выбирал корабль С девицей на борту.56 Господь помог и добрый бриз Нес флот, подобно пуху, А принца так любил Мадрид, Как Марли – свою шлюху57. [Блестяще был украшен флот, Папистам всем на страх, Был грозен адмирал, хотя, Не побывал в боях. Надеемся, что моряки У талей не заснут, И всех папистов через борт С насмешками швырнут.]58 Вот что скажу об этом вам: Не все – пустые слухи Сквозь щели правда лезет, как По осени в дом – мухи.59 Мешают сплетни и скандал, И ныне очень сложно Брак заключить.60 Теперь наш флот61 Отплыть к испанцам должен. Пусть принца с королем хранит Господь от всех врагов, Испанолюбцев хитрых, кто Продать страну готов62. По воле Бога должно брак Для счастья заключать, И лишь французам суждено Любовью торговать63.Исполненная в народно-насмешливой манере, эта баллада, тем не менее, проникнута верноподданническими чувствами. Никоим образом критике не подвергаются ни король, ни принц, ни Бекингем. Хотя автор очевидно отрицательно относится к проекту испанского брака, он не возлагает вину за этот проект на короля или принца и лишь очень косвенно – на Бекингема. Испанский брак представлен скорее в виде стихийного бедствия или испытания, посланного Богом, которое англичане с королем и принцем во главе с честью выдержали. Несмотря на явный протестантизм и антикатолицизм автора (или авторов), его ненависть к испанцам мотивирована не конфессиональными противоречиями – над английскими католическими лордами и французами он только смеется (правда, довольно резко). Не упоминается в тексте и Тридцатилетняя война – еще один повод для антииспанских настроений, поскольку упоминание Тридцатилетней войны неизбежно вело к критике Якова I за нежелание активно вмешаться в ход военных действий на стороне протестантов. Скорее это антагонизм, происходящий, безусловно, из конфессиональных конфликтов XVI века, но в 20-е гг. XVII в. воспринимавшийся как добрая старая английская традиция, происходящая из «славных времен Елизаветы». Так что вполне обоснованным выглядит предположение, что автор – елизаветинец, но одновременно и верный подданный Якова I. Он человек, для которого правление Елизаветы и все его элементы (в том числе и вражда с Испанией) – элемент «английскости», а Яков – законный наследник и продолжатель английских традиций. Очень похожа на предыдущую и баллада «На возвращение принца из Мадрида»:
Наш принц вернулся в край родной, Восславим Бога всей страной, Он повидал Мадрид. И каждый плут, что раньше лгал, Теперь «Я принца увидал!» — На всех углах твердит. Как много тех, кто ложь на бред Нагромождали, целый свет Вгоняя этим в страх64. Но вот, к восторгу всей страны, Принц не привез себе жены — Паписты65 в дураках. Тогда они ответят так: Им разрешения на брак Не дал Святой Престол. Но не бояться папских кар Просил нас хитрый Гондомар, Пронырливый посол. Еще расскажут, как скудна Еда в Мадриде, но видна Ложь в этой болтовне. Там принцу с герцогом даны Подарки столь большой цены, Что рады все вполне66. Когда наш принц пришел назад, Казалось – пламенем объят Наш град, везде огни67. Их нынче больше здесь зажглось, Чем видеть городу пришлось В Марии68 злые дни. Насколько радость здесь сильней, Чем вызвал в людях принц Эней, Прибывший в Карфаген69. Какой-то пьяница сказал: «Не должен плавать славный Карл, Чтоб не попасться в плен». Монарха и простых невежд — Наш принц хранитель всех надежд, На радость всем рожден. И в кабаке дурак любой Вердикт провозглашает свой Под колокольный звон. И наш Лорд-мэр был очень рад, Надев торжественный наряд, В Йорк-хауз поспешил. Его не ждали, между тем, Наш принц и добрый Бекингем, Их след давно простыл70. Скажу я так: желал бы я, Чтобы в далекие края Отправлен был судьбой, Покинув край, где был рожден, Я был бы лучше награжден, Чем цепью золотой. Царят паписты в той стране, Так тяжек путь туда, ведь мне, Не мил никто из них. Мне люб мой принц и герцог мой, За них расстанусь с головой, О том поет мой стих.Финальная фраза четко расставляет приоритеты автора – он добрый подданный короля, поэтому принц и королевский фаворит также находятся вне всякой критики. В целом это произведение повторяет идеи предыдущего, с несколько большим вниманием к религии (часто упоминаются паписты, преследования при Марии). Некоторое различие наблюдается в более активном применении исторических метафор (образ костров протестантских мучеников при Марии, призванный посеять одновременно тревогу и радость избавления) и античных мифологических образов (Эней, символизирующий происхождение британцев от троянцев и, таким образом, дающий мифологическое основание их идентичности). К своим соотечественникам автор относится без восторга (они плуты, лжецы, пьяницы, простаки, дураки), но и без особого негатива, скорее – снисходительно и иронично. Они живут в его мире, являются его органичной частью. Этот мир, основанный спутником Энея Брутом, впоследствии распавшийся, подвергшийся страданиям при Марии, снова объединен новым Брутом и счастливо избег новой угрозы повторного испанского брака. Поэтому его костры – огни радости, а его обитатели могут позволить себе пить, веселиться, говорить, возможно, не слишком мудрые вещи и вести себя комично. Скорее те, кто не веселятся – враги, поскольку они хотели, чтобы испанский брак случился и власть «папистов» установилась в «веселой Англии».
Попытка самоидентификации возможна и методом «от противного». В этой ситуации акцент делается на образе «чужого» и на том, что «мы» не такие как «они». Перед глазами лондонцев был человек, воплощавший для них все испанское и католическое – дон Диего де Сармиенто граф Гондомар, экстраординарный посол испанского короля и один из наиболее активных сторонников испанского брака. Ненависть к нему многократно превосходила даже обычное крайне негативное отношение к испанцам. Особенно ярко это проявилось во время процессии лорд-мэра в 1617 г. Представление «Мира, Процветания, Любви, Союза, Изобилия и Верности» (достаточно обычный сюжет процессий лорд-мэра) включало в себя «Сцену различных народов» (Pageant of several Nations). Капеллан венецианского посольства Орацио Бузонио отметил, что все внимание зрителей сосредоточено на незначительной части представления, где демонстрировали одиозных испанцев. Актер, к восторгу толпы, очень удачно пародировал ненавистного графа Гондомара. В итоге аллегория, которая должна была прославить англо-испанскую дружбу, стала центром ксенофобских настроений71.
Гондомар
О философе Хэриоте,72у которого была фистула in naso73 и сеньоре Гондомаре, у которого фистула была in ano74.
Как может быть? Неужто две страны Одной болезнью вдруг поражены? Страдают фистулой? Но проясним вопрос: Испанский грех английский чует нос. Любой испанец – словно скорпион: Хвост полон яда – ликом честен он. Возможно, он очистился в огне75 И этим стал известен всей стране. Однажды, поскользнувшись, он упал И весь скелет себе переломал, И умер бы. Но дело при дворе76 — Он скрылся сквозь бездонный табурет77. Он англичанин внешне, что бесспорно. Испанец в сердце – мир творит притворный, Мечтая о войне78, но говорят, Что точит франков хворь79 французский зад. И Франция, и хитрый Гондомар В Британию свой источают дар80, Но Гондомар в носилках81 бога просит Не повторять год восемьдесят восемь82 И Везель83 для него. Понятен страх — По сговору, не по любви сей брак. Казаться, а не быть84 – испанцев страсть, Но в Англии считают – это грязь, Свидетель Хэриот. Дырявый нос Носил ничто – и смерть себе принес. И тем же плут испанский награжден За то, что был им заговор сплетен. Случалось ли встречаться им? Возможно, Но вот одно я знаю непреложно: Чтобы заразу передать по кругу Пусть зад они понюхают друг другу.85В этом случае автор, хотя и рисует прямо противоположные образы, разделяет мир точно так же, как и два предыдущих. Принцип описания «от противного» предопределил целую цепочку негативных и непристойных тропов, призванных создать соответствующее настроение и отношение к главному герою у читателя. Кроме сравнения с Хэриотом, которое доказывало безбожие Гондомара и целого набора шуток «ниже пояса», автор использует исторические образы, прежде всего – знаковую и уже мифологизированную победу над Армадой. Таким образом, как и в первом случае, автор маркирует золотой Век Елизаветы как квинтэссенцию «английскости», а Испанию – как унаследованного врага. При этом «свой», англичанин, рисуется как бы в тени, как противоположность карикатурному образу испанца Гондомара. Эта оппозиция показана непосредственно в самом тексте. Французы снова выступают только в качестве объекта для шуток, связанных с французской болезнью, их католицизм не превращает их во врагов.
«Спасти истинную религию!» – конфессиональные радикалы
Артур и славный Круглый Стол…
Это произведение, демонстрирующее пример крайне негативного отношения к испанскому браку, написано в стиле народных баллад. Связь с народным творчеством должна была подчеркнуть неаккуратность написания – несколько раз ломается ритм, присутствие очень неточных рифм (thence – Prince), рифма it – it, переход от мужских окончаний строк к женским (все эти недочеты в переводе устранены или смягчены). При этом автор демонстрирует довольно высокую осведомленность в событиях испанского брака и в мифологии, окружавшей королевскую семью.
Сочетание этого с большим вниманием, которое автор уделяет сексуальным порокам, а также откровенно негативным отношением к Бекингему, принцу и королю, позволяет предположить, что этот стихотворный пасквиль зародился в пуританской среде.
Артур и славный Круглый Стол, И Черный Принц, что войско вел,86 Никто из англичан, Не мог – так хроники гласят — Поставлен быть в единый ряд С тем, чей портрет здесь дан. 87 Он не водил отцовский флот, Он не командовал: «вперед!», Бесстрашный принц другой, То в Азенкуре сделать смог,88 Но спорт искусный любит Бог, А не кровавый бой.89 Как рыцарь странствующий в ночь, Так рвался он из дома прочь, Куда любовь зовет.90 Его сундук зарок в том дал: Он две рубашки только взял, Домой же три везет.91 В чужое платье он одет, А тот, кто дал такой совет — Его он взял с собой. Насколько ж он славней, чем тот, Кто войско за собой ведет Под барабанный бой. Французы – любопытный люд, А принца нашего так ждут92 (Со мною в том не спорь), Что все мы молимся до слез, Чтоб наш наследник не привез Домой французов хворь.93 Чтоб веселее стал наш стих, Припомним мы его родных, Живущих далеко,94 О чьей судьбе мольбы слышны От лучших пасторов страны, А им все нелегко. Винить монарха не дерзнул, За то, что Англией рискнул,95 Никто во всей стране. С маркизом утекла любовь, И топит овдовевший вновь Страдание в вине.96 Совет был страшно оскорблен, К молчанью призывает он — Его вины в том нет, Что Суверен – в который раз — Не смог укрыть от зорких глаз Постыднейший секрет.На представление, поставленное для принца Карла при испанском дворе
Текст не описывает никакого реального представления, поставленного во время пребывания принца Карла в Мадриде97. Автор очень иронично описывает смерть Папы, явно сочувственно относится к протестантам и, особенно, пуританам. Его ненависть к митрам и ризам дает возможность предположить, что автор – радикальный протестант (пуританин). Текст не очень аккуратен, три раза встречаются рифмы him – him, много глагольных рифм (в конце целое четверостишие). Почти все эти недочеты, кроме последнего, устранены в переводе. С другой стороны, автор весьма неплохо осведомлен в организации сцены придворного театра и в устройстве сценических машин, и можно предположить, что он видел придворные маски.
Принц Карл недавно с группой верных слуг В Мадриде был, и если верен слух, Католики с великим уваженьем Показывали принцу представленья.98 Внезапно церковь Рима умерла,99 Как знатный, обезглавлена была,100 Лишь жизни блеск ушел из папских глаз, Как хитрые католики тотчас Придумали в честь божьего любимца Поставить маски перед нашим принцем. На верхней сцене – дивный райский сад, Внизу – исполненный кошмаров Ад.101 Вошли паписты с ангельским собором, И протестанты с дьявольскою сворой. Католиков умерших вел отряд Небесных сил под сень петровых врат, А протестантский дух, покинув тело, Утаскивался в адские пределы, И главный дьявол как дрова вязал Несчастных пуритан, и в Ад спускал. Там был умерший Папа. Ясно, он На Небо должен был быть вознесен. И чтобы больший Папе был почет, Его канат на Небо вознесет.102 Чтоб подчеркнуть достоинство и силу, С ним ангельская свита воспарила. Вот он уселся. Ангелы сидят, И потащил их всех наверх канат. Осанну Папе хор святых поет, Апостол Петр его с ключами ждет, Все смотрят. Треск – и торжеству конец: Трос лопнул, в Ад летит святой отец. Католики, по нем не сильно плачьте, В Чистилище попал, к своей удаче Ваш Папа. Надо мессы отслужить, Чтоб тайные грехи его отмыть.103 Очистившись от всех своих грехов, Вновь будет к восхождению готов. Но каковы заслуги, вот вопрос, Коль тяжесть их порвала крепкий трос? И, согласитесь, как-то странновато, Что Папа в Рай залазит по канату. Что отвлекло тебя, лишило сил, Тебя, кто мимо звезд его тащил, Ты лучше б на себе его вознес, Не знаешь если: может рваться трос,104 И на тебе одном лежит вина За то, как громко лопнула струна. Я вижу оправданье лишь одно: В тот вечер ты усердно пил вино. Для пьяного что агнец, что козел,105 Ты принял Папу за Отца всех зол.106 Быть может жребий так распорядился, Средь Пуритан чтоб Папа очутился, И быстро дух католиков поник: Их Папа проклят, словно еретик. Но он-то верил: ангельская рать Должна поймать его и вверх поднять, Но не спешат к святейшему отцу И брошен он один лицом к лицу С опасностью. Так чья же здесь вина? Была ли тяжесть Папы учтена? Включить обязан был ты в свой расчет, Какой огромный у него доход. Он взял с собой – учесть был должен ты Тиару, митры, ризы и кресты.107 Поклажа, без сомненья, велика, И совесть вряд ли у него легка. Вновь вверх тащи – кто будет виноват, Что Папу вновь не выдержит канат. Поскольку Папу Небо проклинает, Канат его от Рая удаляет, И Ад его вседневно ожидает, Где он и жил – там пусть и обитает108.Партии, конфессии или идентичности?
В традициях вигской историографии было обозначать период перед Великим Мятежом как эпоху противостояния «партии двора» и «партии страны». После работ немецких историков 50-х гг. XX века эпоха от начала реформации до окончания Тридцатилетней войны была определена как «конфессиональная», то есть эпоха, когда все социальные, политические, культурные институты общества подчинялись конфессиональной принадлежности. Соответственно, все конфликты, неважно – внутренние или внешние, должны были определяться конфессиональным противостоянием католицизма и реформированной церкви. Однако представленные выше тексты невозможно поместить ни в ту, ни в другую схему.
Обе схемы подразумевают жесткую бинарную оппозицию. При этом они логически не противоречат друг другу. Можно объединить их, получив две пары бинарных оппозиций, своеобразный квадрат, в углах которого разместятся четыре противостоящие «конфессионально-партийные» группы. Введя деление на «умеренных» и «радикальных», можно увеличить количество противостоящих групп до 8. Потенциально этот процесс является бесконечным. Но такое деление не соответствует ни самим текстам, приведенным выше, ни их анализу. Поскольку основой этого деления являются жесткие бинарные оппозиции, которых не выявляет анализ текста.
Можно сказать, что третья группа противопоставляет себя первой и, отчасти, второй – критика самого короля, принца и двора вполне присутствует, и даже весьма жесткая. Но основной мотив третьей группы – радикальный протестантизм и антикатолицизм. Тогда первая группа должна отстаивать католицизм и нападать на третью. Но ни того, ни другого в текстах этой группы нет. Католицизм просто ни разу не упомянут, ни в тексте Якова I, ни в тексте Корбетта, а единственной критике подвергаются новостные агенты – но не по религиозным мотивам. Для обитателей мира двора люди за его пределами практически не существуют, тем более – их нападки. Хотя на практике ответ монарха был – цензура любых печатных произведений, посвященных проекту испанского брака и запрет на публичное обсуждение, но в мир текста это никак не проникает.
И вторая, и третья группы негативно настроены по отношению и к католикам, и к испанцам. Но для второй группы «испанскость» явно на первом месте, а католики для них – это, прежде всего, «испанолюбцы». Гондомар маркируется как испанец и католик своими антианглийскими заговорами и макиавеллистской политикой, а не видимыми знаками конфессиональной принадлежности. Для представителей третьей группы указание на католицизм – «тиара, митры, ризы и кресты», то есть видимые знаки принадлежности к католической церкви.
Обе группы очевидно по-разному настроены в отношении короля и принца. Как верные подданные, представители второй группы не обращают внимания на роль Якова I, принца Карла и герцога Бекингема в опасном проекте испанского брака, предпочитая рассматривать его как стихийное бедствие или испытание, и делают акцент на счастливом избавлении от этого возможного бедствия. В этом отношении они противостоят, но лишь в некоторой степени, первой группе, представители которой предпочитают выдавать желаемое за действительное и говорят об испанском браке как о свершившемся факте. Третья группа как раз делает акцент на роли монарха, его сына и герцога в проекте и подвергает их жесточайшей критике и прямым оскорблениям. В чем противостоит верноподданническому порыву представителей второй группы.
Как объяснить сложившийся клубок противоречий между этими тремя группами? Знаменитый американский антрополог Клиффорд Гирц писал о процессе формирования национальной идентичности в Индонезии после освобождения от колониальной зависимости: «… стадия формирования национализма состояла, по существу, в конфронтации густой смеси культурных, расовых, территориальных и языковых категорий самоидентификации и социальной лояльности, созданных столетиями нерегулируемого исторического процесса, с простой, отвлеченной, умышленно созданной и почти до боли осознанной концепцией политической этничности – собственно «национальности» в современном смысле. Образам, в которых, как в песчинках, так тесно спрессовываются в традиционном обществе представления людей о том, кем они являются, а кем нет, был брошен вызов со стороны более общих, более туманных, но не менее насыщенных концепций коллективной идентичности, основанных на смутном чувстве общей судьбы…»109.
В данном случае складывается чрезвычайно похожая картина, с той лишь разницей, что концепция политической этничности не могла быть заимствована извне англичанами XVII века. Одна из групп идентифицирует себя как членов небольшой социальной группы, связанной с аристократическим положением, определенной культурой и мифологией, оправдывающей подобную замкнутость. За пределами этого мира практически ничего не существует, его границы ясно очерчены, его самоопределение позитивно – точно описывается образ «своего», а «чужих» просто не существует. Третья группа идентифицирует себя через конфессиональную принадлежность. Ее границы также очерчены четко, хотя и определены скорее негативно – прежде всего, рисуется образ «чужого». Впрочем, образ «чужого» достаточно широк, чтобы вместить подавляющее большинство представителей окружающего мира и сформировать маленький компактный конфессиональный мирок «своих». Однако подобная маркировка в рамках интерсубъектной логики как раз именно такое описание позволяет обратиться к собственной идентичности, а не ставить себя в ряд иных субъектов. Таким образом, именно путь определения себя через отрицание позволяет подчеркнуть и распространить собственную уникальность.
Этим двум группам четкой, но локальной (в социальном смысле) самоидентификации бросает вызов вторая группа. Ее границы очерчены нечетко, принципы включения в нее обозначить сложнее. Тяжелее сформировать и четкий образ «чужого». Тем не менее, эта группа излагает пусть и не до конца оформленную, но попытку идентифицировать себя с чем-то большим, чем своя социальная группа или своя конфессия. Попытка идентифицировать свои интересы с интересами страны приводит к отмеченным особенностям – неприятию испанского брака как опасного для внешней политики страны и, одновременно, отказу от любых попыток поставить под сомнение власть и политику короля (что опасно для внутреннего состояния дел). Поэтому эта группа и не способна четко очертить свои границы, в чем-то противостоит первой и в чем-то третьей, а в чем-то соглашается и с той, и с другой. Ее коллективная идентичность – идентичность общей судьбы британцев.
Примечания
1 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. С. 30–32.
2 Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. М.: Территория будущего, 2006. С. 26 и далее.
3 Чаттерджи П. Воображаемые сообщества: кто же их воображает? // Нации и национализм / под ред. Б. Андерсона. М.: Праксис, 2002. С. 283296. С. 286.
4 Geertz C. After the Revolution: The Fate of Nationalism in the New States // Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973, P. 234–254. P. 240–241.
5 Термин «неоисторизм» впервые был применен Майклом МакКанлесом в отношении культурной семиотики (McCanles M. The Authentic Discourses of the Renaissance // Diacritics Vol. 10 № 1 (Spring 1980), P. 77–87.), однако популярность ему создал Гринблатт (Greenblatt S. Introduction // The Forms of Power in the English Renaissance / ed. by S. Greenblatt. Norman: Pilgrim Books, 1982. P. 1–4).
6 GreenblattS. Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England. Berkeley: University of California Press; Oxford: Clarendon Press, 1988. P. 5.
7 Montrose L. Professing the Renaissance. The Poetics and Politics of Culture // The New Historicism / ed. by H.A. Veeser. New York: Routledge, 1989, P. 15–36. P. 19.
8 Pechter E. The New Historicism and Its Discontents: Politicizing Renaissance Drama // Publications of Modern Language Association of America. Vol. 102, № 3 (May 1987). P. 292–303.
9 Leahy W. Elizabethan Triumphal Processions. Aldershot: Ashgate Publishing, 2005. P. 32–36.
10 Об этой критике см. Montrose L. Professing the Renaissance… P. 29.
11 Moi T. Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory. London: Taylor and Francis, 2002. P. 166.
12 Machery P A Theory of Literary Production. London: Routledge and Keegan, 1989. P. 79.
13 Парламент дураков / под ред. Н. С. Горелова. СПб.: Азбука-классика, 2005. С. 20.
14 Nichols J. The progresses, processions and magnificent festives of King James I. 4 vols. London: J.B. Nichols for Society of Antiquaries, 1828. Vol. IV P. 809.
15 Goodman G. The Court of King James I. 2 vols. London: Samuel Bentley, 1839. Vol. I, P. 360.
16 Поэма написана королем Яковом I в марте 1623 года. Большое количество обращений к пасторальной мифологии позволяет связать это произведение с масками «День рожденья Пана или Праздник Пастухов». Стихотворный перевод здесь и далее мой. Перевод выполнен по изданию Early Stuart Libels: an electronic edition of political poems from manuscript sources / ed. by A. Bellany and A. McRae. URL: / (последнее посещение 11.08.2012, доступ свободный).
17 Соответственно принц Карл и маркиз Бекингем, которые путешествовали под псевдонимами Джон (Джек) Смит и Томас (Том) Смит. В целом подобные действия соответствовали не только куртуазной рыцарской традиции путешествовать инкогнито, но и имели прецеденты в начале XVII века. Подобное путешествие совершил шведский король по Германии, до Берлина, где сватался к дочери Бранденбургского курфюрста. Однако тот факт, что он посетил по дороге Гейдельберг, позволяет предположить наличие военно-политических мотивов этого путешествия, поскольку Пфальц и Швеция будут союзниками в Тридцатилетней войне.
18 Стихотворение написано в марте, то есть во время перехода от зимы к весне.
19 То есть англичан.
20 Сложная метафора, указывающая на один из самых популярных образов яковитского мифа. Принц Джек, то есть Карл, приходится братом искусствам, то есть музам. Таким образом, музы – дочери отца принца Джека (Карла), то есть Якова I. Это подводит нас к образу Аполлона Мусагета. Аполлон, символ весьма амбивалентный, в яковитской пропаганде играл, в основном две роли. В виде Аполлона король был покровителем искусств и светочем разума, а также, что более важно, солнечным богом. Яков был «солнцем Британии», которое сияло не только во дворце, но и ежегодно, циклично озаряло всю страну во время регулярных выездов, что было развитием солярной концепции Елизаветы (Cole M. H. Monarchy in Motion: an Overview of Elizabethan Progresses // The Progresses, Pageants and Entertainments of Queen Elizabeth I / ed. by J.E. Archer, E. Goldring and S. Knight. Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 28) Впервые в образе Аполлона Яков предстает во время своей аккламаци-онной процессии в Лондоне 15 марта 1604 г. На триумфальной арке на Гейс-стрит в середине восседал «Аполлон со всеми атрибутами своего могущества – сферой, книгой, кадуцеем, октаэдром, а в руках держал поэму о битве при Лепанто, написанную Его Величеством». То есть Аполлон обладал атрибутами власти – сфера, держава, мудрости (или закона) – книга, целительства – кадуцей (достаточно вспомнить о том, что яковитсякая пропаганда регулярно подчеркивала чудесную способность короля исцелять золотуху) и правильного порядка – правильный кристалл. А текст поэмы, написанной Его Величеством, ясно маркировал самого Якова как Аполлона и, следовательно, носителя всех этих качеств и атрибутов. На триумфальной арке, построенной голландскими купцами, новый король прославлялся как alter Jesiades, alter Amoniades. Смысл надписи туманен, но вполне возможной является трактовка Jesiades как Соломона, внука Иессеева, а Amoniades как Аполлона – сына Юпитера-Амона. С другой стороны, если вспомнить о еще средневековой традиции нести в королевской процессии «древо Иессеево» – родословную 12 поколений царей от Иессея до Иисуса Христа, а также то, что Соломон считался ветхозаветным предзнаменованием прихода Христа, а Аполлон – его античной коннотацией, то смысл этой надписи меняется. Традиционно считается, что в символике и идеологии ренессансных монархов места христианским образам почти не находилось, их полностью вытеснили античные божества (см. например Strong R. Splendor at Court: Renaissance spectacle and the theater of power. Boston: Houghton Mifflin, 1973. P. 31). Однако, как справедливо отмечал Гордон Киплинг, почти все античные образы, столь популярные в мифологии ренессансных монархов, имели христианские коннотации, восходящие к средневековой традиции (Kipling G. Enter the King. Theatre, Liturgy and Ritual in the Medieval Civic Triumph. Oxford: Clarendon Press, 1998. P. 346). Она устанавливает традиционную маркировку короля как Царя Небес, Христа. В третьей триумфальной арке неожиданно появился Сильван, который провозгласил, что пришел «новый Аполлон» (Nichols J. The progresses… Vol. I. P. 348, 350, 361. См. также Dutton R. Jacobean Civic Pageants. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995. P. 56, 60, 75). Яркий пример интерпретации символического образа Якова-Аполлона как солнечного бога и, одновременно, как объединителя Британии – приветственная речь при въезде монарха в Пейсли 24 июня 1617 г. Король представал в образе Феба, а Англия и Шотландия в виде двух возлюбленных этого античного бога – Клитии (Шотландия) и Левкотои (Англия). В отличие от трагичной развязки античного мифа, новый Феб может сиять и той, и другой, и обе леди станут одним – они превратятся в цветок Heliotropion (Nichols J. The progresses… Vol. III. P. 384). Образ Аполлона-объединителя мог распространяться не только в пространстве – на Англию и Шотландию, но и во времени – на связь двух династий. Наиболее наглядный пример подобного объединения дают нам маски, поставленные 6 января 1607 г. на свадьбу лорда Хея с дочерью лорда Денни Анной. По ходу действия открывается сцена, на которой стоят серебряные деревья. Эти деревья – рыцари Аполлона (то есть Якова), которые были превращены в деревья за то, что добивались руки Синтии. В конце представления появляется Геспер – символ неусыпного контроля и, таким образом, также один из образов стюартовской монархии, который объявляет, что Синтия-Диана должна примириться с Фебом, и девять рыцарей смогут вернуться в человеческий облик, при условии, что окажут девственной богине должное уважение. Аполлон был символом Якова, Диана – Елизаветы. Преемственность власти Дианы и Аполлона превращалась в объединение не только двух стран, но и династической и додинастической знати. Рыцарь Аполлона – представитель Шотландии и стюартовской знати заключал брак с дочерью лорда Денни – англичанина и елизаветинского лорда. Одновременно на сцене происходило примирение двух символических фигур, отождествлявшихся с предыдущим и нынешним правлением. Цель этого ритуала – не только пропагандировать, но и совершить в реальном мире объединение двух стран и двух знатных сообществ в единое целое. Совершая превращение, рыцари меняют свой статус, становясь из рыцарей Аполлона рыцарями Аполлона и Дианы, рыцарями объединенной Британии, рыцарями Елизаветы и Якова (подробно символика этой свадьбы разобрана мной в статье, посвященной роли свадебных масок в формировании яковитского мифа – Ковалев В.А. Пропаганда или магия? Придворный театр и «Великое дело» Якова I Стюарт // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. Юбилейный выпуск / под ред. А.Ю. Дворниченко. СПб.: Издательство СПбГУ, 2010. С. 296–300).
21 Второй важнейший образ яковитской мифологии. Впервые Яков был выведен в образе Пана еще во время приема королевы Анны и принца Генри в поместье сэра Роберта Спенсера 25 июня 1603 года. Весьма амбивалентный образ Пана трактовался именно как бог – объединитель всего, таким образом, акцентировалось внимание на «великом проекте» Якова – объединении Британии. Кроме этого очень велика была роль Пана в пасторальных масках – традиционно одной из самых популярных форм придворных спектаклей в этот период. Также, согласно греческой мифологии, Пан был дружен с Селеной, которая спускалась с небес послушать его игру на свирели. Поскольку образы двух лунных богинь, Селены и Дианы, сливались, то через образ Пана устанавливалась связь Якова Стюарта с предыдущей династией. Пан дружил с Селеной, а Яков, разумеется, заочно, через связь этих двух мифических фигур, демонстрировал согласие с Елизаветой. В некотором смысле образ Пана позволял включить в королевскую пропаганду христологическую символику. Правда, наиболее традиционным античным образом, соответствующим Христу был Аполлон, но и образ Пана как доброго пастуха мог приобретать христологические черты. То есть оба самых популярных символа монарха в яковитской мифологии хоть и были античными по происхождению, позволяли маркировать короля как Божественного Царя – Христа. О совмещении образов Пана и Христа писал Мильтон в оде «На утро рождения Христа». Это произведение было написано Мильтоном в 1629 году и является его первым значительным произведением на английском языке, в котором Мильтон стремится позиционировать себя как «барда-священника» (Lewalsky B. The Life ofJohn Milton: A Critical Byography. Malden: Blackwell, 2000. P. 38). Образы Пана и Христа совмещаются Мильтоном в восьмом стансе основной части оды (The Hymn):
The Shepherds on the Lawn, Or ere the point of dawn, Sate simply chatting in a rustick row. Full little thought than, That the mighty Pan Was kindly come to live with them below; Perhaps their loves, or els their sheep, Was all that did their silly thoughts so busie keep. На солнечном лугу, В пастушеском кругу, Беседа у костра течет неспешно. Не ведают о том, Что этим дивным днем Великий Пан явился в мир наш грешный; Стада овец, любимой взгляд — Пока в пустую лишь об этом говорят.(перевод автора)
Опубликованный в журнале «Странник» в 1881 году перевод В. Андреева настолько отличался от текста Мильтона по ритмической структуре, рифмам и образам, что является, по сути, авторским произведением:
Уж близок рассвет… На поляне, болтая, Сидят пастухи в ожидании дня. И просты их речи, как просты заботы Их жизни несложной. В беседе они Не думают вовсе о том, что на землю Сам Бог Всемогущий изволил сойти. Внимание их поглощают всецело Возлюбленных лица. родные стада.22 Другой популярный образ короля Якова I. Геспер – божество вечерней звезды (заходящей Венеры). Чаще всего образ Геспера (например, в масках «Удовольствие, примиренное с Доблестью») трактовался как образ господина Запада – повелителя Западного (Атлантического) океана, то есть подчеркивал морское могущество английского монарха. Также может символизировать неусыпный контроль монарха над всей землей и стремительность его действий.
23 Гора в Аркадии, связанная с культом Пана. Упоминается в масках Бена Джонсона «День Рождения Пана».
24 Явное несоответствие тому, что выше Геспером назван Яков I. В данном случае страна Геспера – Испания, согласно античной мифологии именно на Пиренейском полуострове располагался сад Гесперид.
25 Карл и Бекингем путешествовали в костюмах слуг.
26 В оригинале не очень внятная фраза, смысл которой сводится к тому, что счастье порождает любовь, которая, в свою очередь, обеспечивает счастье.
27 Яков I традиционно для себя насыщает текст античными мифологическими образами. Золотое Руно – наиболее распространенный символ награды за тяготы долгого путешествия, но обретено оно было не в краю Гесперид, а в Колхиде (современная Грузия).
28 Яков I Стюарт (когда был еще Яковом VI Шотландским), заключая свой брак с Анной Датской в 1589 г., отправился в Данию, а Яков V (дед принца Карла) отправился заключать брак во Францию.
29 Упоминание пастухов показывает, к кому обращена последняя часть стихотворения. В пасторальной традиции подданные трактуются как «овцы», пастухи – это знатные подданные, те, кто обладают властью. Именно такой образ Аркадии предстает перед нами в масках «День Рождения Пана». В завершающей части этого представления хор призывает Пана следить за пастухами, которые, оставленные без внимания бога, могут обмануть и Пана, и овец.
30 Призыв прекратить широкое обсуждение испанского брака, особенно – издание стихотворных произведений, часто, как будет показано ниже, содержащих негативную оценку и самого события, и участников. Подданные должны довериться монарху (Пану) и Богу.
31 Подобная трактовка динамики символических образов не была характерна для всей стюартовской пропаганды с самого начала. Изначально порядок смены сцен в придворном театре и, соответственно, последовательность смены символических образов, ведущая к формированию идеального стюартовского мира, была иной. В начале обычно появлялся образ хаотической природы, который по воле божественного монарха превращался в великолепный гармоничный дворец или зал. Порядок сцен меняется в 1611–1612 году на прямо противоположный. Гармония природы есть предустановленная гармония и задача королевской власти не устанавливать нечто новое, а вернуться к идеальному порядку золотого века. Причем достигается изменение теперь не волевым актом монарха, а самим фактом его присутствия, божественным светом и магической энергией, которую король транслирует на свой двор и свою страну.
32 «Метаморфозы» Овидия. Это первый случай обращения к символическому образу плавающего острова, который получит свое развитие в придворных масках «Триумф Нептуна в честь возвращения его сына Альбиона» (Рождество 1624), о сюжете которых Корбетт, возможно, знал. Весьма интересна связь символа плавающего острова, с одной из важных мифологем стюартовского мифа – идеей о естественности проявлений королевской власти. Выше уже говорилось о том, что с рубежа 1611–1612 гг. королевская власть начинает мыслиться не как часть культуры, а как часть природы, как проявление естественной гармонии, недостижимой для человека, который способен быть только учеником природы. Наиболее акцентировано эта идея отстаивалась в масках «Меркурий, сбежавший от алхимиков», поставленных на Рождественские праздники 1615 г. Клод Леви-Стросс в «Мифологиках» противопоставил образ пироги (в данном случае – корабля) и плавающего острова, как двух объектов, двигающихся по поверхности воды. Первый является коннотацией культуры, второй – природы. Таким образом, яковитская пропаганда, обращаясь к образу плавающего острова, двигающегося по приказу монарха, подчеркивала естественность, природность его власти, а сам Яков I становился повелителем совершенной, гармоничной природы. На уровне конкретных фактов плавучий остров – флот под командованием адмирала графа Ратленда, который был отправлен из Дувра в мае 1623, однако из-за встречного ветра достиг Сантандера только в сентябре. Флот состоял из 8 крупных кораблей, которые несли более 30 орудий и 2 вспомогательных (14 орудий). Флагманским кораблем был Prince Royall, под командованием капитана Генри Мэндоринга. Кроме графа Ратленда в экспедиции участвовали бароны Морли (вице-адмирал) и Уиндзор. Дипломатическую миссию осуществляли сэр Томас Сомерсет, сына графа Вустера и сэр Джон Финетт, заместитель главного церемониймейстера.
33 Сириус, который царил (с астрологической точки зрения) в июле-августе.
34 Этот отрывок, очевидно, следует понимать как «минус на минус дает плюс». Хотя на самом деле, курс, проложенный неверным компасом по неверной же карте, вряд ли приведет к цели.
35 И Карл, и Бекингем носили в Англии фальшивые бороды, причем это действительно помогало им скрывать свою личность. См. выше эпизод с мэром Кентербери.
36 Район в Лондоне.
37 Принц Карл и Бекингем путешествовали под именами Джек Смит и Том Смит.
38 Собор св. Павла – традиционное место общения новостных агентов. Дальнейший текст, почти до самого конца поэмы, посвящен высмеиванию слухов, которые распускали эти агенты.
39 Так в тексте – Madrill вместо Madrid. Причем это нельзя считать опечаткой, так как рифма – until.
40 Недостаточное питание принца в Мадриде – предмет постоянного обсуждения в других произведениях, так или иначе связанных с испанским браком, причем мнение авторов об этих слухах, в основном, критическое. Можно привести примеры анонимных стихов «На возвращение принца из Мадрида» и «Об испанском браке».
41 То есть новостных агентов, любимое место сбора которых – паперть собора св. Павла.
42 Хамфри, герцог Глостер. Его склеп располагался в соборе св. Павла и также был ориентиром для новостных агентов. Кроме того, выражение «пообедать с герцогом Хамфри» обозначало «остаться без обеда» – намек на то, что оплачивался труд агентов скудно. Кроме того, в словах Корбетта присутствует своеобразная ирония – агенты рассказывают о том, как принц голодал в Мадриде, но и сами сидят без обеда.
43 Кто конкретно – не вполне понятно, возможно граф Монтгомери.
44 В тексте – Aslivares вместо Olivares. Не вполне понятно, является ли это опечаткой или умышленным искажением титула дона Гаспара де Гусмана, графа Оливареса, фаворита испанского короля и главного действующего лица на переговорах с Бекингемом и Карлом. У Бекингема произошел конфликт с Оливаресом и, вполне возможно, Корбетт в угоду покровителю исказил имя испанского графа так, чтобы включить в него корень ass – осел.
45 Антииспанский памфлет Томаса Скотта, опубликованный в 1622 г., где автор призывал создать Англо-голландский союз против Испании. Смысл последующей фразы – насколько быстро меняется общественное мнение.
46 В тексте Brother Zebedee, но это явная опечатка. Имеется в виду следующий евангельский эпизод: «Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую сторону в Царстве Твоем» (Мф. 20:20–21).
47 В оригинале следует весьма малопонятная фраза, здесь предложена одна из возможных трактовок.
48 В оригинале присутствует игра слов, так как Smith и обозначает «кузнец».
49 Традиции подобных псевдонародных политически ориентированных баллад восходят еще к эпохе Войны Роз, после подавления мятежа 1456 года в рамках анти-Йоркской пропаганды (см. Robbins R.H. The Five Dogs of London // Publications of the Modern Languages Association. Vol. 71. № 1 (Mar. 1956). P. 264–268; Cannon C. Middle English Literature: a Cultural History. Cambridge: Polity Press, 2008. P. 92). С другой стороны, подобная связь народной и интеллектуальной традиции восходит еще к средневековью, когда существовал постоянный контакт между различными уровнями литературы и общества материалы и формы перемещались без особого труда и вовсе не обязательно «сверху вниз» (Duby G. The Diffusion of Cultural Patterns in Feudal Society // Past and Present. Vol. 39 (1968). P. 3–10. P. 3)
50 Судя по тому, что акцент делается на провале проекта брака и отправлении флота, который должен был забрать принца из Испании, стихотворение написано в августе-сентябре 1623. Подробное описание флота позволяет предположить, что автор по крайней мере нескольких стансов был участником плавания.
51 Римский папа Григорий XV соглашался дать диспенсацию на брак с протестантским принцем на совершенно неприемлемых для англичан условиях. В частности, выдвигалось требование не только свободы вероисповедания для инфанты и ее свиты (что было вполне в рамках дипломатии, аналогичные права предоставлялись послам), но и воспитание детей по усмотрению королевы до 12 летнего возраста (что неизбежно привело бы к принятию ими католицизма). Кроме того, не подразумевался контроль присутствующих на мессе с королевой. Это создавало опасность, что английские католики смогут свободно посещать мессу вместе с иностранцами из свиты королевы.
52 Слухи о том, что принц и свита получают крайне скудное питание в Мадриде и терпят тяжелую нужду, были очень распространены, но не соответствовали действительности. В верноподданнических стихах эти слухи опровергались и высмеивались (см. выше, стихотворение Корбетта):
53 Намек на болезнь испанского посла дона Диего де Сармиенто, графа Гондомара – анальную фистулу. Эта болезнь часто фигурировала в памфлетах, направленных против этого посла, столь ненавистного англичанам. Ненависть к испанскому послу была огромной даже на фоне отношения к остальным испанцам, к тому же она усиливалась близостью посла к Якову I и его крайней заносчивостью.
54 Так в тексте, хотя Бекингем уже более двух лет был маркизом, а 18 мая 1623 он стал герцогом.
55 Сопровождавшие принца и Бекингема в поездке сэр Фрэнсис Коттрингтон и слуга Бекингема Эндемион Портер.
56 Граф Ратленд был адмиралом флотилии из 8 крупных и двух вспомогательных кораблей, которая отправилась из Дувра в мае 1623 в Испанию. Лорды Марли (или Морли) и Виндзор (Уиндзор) также участвовали в экспедиции. Такая пикантная подробность как то, что лорда Марли сопровождала в пути девица легкого поведения демонстрирует высокую осведомленность автора и позволяет нам предположить, что, по крайней мере, эта часть написана участником похода. Показательно, что все перечисленные аристократы – католики.
57 Бранное слово в whore в оригинале. Нарочитая грубость (если она была нарочитой) должна была подчеркнуть «народность» текста. Контраст с утонченными образами первой группы разителен.
58 Этот отрывок встречается лишь в нескольких вариантах. Возможно, он дописан позже. В целом текст стихотворного памфлета выглядит весьма дробным, и складывается впечатление, что разные стансы написаны разными авторами. Хотя антикатоличность этого отрывка не вызывает сомнений, автор относится к католикам среди англичан скорее иронично и насмешливо, чем с ненавистью.
59 Намек на цензуру всех публичных обсуждений вопросов, связанных с испанским браком.
60 Автор, очевидно, уверен, что не последнюю роль в провале проекта сыграло английское общественное мнение, настроенное против испанского брака.
61 Здесь флот Ратленда – именно флот, а не плавающий остров стюартовского мифа.
62 Здесь обозначен главный враг – Испания и «пятая колонна» при дворе – происпанская фракция.
63 Как истинный англичанин, автор памфлета не мог, разумеется, не пошутить насчет французов. Интересно, что французы здесь – не враги, а лишь объект иронии, хотя они такие же католики, как и испанцы. Возможно также, что автор осведомлен о встрече принца Карла на танцах в Париже 22 февраля 1623 г. с Генриеттой-Марией, французской принцессой и его будущей супругой, а также об активизации переговоров о французском браке принца Карла.
64 Имеются в виду новостные агенты, которых порицал и Корбетт. В отношении к ним обе группы занимают сходную позицию.
65 Снова ответственность за проект брака снимается с короля, принца и Бекингема и возлагается на абстрактных «папистов».
66 Желание во всем возвеличить принца и герцога заставляет автора даже забыть о своем негативном отношении к испанцам и католикам, подчеркивая их гостеприимство.
67 Несмотря на отсутствие официальных торжеств, в Лондоне были бурные гуляния. Когда стало известно, что принц высадился в Портстмуте и разместился на ночлег в Гилфорде, в Лодоне звонили в колокола и жгли костры. «Весь день был наполнен весельем и благодарением, когда люди всех достоинств, знатные и незнатные, богатые и бедные в Лондоне, Вестминстере и предместьях изо всех сил демонстрировали свою любовь. Костры зажигали на улицах, площадях, в переулках и дворах, несмотря на дождь…. воздух наполнился выкриками и благословлениями, которые смешались со звуками музыкальных инструментов, залпами орудий и мушкетов, звоном колоколов, боем барабанов, звуками труб. Знатные, джентльмены и другие раздавали бедным золото и выкатывали на улицу телеги с вином». Даже в соборе св. Павла была отслужена торжественная служба с пением псалма 114 (113 в русском Синодальном переводе): «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова – из народа иноплеменного». Nichols J. The progresses… Vol. IV. P. 927–929.
68 Имеются в виду преследования протестантов при Марии I Тюдор. Хотя реально эти преследования не имели значительных, по меркам конфессиональной эпохи, масштабов (казнено было менее 280 человек за 5 лет), они стали знаковыми для английских протестантов. Особенную роль в формировании мифа преследований сыграла вышедший в 1563 г. трактат Джона Фокса Acts and Monuments of this Latter and Perilous Days, Touching the Matters of Church, более известный как «Книга Мучеников». Используя этот символический образ, автор, безусловно, подчеркивает свой антикатолицизм. Кроме того, он сравнивает огни радости, которые зажглись в Лондоне при известии о провале испанского брака при Якове I с огнями страдания, зажженными после успеха испанского брака при Марии Тюдор. Таким образом он как бы намекает, что, завершись поездка принца по-иному, костры вокруг Лондона могли бы быть вовсе не праздничными.
69 Редкая для «народных» текстов античная метафора. Мифология Энея была очень важна для самоидентификации англичан, выводивших себя от троянцев. Лондон, согласно легенде, основал Брут, спутник Энея, а сам Лондон во время королевских процессий превращался в Troynovant – Новую Трою. Кроме того, от имени Брута выводилось название Британия, что подчеркивало роль Якова I как объединителя островов, нового основателя Великой Британии, второго Брута. В тексте проводится явная параллель Эней – принц Карл.
70 Это не просто авторская шутка. Принц Карл, сразу по прибытии в Лондон (8 октября 1623), разместился в Йорк-Хаус, где принял архиепископа Кентерберийского. Оттуда же он послал письмо Совету, заседавшему в Уайтхолле, и после завтрака отправился в охотничий домик в Ройстоне, к своему отцу. Лорд-мэр, не ожидавший, очевидно, такой стремительности от только что вернувшегося из тяжелого путешествия принца, решил устроить торжественное шествие. Однако когда он вместе с олдерменами и шерифами прибыл к дворцу Йорк-хаус, принц уже давно покинул его.
71 Smuts M. Public ceremony and royal charisma: the English royal entry in London 1485–1642 // The first Modern Society. Essays in English History in honor of Lawrence Stone. Cambridge: Cambridge University Press. 1989. P. 75.
72 Томас Хэриот, математик и философ из окружения сэра Уолтера Рэли, был атеистом (или, как принято было говорить тогда, саддукеем). Согласно свидетельству Джона Обри «Хэриоту не нравилась история сотворения мира. Он говорил: «ex nihilo nihil fit». Но ничто и убило его в конце концов. У него на носу возникло красное пятнышко, которое росло все больше и больше, и, в итоге, убило его». Показательно, что Гондомар сравнивается с атеистом, то есть безбожником, хотя сам является христианином-католиком. С точки зрения добропорядочного английского протестанта, разница между «саддукейским безбожием» и «папистским суеверием» исчезающе мала.
73 Гнойное заболевание, создающее трубчатое отверстие
74 Тот факт, что дон Диего де Сармиенто, граф Гондомар, испанский посол при дворе Якова I, страдал анальной фистулой, являлся основой множество памфлетов и оскорбительных стихов. Их количество было столь велико, что король даже запретил публикацию оскорбительных для посла сочинений, что, впрочем, также мало способствовало его популярности.
75 Связь скорпиона с огненной стихией довольно сложная. Скорпион принадлежит к стихии земли, и его злейшим врагом считалась огненная ящерица стеллион (саламандра, хотя, с точки зрения современной систематики, она не является ящерицей). Также считалось, что пепел скорпиона, то есть скорпион, прошедший огонь, исцеляет от яда этого членистоногого. Очевиден, кроме того, намек на связь испанцев с огнем, на котором они сжигали еретиков.
76 Об этом инциденте сообщает Джон Финетт: «12 марта 1619 он (Гондомар) получил первую аудиенцию в Уайтхолле. Когда они проходили через старую деревянную террасу в Палату Стражи…. карниз… внезапно обрушился… граф Эрандел, лорд Грей и другие оказались в опасности и легко пострадали, а один молодой человек из свиты посла сломал плечо и руку». (FinettJ. Some choice observation. London, 1656. P. 63).
77 Имеется в виду туалетное сиденье. Кроме того, по приказу Якова I для Гондомара было изготовлено специальное сиденье с отверстием, чтобы облегчить страдания испанского посла, мучимого фистулой.
78 Яков I видел в испанском браке средство примирения сторон Тридцатилетней войны, прежде всего, его зятя, пфальцграфа Фридриха и императора. Испанцы, поддерживая эту иллюзию, стремились закрепить и развить успехи католиков в Империи.
79 Французская болезнь или хворь – иносказательно – сифилис. Именно так эту болезнь именовал блестящий поэт той эпохи Джон Донн, очевидно оказавший влияние на автора этого пасквиля:
…ибо сей товар снедаем Французской хворью: немощен и худ, Помят и бледен, краше в гроб кладут. («Браслет», перевод Григория Кружкова). Учти, французы – этот хитрый сброд, Разносчики хвороб дурных и мод, Коварнейшие в мире селадоны, Комедианты и хамелеоны(«На желание возлюбленной сопровождать его, переодевшись пажом», перевод Григория Кружкова).
80 Очень резкая фраза, в которой проводится параллель между французской принцессой, ставшей невестой принца Карла после провала проекта испанского брака и гнойными выделениями фистулы Гондомара.
81 Гондомар был первым, кого стали носить по лондонским улицам в паланкине для защиты от нападок народа и уменьшения страданий от тряски. Это вызвало дополнительное недовольство пуритан, утверждавших, что посол использует людей как тягловую скотину.
82 1588 – год разгрома Непобедимой Армады.
83 Захват испанцами Везеля, города на Рейне – элемент борьбы между католиками и протестантами за юлих-бергское наследство. После смерти в 1609 г. последнего представителя Клевского дома, герцога Иоганна Вильгельма, земли были поделены между породненными с герцогством домами. Началась борьба между Бранденбургом и Пфальц-Нойбургом, владетельные князья которых были женаты на сестрах покойного герцога. Борьба обострилась с переходом Нойбургского пфальцграфа Вольфганга Вильгельма в католичество в 1613 г. В итоге северная часть земель была оккупирована голландцами, а южная – испанцами. Имперский мир оказался под угрозой, но в 1614 г. в Ксантене был достигнут компромисс: Бранденбург получил герцогство Клеве и графство Марк, Нойбург – земли герцогства Юлих-Берг с Дюссельдорфом. Таким образом, огромные усилия испанцев не принесли практически никакого результата.
84 Макиавеллистский принцип политики, вызывавший раздражение как у пуритан, так и у иезуитов.
85 Собачье приветствие, с точки зрения пуритан, подобало Гондомару, которого они неоднократно сравнивали с собакой. Даже его титул Gondomar они считали анаграммой Roman Dog:
Умеет пес рычать и укусить, А он, как пес, желает хвост схватить.86 Названы два знаменитых британца, совершавших успешные походы во Францию. Описание приключений легендарного короля Артура в этой стране приводится во второй части «Смерти Артура» Томаса Мэлори – «Повесть о благородном короле Артуре, как он сам стал императором через доблесть своих рук», а также у Гальфрида Монмутского. Эдуард Черный Принц – один из знаменитейших полководцев средневековья, считался образцом рыцарской доблести на поле боя и куртуазного поведения вне его. Одержал ряд блестящих побед над французами во время Столетней войны, из которых особо следует выделить сражение при Пуатье 19 сентября 1356 (в плен попал король Иоанн II Добрый) и битву при Нахаре 3 апреля 1367, в которой Черный Принц захватил знаменитого французского военачальника Бертрана Дюгеклена. Автор пасквиля иронично сравнивает этих двух английских воителей и принца Карла, причем вывод, естественно, делается не в пользу последнего. Кроме этого важно обратить внимание на то, что культ Артура процветал при яковитском дворе как поклонение объединителю Британии. Артур как идеальный воин включался в мифологию ранних Стюартов через старшего брата Карла, принца Генри (достаточно вспомнить устроенное на день его инаугурации в качестве принца Уэльского представление «Разрушенного дома Рыцарства» по мотивам артурианских легенд). Принц Генри воспринимался как «надежда Англии» и в глазах британских протестантов заметно выигрывал в сравнении со своим братом, благодаря своей воинственности и приверженности протестантской вере.
87 Очевидно, что написан этот пасквиль был во время путешествия принца Карла и Бекингема по Франции. Они высадились в Булони 19 февраля 1623 г. в 2 часа дня, вечером 21 февраля приехали в Париж, где провели 2 дня. Там они при дворе встретились с королем, королевой-матерью, монсеньором Кадине. Во время танцев Карл встретил свою будущую супругу – принцессу Генриетту-Марию. 23 февраля путешественники покинули Париж и через шесть дней оказались в Байонне. Таким образом, этот текст был написан между 19 февраля и 1 марта 1623 г.
88 Генрих V в битве при Азенкуре был уже королем, а не принцем Уэльским. Скорее всего, автор посчитал необходимым обратиться к образу этого короля как к дидактическому символу. Традиционно считалось, что Генрих V в молодости предавался разврату и пьянству, но кардинально изменился после того, как увенчался короной. Подобный прием, впервые был применен еще Гаем Светонием Транквиллом в жизнеописании Тита («Не только жестокость подозревали в нем, но и распущенность – из-за его попоек до поздней ночи… и сладострастие… Однако такая слава послужила ему только на пользу, когда ни единого порока в нем не оказалось и, напротив, обнаружились величайшие добродетели». Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей. Божественный Тит, 7).
89 В конфессиональную эпоху, когда идея войны за веру была более чем популярной, такая фраза должна была звучать саркастично.
90 Принц Карл считал, что его поступок соответствует рыцарской традиции, эту убежденность поддерживал в нем Бекингем и испанцы, которые превозносили Карла как последнего истинного рыцаря. Сам Карл старался соответствовать этому образу. Так, в Париже он и Бекингем приобрели специальные плащи, закрывающие верхнюю часть лица, хотя их к тому времени уже успели принять при дворе, то есть о сохранении инкогнито не могло быть и речи. (NicholsJ. The progresses. Vol. IV. P. 809).
91 Подразумевается, прежде всего, огромное приданое, с помощью которого испанцы склоняли Якова I к идее испанского брака. Размеры этого приданого делали его важным политическим фактором. См. выше.
92 Свидетельство Генри Уоттона о приеме, оказанном принцу и Бекингему графом де Грамоном, губернатором Байонны, см. выше.
93 Французская болезнь или хворь – иносказательно – сифилис (см. выше).
94 Имеются в виду принцесса Елизавета, дочь Якова I и сестра принца Карла и ее супруг – пфальцграф Фридрих. После серии поражений (Белая Гора, Вислох, Вимпфен, Гехст, Штадлон), которые он потерпел от войск Католической Лиги, весь Пфальц оказался в руках католиков, а курфюрст с семьей бежал в Гаагу. Восстановление Фридриха в его владениях было одним из условий переговоров об испанском браке, однако серьезных успехов английской дипломатии добиться не удалось. При этом в английском обществе было сильно стремление активнее участвовать в решении судьбы Пфальца, вплоть до военного вмешательства.
95 Риск в условиях европейской войны был очень велик. При этом некоторые все же дерзнули выказать королю свое негативное отношение к путешествию принца без должных дипломатических гарантий. Так поступил Лайонел Крэнфилд, граф Мидллсекс, казначей Англии, который поплатился за критику испанского брака лишением должности.
96 Очень резкий отрывок. Довольно редкий случай, когда современник впрямую указывает на гомосексуальную связь Якова I и Бекингема (на тот момент еще маркиза, герцогом он стал 18 мая 1623). Овдовевший вновь – Яков I, жена которого, Анна Датская, умерла в 1619 г., теперь король, по мнению автора, вдвойне вдовец, так как его покинул и его любовник. Наконец достаточно прямо указывается на склонность Якова I к пьянству. Хотя памфлетичные описания Энтони Уэлдона (Weldon A. The Court and the Character of King James. London: Printed by R.J. and are to be sold by John Wright at King’s Head in the Old Bailey, 1650) продиктованы, скорее, озлобленностью, а не реальностью, многие объективные наблюдатели также обращали внимание на неравнодушие короля к спиртным напиткам. Даже во время охоты короля непрерывно сопровождал слуга с бочонком его любимого сладкого крепленого вина. (Jesse J. H. Memoirs of court of England during the reign of the Stuarts including the protectorate. 2 vols. Philadelphia: Lea and Blanchard. Vol. I. P. 49).
97 Описание реальных масок, поставленных доном Андресом де Мендоса – Nichols J. The progresses… Vol. IV. P. 856–864.
98 Как уже говорилось выше, представления (минимум два и театрализованный турнир) действительно были поставлены, хотя ни одно не имело того сюжета, который изложен в этом стихотворном памфлете.
99 Умер Папа Григорий XV.
100 Утратила свою голову – Папу. Казнь через усекновение головы была привилегией знати, для простых людей неквалифицированной формой смертной казни было повешение. Таким образом, римская церковь – знатный изменник (наиболее распространенный приговор для аристократа – измена или заговор).
101 Многоуровневая сцена была итогом сочетания античной и средневековой традиции. Первым театром с многоуровневой сценой в Англии был публичный театр, построенный Бербэйджем в 1576 году в Шродиче. Его архитектура носит следы влияния Витрувия и Леона Батиста Альберти в переводе Джона Ди (квадратная сцена, вписанная в арку просцениума, круглый амфитеатр) и Евклида в переводе Биллингсли. Также были внесены элементы средневекового театра – многоуровневая сцена, где 5 классических выходов античного театра были разнесены по разным уровням, и «вспомогательные театры» – отдельные помещения, призванные обозначить переход от сцены к сцене. Все это позволило достичь той особенности английского театра, которая сделала его феноменом мировой культуры – сочетания непосредственного общения зрителей и актеров, свойственных классическому театру с атмосферой разных духовных уровней, характеризующей средневековый религиозный театр. По этим же образцам был построен в 1599 году в Бэнксайд знаменитый Глобус. Впоследствии многоуровневую систему заимствовал и придворный театр. (Chambers E. K. The Elizabethan stage. Oxford: Clarendon Press 1934. P. 422; Yates F. A. The art of memory. Chicago-London: University of Chicago Press, 1966. P. 447–448).
102 Один из основных типов очень популярных в придворных масках машин, имитирующих полет. Первое применение такой машины в Англии Иниго Джонсом относится к Маскам Гименея, где с небес на сцену спускались 8 леди, воплощавших «8 брачных сил Юноны Пронубы, которые спустились, чтобы скрепить брак». (Nichols J. The progresses… Vol. II. P. 14; Orgel S. & StrongR. Inigo Jones. Theatre of the Stuart Court. 2 vols. London: Sotheby Parke Berner; Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1973. Vol. I. P. 110). Вот как описывает действие этой машины один из зрителей, мистер Пори в письме сэру Роберту Коттону: «Над земным шаром были облака, в центре которых сидел большой оркестр музыкантов, а по краям по 4 леди с каждой стороны, которые спускались на сцену как ведро в колодец, но очень мягко». (Goodman G. The Court of King James. Vol. II P. 124.). Таким образом, мы можем предположить, что эта машина представляла собой подвесную платформу, которая опускалась, очевидно на нескольких тросах, пропущенных через систему блоков, что и позволило мистеру Пори сравнить ее с ведром, опускающимся в колодец.
103 Действительно, с точки зрения католиков, мессы могли сократить, и весьма существенно, срок пребывания в Чистилище. Так, например, утверждает
Манфред в «Божественной Комедии» Данте Алигьери (Чистилище, Песнь 3, 136–141):
И все ж, кто в распре с церковью умрет, Хотя в грехах успел бы повиниться, Тот у подножья этой кручи ждет, Доколе тридцать раз не завершится Срок отщепенства, если этот срок Молитвами благих не сократится. (перевод М. Лозинского)104 Здесь автор иронично обращается к тому, кто был ответственен за подъем. Следует заметить, что за весь период правления Якова I нам не известно ни одного случая обрыва троса или иного повреждения подъемной машины.
105 В оригинале – что сокол, что канюк. Согласно поговорке «между соколом и канюком» – «не различая добро и зло». Мне показалось возможным изменить текст, сохранив религиозные мотивы.
106 За Дьявола. С точки зрения пуританина – вполне допустимая ошибка (и даже спорно – ошибка ли вообще).
107 Все столь ненавистные пуританам признаки папизма (многие из которых были в ходу и в англиканской церкви).
108 В оригинале – 4 подряд рифмы с окончанием на – ing.
109 Geertz C. After the Revolution: The Fate of Nationalism in the New States // Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973. P. 239.
Ковалев В.А.
III. «Свои» и «чужие»: конфликты и сотрудничество
III.I. «Иностранцы» в органах управления немецких территориальных государств XVI в.
Идеи национального единства имели широкое хождение в раздробленной Германии 16 в. Понятие «немецкая нация (die deutsche Nation)» было особенно популярным у гуманистов и церковных реформаторов. Последние часто употребляли его в полемических сочинениях антиримской направленности. В качестве примера достаточно будет назвать известнейшее сочинение Лютера 1520 г. «К христианскому дворянству немецкой нации». В запале политической риторики выражение «немецкая нация» использовали и главные противники национального единства – немецкие территориальные государи. Общую национальную идентичность они старались подчеркнуть только в критические моменты истории как периоды обострения турецкой опасности или, когда были заинтересованы в единых действиях антигабсбургского характера.
Яркий пример последнего дает нам подлинный документ 6/438 из Архива Санкт-Петербургского института истории РАН. Это печатное воззвание от 3 августа 1546 г. курфюрста Иоганна Фридриха Саксонского и ландграфа Филиппа Гессенского к Вильгельму герцогу Баварскому. Оно относится к решающему моменту Шмалькальденской войны, в который два князя – руководителя протестантского военно-политического союза в Германии обращаются к католическому герцогу Баварии, формально придерживавшемуся нейтралитета в войне протестантов с императором, с призывом удалить габсбургские войска из Баварии. В письме несколько раз подчеркивается, что присутствие императорских войск в Баварии есть «попрание свободы немецкой нации (verletzung /vertruckung der freyheit der Deudschen Nation)»1.
Вместе с тем в Германии 16 в. существовал и другой уровень национальной и этнической идентификации, который определялся региональным характером развития немецкой государственности. 16 век отмечен как время создания центральных органов управления и зарождения чиновничества в немецких территориальных государствах.2 В контексте поставленной темы «идентичность и самоидентификация» хотелось бы обратиться к высшему слою служащих центральных институтов управления, а именно к характеристике так называемых служащих – «иностранцев». Речь идет о чиновниках неместного происхождения, которых источники в различных территориальных государствах называют «Ausländer (иностранцы, иноземцы)», «Fremde (чужаки)», «auswärtige Diener (иностранные/ иноземные служащие)», «Gäste (гости)». Приведенные эпитеты имеют несколько негативный привкус, в них сквозит ревнивое и недоброжелательное отношение со стороны коллег – местных уроженцев. Это стойкое в 16 в. разграничение тем более примечательно, что в подавляющем большинстве под «иностранцами» здесь подразумевались выходцы из других регионов Германии, хотя – правда гораздо реже – в администрациях некоторых немецких государей встречались и «настоящие» иностранцы, например, итальянцы и голландцы – в Баварии, французы – в курфюршестве Пфальцском.
Феномен «иностранных служащих» известен в историографии, и при рассмотрении вопросов социально-политической и институциональной истории исследователи всегда отмечают иноземное происхождение соответствующих чиновников.3 Однако этот феномен никогда не рассматривался специально. Поэтому имеет смысл подробнее остановиться на причинах появления «иностранных» служащих, их особенностях и роли в территориальных структурах управления в Германии 16 в., равно как и на их групповой идентификации и характерных конфликтах, а также интеграции в новую среду.
1. Причины появления «иностранных» служащих
Причиной появления и распространения «иностранных» служащих при дворах территориальных государей явилась профессионализация сферы управления в 16 в. Характерный для эпохи Средневековья княжеский совет, традиционно состоявший из представителей знатного и авторитетного земского дворянства, больше не соответствовал тем задачам, которые вставали перед расширявшимися и усложнявшимися управленческими структурами крепнущего территориального государства. Территориальные государи испытывали острую потребность, прежде всего, в дипломированных юристах с университетским образованием, особенно ценились доктора обоих прав, римского и канонического. Это связано с рецепцией Римского права в Германских землях, где оно стало общим для всех территориальных государств после того как в 1495 г. в ходе имперских реформ был создан Суд имперской палаты (Reichskammergericht) и другие общеимперские институты. Юристы были необходимы для работы в административно-судебном совете при государе, в Придворном суде, финансово-хозяйственных органах, при оформлении управленческих решений и осуществлении дипломатических миссий. Вовлеченные в 16 в. в орбиту европейской и имперской политики, военно-конфессиональных конфликтов, немецкие территориальные государи не могли обойтись без образованных советников со знанием иностранных языков, опытом международного общения и дискуссий.
Немало ученых юристов, особенно профессора университетов, служили не на постоянной основе, но вызывались ко двору по мере надобности, для консультаций, исполнения отдельных поручений или участия в разовых акциях (Räte von Haus aus). Особенно ценились такие качества профессиональных юристов как основательное правовое мышление, владение процессуальным правом, умение искусно сформулировать статью закона или указа, способность на равных вести переговоры по спорным вопросам с правоведами других государей. Территориальные государи также ценили ученых юристов как носителей характерных для римского права представлений о суверенности, самодержавности и значении власти государя, которые способствовали укреплению авторитета территориальной власти.
Ответом на потребности времени явилось резкое повышение интереса немецких студентов к изучению права в 15–16 вв. Сначала немецкие юноши приобретали юридическое образование в Италии, более всего в университетах Болоньи и Падуи.4 Однако трудности долгого пребывания вдали от дома и дороговизна обучения оставляли число немецких выпускников-юристов за границей незначительным. Чтобы готовить образованных служащих из местных уроженцев немецкие государи основали в конце 15 – начале 16 в. целый ряд университетов с преподаванием римского права в собственных землях: в Баварии / Ингольштадт (1472), Вюртемберге / Тюбинген (1477), Саксонии / Виттенберг (1502), Бранденбурге / Франкфурт на Одере (1506), Гессене / Марбург (1527). Тем не менее дипломированные юристы в Германии остаются в дефиците весь 16 в., и территориальным государям приходится энергично искать их далеко за пределами собственных владений, порой переманивая кандидатов предложениями более щедрого вознаграждения. Поэтому «иностранные» служащие становятся привычным явлением в структурах управления немецких князей.
Например, численность ученых советников «иностранного» происхождения в органах управления ландграфства Гессенского и герцогства Вюртембергского в середине 16 в. достигала 40 %.5, а среди советников герцогов Баварских во второй половине 16 в. более 50 % прибыли из других княжеств.6 Еще больший дефицит квалифицированных советников испытывали территориальные государства на севере и северо-востоке германских земель как курфюршество Бранденбургское, где сказывалась географическая удаленность от кульурных центров империи и более позднее основание собственных университетов.7
2. Где и как искали квалифицированных «иностранных» советников
Источники свидетельствуют, что, прежде всего, специалистов искали в общеимперских институтах, а именно во время рейхстагов и сессий Суда имперской палаты. Типичным в этом смысле является пример известного в империи правоведа и политика на бранденбургской службе Кристофа фон дер Штрассена / Christoph von der Strassen (1511–1560)8, который происходил из Саксонии, учился в Виттенберге, Ингольштадте и Болонье, где приобрел степень доктора обоих прав. Прослужив затем четыре года заседателем в Суде имперской палаты в Шпейере, он в 1542 г. получил приглашение занять должность профессора в университете во Франкфурте на Одере, чтобы укрепить там преподавание римского права. Образование, талант и особенно опыт работы в имперских структурах позволили ему скоро войти в число доверенных советников курфюрста Иоахима II. До конца своих дней Штрассен оставался в Бранденбурге, определяя примирительный в отношении императора характер внешней политики курфюршества.9
При приглашении на службу очень важны были весомые рекомендации в пользу «иноземного» кандидата, например, от князей. Так в 1564 г. герцог Саксонский посоветовал Альбрехту V Баварскому взять в советники мейсенского дворянина Теофила Комерштадта / Theophilus von Kommerstadt, получившего образование в Болонье. В рекомендательном письме герцог подчеркивал важнейшее по тем временам достоинство юриста: Комерштадт некоторое время проработал в Шпейере, и в Суде имперской палаты набрался опыта по части процессуального права.10
В результате Теофил Комерштадт получил место и прослужил 15 лет в Мюнхене членом сначала Придворного, а затем Финансового совета баварского герцога.
Авторитетны были рекомендации университетских профессоров права и юристов с именем. Чрезвычайно удачной оказалась рекомендация баварского канцлера Р. Фреймана (R. Freyman), который на запрос герцога Вюртембергского Кристофа представил ему в 1555 г. юридического советника при баварском дворе, доктора обоих прав Георга Гаднера / Georg Gadner (1522–1605). Урожденный баварец, Гаднер в 1555 г. навсегда переселяется в Вюртемберг, где на ведущих должностях служит вюртембергским государям еще почти полвека. Интересно, что на решение круто повернуть жизнь, оставив родные места и удачно развивавшуюся карьеру, в данном случае повлияло вероисповедание. Для Гаднера была чрезвычайно важна возможность открыто исповедовать свою евангелическую веру в лютеранском Вюртемберге. Между тем как становившаяся все более строгой религиозная политика католических герцогов Баварии не оставляла этому места на родине.11 Вероисповедание становится во второй половине 16 в. одним из факторов, обусловивших пространственную мобильность специалистов – управленцев. Принцип Аугсбургского религиозного мира «cuius regio eius religio» с особой прочностью утвердился именно в сфере государственного управления, заставляя служащих менять место работы с учетом также и собственного вероисповедания.
С другой стороны необходимость соблюдать принцип конфессиональной однородности существенно ограничивала и возможности территориальных администраций в поисках квалифицированных специалистов за границей. Так источником «иностранных» советников для католических баварских герцогов стали почти исключительно габсбургские дворы, а герцоги Вюртембергские или курфюрсты Пфальцские укрепляли свои институты управления в основном советниками, происходившими из принявших Реформацию верхненемецких и швейцарских городов. Баварцам было особенно трудно конкурировать с Габсбургами из-за неравных финансовых возможностей в оплате специалистов. Например, баварский советник и агент при венском дворе, сообщая в 1598 г. герцогу Вильгельму V в Мюнхен о безуспешности своих поисков, отмечал, что того, кто успешен на венской службе, переманить невозможно, а те, положение которых в габсбургских структурах управления непрочно, не обладают требуемой квалификацией («wer wohl stehe, der rühre sich nicht, wer ubel steet, der taugt nit»).12
«Иностранные» служащие государя, по его заданию искавшие квалифицированных советников за пределами страны, нередко находили их на своей оставленной родине, где у них сохранялись старые связи в административной и академической среде. Таким образом в сферах управления курфюршества Бранденбургского, например, в 16 в. сформировалась целая группа чиновников – «иноземцев» из Саксонии, ближайшем к Бранденбургу княжестве со старым университетом в Лейпциге (осн. в 1409 г.). Известно, что при посредстве самого влиятельного советника курфюрста Иоахима II, саксонца Евстафия фон Шлибена / Eustachius von Schlieben (годы службы 1535–1568) ко двору в Кёльне на Шпрее в 1551 г. был приглашен юрист Ламперт Дистельмейер / Lampert Distelmeyer (1522–1588), знакомый Шлибену по службе в Дрезденской канцелярии в прежние годы.13 Дистельмейер стал со временем самой значительной фигурой в институтах управления Бранденбурга во второй половине 16 в., куда он в свою очередь привлек еще целый ряд служащих саксонского происхождения.
В выборе «иностранных» советников немалую роль подчас играли и личные склонности и увлечения государей. Так страсть баварского герцога Альбрехта V к собиранию древних рукописей и произведений искусства способствовала его сближению с Гансом Якобом Фуггером, представителем знаменитой семьи аугсбургских банкиров (1516–1575). Фуггер учился в итальянских и французских университетах и обладал широкими культурными интересами. Он много ездил по Европе и имел немалые связи при различных европейских дворах. Уже 1550-е гг. Фуггер стал агентом баварского герцога по приобретению в Италии античных древностей, в 1560-е годы вел итальянскую корреспонденцию герцога, участвовал в посольствах баварского двора, а позже возглавил Финансовый совет герцогства.14
3. Сферы возникновения конфликтов между «иностранными» советниками и представителями местных властных элит
Наиболее ревниво к высококвалифицированным «иностранным» советникам территориального государя относилось земское дворянство, представленное как высшими должностными чинами в администрации двора и центральном управлении, так и в структурах сословной организации. Дворянство издавна обладало исключительным правом быть в лице представителей наиболее знатных и могущественных родов территории («maiores et meliores terrae») советниками государя. Регулярно издававшиеся во многих княжествах с середины 14 в. Привилегии дворянства («Edelmannsfreiheiten / Landesfreiheitserklärungen») неизменно содержали обязательство князя соблюдать правило индигената, т. е. назначать на должность советников только местных уроженцев. К 16 в. требования индигената были существенно ослаблены и относились, главным образом, к высшим придворным должностям (маршал, гофмейстер) и важным советникам. Тем не менее территориальные государи стремились получить полную свободу в подборе служащих. Протоколы сословных собраний – ландтагов в 16 в. полны жалоб со стороны сословий на чрезмерное по их мнению количество «иностранных» советников при дворе и их влияние на политику государя. Наибольшей остроты достигали подобные столкновения в тех территориальных государствах, где было сильное дворянство, например, в курфюршестве Бранденбургском и герцогстве Баварском.
Особенно ненавистен бранденбургским сословиям был уже упоминавшийся «иностранный» советник курфюрста Иоахима II Евстафий фон Шлибен.15 Он происходил из дворянской семьи в Саксонии, изучал право в Болонском университете и после нескольких лет службы в канцелярии саксонских герцогов в Дрездене, примерно в середине 1530-х гг., прибыл в Бранденбург. Вся его более чем тридцатилетняя деятельность в курфюршестве, пришедшаяся на время правления Иоахима II, была посвящена устройству финансово-политического управления в стране и тем самым строительству основ территориального государства в Бранденбурге. Л. Ранке считал заслуги Шлибена в этой области «поворотными и и имеющими долговременное значение» для истории страны.16 Исследователи не без основания называют Шлибена автором бранденбургского «Придворного устава» 1537 г.,17 нормативного акта, вводившего твердые рамки в хаотичную жизнь двора в Кёльне на Шпрее и правила для функционирования органов центрального управления княжества. В начале 1540-х гг. Шлибен предпринял попытку реорганизации финансового управления в стране, которая включала в себя меры по сокращению расходов на содержание двора и более разумному и рациональному управлению имениями государева домена.18 Если первое вызвало положительное отношение сословий, то второе натолкнулось на их резкую критику, т. к. преобразования в курфюршеских поместьях угрожали влиянию дворянства на местах, где его представители полностью контролировали власть в локальных органах власти – амтах. Шлибен сделался объектом бешеных нападок со стороны сословий, причем острие этих нападок было направлено на «иностранное» происхождение советника. В протоколах ландтагов и сословных комиссий начала 1540-х гг. мы встречаемся с нерерывными жалобами на «вредоносную разорительность (den bösen Unrat)» и «беспорядочное управление (das unordentliche Regiment)» при дворе, которое обременяет подданных разорительными налогами, что по мнению сословий объясняется исключительным влиянием на курфюрства «иноземных» советников, а именно «мейсенцев (Mißner)»19 – так в Бранденбурге именовали саксонцев. Особенно сильные протесты на ландтагах вызывало то, что для покрытия многочисленных долгов курфюрст сдавал на откуп «иностранным» советникам целые амты и домениальные поместья. Сословная комиссия потребовала от курфюрста прекратить эту порочную практику, угрожая «иностранным» советникам физической расправой: «мы не собираемся терпеть вредоносных советников и иноземцев (die bösen rede und butenlender wil wy nick liden)»! Возмущенный курфюрст поспешил ответить на угрозы, что согласно ленному праву совет государя является его неотъемлемой частью («ein Stück vom Leibe des Fürsten»), и поэтому вассалы обязаны уважать советников своего сюзерена.20
В финансово-политической сфере обострялись отношения между «иностранными» советниками государя и местными элитами и в других территориальных государствах. Финансовая составляющая была важнейшей среди создававшихся в 16 в. основ территориального государства. Растущие государственные расходы (управленческий аппарат, представительские расходы в форме пышного двора, впечатляющей резиденции, военные расходы и т. д.) уже невозможно было покрывать доходами государева домена. Вопрос выживемости и развития территориального государства лежал в финансовой плоскости и зависел от успехов в управлении финансами и открытии новых источников финансирования. Именно поэтому некоторые исследователи называют 16 в. этапом «финансового государства (Finanzstaat)» в эволюции территориальной государственности.21 Путь к новым источникам государственных доходов лежал в создании действенной системы налогообложения, которое было невозможно без сотрудничества с сословиями, главным образом с земским дворянством. Этот путь одновременно означал постепенное ослабление роли сословий в принятии политических решений и в конечном итоге смену дуалистической формы правления на абсолютистскую. 16 век был, однако, начальным этапом этого пути, и сословия активно пытались участвовать в управлении государством через административные органы и структуры собственной сословной организации, используя свое исконное право утверждать налоги. Они подчас вступали острые споры по финансовым вопросам с территориальным государем, которого в этом случае очень часто представляли именно советники иноземного происхождения. Привлекательность последних для государя объяснялась не только высокой квалификацией, но и их невовлеченностью в земские сословные связи, особенно если учесть, что многие из таких ученых советников были бюргерского происхождения. Неудивительно поэтому, что представители традиционных властных элит территориального государства так критически относились к чужакам в окружении государя, выделяя их в особую нежелательную группу.
Выразительные доводы против служащих – «иностранцев» приводят в своей служебной Записке 1557 г. члены баварской экстраординарной комиссии («Über den Staat verordnete Räte»), назначенной герцогом Альбрехтом V для подыскания методов улучшения финансового управления, а также способов выплаты старых долгов и предотвращения новых.22 Среди прочего они останавливаются на служащих «иностранного» происхождения, сетуя, что их чрезмерно много в окружении молодого герцога. Члены комиссии считают их незаслуженно принятыми на герцогскую службу («andere frembde und unverdiente in sölliche gnaden genomen») ненадежными людьми, которые, будучи не связанными кровными узами с Баварией, легко меняют место службы: «сегодня – здесь, а завтра – там (sy sein heut da, morgen anderstwo)».23 Герцога предостерегают, что «иностранные» служащие легко способны к разглашению конфиденциальной информации, которую получили в Баварии, «каковую они затем за пределами страны у других наций (!) к немалому бесчестию Его княжеской милости разбалтывают, преподнося все в дурном свете (was sy alsdann… ausser lands bei andern nationen nit zu geringer verklainerung S.F.G. reden und alle ding nur zum ergsten auslegen)».24 Особенно настоятельно авторы Записки призывают баварского государя не подражать некоторым посторонним советникам из горожан и купцов в их любви к «иноземной роскоши (frembde köstlichait)» и не следовать деловым рекомендациям этих неофициальных финансовых советников («nebencamerreth»), ибо те преследуют лишь корыстные цели («aigennutzigkait darzwischen laufft»). Напротив, герцог должен избавляться от подобных людей («sölliche leut abschaffen») и брать в советники больше «умелых, опытных и справедливых людей, в особенности из сословий / дворянства (mer geschickter, erfarner und dapferer leut, sonderlich von der landtschafft)».25
Здесь в Записке содержится прямой намек на советника герцога, уже упоминавшегося Ганса Якоба Фуггера из Аугсбурга. Именно он был посторонним городским советником из купцов. Альбрехт V Баварский не только не внял настоятельным рекомендациям комиссии, наоборот – еще более приблизил к себе Фуггера, который со временем стал самым влиятельным советником баварского государя, а с 1572 и до своей смерти в 1575 г. даже возглавлял Финансовый совет герцогства. Пользуясь собственным богатым комерческим опытом и поддержкой герцога, Фуггер новаторски организовал работу Финансового совета. В составленной им в 1572 г. инструкции для служащих центрального финансового органа заложены передовые для того времени принципы четкой соподчиненности, дифференциации функций, разграничения компетенций и прозрачности контроля. Было введено протоколирование заседаний. Характерно, что членами совета были назначены в подавляющем большинстве компетентные служащие бюргерского происхождения и один «иностранный» дворянин из Саксонии.26 Поощряя подобные кадровые решения, баварский герцог продвигался по пути укрепления территориальной власти: он получал орган управления, составленный из профессионалов, независимых от земского дворянства. Снова и снова повторявшиеся на ландтагах жалобы сословий на многочисленность «иностранных» советников, их высокие зарплаты и государевы подарки герцог отводил указанием на то, что не может найти внутри страны достаточно подходящих служащих: одни не подходят из-за некатолической конфессии, другие не обладают подходящей квалификацией («…andere sein etwa der religion halben seinen f.g. nit teuglich, die ubrigen sein sonst nit darzu qualifiziert»).27
Приведенные примеры отражают характерную и для других территориальных государств картину, а именно то, что конфликты между «иностранными» советниками и представителями местной властной элиты затрагивали прежде всего сферы внутренней и особенно финансовой политики. Напротив, видные советники-юристы из чужаков, занимавшиеся внешней политикой, не вызывали подобной ревности отчасти потому, что проблемы межгосударственных отношений как правило не касались непосредственных интересов территориального дворянства. К тому же, последнее не могло конкурировать в подобной области с докторами прав, их знанием языков и опытом имперской политики. Так или иначе, но не находится сведений о трениях с местными элитами, например в Саксонии у франконца Кристиана Бейера (Christian Beyer), канцлера и руководителя внешней политики курфюрстов Саксонских в 1513–1535 гг. или в Бранденбурге у уже упоминавшихся саксонцев на бранденбургской службе доктора фон дер Штрассена и канцлера Дистельмейера.
Потенциал конфликтов «иностранных» служащих с местным окружением сводился к миниму в тех государствах, где были ослаблены позиции дворянства, как, например, в Вюртемберге – там это сословие даже не входило территориальную сословную организацию. Такого рода конфликтов не имел по-видимому и уже упоминавшийся Георг Гаднер. Баварец по происхождению, он нашел новую родину в Вюртемберге, где служил ведущим советником тамошним герцогам во второй половине 16 в. Д-р Гаднер получил широкую известность, защищая имущественные интересы своих государей в судебных спорах с соседями, он также составил первый свод карт Вюртемберга и написал историю его герцогов.28
4. Судьбы «иностранных» служащих: «сегодня здесь – завтра там» или интеграция на новой родине
«Иностранных» специалистов на службе территориальных государей можно по характеру их карьеры подразделить на две группы. Служба одних обладала высокой пространственной мобильностью: это были в большинстве своем доктора прав, которые часто меняли место службы и нередко, если учитывать их консультационные услуги, служили нескольким государям одновременно. В другую группу входили «иноземные» советники, навсегда оставашиеся на новом месте деятельности «за границей», интегрировавшись в местные социальные связи.
Межтерриториальный (надтерриториальный) характер карьер «иностранных» специалистов первой группы объясняется в значительной степени тем, что от них требовалось владение не региональным, местным правом, но знания и опыт в области входившего во всеобщее употребление римского права, большая международная практика.29 Территориальные государи чрезвычайно дорожили юристами с именем и переманивали их друг у друга высокими окладами. К таким советникам относился, например, получивший юридическое образование во Франции голландец Иоганн Барвитиус (Johann Barvitius). Прежде чем вступить в баварскую службу в 1582–1589 гг., он подвизался при дворе Кёльнского архиепископа, а в 1589 г. перешел в императорскую канцелярию в Вене, где со временем возвысился до личного секретаря императора Рудольфа II.30 Также блестящую межгосударственную карьеру сделал происходивший из Ульма ученый заседатель Придворного совета герцога Баварского в 15841586 гг. Иоганн Л.Рот (Johann L. Roth), впоследствии член Суда имперской палаты, член императорского совета и, наконец, советник епископа аугсбургского.31
Территориальные государи на севере и северо-востоке германских земель, удаленных от культурных и административных центров империи, были чрезвычайно заинтересованы в интеграции высококлассных «иностранных» служащих и стремились любыми путями привязать их к стране. Так Бранденбургские курфюрсты не только платили видным служащим из «иноземцев» высокое жалованье и дарили ценные подарки, что вызывало ропот представителей местной чиновной и сословной элиты, но и передавали им земельные владения на правах наследственных ленных держаний, чтобы таким образом обеспечить их оседлость в курфюршестве. Например, в акте от 29 июля 1515 г. о принятии на должность советника, саксонца, доктора права Вольфганга Кетвига / Wolfgang Kettwig (служил до кончины в1551 г.) курфюрст Иоахим I обязуется даровать ему и его наследникам свободные лены в Альтмарке и Пригнице, «чтобы он основательнее закрепился на нашей службе (damit Er dest statlicher in vnserm dinst erhallten mag)…»32 Такая возможность появилась в начале 1540-х гг., когда с началом Реформации в курфюршестве Бранденбургском казна приобрела в свое распоряжение немало секуляризованных церковных имений, и Кетвиг получил в ленное держание поместье Мадлиц близ
Франкфурта на Одере.33 В 1550-е гг. щедрые ленные пожалования в округе Лебус были дарованы вышеупоминавшемуся бранденбургскому советнику саксонского происхождения Кристофу фон дер Штрассену, а урожденный гессенец, обергофмаршал Бранденбургского двора, советник Адам фон Тротт цу Зольц (Adam von Trott zu Solz) принял в качестве лена бывшие земли монастыря Химмельпфорт. Так было положено начало одному из известнейших впоследствии бранденбургско-прусскому роду. Интеграции в бранденбургское общество способствовали брачные связи. Особенно активную и целеустремленную деятельность по установлению брачных связей в среде бранденбургского патрициата и чиновничества проводил один из известнейших канцлеров «иностранного происхождения» в Бранденбурге Дамперт Дистельмейер.34
До какой степени территориальные государи были способны покровительствовать заслуженным советникам из «иноземцев» свидетельствует судьба уже знакомого нам президента баварского Финансового совета Ганса Якоба Фуггера. Помимо высоких окладов и дорогих подарков в виде, например, дома в центре Мюнхена, герцог Альбрехт V регулярно оплачивал высокие долги любимого советника. Более того, в завещании от 21 сентября 1573 г. баварский государь заповедал сыну, будущему герцогу Вильгельму V, продолжать и в будущем оказывать ГЯ. Фуггеру и его семье действенную защиту и поддержку.35 То, что Вильгельм V оказался верным завету отца, показывает подлинная грамота от 22.11.1581 г. с его собственноручной подписью, хранящаяся в Архиве Санкт-Петербургского института истории РАН под шифром 13/416. В грамоте Вильгельм V удостоверяет, что его представителем Дониэлем Креленсом (Donieln Kraelens) получено от Маркса Фуггера (Marx Fugger), в настоящий момент управляющего домом Фуггеров, 947 гульденов и 45 крейцеров ежегодной выплаты из капитала наследства Раймунда Фуггера (Reimundt Fugger), отца теперь также покойного Ганса Якоба Фуггера, причитающихся «трем светским сыновьям последнего (dreyen Welltlichen Soehnen)» и «осиротелым несовершеннолетним детям из второго брака (die verlassenen Pupillen anderer Ehe)». Несколько сыновей Фуггера заботами баварского двора были обеспечены церковными пребендами в близких герцогству католических капитулах и стали духовными лицами, поэтому в документе речь идет о поддержке сыновей, оставшихся в мирской жизни. Иоахим, один из них, впоследствии унаследовал земельные владения отца в Баварии и как оседлый дворянин (еще в 1530 г. аугсбургскому купеческому роду Фуггеров было пожаловано дворянство) был выбран в земский ландтаг, что было знаком окончательной интеграции выходца из семьи «иностранцев» в местное дворянство.36
5. Идентификационные признаки группы «иностранных» советников, ее место в истории территориального государства и тенденции дальнейшего развития
Группа «иностранных» ученых советников, так хорошо заметная в политической жизни немецких территориальных государств 16 в., действовавшая поверх их границ, была своеобразным замкнутым сообществом, обладавшим определенными идентификационными признаками, в число которых входила не только этническая или национальная (в понимании того времени) составляющая, но и ряд следующих особенностей:
– Принадлежность к профессиональному цеху ученых юристов в большинстве своем с опытом учебы в зарубежных университетах, степенью доктора обоих прав и укорененностью в гуманистической культуре
– Высокая пространственная мобильность как одна из черт их образа жизни, проявлявшаяся сначала в полных переездов годах университетской учебы, затем в смене мест службы, а также в регулярном посещении вместе со своими государями рейхстагов и других имперских институтов, съездов военно-конфессиональных союзов, участии в многочисленных переговорах и т. п.
– Высокая степень коммуникативности: в этом кругу очень многие знали друг друга, знакомства завязывались еще в университетсие годы. Скрепленные знакомством и дружбой в сплоченных немецких землячествах иностранных университетов, они продолжались всю жизнь, подпитываясь, например, совместной службой в Суде имперской палаты или сотрудничестве в комиссиях рейхстагов. Эти связи были мощным каналом передачи информации об открывавшихся новых вакансиях, через них давались рекомендации, устанавливались новые контакты, нащупывались решения политических проблем и т. д.
– Солидарность и сплоченность, действовавшие даже поверх территориальных, сословных и даже конфессиональных разграничений. Например, дворянин Евстафий фон Шлибен рекомендовал на бранденбургскую службу Ламперта Дистельмейера, который был невысокого бюргерского происхождения. Различия в вероисповеданиях не отменяли уважение коллег друг к другу, и член имперского совета, католик Ганс Людвиг фон Ульм (Hans Ludwig von Ulm), подыскивая в 1605 г. при княжеских дворах и в имперских институтах подходящих кандидатов для работы в структурах управления Габсбургов, сообщал в своем отчете в Вену, что нашел несколько весьма подходящих кандидатов («etliche feine subiecta»), хотя и должен отметить, что среди таковых католики во многих отношениях не достигают уровня некатоликов («die Katholischen den Unkatholischen bey weittem nit gleich thun»).37
– Высокое самосознание и самооценка, основывавшиеся на учености, большом спросе на их труд, на большой роли в делах управления и политики. В глазах общества того времени доктор права приравнивался к дворянину, что находило отражение в частности в правилах ношения одежды
– Самая высокая социальная мобильность, если учитывать то, что большинство из ученых советников в 16 в. были бюргерского происхождения. Например, Ламперт Дистельмейер, родившийся в семье лейпцигского портного, стал во второй половине 16 в. одним из могущественных политиков курфюршества Бранденбургского.
Немецкие территориальные государи ценили «иностранных» советников прежде всего как носителей передовых для того времени правовых знаний и техник организации государственного управления. Служебную деятельность «иноземных» советников, в большинстве своем реформаторскую, они использовали для укрепления единоличной власти, что являлось движением по пути к абсолютизму. В этом контексте «иностранное» происхождение советников, невовлеченность их в систему местных сословных и административных связей только увеличивало их ценность в глазах территориального государя. Исследователи отмечают, что должностные лица только иностранного происхождения в полной мере руководствовались в своей деятельности интересами государя.38 Они не были представителями земли и семей, связанных с государем многовековыми ленными отношениями вассала и сюзерена, но функционерами государственной власти по преимуществу. Их отношения с государем носили служебно-правовой характер и регулировались лишь договором о назначении. «Иностранные» советники в концентрированном виде выразили начало процесса складывания профессионального чиновничества.
16 век был эпохой наибольшего распространения феномена «иностранных» советников. К началу 17 в., когда структуры управления территориальных государств заметно укрепляются, получая большую определенность в задачах и правилах функционирования, появляется тенденция к сокращению числа «иноземных» служащих. Частая смена мест службы и одновременные услуги разным государям начинают казаться подозрительными.39 Увеличению числа ученых советников из числа уроженцев земли способствует и то обстоятельство, что дворянство повсюду, распознав шансы образования для государственной карьеры, отказывается от традиционных представлений, что ученые занятия не подобают благородному сословию, и начинает усиленно посылать своих сыновей в университеты.40 Характерно, что и политическая мысль того времени начинает активно пропагандировать превосходство служащих местного происхождения перед чужаками. Так Иоганнес Альтузиус (Johannes Althusius) (1557–1638), кальвинистский теоретик государства и канцлер герцогов Нассаусских, в своем широко распространенном в Германии сочинении «Politica methodice digesta» (1603 г.) советует территориальным государям выбирать служащих из уроженцев земли. По его мнению государь не должен возбуждать у подданных представление, что доверяет иностранцам больше, нежели своим гражданам, ибо последние лучше знают местные обычаи и любят родину, для которой готовы на многое, тогда как чужаки преследуют только собственную выгоду. Знаком упадка Альтузиус считает положение, когда иностранцы занимают ключевые посты в государственном управлении.41 Отмеченные изменения, касавшиеся советников – «иностранцев» явились одним из проявлений начала нового этапа в развитии территориальных государств в Германии.
Примечания
1 Научный Архив СПбИИ РАН, ЗЕС 6/438, лл. 2 об., 3 об.
Oestreich, Gerhard, Das persönliche Regiment der deutschen Fürsten am Beginn der Neuzeit // Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Berlin, 1969, S. 201; Таценко Т.Н. Центральные органы управления в немецких территориальных государствах XVI в. // Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время, М., 2011. С. 187–210.
3 Lange-Kothe, Irmgard, Zur Sozialgeschichte des fürstlichen Rates in Wür-temberg im 15. und 16. Jahrhundert // Vierteljahrschrift für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte 34, 1941, S. 243–245;
Lanzinner, Maximilian, Fürst, Räte und Landstände. Die Entstehung der Zentralbehörden in Bayern 1511–1598, Göttingen, 1980, S. 205–214, 281–283; Hahn, Peter-Michael, Landesherrliches Amt und Stadtbürgertum in Brandenburg im 16. Jahrhundert // Ämterhandel im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert, hrsg. v. Ilja Mieck, Berlin, 1984, S. 259–263.
4 Таценко Т.Н. Немецкие студенты – юристы в итальянских университетах XV–XVI вв. // Средние века, вып. 60, М., 1997. С. 299–317.
5 Lange-Kothe, Irmgard, Zur Sozialgeschichte des fürstlichen Rates… S. 243245.
6 Lanzinner, Maximilian, Fürst, Räte und Landstände… S. 197, 222.
7 Hammerstein, Notker, Universitäten – Territorialstaaten – Gelehrte Räte // Schnur, Roman C. (Hrsg.) Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates. Berlin, 1986, S. 701
8 Здесь и далее, если не указано иначе, обозначаются годы жизни
9 Petersdorff, Herman von, Strassen, Christoph von der // Allgemeine Deutsche Biographie 36 (1893), S. 506-510
10 Knod, Gustav C. (Hrsg.), Deutsche Studenten in Bologna (1289–1562), 1899, S. 264.
11 Uhland, Robert, Gadner von Garneck, Georg // Neue Deutsche Biographie 6 (1964), S. 13–14.
12 Briefe und Akten zur Geschichte des 16. Jahrhunderts mit besonderer Rücksicht auf Bayerns Fürstenhaus. Bd.V, bearb. v. W. Goetz. München, 1898. S. 17–18.
13 Holtze, Friedrich, Lampert Distelmeier, kurbrandenburgischer Kanzler. Berlin, 1895, S. 12, 14.
14 Lanzinner, Maximilian, Fürst, Räte und Landstände… S. 71–73.
15 Droysen, Johann Gustav, Geschichte der preußischen Politik, 2.Teil, 2 Abt.: Die territoriale Zeit, Berlin, 1857. S. 451.
16 Schultze, Johannes, Die Mark Brandenburg, Vierter Band, Von der Reformation bis zum Westfälischen Frieden (1535–1648). Berlin, 1964. S. 84.
17 Die Hofordnung Kurfürst Joachims II von Brandenburg, hrsg. von Martin Haß // Historische Studien, Heft LXXXVII, Berlin, 1910. S. 15.
18 Haß, Martin, Ein finanzpolitisches Reform-Programm aus der Zeit Joachims II // Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte Bd. 24, Leipzig, 1911. S. 100–107.
19 Winter, G. Die märkischen Stände zur Zeit ihrer höchsten Blüthe 15401550 // Zeitschrift für preußische Geschichte und Landeskunde, Jg. XIX, Berlin, 1882, S. 289.
20 Ibid. S. 588.
21 Krüger, Kersten, Gerhard Oestreich und der Finanzstaat. Entstehung und Deutung eines Epochenbegriffs der frühneuzeitlichen Verfassunngs-und Sozialgeschichte // Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 33 (1983). S. 337.
22 Издана: Riezler, Sigmund, Zur Würdigung Herzog Albrecht V von Bayern und seiner inneren Regierung // Abhandlungen der Historischen Klasse der königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften 21, München, 1898. S. 114–132.
23 Ibid., S. 119.
24 Ibidem; Мотив опасности разглашения конфиденциальной информации был очень чувствительным для любого территориального государя. Поэтому во всех немецких актах о назначении (Bestallungen) присутствует обязательство сохранять в тайне все услышанное на службе. В ряде случаев эти акты обязывают назначаемых на важные должности поступать на службу к другому государю только по прошествии определенного времени с момента истечения настоящего договора.
25 Ibid., S. 126–127, 118.
26 Lanzinner, Maximilian, Fürst, Räte und Landstände… S. 74–75.
27 Ландтаг 1572 г.; цит. по: Lanzinner, Maximilian, Fürst, Räte und Landstände… S. 133.
28 Bernhardt, Walter, Die Zentralbehörden des Herzogtums Württemberg und ihre Beamten 1520–1629, Bd. 1, Stuttgart, 1972. S. 304–308.
29 Jahns, Sigrid, Juristenkarrieren in der Frühen Neuzeit // Blätter für deutsche Landesgeschichte Jg. 131, 1995. S. 120–121.
30 Gschliesser, Oswald von, Das Beamtentum der hohen Reichsbehörden (Reichskanzlei, Reichskammergericht, Reichshofrat, Hofkriegsrat) // Beamtentum und Pfarrerstand 1400–1800, hrsg. von Günter Franz, Limburg/Lahn, 1972. S. 9.
31 Lanzinner, Maximilian, Fürst, Räte und Landstände… S. 131–132, 391.
32 Riedels’ Codex diplomaticus Brandenburgensis… Hauptteil III, Band 3, Berlin, 1861. S. 254.
33 Holtze, Friedrich, Die ältesten märkischen Kanzler und ihre Familien // Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Bd. 7, Berlin, 1894. S. 214.
34 Hahn, Peter-Michael, Landesherrliches Amt und Stadtbürgertum in Brandenburg im 16. Jahrhundert… 260–262.
35 Maasen, Wilhelm, Hans Jakob Fugger (1516–1575). Ein Beitrag zur Geschichte des XVI. Jahrhunderts, München u. Freising, 1922. S. 56.
36 Lanzinner, Maximilian, Fürst, Räte und Landstände… S. 208.
37 Gschliesser Otto von, Der Reichshofrat (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte des ehemaligen Österreich 33), Wien, 1942. S. 177.
38 Hahn, Peter-Michael, Struktur und Funktion des brandenburg. Adels im 16. Jahrhundert, Berlin, 1979, S. 200–201.
39 Jahns, Sigrid, Juristenkarrieren in der Frühen Neuzeit… S. 120–121.
40 Hammerstein, Notker, Universitäten – Territorialstaaten – Gelehrte Räte. S. 731–732.
41 Stolleis, Michael, Grundzüge der Beamtenethik (1500–1650) // Schnur, Roman C. (Hrsg.) Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates. Berlin, 1986. S. 282.
Таценко Т.Н.
III.II. Хорватские дворяне на службе у государства и церкви в Венгерском королевстве на рубеже XVII века (Иван Китонич: портрет на фоне эпохи)[6]
Янош Китонич – известный юрист хорватского происхождения, жизнь и деятельность которого связана с Венгерским королевством в конце XVI – начале XVII вв. Он приобрел широкую известность благодаря своим трудам по юриспруденции: один из них – «Directio Methodica processus iudiciarii juris consuetudinarii, Inclyti Regni Hungariae» («Методическое руководство по ведению судебного процесса обычного права»); другой – «Centuria centarum contrarietatum et dubietatum ex Decreto Tripartite et resolutarum» («Сто возражений Трипартитуму и сомнений по этому поводу…»).
В XVI–XVII вв. венгерские правоведы и юристы пользовались Трипар-титумом Иштвана Вербёци, достойного конкурента которому не появилось ни в ту эпоху, ни позже. Но Трипартитум представлял собой запись обычного права, между тем как содержащийся в законах юридический материал, правовые нормы оставались несистематизированными и незнакомыми современным юристам. Отсутствовал также обобщающий труд по процессуальному праву, который отражал бы бытующую тогда в судах высших инстанций юридическую практику. В XVII в. некоторые юристы все же пытались заполнить образовавшиеся в правовой науке лакуны, более того, осмеливались подвергать критике некоторые положения труда выдающегося предшественника.1 К числу таких, немногих авторов относится Иван Китонич. Его сочинения были написаны в 1610-е годы и впервые опубликованы в 1619 г.2 Они были востребованы современниками и оказали заметное влияние на развитие юриспруденции в Венгерском королевстве, так как в первую очередь представляли собой практические пособия, в основу которых был положен опыт судейской деятельности самого Китонича. В то же время он ставил венгерские законы, судебные обычаи и юридическую практику в русло общего права, и постоянно ссылался на него.3 Именно такого произведения очень не хватало в ту эпоху юристам Венгерского королевства. Китонич писал в предисловии к изданию «Методического руководства»: «Всё, что я здесь представляю общественности и к ее пользе, я собрал, основываясь на собственном опыте, когда при Его Величестве императоре, будучи судьей Королевской Судебной палаты, во время надора и королевского наместника Дёрдя Турзо заседал в 1610 и в 1612 гг. в пожоньской, а в 1611 г. эперьешской октавиальных судебных куриях».4 Стаж работы в сфере правосудия, по словам самого правоведа, составлял приблизительно тридцать лет.5 Успех трудов Китонича трудно переоценить. Потомки называли его «ярким светочем юридической науки и практики, вторым после Вербеци светочем юриспруденции». 6 Его сочинение сравнивали с трудом добытыми яблоками из садов Гесперида.7 «Методическое руководство» было включено в приложение к изданному Мартоном Сентиваньи в 1697 г. в Надьсомбате (совр. Трнава) Corpus Juris Hungarici и оставалось в нем до юбилейного издания 1896 г.8
О востребованности произведений Ивана Китонича современниками говорит тот факт, что они неоднократно издавались в ХУП в. Второе издание увидело свет в 1634 г. в Вене, стараниями известного книгоиздателя, королевского секретаря Лёрица Ференцфи, 9 и полностью повторяло первую публикацию. В конце 1630-х годов «Методическое руководство» было переведено с латинского на венгерский язык правоведом и пастором Яношем Касони и напечатано в 1647 в Дюлафехерваре (совр. Альба-Юлия в Румынии). 10 В 1650 гг. из типографии Леринца Брейера в Лече (совр. Левоча в Словакии) книга вышла на двух языках: венгерском и латинском).11 Но и в XVIII в. труд пережил три издания, правда, на латинском языке (Дебрецен, 1701; Надьсомбат, 1724; Коложвар, 1785).12 В 1848 г. на венгерском языке в Пеште были напечатаны «Сто возражений».13 Труды Ивана Китонича и сейчас является для юристов важным источником по истории права в Венгерском королевстве. Совсем недавно, в 2004 г. в Загребе вышло факсимиле «Методического руководства», исполненное с венского издания 1634 г., дополненное комментариями и исследованиями современных хорватских историков права. 14 Хотя почти каждый диссертант, изучающий историю той или иной области права в Венгерском королевстве, считает своим долгом упомянуть о вкладе Ивана Китонича в становление венгерской правовой науки, нельзя сказать, что ему посвящено много специальных работ. В Венгрии после доклада Густава Венцеля, опубликованного отдельной брошюрой в середине позапрошлого века, 15 появилось лишь несколько небольших статей,16 да и в хорватской литературе таких работ немногим больше. 17
Историки еще меньше обращались к личности Ивана Китонича.18 Они не берутся за написание его полной научной биографии, потому что сведений о жизни правоведа сохранилось мало, они фрагментарны и противоречивы. Судя по всему, семейного архива у Китоничей не было, т. к. их род, вышедший из неизвестности благодаря знаменитому юристу, на нем и пресекся.19 Между тем Китонич достоин внимания не только из-за его значения как юриста. Меня известный правовед привлек в первую очередь как служащий государственного аппарата, который прошел долгий и трудный путь от юриста, представлявшего на местном уровне интересы дворянства в комитатских органах власти и церковных учреждений до защитника королевских имуществ, или коронного фискала (сausarum regalium director et corona fi scalis; a királyi ügyigazgató, jogügyigazgató és korona ügyész) в Венгерском казначействе. В ту эпоху, когда происходило становление бюрократического аппарата Дунайской монархии Габсбургов, карьера каждого такого служащего с одной стороны уникальна, с другой – вписывается в общую картину эволюции властных институтов в раннее Новое время. Этот материал еще ждет обобщения в монографии, посвященной истории чиновничества Дунайской монархии в целом и инкорпорированных королевств – в частности, в том числе Венгрии. История этого чиновничества представляет особый интерес, потому что в силу специфики данного государственного объединения происходило «вживание» властных институтов инкорпорированных королевств в систему центрального управления. В такой композитарной монархии, какой являлась Дунайская монархия, картина осложнялась тем, что инкорпорированные королевства перешли под власть австрийских Габсбургов со всеми своими композитами: Венгрия, в частности, со Славонией (Хорватией). И отношения Венгрии с Веной (Прагой) предполагали также отношения между частями самого Венгерского королевства, их сословиями и отдельными представителями. Пользовалась ли Вена этим фактором в своей внутренней политике? В этой связи Иван Китонич выделяется среди служащих Венгерского королевства, т. к. был этническим хорватом – причем далеко не единственным хорватом в должности защитника королевских имуществ в эту эпоху. С 1581 по 1621 г. на этом посту сменилось 6 служащих, трое из которых были хорватами: Матвей Андреашич (1591–1597), Иван Китонич (1609–1618), Иван Крушели (Крушелич) (1619–1621). В штате Венгерского казначейства в эту эпоху служили и другие представители хорватского и славонского дворянства: Михай Стеничняки, Янош (Иван) Сермег и др.20 Случайно ли это?
Таким образом, проблема может быть поставлена более широко. В какой мере можно говорить об использовании в «кадровой политике» Габсбургов в Венгерском королевстве этнического, в данном случае хорватского компонента на рубеже 16–17 вв., в период углубления противоречий между правящей династией и венгерскими сословиями, резко обозначившегося в правление Рудольфа I и его ближайших преемников. Кроме этой специальной проблемы в статье рассматриваются вопросы, помогающие 1) реконструировать облик чиновничества во владениях австрийских Габсбургов первый период раннего Нового времени; 2) разобраться в принципах формирования бюрократического аппарата центрального государственного аппарата; 3) изучить возможности сословий инкорпорированных королевств в этом процессе.
* * *
Известно, что семья Китоничей происходила из Хорватии. В течение 16 в. на территорию Венгрии хлынуло несколько – не меньше четырех – мощных волн миграций с юга. Крупные хорватские землевладельцы, такие как Франгепаны, Зрини, опасаясь турок, просили у короля военной помощи, а также разрешения переселять в Австрию и Венгрию своих крестьян. Фердинанд I, не имевший, особенно на первых порах, достаточной поддержки в Венгерском королевстве, способствовал переселениям: тем самым укреплял границы, спасал производительное население. Одновременно он создавал новую, верную аристократию из числа своих сторонников, не только крупных магнатов, но и мелких и средних, в том числе, хорватских дворян.21 Они получали в качестве королевских пожалований обширные владения в Венгрии и Австрии, сохраняя при этом недвижимость в Хорватии и Славонии. 22 Среди переселенцев встречались не только этнические хорваты и славонцы, но и натурализовавшиеся различными путями более в раннюю эпоху венгерские семьи (Баттяни, Надашди, Эрдеди и др.). Ориентированная на север хорватская миграция в 16 в. заселяла западные края Венгерского королевства, включая комитаты Ваш, Шопрон, Мошон, Дёр, Пожонь, Нитра, восточные районы Австрии, а также южные области Моравского маркграфства.23
Неизвестно, когда появились в Венгрии Китоничи, возможно, в 1560-е гг., незадолго до рождения Яноша в 1560 г. В 1556 г. пала Костайница, что вызвало новую волну хорватской миграции в западные венгерские комитаты, во владения Иллешхази, Надашди, Зрини.24 Семья поселилась в комитате Ваш, близ Сомбатхея, где, как известно, уже существовала большая колония бежавших от турок переселенцев из Хорватии. Нельзя исключить того, что Иван родился ещё в Хорватии, в Костайнице. Мы также не знаем, к какому социальному слою принадлежала семья, имела ли дворянский статус. Многие беженцы – дворяне теряли и свои владения, и документы, подтверждающие дворянство. На новом месте им зачастую приходилось начинать все заново.
Жизненный путь Ивана Китонича можно разделить на три периода: 1) от рождения (1560/1561) до 1605 г.: годы учебы, начало профессиональной деятельности в Венгрии; 2) 1605–1608 гг.: хорватский период жизни; 3) 1609–1619 гг.: возвращение в Венгрию и государственная служба. Сразу следует заметить, что, пытаясь реконструировать биографию знаменитого юриста, исследователь оказывается в трудном положении. Сведения о нем, особенно относящиеся к первому периоду не только скудны, но и не всегда надежны: нет уверенности в том, что во всех случаях речь идет об одном и том же лице, а не о совпадении имен.
Как уже упоминалось, он рос в хорватской среде в Сомбатхее, возможно, первые шаги в образовании сделал под руководством учителей-хорва-тов.25 Высшее образование Китонич получил в университете Граца, католическом учебном заведении, основанном в 1586 г. эрцгерцогом Карлом Штирийским Габсбургом для борьбы с Реформацией и переданном в руки иезуитов. В матрикулах университета Иван упоминается в записи от 15 января 1587 г., как хорват из загребского епископства, стипендиат папы (Joannes Kytonicius de Koztanicza, Croatia, Dioc. Zagrabiensis, Summi Pon-tificis Alumnus).26 8 мая 1587 г. он получил степень бакалавра, а 28 июля 1588 г. стал магистром свободных искусств и философии.27 Патрон Китонича римский папа, серб по происхождению, Сикст V был известен своим покровительством славянской католической молодежи. 28 Отметка в матрикулах – самое раннее, дошедшее до нас известие об Иване Китониче. Запись о его принадлежности к загребскому диоцезу и хорватскому этносу, не исключает того, что какое-то время он мог провести в Хорватии, откуда, возможно, и прибыл в университет. Кроме того, можно говорить о прочных связях будущего студента с хорватской католической церковью, не без участия которой он и мог получить покровительство самого римского папы. Но в судьбе Китонича могли быть задействованы и другие каналы связей с Римом – венгерских, в лице Дёрдя Драшковича, дёрского епископа (1578–1587) и одновременно ишпана комитата Дёр, а также верховного канцлера Венгерского королевства. Его предки принадлежали к хорватской знати, имели там обширные владения. Сам Дёрдь Драшкович занимал прочное место в церковных и светских структурах власти Хорватии: в 1563–1578 гг. он был загребским епископом, а в 1568–1575 гг. – баном Хорватско-Славонского королевства.29 В 1585 г. Драшкович получил кардинальскую шляпу.30 Если молодой Китонич попал в Грац стипендиатом папы из Западной Венгрии, где обосновалась его семья, то близость к дёрскому епископу с его хорватскими и римскими контактами могли помочь в обеспечении материальной стороны его обучения. При этом нельзя исключить того, что при обращении к папе за содействием для большего эффекта могла быть подчеркнута его близость к Хорватии и загребской церкви. Как бы то ни было, на этом этапе жизненного пути судьба будущего известного юриста тесно переплелась с Венгрией и Хорватией, с католической церковью, верным сыном которой он оставался всю жизнь. Китонич не был исключением: в эпоху контрреформации католическая церковь помогала молодым людям из бедных хорватских семей, не перешедших в протестантизм получать католическое образование. Среди католических священников во владениях крупных светских венгерских магнатов Западной Венгрии было немало хорватов.31
Жизнь и деятельность Китонича с начала 1590-х гг. лучше отражена в источниках. Вернувшись в Венгрию, он активно включается в жизнь своего края, прежде всего, как человек, близкий к дёрскому епископу (уже преемников Драшковича), 32 его фамилиарий. В историографии есть сведения, что в 1590–1591 гг. Иван исполнял должность директора школы (rector scolae, ludimoderator, ludimagister) дёрского епископа в Сомбатхее. 33 В 1592 г. на него возложили уже другие обязанности, связанные с юридической защитой имущества дёрской церкви, за что от своего «работодателя» Китонич получал ежемесячно 100 форинтов на покрытие расходов по поездкам, 34 пожаловали ему небольшой участок земли в принадлежавших дёрскому епископству владениях.35 В 1596 и 1597 гг. в протоколах заседаний общего дворянского собрания комитата Ваш он упоминается как кастелян сомбатхейской крепости дёрского епископа, представлявший его имущественные интересы перед комитатом Ваш, а также отдельными земельными собственниками. 36 Так, он неоднократно ставил вопрос перед дворянской общиной об оказании помощи зависевшей от епископа, находившейся на территории комитата Ваш крепости провиантом для гарнизона и средствами для восстановления.37
Служба Ивана Китонича на страже интересов католической церкви не осталась без награды. Не прошло и двух лет после получения им магистерской степени, как король Рудольф I дипломом от 13 апреля 1590 г. возвел Ивана со всеми его братьями, племянниками и племянницами во дворянство.38 Принимая во внимание то обстоятельство, что в университет Китонич попал довольно поздно, только в 27 лет, можно предположить, что и до учебы этот бедный сын хорватских беженцев смог обратить на себя внимание высших иерархов венгерской и хорватской католической церкви, добившихся для него папской стипендии. Не сохранилось известий о том, чем он занимался до поступления в грацский университет: возможно, уже тогда на практике постигал азы профессии юриста, скорее всего нотария, в одном из церковных учреждений.
Два выдающихся факта биографии Ивана Китонича – папское покровительство в университете и жалованная грамота дворянства – очень красноречивы. Задачи укрепления и восстановления позиций католической церкви в разгар Реформации выступали на первый план как в деятельности римской курии, так и в политике католических монархов. Как известно, император Рудольф II Габсбург (как венгерский король Рудольф I) резко повернул от политики религиозных компромиссов своего отца Максимилиана II к жесткой Контрреформации. Хорватское дворянство, в своем большинстве сохранявшее католическую веру, служило в этом опорой. Но, кроме того, как уже упоминалось, в нем Габсбурги искали опору в Венгрии против недовольных венгерских дворян. В своих расчетах правящая династия не просчиталась.
Став дворянином, Иван Китонич обзавелся гербом с девизом: «Добродетель (или достоинство) стремится к великим делам» (Tendit ad ardua virtus). Введенная в него любимая, отражающая гуманистические этические нормы категория virtus, представляется не только данью моде, но свидетельствует о больших амбиций владельца нового герба.39 Уже в этот период «свежеиспеченный» дворянин проявлял большую активность в жизни комитатов Ваш и Мошон. Он участвует в заседаниях дворянского собрания, как юрист представляет интересы местных дворян в комитатском суде (седрии).40 В 1601 г., в разгар Пятнадцатилетней войны, затронувшей и земли Западной Венгрии, комитатское собрание выбрало Китонича послом для представлении жалобы королю на бесчинства французских солдат.41 Годом позже собрание включило его в состав комиссии для сбора денег послам, отправлявшимся в столицу на Государственное собрание.42 Местные дворяне еще не раз доверяли Китоничу разного рода финансовые дела, включая контроль за сбором налогов,43 благодаря чему он набирался опыта, который впоследствии окажется очень полезным для него в Казначействе. В справочной литературе встречается также упоминание о том, что в 1590–1605 гг. он занимал должности в местном дворянском самоуправлении: вице-ишпана и нотария комитата Мошон,44 однако точными ссылками эти данные не подкреплены. Тем не менее, такую возможность полностью нельзя исключать, т. к. какая-то связь с комитатом Мошон у него все же была, потому что в этом комитате, в местечке Райка (Раек) близ Мадьяровара, он владел землей и домом (курией), который, правда, приобрел, по его собственному свидетельству, в 1609 г. (как это следует из его обращений к Венгерскому казначейству, написанных в 1616 и 1618 гг.).45
Китонич прекрасно зарекомендовал себя и перед жителями Сомбатхея. Судебные протоколы этого местечка пестрят записями о том, что Китонич защищал его граждан в различных гражданских и уголовных делах.46 С Сомбатхеем Ивана связывала не только служба. Есть сведения о том, что он владел там домом, у него была семья: жена и дочь. Иван был женат на Эржебет Верёци,47 представительнице местной дворянской элиты: ее брат Михай неоднократно выбирался судьей. Итак, сохраняя свою хорватскую идентичность, Иван Китонич в 1590-е гг. – в первые годы XVII вв. как венгерский дворянин был вполне интегрирован в дворянское общество Западной Венгрии, одновременно состоя на службе церковного учреждения. При этом он не потерял связей со своей этнической родиной. В конце августа 1599 г. среди дел, которыми занимался Иван, появилось необычное: он выступил в комитатском суде от имени загребского капитула против Дёрдя Зрини, имея при этом на руках охранную грамоту (oltalomlevel) короля-императора Рудольфа II. Смысл дела заключался в том, что загребский капитул (при поддержке короля) требовал от Зрини прекратить беззакония в отношении расположенного на территории комитата Ваш аббатства Порно. Комитатские власти должны были обеспечить выполнение этих, уже королевских требований к Зрини.48 Этот факт биографии Китонича интересен тем, юрист устанавливал (или восстанавливал) контакты с Загребом и оказался в поле зрения короля. Вскоре эти связи помогли попавшему в беду Китоничу.
В 1605 г. спокойная жизнь Китонича нарушается с началом антигабс-бургского сословного движения, возглавленного Иштваном Бочкаи. Верный слуга католической церкви и короля не присоединился к движению и пострадал за это: потерял имущество и бежал из Венгрии.49 Сведения о Китониче с 1605 по 1608 гг. связаны с его пребыванием в Хорватии. Можно предположить, что сыграли роль его связи с загребской церковью. В благодарность за защиту интересов загребского капитула Китонич получил от него в 1606 г. земельные владения в Тихонеце и Оконеце близ Вараждина.50 В 1607–1608 г. Китонич выступил в защиту прав и свобод граждан Вараждина (по-венгерски: Варашд) против всесильного Тамаша Эрдеди – верховного ишпана комитата и вице-бана Славонии.51 В благодарность жители Вараждина предоставили Китоничу варашдское гражданство – почетное, а также дом и землю при нем.52 В Хорватии карьера Китонича быстро пошла вверх: он заседает в Саборе. Но наивысшее признание пришло в 1606 г., когда в июне этого года Сабор делегировал своего соотечественника вместе с вице-баном Мернявчичем сначала в Пожонь (Пресбург) на предстоящее Государственное собрание в связи с подготовкой Венского мира.53 Однако ввиду того, что этот съезд сословий королевства не состоялся, Сабор направил Китонича и Мернявчича в Вену на посвященное примирению Иштвана Бочкаи и короля совещание, в котором участвовали комиссары от обеих сторон.54 Среди 30 послов от короля был и Китонич. 55 Он представлял славонские сословия в Вене и 23 сентября, когда венгерские сословия подтвердили венские соглашения, заключенные 23 июня 1606 г.56 Вернувшись из поездки, послы – Китонич и Мернявчич – весной 1607 г. представили Сабору подробный отчет о поездке и привезли текст мирного соглашения.57 В 1608 г. Китонич в составе делегации от славонских сословий участвовал в Пожоньском (пресбургском) Государственном собрании, ратифицировавшем Венский мир. Вооруженный подробными инструкциями, он защищал интересы Хорватии (Славонии) в этом мире. Они одобрили Венский договор, подтверждали, что «останутся в общей свободе с Венгерским королевством», подразумевая общие с венгерскими сословиями привилегии. Однако католики-хорваты отказывались признавать религиозные «свободы», которых добивались для себя в Венском мире венгерские протестанты.58 Хорваты повели себя очень лояльно по отношению к власти. В разгар переговоров с Бочкаи в 1606 г. они предложили послать для защиты эрцгерцога Матиаса от Бочкаи хорватские войска, как «непоколебимо верные». 59
В этих событиях Китонич снова удостоился внимания Вены, а именно, эрцгерцога Матиаса: в 1608 году ему была предложена должность защитника королевских имуществ (или коронного фискала) в Венгерском казначействе. В трудное время утверждения во власти он нуждался в верных хорватах добрых католиках. Но только этих качеств недоставало для того, чтобы занимать подобающее место в королевской администрации: было необходимо обладать еще и соответствующим образованием. Должность защитника королевских имуществ занимала важное место в структуре финансовых институтов государства. Для нее требовались специальная юридическая подготовка и глубокие знания не только в юриспруденции, но и в области финансов. Ведь обязанностью коронного фискала являлась защита имущества Святой короны и имущественных интересов короля перед судами. Носители этой должности должны были в спорных случаях, возникших между короной, с одной стороны и частными лицами и целыми корпорациями (светскими и церковными) – с другой, высказывать свои мнение и давать рекомендации казначейству, которое ведало королевским и коронным имуществом. Их можно считать своего рода юридическими консультантами от Короны в Казначействе. Компетентное суждение этих опытных юристов требовалось и при намечавшемся приобретении Венгерским казначейством какого-либо имущества, владения, доходов и т. п. Свои предложения они излагали Совету Казначейства, а на судебных заседаниях лично его представляли. В изучаемые десятилетия в Венгерском казначействе сложилась весьма сложная ситуация. С началом Пятнадцатилетней войны с Османской империей (1593–1606) казна очень нуждалась в деньгах, использовались все возможные средства для их изыскания. В частности, стало широко применяться – со злоупотреблениями – право казны на вымороченное дворянское имущество. В то же время первое открытое антигабсбургское сословное движение породило много имущественных проблем, связанных с инициативами самого главы этого движения Иштвана Бочкаи, избранного князем Трансильвании: он щедро предоставлял земельные пожалования сторонникам, конфисковывал имущество противников и т. п. Так же поступала и противоположная сторона: Габсбурги все чаще стали прибегать к конфискации имуществ заподозренных – с основаниями и без таковых – в государственной измене представителей венгерской политической элиты, устраивая против них громкие судебные процессы.60 После заключения Венского мира Венгерскому казначейству вместе с Придворным казначейством пришлось еще долго «расхлебывать» эти последствия. Несмотря на то, что Рудольф II и Матиас II были вынуждены пойти на уступки венгерским сословиям, в целом правящая династия продолжала следовать прежней политике централизации, унификации системы управления, укреплявшей ее режим и ущемлявшей сословные свободы, в том числе касающиеся участия сословий в отправлении власти. Вместе с тем в соответствии с решениями Венского мира двор не мог вести открытое наступление на венгерские учреждения, т. к. статьями мира предусматривалось, что высшие должности в Венгерском казначействе не будут передаваться иностранцам.
В создавшихся условиях двор должен был исходить из внутренних возможностей композитной монархии Габсбургов, привлекая на службу верноподданных из разных ее частей. Хорватское дворянство, поселившееся в Венгрии, как уже упоминалось, в этой связи стало пользоваться особым покровительством династии. Так, очень удобной фигурой на посту защитника королевских имуществ стал Иван Китонич – не иностранец, но и не венгр, знающий и опытный юрист, понимающий толк в имущественных и финансовых вопросах, преданный властям, убежденный католик. Он был свои человеком и в венгерской среде – плоть от плоти венгерского дворянства, но в то же время стоял немного в стороне от него, т. к. опирался на свои давние и прочные связи с католической церковью, двором и «тылы» в Хорватско-Славонском королевстве. Все это могло обеспечить ему известную самостоятельность в должности защитника королевских имуществ, которую он занимал 10 лет: с 1609 по 1618 г.
В момент своего назначения на новую должность (5.03.1609 г.) Китонич еще не вернулся в Венгрию: он жил в Вараждине. Оттуда в сентябре 1609 г. он отправил письмо Матиасу, в котором в ответ на требовании короля как можно скорее приступить к обязанностям объяснял, почему задерживается с приездом.61 Король был так заинтересован в Китониче, что уже в середине октября распорядился повысить ему жалованье с 350 до 500 талеров.62 Из Словении юрист перебирается поближе к месту службы, в том же 1609 г. приобретя курию Раек в комитате Мошон. Там он, видимо, и поселился, судя по тому, что в последующие годы некоторые его письма посланы из Райка. Новый защитник королевских имуществ не преминул воспользоваться преимуществами сложившегося положения, чтобы поправить свои материальные дела. В январе 1611 г. он обратился к Казначейству с просьбой расширить его долю в пользовании лесом в Райке.63 Не прошло и полугода, как в Казначейство поступило новое прошение Китонича (30.04.1611): оказать ему помощь в размере 600 форинтов на восстановление сожженного «дурными людьми» дома в Райке.64 К этому времени Китонич владел также землей и домом в Славонии, близ Вараждина, пожалованными ему, как уже упоминалось благодарными жителями этого города; осенью 1608 г. он попросил пожаловать ему еще несколько местечек в Славонии, в комитате Кризин.65 Неизвестно, была ли удовлетворена эта просьба. Во всяком случае семья Китоничей сохраняла за собой славонские владения, т. к. там обосновался брат Ивана Павел и его потомки.66 Наконец, еще одним приобретением Ивана Китонича стал дом Пожони, в хорошем районе, где селились состоятельные и именитые граждане.67 Покупка позволила ему жить в непосредственной близости к месту работы в Венгерском казначействе, что, безусловно, облегчило выполнение служебных обязанностей.
В Архивах Венгерского и Придворного казначейств сохранилось много сведений о деятельности Китонича на этом посту в указанные годы. Ему пришлось выносить свое мнение по поводу самых нашумевших имущественных дел, имевших политический контекст. Так, долгие годы продолжались споры по поводу принадлежности и статуса торговых местечек Сент Дёрдь и Базин. Некогда принадлежавшие короне, они были в трудные годы отданы под залог в частные руки, Иштвану Иллешхази, который, как уже упоминалось, в начале 17 в. стал одним из лидеров сословной антигабсбургской оппозиции. Соответственно изменился и статус Сент Дёрдя и Базина: их жители приравнивались, как и население деревень, к зависимому крестьянству, им запрещалось иметь земельную собственность. Базинцы и сентдёрцы хотели выкупиться и освободиться из-под власти Иллешхази, что им с готовностью разрешил Рудольф II, желавший ослабить влияние могущественного барона. Однако в 1603 г. Иллешхази вынес вопрос на Государственное собрание, выведя его на более высокий уровень, представив как нарушение прав и привилегий дворянства в отношении подвластного им населения. Конечно же, он получил поддержку привилегированных сословий. Процесс, совпавший по времени с назреванием открытого сословного выступления против Габсбургов, закончился поражением Иллешхази: его владения были конфискованы, а сам он бежал в Польшу.68 Однако после победы Бочкаи и заключения в 1606 г. Венского мира опальный магнат вернул себе место на политическом Олимпе королевства вместе с конфискованными владениями. Снова всплыл вопрос о Сент Дёрде и Базине, тянувшийся и после смерти Иллешхази: вдова бывшего надора претендовала если и не владение самими местечками, то, по крайней мере, на определенные доходы от них. С 1609 г. этой тяжбой пришлось заниматься уже Ивану Китоничу.69 В его послужном списке это дело относилось к одному из наиболее значимых. Когда в ноябре 1617 г. Китонич в связи с его назначением советником Венгерского казначейства перечисляет свои заслуги, он упоминает и дело о Сент Дёрде и Базине. В тяжбах, которыми занимался защитник королевских имуществ, встречаются имена других представителей венгерской сословной элиты: будущего надора Миклоша Эстерхази,70 Президента Венгерского казначейства Тамаша Визкелети и сатмарского генерала Андраша Доци,71 эстергомского архиепископа Ференца Форгача,72 хорватско-славонского бана Тамаша Эрдеди, 73 королевких секретарей Ференца Надьмахая74 и друга Китонича Лёринца Ференцфи,75 а также многих других. Все это делало положение Китонича щекотливым, он мог приобрести не только могущественных покровителей, но и врагов. Однако церковь, двор и официальные власти в Венгрии его надежно прикрывали. Неслучайно, свой труд «Directio Methodica» известный юрист посвятил эстергомскому архиепископу, верховному канцлеру Венгерского королевства Петеру Пазманю и надору Жигмонду Форгачу. В посвящении Петеру Пазманю Китонич подробно изложил родословную своего патрона, сделав упор не столько знатное его происхождение, сколько на заслуги предков архиепископа и его самого перед Венгрией.
Китонич дорожил не только вниманием высоких покровителей, но и отношениями с коллегами по Венгерскому казначейству, особенно из числа хорватских соотечественников. В документах Придворного казначейства нередко встречаются имена Матвея Андреашича (ок. 1550–1616) и Ивана Крушели (?-1626). Андреашич, жизненный путь и карьера которого во многом схожи с Китоничем, одно время также занимал должность защитника королевских имуществ и королевского фискала (с 1591 по 1597 гг.), но позже перешел на службу в высшие судебные ведомства королевства.76 В 1613 г. он вошел в число советников Венгерского казначейства. Китонича беспокоила судьба тогда уже немолодого коллеги, имевшего большие заслуги перед королевством. Видимо, не без его участия решались вопросы о жалованье Андреашича.77
С Иваном Крушели Ивана Китонича связывали еще более прочные узы. В 1619 г. Крушели стал его преемником на посту защитника королевских имуществ.78 К этому назначению авторитетный чиновник и юрист приложил немало усилий: вероятно, не последнюю роль в этом назначении сыграли его рекомендации. В июле 1618 г. Китонич обратился с пространным письмом к советникам Венгерского казначейства, в котором обращал их внимание на выдающиеся заслуги и способности своего протеже, как самой подходящей кандидатуры на освобождаемую самим Китоничем должность.79 Иван Крушели, как и его коллеги-соотечественники из хорватов, был высокообразованным человеком, профессиональным юристом, имел степень «доктора обоих прав и философии».80 О жизни Крушели в Венгрии до его назначения сведений крайне мало; но известна его активная деятельность в Хорватско-Славонском королевстве, где он служил и в штате бана Тамаша Эрдеди, и как адвокат, как и Китонич, защищал прав города Вараждина; 81 наконец, в 1618–1621 гг. выступал в поддержку граждан Загреба82 против всесильного хорватско-славонского бана Миклоша (Николы) Франгепана.83 Свое материальное благосостояние Крушели, дворянин в первом поколении, также строил, опираясь на службу.84 Ко времени назначения на должность коронного фискала Крушели имел уже богатый послужной список: был известен королю Рудольфу II, при котором находился в Праге; также служил будущему Фердинанду II, в 1618 г. еще эрцгерцогу, будучи его фамилиарием.85 Прочные узы связывали его с католической церковью не только Венгрии и Хорватии, но с римской курией. Вполне возможно, что и этот талантливый бедный хорватский юноша тоже получил университетское образование при поддержки Рима. Более того, Крушели состоял на службе курии: в 1618 г. он упоминается как апостольский протонотарий. Неизвестно, в чем заключались его обязанности; не исключено, что ему было поручено защищать интересы папского престола в Венгерском королевстве. С таким человеком судьба свела Ивана Китонича; можно предположить, что контакты двух хорватов, оказавшихся в Венгрии, не ограничивались службой. В первом издании «Directio Methodica» помещены хвалебные стихотворные строки, которые их автор – Иван Крушели – посвятил своему другу и коллеге Ивану Китоничу. Стареющий правовед и судья со спокойной совестью мог передать свой пост в надежные руки высокого профессионала, соотечественника, верноподданного венгерского короля, убежденного католика, друга.
Сам Иван Китонич в 1618 г. становится советником Венгерского казначейства. Должность защитника королевских имуществ, хотя и была неразрывно связана с Венгерским казначейством не принадлежала к его штату; она сопрягалась с большими хлопотами, разъездами, участием в различных судах. Вспомним, сам Китонич писал, что в 1610–1612 гг. он участвовал в октавиальных судах Пожони (Пресбурга) и Эперьеша (Прешова). По всей очевидности, разъезды все труднее давались стареющему судье. Назначение советником Казначейства в определенном смысле это означало повышение, признание заслуг, и если и не синекуру, то, во всяком случае, давало известное облегчение нагрузки. Такой путь прошел не только Китонич, но и его соотечественник Матвей Андреашич, которого в конце жизни, за три года до смерти (когда он так ослабел, что у него уже тряслись руки,86 и не мог исполнять обязанности протонотария судьи королевства) назначили советником Венгерского казначейства. И тот и другой ближе к концу жизни осели в Пожони: исполнение обязанностей советника Казачейства требовало каждодневного присутствия на службе. Следует отметить, что тот короткий промежуток времени, в течение которого Китонич был советником Казначейства, он не сидел без дела. В документах Казначейства встречаются свидетельства продолжения его активной работы.
Свой жизненный путь советник Венгерского казначейства, 59-летний Иван Китонич завершил достойно, успев опубликовать свое детище – два труда по юриспруденции, обеспечившие ему посмертную славу и жизнь. Одно обстоятельство омрачило последние дни Китонича. В 1619 г. Пожонь была захвачена войсками трансильванского князя Габора Бетлена. В стране поднялось очередное открытое вооруженное движение сословий против Габсбургов. Деятельность государственных ведомств – в первую очередь Венгерского казначейства – на какое-то время была парализована.
* * *
Некоторые хорватские исследователи болезненно воспринимают вопрос о том, следует считать Ивана Китонича хорватским и ли венгерским автором. Так, в рецензии В. Байера жесткой критике подвергается опубликованная в Югославской Энциклопедии статья проф. М. Костренчича, назвавшего Китонича «венгерским юристом хорватского происхождения».87 В. Байер категорически возражает против признания какой-либо венгерской идентичности известного правоведа. В своей аргументации он ссылается на то, что при подготовке и позднее ратификации Венского мира 1606 г. Китонич представлял Хорватское королевство, как и на Венгерских государственных собраниях, куда он приезжал делегатом от хорватско-славонских сословий.88 Автор считает, что долгая служба в государственном аппарате Венгерского королевства, которую нес Китонич, занимая в разное время разные должности, в том числе, весьма высокие, не меняет картины.
Такой взгляд на проблему представляется односторонним. Недостаточность подхода В. Байера, на мой взгляд, состоит в том, что он не учитывает исторический контекст терминов «этническая принадлежность, происхождение» и «нация». «Нация» – понятие, которое в изучаемую эпоху было наполнено, прежде всего, социально-политическим содержанием. «Венгерскую нацию» (natio Hungarica) могли составлять исключительно лица дворянского статуса как обладавшие полной правоспособностью. Так, Иштван Вербеци исключал из «венгерской нации» недворян (plebs), в первую очередь, крестьян, обосновывая этим лишение их всех политических прав.89 Входить в состав такого рода «венгерской нации» означало в соответствии с представлениями сословного общества того времени быть членом «Святой короны», или страны – территории, на которую распространялась королевская, государственная власть. А это, в свою очередь, предполагало право членов «Святой короны» участвовать в отправлении власти. Таким образом, принятие в состав «венгерской нации» приравнивалось к предоставлению гражданства, то есть – дворянских свобод и привилегий с правом иметь земли в этой стране, занимать соответствующие рангу должности в центральном и местном управлении, иметь налоговый иммунитет, быть подсудным королевской юрисдикции и т. п. 90 Беженцы из Хорватии, поселяясь на территории Венгрии, не пересекали государственных границ, поскольку Хорватско-Славонское королевство на правах автономии входило в состав Венгерского.91 То же касается и дворян, выходцев из Венгерского королевства, приобретавших земельные владения в Хорватии. Оба королевства являлись равноправными членами «Святой Венгерской короны», привилегированные жители которых обладали одинаковыми правами в обеих частях.92 Эти привилегии распространялись и на Ивана Китонича. Он и сам именно так понимал «нацию», что нашло выражение в написанном им предисловии к «Методическому руководству»: «Много людей, особенно венгров среди венгров, выдающихся как своим возрастом, так и ученостью, а также достоинством (под которыми я подразумеваю это наше государство и живых членов этого политического тела, граждан-соотечественников), часто просят о том, чтобы, опираясь на опыт, изучить отдельные трудности в тех делах, в которых испытывается крайняя потребность».93 Такую же позицию занимал и коллега Китонича Иван Крушели: не случайно, в коротких стихах, посвященных другу, он называл «Ликургом Венгрии». 94 Таким образом, Китонич считал себя частью «венгерской нации» в соответствии с тогдашней интерпретацией данного понятия. Во всех случаях он говорит о Венгерском королевстве, ссылается на его судебные обычаи, его законы и издавших их венгерских королей, а также на «Трипартитум» – венгерское обычное феодальное право. Как и «Трипартитум», труд Китонича предназначался для всего королевства, включая Славонию, где действовали правовые нормы «метрополии». Так же и Крушели отмечал в своем посвящении Китоничу, что его трудом будут пользоваться народы Паннонии.95 Со своей стороны, автор «Методического руководства» всякий раз подчеркивал, что действует во благо Венгрии, и восхвалял тех, кто служит ей. Так, свой труд правовед посвятил примасу венгерской церкви, эстергомскому кардиналу и верховному канцлеру королевства Петеру Пазманю (последовательному проводнику курса на рекатолизацию) и надору Жигмонду Форгачу (непримиримому противнику трансильванского князя, деятельность которого угрожала целостности королевства). Связующим звеном с другими членами Corporis Sanctae Coronae для него была общая историческая мифология, героизировавшая «венгерскую нацию». Он нигде не противопоставляет себя как хорвата «венгерской нации», говоря о «нашей общей Родине» («Patria nostra communis»)96. Это вовсе не исключает того, что Китонич – как, впрочем, и Матвей Андреашич и Иван Крушели – мог оставаться и осознавать себя этническим хорватом: он вырос в хорватской общине, хотя и на венгерской земле, знал хорватский язык, не утратил связи со своей этнической родиной (как будет показано ниже), дорожил памятью о ней. Получая в 1590 г. грамоту о пожаловании (возможно, подтверждении) дворянства, Иван принял родовое имя де Костайница. Более того, значительную часть своей жизни Китонич был активным участником общественной и политической жизни Хорватско-Славонского королевства – как юрист, депутат Сабора, землевладелец. В то же время то обстоятельство, что он как личность с самого рождения формировался и всю свою жизнь провел в смешанной культурно-языковой среде, не могло не повлиять на его самоидентификацию. Региональное самосознание, как один из образующих коллектив факторов, на которые обращает внимание Петер Бурке при анализе проблемы самоидентификации личности в раннее Новое время,97 было у Китонича как бы смазано. Почти все то же самое можно сказать и о коллегах Ивана Китонича – Матвее Андреашиче и Иване Крушели. В этом плане я считаю уместным распространить на их «случаи» выводы, к которым пришел венгерский исследователь Иштван Бичкеи, изучая проблемы самовосприятия личности и национального самосознания на примере выдающегося поэта XVII в., тоже этнического хорвата, Миклоша Зрини, создавшего, тем не менее, первый эпос на венгерском языке («Осада Сигетвара», 1645–1648): «Не язык был символом идентичности, и не он обеспечивал объединяющую коллектив силу», а та общность, которую составлял дворянский социум Венгерского королевства.98 Более того, и Китонич, и Зрини принадлежали одновременно не только к венгерской и хорватской политической элите, но к элите более крупного государственного объединения – монархии австрийских Габсбургов99. Биография Ивана Китонича красноречиво иллюстрирует этот феномен.
Помимо сказанного реконструкция жизненного пути и профессиональной деятельности Китонича и двух его коллег позволяет сделать и другие выводы. В процессе формирования чиновничества в Венгерском королевстве центральная власть, Габсбурги следовали не только общей тенденции, в соответствии с которой при назначении на должности в государственном аппарате принимались во внимание профессионализм, обусловленный наличием соответствующего образования и большим опытом в данной сфере управления, но и другие параметры. В эпоху нестабильности во всех владениях Дома австрийских Габсбургов, вызванной с одной стороны тяготами войн с османами, с другой – сопротивлением сословий, которые не желали мириться с потерей позиций при отправлении власти в государстве, правящей династии приходилось предъявлять дополнительные требования к штату служащих центральных государственных ведомств, каковым – и единственным на территории Венгерского королевства – являлось Венгерское казначейство. Несмотря на все противодействие сословий, и условия договоров, которые с ними заключались, Габсбурги последовательно придерживались принципа набора на должности верных подданных династии, к тому же католиков. При том, что законы королевства не позволяли ставить на высокие посты иностранцев, двор находил выход из положения в привлечении на службу граждан невенгерских частей своей композитной монархии. В нашем случае речь идет о хорватских дворянах, облагодетельствованных властью – в чем только было возможно (земельные пожалования, пожалование дворянского статуса, должности и т. д.) – беженцев из занятых турками Хорватско-Славонского королевства. Такие, как Иван Китонич, глубоко интегрировались в венгерское дворянское общество, став его органической частью. Они были благодарны за блага и поддержку правящей династии, сохраняли ей верность во всех критических ситуациях даже ценой личного благосостояния. Кроме того, в отличие от колеблющихся венгров хорваты оставались католиками, что было также важно для католических правителей композитной Дунайской монархии, проводивших с конца XVI планомерную и жесткую политику рекатолизации в своих владениях. Можно утверждать, что Габсбурги сознательно использовали в своей «кадровой политике» представителей хорватского этноса, в первую очередь, в Венгерском казначействе, чтобы в сфере материальных интересов эффективней противостоять оппозиционно настроенной венгерской социальной элите.
Примечания
1 Так, в XVII в. «Трипартитум» стал объектом внимания Иштвана Асалая – секретаря надора (палатина), протонотария судебного аппарата надора, вице-судьи королевской курии, советника Венгерской казначейской палаты. В 1640-е годы он составил на латинском языке предметный указатель к труду Вербеци, представлявший собой скорее комментарий, в котором автор отталкивался от современных ему реалий политической, социальной и религиозной жизни. Этот указатель получил большой спрос у венгерских юристов и распространялся в рукописной форме с дополнением новых законов (См.: Гусарова Т. П. «Индекс» венгерского юриста ХУП в. Иштвана Аслая // Право в средневековом мире. 2007. Сборник статей /Под ред. И.И.Варьяш, Г. А. Поповой. Москва: ИВИ РАН, 2007. С. 255–271).
2 Directio Methodica processus iudiciarii juris consuetudinarii, Inclyti Regni Hungariae per M. Joannem Kitonich de Koztanicza, art. Liber. et Philosophiae Magistrum, Causarum Regalium Directorem, et Sacrae Regni Hungariae Coronae Fiscalem. Editio prima. Tyrnaviae, Anno Domini, M. DC.XIX. Editio Secunda. Viennae Austriae, Anno Domini M. DC. XXXIV. Metodicna uputa u sudbeni pos-tupak po obicajnom pravu slavnog Ugarskog Kraljevstva sastavio Magistar Ivan Kitonic od Kostajnice magistar lijepih znanosti i filizofie, ravnatelj kralejevskih parnica i odvjetnik svete krune Ugarskog Kraljevstva. Prvo izdanie Trnava, 1619. Drugo izdane. Bec, 1634. Drugo izdanie preveo Neveb Jovanovic. Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu, 2004. (Далее – Directio Methodica, 2004).
3 Zlinszky Janos. Kitonich Jбnos velemeny a jogбszok jogfejlesztő szereperől //Jogelmeleti Szemle. Eotvos Lorбnd Tudomбnyegyetem, Бllam es-Jogtudomбnyi Kar. 2007. 2.sz. 17.l.
4 Этот отрывок представляет собой первое предисловие, написанное Китоничем к своему главному труду. В первое издание 1619 г. оно не попало, но Лёринц Ференцфи, осуществивший второе издание «Методики», включил его в текст (Jurekovic M. Ivan Kitonic Kostajnicki //Directio Methodica, 2004. P. 681).
5 Ibid. Praefatio. P. LXIV.
6 Gedeon M. KitonichJanos (1561–1619) //Magyar jogtudosok. 3.köt. /Szerk. Hamza G. (Ungarische Rechtgelehrte. 3.Bd. Bibliotheca Iuridica. Publicationes Cathedrarum 33). ELTE, Ällam-es Jogtudomanyi Kar. Budapest, 2006. 13.l.
7 Fredericus Hermannus. In Directionem Methodicam iuris ungarici /Directio Methodica, 2004. Dodatak 1: prigodne pjesme sastavjene u cast autora metodicne upute). P. 715.
8 Corpus Juris Hungarici //Magyar Katolikus Lexiko. 8 köt. 1993, 287.l.
9 Holl B. Ferenczffy Lorinc. Egy magyar könyvkiado a XVII. szazadban. Budapest, 1980. 139.l.
10 Rövid igazgatas a Nemes Magyar Orszagnak es hozzatartozo Reszeknek szo-kott Teorveny folyasirol. Mellyet Nemzetes Veres-Marthi Mihaly Uram Kerese-re Deakbol Magyar Nyelvre forditott Kaszoni Janos Varadgyan. Nyomtatott Ciko Mihaly V. költsegen, Gyula-Fejer-varott… 1647 (Szinnyei J. Magyar Irak elete es munkai. VIII. köt., 1899. 448–449.l.).
11 Regi magyar konyvtбr. I. Az 1531-től 1711-ig megjelent magyar nyomtatvбnyok konyveszeti kezikonyve. Budapest, 1879. 791.l.
12 Új magyar eletrajzi lexikon. III. köt. /Foszerk. Marko L. 2002. 967.l.
13 Ibidem.
14 Directio Methodica, 2004.
15 Wenczel G. Tanulmanyok a magyar jogtudomany körebol //Üj Magyar Müze-um 1851, 52. ev., 1.sz. 14–32.l.
16 Gedeon M. Kitonich Janos (1561–1619) //Magyar jogtudosok. 3.köt. /Szerk. Hamza G. (Ungarische Rechtgehlerte. 3. Bd.). (Bibliotheca Iuridica. Publications Cathedrarum 33). ELTE Ällam– es Jogtudomanyi Kar). Budapest, 2006. 11–23.l.; Zlinszky J. Kitonich Janos velemenye a jogaszok jogfejleszto szereperol // Jogelmeleti Szemle. Eötvös Lorand Tudomanyegyetem, Ällam – es Jogtudomanyi Kar. 2007. 2.szam.
17 Kukuljevic I. Knjizevici u Hrvatah iz prve polovine XVII. vjeka s ove strane Velebita //Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Knj. X. Zagreb, 1869; Laszlowski E. Kitonc Kostajnicki Ivan //Znameniti i zasluzni Hrvati te pomena vrijed-na lica u hrvatskoj povjesti od 925-1925. Zagreb, 1925, S. 133. Новые статьи о Китониче сопровождают загребское факсимильное издание 2004 г.: Damas-ka M. Ivan Kitonic i njegova Directio Methodica // Directio Methodica, 2004. S.I–XXII; Krapac D. Urednicke napomene o priredivanju Kitoniceve Metodicne upute u sudbeni postupak po obicajnom pravu slavnog Ugarskog kraljevstva // Ibid. S. XXV–XXXI; Andrasi D. Znacenje Ivana Kitonica i Directio Methodica u Madarskoj pravnoj povijesti (Kitonich Janos es Directio Methodica jelentosege a magyar jogtörteneben) // Ibid. S. 709–712; Jurekovic M. Ivan Kitonic Kostajnicki. Biljeska o zivotu i djelu //Ibid. S. 661–707;
18 В венгерской научной литературe встречаются лишь отдельные упоминания о Китониче. См.: Dominkovits P. Szombathely privilegizalt mezo-varos gazdasaga, tarsadalma a 17. szazadban (1605/1606-1685). Doktori disszer-tacio (PhD). ELTE Bölcseszettudomanyi Kar. Budapest, 2009; Holl B. Ferenczffy Lorinc. Egy magyar könyvkiado a XVII.szazadban. Budapest, 1980.; Fallenbüchl Z. Ällami (kiralyi es csaszari) tisztsegviselok a 17.szazadi Magyarorszagon. Adattar. Budapest, 2002; Idem. Magyarorszag fomeltosagai 1526–1848. Budapest, 1988;
Ember Gy. Az üjkori magyar közigazgatas törtenete Mohacstol a török kiüzeseig (Magyar Orszagos Leveltar kiadvanyai III. Hatosag– es hivataltörtenet). Budapest, 1946; Nagy I. Magyarorszag csaladai czimerekkel es nemzekrendi tablakkal. 5. köt. Pest, 1859. Я опускаю те упоминания в справочниках о Китониче, которые связаны с публикацией его трудов.
19 Nagy I. Op. cit. 268.l.
20 Federmayer F. Novaki Andreasich Matyas. A gyori kaptalan jegyzojenek elet-utja //In labore fructus. Jubileumi tanulmanyok Gyoregyhazmegye törtenetebol /Szerk. Nemes G. – Vajk Ä. Gyor, 2011. 119.l.
21 См. Об этом:; Horvath S. A gradistyei horvatok XVI–XX. szazadi asszimi-laciojanak peldai // Kissebbseg kutatas. 2005. 2.szam. 33–34.l.; Katus L. A del-szlav-magyar kapcsolatok törtenete. 1. resz. A kezdetektol 1849-ig. Pecs, 1998.
22 О соотношении терминов «Славония» и «Хорватия» см.: Varga Sz. Az 1527. evi horvat-szlavon kettos «kiralyvalasztas» törtenete //Szazadok. 142. evf. 2008, 5.sz. 1087–1083.l.; Palffy G. Hrvatska i Slavonia u sklopu ugarske kraljevine u 16.-17. stoljecu (s posebnim osvrtom na politicke, vojne i drustvene odnose) // Hrvatsko-madarski odnosi 1102. – 1918. S. 11-117.
23 Ibid., 19.l.
24 Ibidem.
25 Horvath Sandor. A gradistyei horvatok XV1-XX.szazadi asszimilaciojanak peldai //Kissebseg kutatas. 2005. 2.sz. 33–34.l.
26 Die Matrikeln der Universität Graz /Bearb. bei von J.Andritsch. Bd. 1 (15861630). Graz, 1977. S. 94.
27 Die Matrikeln der Universität Graz. S. 95.
28 Сикст V (1585–1590), имевший славянские корни (его отец – перешедший из православия в католицизм серб, в начале 16 в. бежал с семьей из Черногории в Италию), последовательный и жесткий проводник Контрреформации, поддерживал славянскую молодежь с Балкан тем, что в 1589 г. основал в Риме коллегиум для подготовки славянских священников для католической церкви, впоследствии преобразованный в Папский Хорватский коллегиум Св. Иеронима. Патронируемая им церковь Св. Иеронима в Риме еще в бытность будущего понтифика кардиналом использовалась католиками, говорившими на «иллирийском» языке, который были обязаны знать и священники (JurekovicM. Ivan Kitonic Kostajnicki. Biljeska o zivotu i djelu //Directio Metho-dica, 2004. S. 668–669).
29 Miko Arpad-Palffy Geza: A gyori szekesegyhaz keso reneszansz es barokk sir-
kövei (16–17. szazad) // In: Müveszettörteneti Ertesitö. 48. evf., 1999. 1–4. sz. 137–156. old.
30 Nagy I. Magyarorszag csaladai. 3. köt. Pest, 1858. 391.1.
31 Kolnhofer V A gradistyei horvatok… 25.1.
32 После смерти Дёрдя Драшковича на дёрской кафедре с 1587 по 1605 г. сменились три епископа: Петер Херешинци (1587–1590), Янош Куташши (1598–1605), Хетеши Мартон Пете (1598–1605), под началом которых работал Иван Китонич.
33 Dominkovits P. Szombathely privilegizalt mezövaros gazdasaga, tarsadalma a 17. szazadban (1605/1606-1685). ELTE bölcsesz.tud.kar. Doktori disz. Bp., 2009; Horvath T.A. Szombathely a XV–XVIII. szazadban //Acta Savariensis 8. Szombathely, 1993. 326.l.
34 «Joannes Kitonich habebit in annum fl. 100 itinerarias expensas iuxta con-ventionem suam… (Zagorhidi Czigany B. Szombathelyi urbariumok es inventari-umok a 16. szazadbol a Magyar Orszagos Leveltar Urbaria et Conscriptiones gyüj-temenyeböl. (Acta Savariensia 8). Szombathely, 2000. 100.l.).
35 Небольшой участок земли в селе Жира, находившимся в комитате Шопрон, был пожалован Китоничу дёрской церковью, которой принадлежало названное село (Этими сведениями со мной любезно поделился шопронский исследователь Петер Доминкович).
36 [Toth P.] Vas varmegye közgyülesi jegyzökönyveinek regesztai I. 1595–1600. (Vas megyei leveltari fözetek 2). Miskolc, a Borsod-Abaüj-Zemplen Megyei Le-veltar, 1989., N 182 (p. 66), N 351 (p. 121), N 369 (p. 129) etc.
37 Ibid., N 148 (р. 54), N 159 (p. 57), N 350 (p. 121).
38 Факт пожалования семье Китоничей дворянства Рудольфом I упоминается во всех статьях об авторе «Методического руководства», но нигде сам документ не приводится и не даются на него ссылки. Bojnicic I. Der Adel von Kroatien und Slawonien. Nürnberg, 1899, S. 89; Jurekovic M. Ivan Kitonic Kostanicki. S. 671.
39 О гербе Ивана Китонича см.: Nagy I. Op.cit. 5.köt. 268.l.
40 [Toth P.] Vas varmegye közgyülesi jegyzökönyveinek regesztai I. 1595–1600. N 371 (p. 130), N 384 (p. 134), N 666 (p. 228).
41 [Toth P.] Vas varmegye közgyülesi jegyzökönyveinek regesztai II. 16011620, 1631–1641. (Vas megye leveltari füzetek 5). Szombatheli, 1992. N 782, (p. 14).
42 Ibid., N 815 (p. 19).
Ibid., N 885 (p. 32).
44 Revai Nagy Lexikon. 11. köt. Bp., 1914, 714.1.; Magyar Eletrajzi Lexikon. 1. köt. Bp., 1967, 932.l.; Jurekovic M., Tkalcevic M. Kitonic Kostajnicki, Ivan //Hr-vatski Biografski Leksikon. 2005. S 172.
45 Österreichisches Staatsarchiv (Wien) Hof– Haus– und Staatsarchiv (далее ÖStA Wien, HHStA) Hoffinanz Ungarn (далее – HFU). Rote № 239–262.
46 [Benczek Gy. – Domikovits P.] Szombathely varos jegyzökönyveinek re-gesztai (1604–1605). (Acta Savariensia 18). Szombathely, 2002. Nr. 3, 8, 16, 2224, 30, 32, 34, 36–39, 44, 47, 52–54, 56–58, 61–63, 65–66, 71, 74, 76.
47 В переписи населения Пожони (Пресбурга) 1624 г. упоминается вдова Ивана Китонича Эржебет Вереци, проживавшая в доме под номером 178. Его дочь, Жужанна, жила вместе с мужем Ференцем Секеем де Визу в поместье Раёк (комитат Мошон), приобретенном Иваном Китоничем в 1609 г. (Federmayer F. Rody stareho Prespoka. Genealogicky rozbor obyvatel'stva a topografia mesta podl'a süpisu z roku 1624. Bratislava. Pressburg. Pozsony, 2003. S. 33, 235).
48 [Toth P.] Vas varmegye közgyülesi jegyzökönyveinek regesztai II. N 593 (p. 202), N 597 (p. 203).
49 Jurekovic M. Ivan Kitonic Kostanicki. S. 673.
50 Kukuljevic I. Knjezevnici u Hrvatah. S. 113.
51 Jurekovic M. Ivan Kitonic. S. 673–674.
52 Ibid. S. 676.
53 Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium. Vol. XLI. Acta Comitilia Regni Croatiae, Dalmatiae, Sclavoniae (Hrvatski Saborski spisi) /Ed. F. Sisic. Vol. 4. 1578–1605. Zagreb, 1917. (Далее – Acta Comitilia Croatiae 4). P. 465.
54 Ibid., p. 472.
55 Ibid., p. 473–474; Magyar Orszaggyülesi Emlekek (Monumenta Comitilia Regni Hungariae). Vol. 12. Budapest, 1917. (MOE). P. 313. 542–543.
56 Acta Comitilia Croatiae 4, p. 684.
57 Ibid., p. 487.
58 «… in eadem libertate cum regno Hungariae haec regna permanent, praeter religionem, quam fluctuantem et liberam iidem Status esse nolent» (Ibid., p. 472).
59 «… аliquam Croatorum evocare manum.adhuc incorrupta fide commen-datum…» (mOE, Vol. 12, p. 387).
60 Одним из примеров такой политики был судебный процесс 1603 г., организованный против Иштвана Иллешхази, могущественного магната, барона, лидера дворянской оппозиции (См.: Медведева К.Т. Австрийские Габсбурги и сословия в начале XVII века. М., 2004. С. 89–92).
61 HFA. Rote № 97, fol. 5–6.
62 HFA. Rote № 97, fol. 120.
63 HFA. Rote № 100, fol. 55.
64 HFA. Rote № 100, fol. 121.
65 HFA. Rote № 96, fol. 240 (24. IX. 1608).
66 Federmayer F. Rody stareho Prespoka. S. 235.
67 Ibidem.
68 Медведева К.Т. Две судьбы, две карьеры в Дунайской монархии Габсбургов в начале XVII в. (Надоры Иштван Иллешхази и Дьёрдь Турзо) //Искусство власти. Сборник в честь профессора Н.А. Хачатурян. СПб., 2007. С. 402–405.
69 HFA. Rote № 98 (fol. 1), № 105 (fol. 51–67) etc.
70 HFA. Rote № 104, fol. 102–103 etc.
71 HFA. Rote № 97, fol. 248–258.
72 HFA. Rote № 108, fol. 65 (Китонич послан в составе комиссии в связи со спором о мельнице между архиепископом Форгачем и горняцким городом Кёрмёцбанья).
73 HFA. Rote № 108, fol. 1280–1332. (Тамаш Эрдеди имел претензии к Нижне-австрийскому казначейству по поводу доходов от медного рудника).
74 HFA. Rote № 96, fol. 39; etc.
75 HFA. Rote № 111, fol. 122а (20.07.1616).
76 Матиас Андреашич так же, как и Китонич, служил у дёрского епископа, в органах дворянского самоуправления в комитатах Западной Венгрии (в комитате Шопрон), в королевских судах, в Венгерском казначействе; он также был тесно связан с Хорватско-Славонским королевством, протонотарием которого был выбран сабором в 1602 г. (Acta Comitilia Croatiae 4, p. 430–431) и оставался до 1608 г.; как и Китоничу, Рудольфом II ему было пожаловано дворянство. Наконец, обоим в связи с их работой в центральных государственных ведомствах пришлось поселиться в столице Венгерского королевства Пожони, где они владели домами. Правда, в отличие от коллеги, Андреашич, закончив университет, начал службу в королевской канцелярии, в должности нотария. (См. о нем: Federmayer F. Novaki Andreasich Matyas).
77 HFA. Rote № 104, fol. 80–84; HFA. Rote № 105, fol. 202–207 (В 1614 г. Андреашич просил повысить жалованье с 400 до 700 форинтов).
78 Крушели был назначен на должность указом Матиаса П от 25 августа 1618 г. (MNOL, KL. E 21.).
79 Magyar Nemzeti Orszagos Leveltar. Kamarai Leveltar (Далее – MNOL, KL). E 21. Bp 468, cim. 1618 Juli, fol. 71–73.
80 Libri Regii – Kiralyi könyvek. DVD. 6.75/a rekord.
81 Ibidem.
82 Libri Regii – Kiralyi könyvek. DVD. 6/304/a rekord.
83 Эта неравная борьба, несмотря на заступничество короля Фердинанда II, закончилась поражением Крушели: он был посажен в тюрьму, подвергнут истязаниям и погиб. (Acta Comitilia Croatiae 5. Zagrab, 1918. P. 230 (10.08. 1619), p. 301 (2.10.1621), p. 307–309 (8. 10. 1621) etc.);
84 В 1609 г., видимо, от имени Эрдеди, Крушели участвовал в переговорах о правах свободного королевского города Варашда, потому что в этом же году его патрон пожаловал ему за заслуги курию Орешье в комитате Загреб, что было подтверждено королем Матиасом II в следующем году (Libri Regii – Kiralyi könyvek. DVD. 6.75/a rekord.).
85 Ibidem.
86 HFA. Rote № 108, fol. 169 (27.07.1615).
87 Bayer V Je li Ivan Kitonic hrvatski ili madarski pisac? // Historijski zbornik, 19/20 (1966-67). S. 624.
88 Ibid., S. 625.
89 Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvenytar. Werboczy Istvan Harmas-könyve / Az eredetinek 1517-ki elso kiadas utan forditottak, bevezetessel es utala-sokkal ellattak Dr. Kolozvari Sandor es Dr. Ovari Kelemen. Magyarazojegyzetek-kel kiseri Dr. Markus Dezso. Budapest: Franklin-Tarsulat, 1897. Р. 56–59.
90 Bell Gabor. Magyar jogtörtenet. A tradicionalis jog. Budapest – Pecs: Dialog Campus Kiado, 2000. 300. old.
91 О статусе Хорватско-Cлавонского королевства в составе Венгерского королевства см.: Zsoldos A. Hrvatska i Slavonia u srednjevekovnoj Ugarskoj Kraljevini // Hrvatsko-madarski odnosi 1102. – 1918. Zvornik radova. Zagreb, 2004. S. 19–27; Varga Sz. Az 1527. evi horvat-szlavon kettos «kiralyvalasztas» törtenete. 1075–1135.old.; Palffy G. Hrvatska i Slavonia u sklopu ugarske kralje-vine u 16. – 17. stoljecu (s posebnim osvrtom na politicke, vojne i drustvene odnose) // Hrvatsko-madarski odnosi 1102. – 1918. Zvornik radova. Zagreb, 2004. S. 116.
92 Kolnhofer V A gradistyei horvatok es a magyar-osztrak hatarkijeloles. Doktori disszertacio (PhD). Pecs, 2008. 18.1.; Palffy G. Hrvatska i Slavonia u sklopu ugarske kraljevine u 16. – 17. stoljecu. S. 117–123.
93 «Magna multorum est, praecipue vero Ungarorum apud Ungaros, tam aeta-te quam doctrina, quin et dignitate provectorum hominum, et quidem frequens illa querimonia, Republicam hanc nostra meiusque tanquam politici corporis viva membra, cives patrios intelligo, singularem in iis rebus difficultatem experiri, in quibus utilssima, imo plane necessaria est». (Directio Mehodica, 2004. P. LX).
94 Directio Methodica, 2004. P. 717.
95 Directio Methodica, 2004. S. 717.
96 Ibid. P. LXXXII.
97 Burke P. Linguages and Communites in Early Modern Europe. Cambridge, 2004. Р 6-10.
98 Bitcskey I. Virtus es poezis. Önszemlelet es nemzettudat Zrinyi Miklos müve-iben //A Zrinyiek a magyar es a horvat historiaban //Szerk. S. Bene, G. Hausner. Bp., Zrinyi kiado, 2007. 113–137.
99 Palffy G. Egy horvat-magyar föüri csalad a Habsburg Monarchia nemzetek feletti arisztokraciajaban. A Zrinyiek hatarokon ativelö kapcsolatai //A Zrinyiek a magyar ea a horvat historiaban. 52.l.
Гусарова Т.П.
III.III. «Иностранцы» в истории французских корпораций и мануфактур[7]
Вступление новичка в ремесленную или торговую корпорацию было ключевым моментом, четко и однозначно определявшим границу между «своими» и «чужими», между теми, кого можно было допустить в корпорацию, с кем соглашались делить привилегии, рынок и клиентуру, и теми, кого достойным не считали. Вступление в профессиональное сообщество становилось одним из самых значительных событий в жизни каждого нового ремесленника или купца, приобретавшего таким образом более высокий социальный статус. Для корпорации прием новичка также был важным, знаковым и ритуальным действием, но одновременно и в целом – действием регулярным и повторяющимся. За время обучения ученика и его последующей работы у мастера корпорация имела возможность узнать нового специалиста, а тот – осознать сделанный им выбор. Однако кроме профессиональных испытаний, важнейшим из которых в раннее Новое время становится выполнение образцовой работы (шедевра), следовало выдержать еще несколько проверок, подтверждавших, что новый мастер – достойный человек, который может войти в корпорацию, уже готовую признать его профессиональную состоятельность. Регламенты фиксировали следующие требования к претенденту на звание мастера: его добропорядочность и достойные рекомендации от его прежнего учителя или хозяина, законное рождение, принадлежность к католической, апостольской и римской церкви (в раннее Новое время). И именно в этот момент, не раньше, возникал и вопрос о «национальности», и чаще всего интерес к этому критерию проявляли купцы.
В истории ремесленных и торговых корпораций «церковной столицы» Франции, Реймса1, такое требование впервые было зафиксировано в XVII в. В 1639 г. регламент купцов-мерсье (marchands merciers) – влиятельных негоциантов, занимавшихся исключительно оптовой торговлей2, – запретил принимать в сообщество не француза3.
Регламент 1639 г., как заявлено в его преамбуле, был создан на основе уставов Парижа, Труа и других городов4. Ближайший по времени парижский устав купцов-мерсье датируется 1613 г., и в нем от новичка требовали «3 года обучения, экзамен и вступительные взносы» (ст. 3)5, как указал Р. де Леспинасс, опустивший текст этой и ряда других статей при публикации устава. В предыдущих регламентах этой парижской корпорации, 1558 и 1587 гг.6, также не было правила о том, что вступавший в сообщество мог быть только французом.
Позднее, когда в 1704 г. реймсские купцы-мерсье объединились с купцами суконщиками, с которыми прежде постоянно конфликтовали из-за раздела сфер влияния7, для объединенной корпорации был принят новый регламент. В описании правил обучения и приема в корпорацию (IX, X, XII ст.), ничего не говорится о национальности новичка или о необходимости его натурализации. Однако регламент 1704 г. не отменял, а дополнял прежние уставы той и другой корпорации8, поэтому правило о национальности, записанное в уставе купцов-мерсье в 1639 г., продолжало действовать и в начале XVIII в.
В регламенте 1692 г. другой купеческой корпорации Реймса – бакалейщиков – записано, что новичок должен быть по происхождению французом и подданным короля Франции, либо должен натурализоваться, получив об этом надлежащим образом заверенное удостоверение9.
Ранее бакалейщики Реймса входили в одну корпорацию с аптекарями и хирургами и должны были руководствоваться уставом, который был утвержден для них королевским патентом 1552 г. и подтвержден в 1554 г.10 Урегулирование потребовалось из-за конфликта мастеров и торговцев с докторами медицины созданного незадолго до того, в 1547 г., университета Реймса. И как это нередко практиковалось, в качестве основы для нового регламента был использован, без каких-либо исправлений, столичный регламент – устав парижских аптекарей 1536 г. В нем не было правил о национальности новых членов сообщества, как и в более раннем парижском уставе 1484 г., и в более позднем, 1560 г. (оба устава были известны в Реймсе – в архиве сохранились их копии11). Лишь еще позднее, в 1638 г., в регламенте аптекарей и бакалейщиков Парижа появилась статья о том, что никто не может быть принят в купцы аптекари и бакалейщики, ни в купцы бакалейщики, если он не француз по происхождению и не подданный короля Франции, либо же не получил надлежащим образом удостоверенное свидетельство о натурализации12.
Купцы, торговавшие бакалейными и другими товарами, не считали устав 1552 г. «своим», подчеркивая, что вплоть до 1692 г. эта сфера в Реймсе оставалась «свободной»13 – то есть не была урегулирована регламентом. Потому они были намерены «сорганизоваться в сообщество, руководимое и управляемое в соответствии с порядком статутов, по примеру других корпораций купцов Реймса, где просители являются одними из главных, и купцов-бакалейщиков Парижа, и других добрых городов королевства»14. Упоминание столицы в таком контексте и сравнение формулировок подтверждают возможность использования парижского устава 1638 г. реймсской корпорацией.
Рассмотренные ситуации относятся к купеческим сообществам, деятельность которых была связана с дальними поездками, регулярными контактами с жителями других городов, провинций и стран: регламенты постоянно упоминают об иностранцах и иных землях – исключительно, правда, в том контексте, что оттуда привозятся разные товары, соответственно, и привозить их могут иностранцы или жители других городов Франции. Подобные упоминания есть и в регламенте парижских аптекарей 1638 г.15 Купеческих объединений было безусловно меньше, чем ремесленных16, потому и регламентов, устанавливавших «национальные» ограничения, немного.
Однако действительная причина отсутствия «иностранцев» в сфере внимания почти всех ремесленных и многих торговых корпораций – не в том, насколько близко или далеко от границ королевства находился город и как часто и регулярно в нем появлялись и претендовали на ту или иную профессию жители «иных стран», а в том, что корпорации видели проблему не исключительно в иностранцах, но в любых чужаках. И когда речь шла о вступлении в корпорацию, чужаками считались все, кто получал профессиональные знания и навыки не в данном городе и не у мастера – члена корпорации. Вопрос о том, где родился ученик и местный ли он житель, здесь не ставился17. Эти параметры охватывали огромный круг лиц, лишь малую часть которых составляли иностранцы, и имели гораздо более принципиальное значение для корпораций. Иностранцы «отсекались» не в момент вступления в профессиональное сообщество, а гораздо раньше: сначала они должны были натурализоваться и стать горожанами, и поскольку такие решения не входили в компетенцию ремесленных и торговых корпораций, подобные требования редко записывались в регламентах, хотя они известны и для Реймса (устав сукноделов и изготовителей саржи Реймса, принятый в 1664 г.18, накануне организации в городе суконной мануфактуры), и для других городов19.
Направленные на урегулирование ремесла и торговли во всем королевстве эдикты Генриха III 1581 г., Генриха IV 1597 г. и Людовика XIV 1673 г. не касались национальности и подданства мастеров и торговцев и не предъявляли подобных требований к вступавшим в присяжные сообщества, настаивая на таких традиционных для корпораций правилах как соблюдение сроков обучения, выполнение шедевра или сдача экзамена, на вступительной клятве и вступительных взносах20. Если обратиться к опыту Реймса, то городские власти также никогда не регламентировали национальность и подданство ремесленников: в ордонансах и регламентах XIV, XV XVII и XVIII вв., посвященных порядку в городе и его благоустройству, подобных правил или распоряжений нет. И если нереймсские жители возникали в поле зрения реймсских корпораций, это были исключительно жители других городов французского королевства. Некоторые корпорации допускали возможность оценивать иногородних учеников не хуже местных, по крайней мере, в отношении отдельных городов Франции. Так, суконщики и портные (устав 1618 г.) считали вполне достойным обучение в Труа, Лионе или восьми парламентских городах королевства21; уже упоминавшиеся купцы-мерсье (1639) – в Париже22; булочники (1561)23 и сапожники (1571)24 – в городах, в которых ремесла имели регламенты (то есть были урегулированы). Закройщики одежды и старьевщики (1755), не называя конкретных городов, также разделяли нереймсских учеников на две категории: если там, где они учились, ремесло было урегулировано, свидетельство об обучении принималось корпорацией; если же не было, то и свидетельство не признавалось25. Во второй половине XVII–XVIII вв. корпорации Реймса закрепили практику требовать денежной компенсации за обучение, проведенное претендентом на звание мастера за пределами города26.
Особенности разных городов Франции учитывались и в королевских ордонансах. Так, эдикт 1581 г.27 подчеркивал исключительное положение парижских ремесленников, которые могли работать в любом городе королевства и не были обязаны приносить для этого новую клятву – им следовало лишь предъявить акт о приеме в мастера и зарегистрировать его в судебной канцелярии того места, где они собирались жить (6 ст.)28. На особом положении находились и ремесленники Лиона (8 ст.): для поддержания оживленной торговли необходимо, сказано в эдикте, чтобы они очень хорошо знали свои ремесла. Поэтому дети мастеров и другие жители Лиона могли учиться, служить и работать в любом городе королевства или за его пределами, кроме Парижа, для которого требовалось местное обучение.
В отличие от ремесленников, купцы (мерсье и бакалейщики Реймса, как и бакалейщики Парижа) были готовы считать границами не городскую черту – не конкретный город с вместе его пригородами и даже не сумму нескольких приемлемых по тому или иному критерию городов, а границы французского королевства, что отражало широкую, в отличие от ориентированных на один город ремесленников, сферу их деятельности. То, что в регламентах прочитывается как ограничение (не может стать членом корпорации тот, кто не является французом и подданным короля Франции…), в реальности говорит о готовности и способности купеческих сообществ принимать все французское королевство в совокупности его городов, городков и провинций, признавать всех его жителей как французов и подданных короля и видеть их равными друг другу независимо от очевидной разницы между центром их мира (не столицей, а конкретным городом) и его периферией – всеми остальными городами и землями.
* * *
В раннее Новое время качественно меняется экономика Франции и в целом французское общество. В XVI–XVII вв. было создано множество мануфактур; особенно активным этот процесс стал во второй половине столетия, при министре финансов Людовика XIV Жане-Батисте Кольбере, поощрявшем внедрение новых технологий и развитие новых и традиционных отраслей. Мануфактуры не всегда оказывались успешными предприятиями, порой они довольно быстро прекращали свое существование, что объясняют целым комплексом причин – состоянием внутреннего рынка Франции, ее финансовых институтов и др. Во многих случаях появление мануфактуры означало не создание нового производства, а получение уже работавшими в городе мастерскими почетного титула королевской мануфактуры (суконные мануфактуры в Невере, Пуату, Амьене, Реймсе и Бове, шелковая мануфактура в Ниме и др.29).
В XVII в. мануфактурное производство приобрело новое качество. Мануфактуры возникают во многих отраслях: это не только изготовление разных видов шелковых тканей (Лион) и традиционное сукноделие, но и изготовление других шерстяных тканей, тонкого полотна, предметов роскоши (кружева в Алансоне, Седане, Сансе, шелковые чулки в Лионе, шпалеры в Лионе и Париже, ковры в Бове, зеркала), книгопечатание (Лион, Париж и другие города), оружейное производство (Сент-Этьен, Бомон, Вьенн), судостроение (Тулон, Брест, Рошфор), горное дело. При минимальных благоприятных условиях и соответствующем импульсе со стороны центральной власти мануфактуры возникали во многих городах и регионах, а в одном городе могли работать несколько мануфактур. По подсчетам В.Н. Малова, ориентировочное число мануфактур, основанных при Ж.-Б. Кольбере, составляет 327, что сопоставимо с аналогичным показателем за 60 предшествующих лет30. Их необходимость, их возможности осмысляются теоретически, им отводится важная роль в экономике государства (Ж. Боден, Б. Лаффема, А. Монкретьен31). Понимание их значения и стремление организовать их деятельность на государственном уровне приводит к их законодательному регулированию: для них во множестве утверждаются регламенты32.
Отражением представления о королевстве как едином организме становятся ремесленные уставы, действие которых распространялось на всю территорию королевства: для музыкантов в 1658 г., для книгопечатников в 1723 г., для цирюльников, парикмахеров и банщиков в 1725 г., для красильщиков шерсти в 1737 г. Были созданы также и общефранцузские мануфактурные регламенты: для сукноделов (1669), красильщиков (1667), изготовителей шелковых чулок (1672), изготовителей чулок из шерсти и хлопка (1700), шляпников (1700).
Ж.-Б. Кольбер видел цель мануфактур не столько в крупном, сколько в новом производстве33, в том числе – созданном по заграничным образцам. Поэтому для организации производства и обучения новым профессиям считали не только возможным, но и необходимым приглашать иностранных специалистов.
Настоятельная потребность в новом знании проявилась в организации французских мануфактур шелковых, золотых и серебряных тканей. Эти производства были открыты для иностранцев и вводили для них особые правила получения метризы34, дававшей возможность работать во Франции. Сначала иностранец должен был проработать 5 лет у городского мастера. Подчеркну, что на этот срок никак не влияла реальная квалификация иностранца – даже если он был мастером у себя на родине, прибыв во Францию, он становился работником. Но если он был готов выдать секрет новой шелковой ткани, и этот секрет получал одобрение от собрания мастеров, иностранец мог стать мастером, не отрабатывая обязательного пятилетнего срока. Такое правило, свидетельствовавшее о ценности эксклюзивных профессиональных знаний, действовало, как показывают мануфактурные уставы, в шелкоделии Лиона (1667)35, Тура (1667)36 и Нима (1682)37. Оно подтверждало факт высокой квалификации чужака и «несправедливость» его пятилетней работы подмастерьем. С другой стороны, шелковым мануфактурам чужаки были очень нужны в роли квалифицированных работников, хотя в этих регламентах, в отличие от уставов суконных мануфактур (см. далее), возможности подмастерьев-чужаков не были прописаны.
Париж предлагал иностранцам несколько отличные условия: парижские изготовители золотых, серебряных и шелковых тканей (1666) полагали, что иностранцы, как и чужаки (то есть не парижане), могут заниматься ремеслом, если «проработали» (ait travaille) в этом городе 5 лет и зарегистрировались в регистре сообщества38. Здесь под «работой» подразумевалось скорее обучение, которое и для обычных учеников продолжалось те же 5 лет39. И если в дальнейшем иностранцы или чужаки желали обосноваться в Париже и стать мастерами, то к ним предъявлялись одинаковые требования40.
О королевском покровительстве красильщикам-иностранцам, которые пожелают обосноваться во Франции, особо сказано в общем регламенте красильщиков сукна, саржи и других шерстяных тканей (1667), где подчеркивается, что красильное дело – это искусство, знания о котором приходят лишь с большим опытом: мастерами могли стать только те, кто проучился и проработал подмастерьем в течение семи лет и выполнил шедевр41.
Потребность в квалифицированных мастерах была исключительной и для суконных мануфактур, которые считали возможным принимать иностранцев сразу в качестве мастеров, предоставляя им право самостоятельно выбрать доказательство, которое подтвердило бы их статус. Прежде всего, они могли доказать, «что стали мастерами в местах, которые они покинули». В регламентах Бове (1667)42, Омаля (1666)43, Седана (1666)44 и Реймса (1666)45 не уточняется, каким должно быть доказательство, а в Амьене настаивали на предъявлении патента, удостоверявшего звание мастера (1666)46.
Другим доказательством, а точнее – другим способом получения метризы, мог стать выполненный иностранцем шедевр, на что соглашались в Омале, Каркассоне47 и Седане. Однако такой шедевр мог стать для иностранца повторным испытанием, если в его родном городе изготовление образцовой работы тоже было необходимо для получения метризы. Таким образом, для иностранца как «дважды» чужака – не горожанина и не француза – испытание повторялось (удваивалось), хотя конкретная образцовая работа и требования к ее выполнению вполне могли отличаться от «заграничных» норм.
Третьим возможным способом регламенты называли прохождение обучения. Фактически это было квалифицированной работой, а никак не обучением в чистом виде, поскольку это правило, как и два предыдущих, относились к иностранцу – мастеру или подмастерью, специалисту, претендовавшему на то, чтобы его признали мастером во Франции48. Сукноделы Каркассона (1666) ограничивались двумя годами, сукноделы и изготовители саржи Бове (1667), Омаля (1666), Седана (1666) и Реймса (1666) – тремя годами. Оба варианта соответствовали общему для королевства мануфактурному уставу сукноделов, изготовителей саржи и других тканей (1669): если ремесло не имело регламента (то есть не было организовано в корпорацию), длительность обучения должна была составлять 2 года для сукноделов и 3 года – для изготовителей саржи49.
В Бове, Омале и Реймсе трехлетнее обучение было обязательным и для местных жителей, пожелавших стать мастерами. В Седане, напротив, французы должны были учиться даже на год дольше – 4 года50, что выглядит несправедливо по отношению к «своим» ученикам. Однако содержащаяся здесь отсылка к V статье этого же регламента, рассматривавшей варианты доказательства иностранцем его мастерства, заставляет предполагать, что имеются в виду разные виды «обучения»: с нуля – для француза и повторное – для чужака, по каким-то причинам не сумевшего ничем подтвердить свою метризу. Испытание для иностранца опять дублируется.
Мануфактурам была дарована большая привилегия: если корпорация принимала иностранца в мастера, то такой шаг означал его натурализацию: ему не нужно было получать никаких других документов (о натурализации) и ничего дополнительно платить. Если же впоследствии такой человек покидал Францию, все его имущество подлежало конфискации в пользу короны. Это правило было общей нормой для мануфактурного производства, оно известно в шелкоделии Парижа (1666)51, Лиона (1667)52, Тура (1667)53, Нима (1682)54, в сукноделии и изготовлении саржи в Бове (1667)55 и Реймсе (1666)56, и не встречалось в практике ремесленных корпораций. Разница отчетливо видна на примере изготовителей саржи, шерстяной кисеи, чесальщиков шерсти и сукноделов Реймса: правила о натурализации новых мастеров-иностранцев не было в их регламенте, утвержденном в 1664 г., всего за 2 года до создания основанного на нем мануфактурного устава (1666).
Мануфактуры нуждались не только в мастерах, но и в обученных, квалифицированных работниках – подмастерьях, что прослеживается не только по рассмотренному выше требованию повторить «обучение». Сукноделы Омаля (1666)57, Седана (1666)58, Каркассона (1666)59 и Бове (1667) могли свободно принимать на работу иностранных подмастерьев, чему было запрещено препятствовать. Только в Бове местные работники имели преимущество перед чужаками и иностранцами, но им особо указывали, что работать они должны хорошо и честно, так, как предпишут нанявшие их мастера60.
Мануфактуры стали свидетелями и, в определенной степени, следствием изменения отношения к профессиональным секретам, всегда тщательно хранившимся и составлявшим важнейшую часть профессиональной компетенции. Сугубо специальные знания оказываются доступны для неспециалистов: как для должностных лиц, в силу их должностных обязанностей, так и для предпринимателей, вкладывавших свои средства в производство. И те, и другие очень хорошо понимали огромную ценность таких знаний. Была очевидна и ценность специалистов, носителей этих знаний: историки подчеркивают, что в это время само существование предприятия принципиально зависело от квалифицированных работников. Достаточно было иммиграции или эмиграции специалистов, чтобы могла возникнуть или переместиться мануфактура61, а в XVII в. важнейшим фактором таких миграций выступала конфессиональная принадлежность62.
При общем недоверии к чужакам, особенно в том плане, что иностранцы могли оказаться опасными для католической веры приверженцами протестантизма, и традиционном нежелании допускать их к своему рынку сбыта, уступая малейшую его долю, общественное мнение, а, скорее, позиция центральной власти, в определенный момент изменились. Выгода от приобретения секретов была столь несомненна, что иностранцев стали привлекать как обладателей эксклюзивных знаний, которые могли открыть перед французскими производствами новые возможности, новые рынки и принести большую прибыль. Использование чужих знаний стало допустимым, но оно не изменило общего отношения к чужакам вообще и иностранцам, в частности, что стало очевидно через весьма непродолжительное время, уже в начале XVIII в. Так, в 1702 г. мастерам изготовителям сукна, золотых, серебряных и шелковых тканей Лиона запретили учить иностранца ремеслу – как, впрочем, и человека, родившегося за пределами Лиона и его пригородов63.
Примечания
1 Город реймсского архиепископа, первого пэра Франции, Реймс представлял собой уникальное явление во французской истории, поскольку именно здесь происходили коронации французских монархов, и в то же время он был одним из множества средних по своим размерам городов, не ставших административными центрами. В начале XVI в. население города составляло около 12 тысяч человек, к концу этого столетия превысило 20 тысяч, в конце XVIII в. в Реймсе насчитывалось около 26 тысяч жителей: Histoire de la Champagne. Toulouse, 1975. P. 203; Histoire de Reims / Sous la dir. de P. Desportes. Toulouse, 1983. P. 200, 220.
2 Купцы претендовали на контроль над многими товарами, среди которых – разные виды тканей, предметы роскоши, изделия из металла, книги, бумага и множество других товаров (XV, XVII, XIX, XXI статьи их регламента 1639 г.: Archives legislatives de la ville de Reims / Publ. par P. Varin. P., 1847. Pt. 2. Statuts. Vol. 2. P. 570–580), хотя в Реймсе в эту корпорацию входили не только те, кто занимался оптовой торговлей, но и коробейники, мелкие торговцы галантерейным товаром (их вступительный взнос составлял 8 парижских су, в отличие от купцов, обязанных взносом в 6 парижских ливров: Ibid. P. 564. Not.). Далее при упоминании этой корпорации речь будет идти исключительно о купцах.
3 «…qu’il ne soit Francois»: Ibid. P. 568. VI ст.
4 Ibid. P. 561.
5 Les metiers et corporations de la ville de Paris, XIVe-XVIIIe siecles / Publ. par R. de Lespinasse. P., 1897. T. III: Orfevrerie, sculpture, mercerie, ouvriers en metaux, batiment et ameublement. P. 272. Not. 1.
6 8 и 9 ст. регламента 1558 г. также не были опубликованы, а лишь кратко пересказаны издателем: Ibid. P. 260. Not. 1; 1 ст. устава 1567 г.: Ibid. P. 266.
7 Из-за права торговать сукном, саржей и шерстяной кисеей. В Реймсе этот традиционный конфликт был урегулирован еще постановлением Парламента от 14 августа 1626 г., в котором подробно перечислялось, кто какими тканями может торговать оптом и в розницу: Archives legislatives de la ville de Reims. P. 572.
8 Ibid. P. 557.
9 «Nul ne pourra etre refu marchand audit corps, qu’il ne soit originaire fran-fois, et ne sujet de Sa Majeste, ou qu’il n’ait obtenu lettre de naturalite, duement verifiee oü besoin sera»: Ibid. P. 983. IX ст.
10 Archives Municipales et Communautaires de Reims. Fonds ancien. C. 680. Liasse 7. Suppl. IX. Королевские патенты 1552 и 1554 гг. опубликованы в издании: Gosset P. Les premiers apothicaires remois (1311–1700). Reims, 1904. P. 19–21.
11 Копия парижского устава 1484 г. датируется 25 мая 1607 г.; в архиве есть также копия парижского устава 1560 г., выполненная в 1643 г. копия постановления для аптекарей Блуа от 8 февраля 1607 г. и копия устава аптекарей и бакалейщиков Лана 1634 г.: Archives Municipales et Communautaires de Reims. Fonds ancien. C. 680. Liasse 7. Suppl. IX.
12 «Nul ne pourra estre refeu marchand appoticaire espicier ny marchand espi-cier, s’il n’est originaire franfois et n’est subject du Roy ou qu’il nayt obtenu de nous lettres de naturalite duement verifiees ou besoing sera»: Prevet F. Les statuts et reglements des apothicaires. P., 1950. T. III. P. 276. 7 ст.
13 «.. et comme ledit commerce depicerie est demeure libre jusqu’a present en ladite ville de Reims»: Archives legislatives de la ville de Reims. P. 974. Not. 1.
14 Еще одним аргументом бакалейщиков была квитанция на сумму в 1320 ливров, уплаченную ими за должности (offices) присяжных и синдика, управлявшими корпорацией: Ibid.
15 Prevet F. Op. cit. T. III. P. 279–281. 17, 19, 21 и 24 ст. В парижском регламенте 1560 г.: Ibid. Т. II. P. 151–152. 3, 4, 7 и 9 ст.
16 В Реймсе, например, до устава мерсье 1639 г. был утвержден лишь один купеческий регламент – для суконщиков в 1569 г. (с дополнениями 1618 г.), и в нем не было никаких «национальных» ограничений.
17 Иногда подобные вопросы все же возникали, хотя скорее в них можно увидеть отголоски противопоставления города и пригородов. Ремесленные и торговые регламенты Реймса, например, в раннее Новое время не фиксировали столь несущественных для них различий. Только в уставе шляпников 1570 г. говорилось о сыне мастера, родившемся в городе или его пригородах, что однако никак не сказывалось на его положении: Archives legislatives de la ville de Reims. P. 209–210. [IV] ст.
18 «Nul ne pourra estre maistre de ladicte communaulte pour demeurer en la-dicte ville, s’il n’a este receu bourgeois audict Reims, et qu’il ne fasse profession de la foy catholique, apostolique et romain, et n’ayt faict apprentissage en ladicte ville et fauxbourgs de Reims, ou en celle de Paris»: Archives legislatives de la ville de Reims. P. 799. XI ст.
19 Например, у портных Безансона в XVI–XVII вв.: Grosrenaud F. La corporation ouvriere a Besan^on (XVIe-XVIIe siecles.). Besan^on, 1907. P. 43.
20 Подробнее: Кириллова Е.Н. Ремесленные и торговые корпорации в раннее Новое время. Реймс, XVI–XVIII вв. Saarbrücken, 2011. С. 93–105.
21 Archives legislatives de la ville de Reims. P. 200. I ст.
22 Ibid. P. 568. VI ст.
23 Ibid. P. 148. [IX] ст.
24 Ibid. P. 259. [i] ст.
25 Ibid. P. 530–531. Not.
26 Это касалось подмастерьев-чужаков, которые желали стать мастерами в Реймсе, и особенно тех, кто вступал в брак с дочерью мастера и получал благодаря этому привилегии, приравнивавшие его к родным сыновьям мастера. Так, вступительный взнос нового слесаря, по регламенту 1646 г., составлял 6 турских ливров, но он увеличивался до 10 ливров, если новый мастер обучался не в Реймсе. Сын мастера должен был заплатить в общую кассу только 40 су (Ibid. P. 597. [V] ст.). Портные и старьевщики, в соответствии с регламентом 1716 г., требовали от зятя мастера, обучавшегося не в Реймсе, 30 ливров, который он заплатил бы в качестве вступительного взноса, если бы учился у городского мастера (Ibid. P. 520. VII ст.). Вступительный взнос нового бакалейщика составлял 30 ливров, но для сына купца, его зятя или того, кто женился на вдове бакалейщика, – 15 ливров (Ibid. P. 983. X ст.). Подробнее: Кириллова Е.Н. Указ. соч. С. 192–193, 195.
27 Edit de Henri III portant reglement pour les maitrises, examens, chief-d’oeuvre et apprentissage, avec le role de tous les arts et metiers de la ville de Paris, distingues en cinq categories pour le payement des droits de maitrise // Les metiers et corporations de la ville de Paris, XIV–XVIIIe siecles / Publ. par R. de Lespinasse. P., 1886. T. I: Ordonnances generales. Metiers de l’alimentation. Р. 86–87.
28 Общий для королевства мануфактурный регламент изготовителей шелковых чулок (1672) также указывал, что парижские мастера могли работать во всех городах и городках королевства, не проходя никаких новых испытаний, но лишь предъявив акт о том, что они были приняты в мастера в Париже: Statuts, Ordonnances et Reglemens pour les Maitres, et Ouvriers du mestier de
Bas, Canons, Camisoles, Calegons, Chaussons, et Gants de Soye // Recueil des reglements generaux et particulars concernant les manufactures et fabriques du royaume. P., 1730. Vol. 4. P. 5. XX ст.
29 Olivier-Martin Fr. L’organisation corporative de la France d’ancien regime. P., 1938. P. 113–114; Deyon P. La production manufacturiere en France au XVIIe siecle et ses problemes // XVIIe siecle. 1966. № 70–71: Aspects de l’economie frangaise au XVIIe siecle. P. 47–64; Малов В.Н. Ж.-Б. Кольбер. Абсолютистская бюрократия и французское общество. М., 1991. С. 176–177.
30 Малов В.Н. Ж.-Б. Кольбер. С. 177.
31 Люблинская А.Д. Французский абсолютизм в первой трети XVII в. Л., 1965; Люблинская А.Д. О некоторых особенностях мануфактурного этапа в развитии капитализма // Средние века. М., 1965. Вып. 27. С. 3–25; Малов В.Н. Ж.-Б. Кольбер.
32 См.: Recueil des reglements generaux et particuliers concernant les manufactures et fabriques du royaume. 4 vol. P., 1730. Как подчеркивает В.Н. Малов, кольберовские регламенты для текстильного производства составлялись по рекомендациям крупных купцов-оптовиков и «не страдали мелочностью, в отличие от обширных постановлений XVIII в…»: Малов В.Н. Европейский абсолютизм второй половины XVII – начала XVIII в. // История Европы с древнейших времен до наших дней. М., 1994. Т. 4 / Отв. ред. М.А. Барг. С. 146.
33 Цель «опекаемых государством кольберовских мануфактур не сводилась только к извлечению прибыли. Как правило, в них сочетались черты крупного предприятия и профессионального училища, так что в принципе мануфактура могла выполнять и функцию укрепления цехового производства новыми мастерами с повышенной квалификацией, с новыми техническими навыками»: Малов В.Н. Ж.-Б. Кольбер. С. 183.
34 Право заниматься ремеслом, документ (патент), подтверждавший это право.
35 Recueil des reglements. P., 1730. Vol. 2. P. 48. XXXV ст.
36 Ibid. P. 113. XXXIX ст.
37 Ibid. P. 139–140. XXXV ст. В Ниме уже в начале XVIII в., в 1716 г., регламент в этой части был изменен, и подмастерья иностранцы принимались в мастера по тем же правилам, что и все остальные подмастерья, выполнив шедевр и заплатив вступительный взнос: «Компаньоны иностранцы могут равным образом быть приняты в мастера, предоставив те же свидетельства их способностей, невзирая на то, что написано в статье XXXV указанного регламента, и заплатив 20 ливров за свой прием»: Ibid. P. 171. VII ст.; изменение регламента было подтверждено королевским ордонансом того же 1716 г.: Ibid. P. 174. VII ст.
38 За регистрацию полагалось платить 24 парижских су, о самом регистре подробно рассказано в XVII ст. регламента: Ibid. P. 14.
39 Ibid. P. 14–15. XVIII ст.
40 Ibid. P. 17. XXIV ст.
41 Регламент напоминает о принятом в 1656 г. решении отменить все выданные ранее красильщикам Парижа патенты: Statuts, ordonnances et reglemens pour les Teinturiers en grand et bon teint des Draps, Serges et autres Etoffes de laine // Ibid. P., 1730. Vol. 1. P. 363. LIII ст.
42 Ibid. Vol. 2. P. 181. III ст. Данная статья относилась не только к иностранцам, но к чужакам вообще (forains et estrangers).
43 Ibid. P. 412–413. XV ст.
44 Ibid. P. 542–543. V ст.
45 Ibid. P. 498. XI ст.; Archives legislatives de la ville de Reims. P. 862. XI ст. Регламент был составлен и принят в Реймсе в 1666 г., однако утвержден королевским патентом только в 1669 г., и в позднейших постановлениях центральной и местной власти устав датируется 1669 г. Подробнее об истории его создания: Кириллова Е.Н. Указ. соч. С. 280–286.
46 Recueil des reglements. Vol. 2. P. 234. LXXIV ст.; P. 252. CLVIII ст.
47 Ibid. P., 1730. Vol. 3. P. 217. IV ст.
48 К примеру, регламент сукноделов и изготовителей саржи Бове (1667): «Tous Maistres Drapans ou Sergiers, et Ouvriers forains et estrangers, qui vou-dront s’establir en laditte ville de Beauvais, seront refüs dans ledit Corps de Mes-tier, en faisant apparoir qu’ils estoient passez Maistres aux lieux qu’ils quittez, ou faisant apprentissage de trois ans, le tout a leur choix; apres quoy ledit Estranger sera refü dans ledit Corps…»: Ibid. Vol. 2. P. 181. III ст.
49 Ordonnances et Reglemens pour les longueurs, largeurs et qualitez des drapa, serges et autres etoffes de laine et fil // Ibid. Vol. 1. P. 295. XLVII ст.
50 «Toutes personnes qui voudront se faire Apprentifs dudit mestier, seront obligez de bien et düёment servir leurs Maistres sous lesquels ils seront Jurez, sfa-voirs les Estrangers l’espace de trois annees ainsi qu’il est dis au V. Articles; et les Franfois l’espace de quatre ans, y prenant feu, lieu et demeure…»: Ibid. Vol. 2. P. 548. XXXIX ст.
51 Ibid. P. 18. III ст.
52 Ibid. P. 48. XXXV ст.
53 Ibid. P. 113–114. XXXIX ст.
54 Ibid. P. 139–140. XXXV ст.
55 Ibid. P. 181. III ст.
56 Ibid. P. 498. XI ст.; Archives legislatives de la ville de Reims. P. 862. XI ст.
57 Recueil des reglements. Vol. 2. P. 415. XXXII ст.
58 Ibid. P. 550. LI ст.
59 Ibid. Vol. 3. P. 228–229. LII ст.
60 «S eront neantmoins lesdits Ouvriers et Habitans de ladite Ville, et ceux qui y auront gagne la franchise, employez par preference ausdits Forains et Estrangers, en faisant par lesdits Ouvriers de la Ville les ouvrages ausquels ils seront employez, bien et düёment, et travaillant en la maniere qui sera prescrite par les Maistres qui les employeront; lesquels pour les cas cy-dessus seront cras a leur serment, contre lesdits ouvriers»: Ibid. Vol. 2. P. 192. XXXIX ст.
61 Люблинская А.Д. О некоторых особенностях мануфактурного этапа в развитии капитализма // Средние века. М., 1965. Вып. 27. С. 5; Чистозвонов А.Н. Некоторые основные теоретические проблемы генезиса капитализма в европейских странах. М., 1966. С. 71; Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма. Проблемы методологии. М., 1985. С. 50–51.
62 Deursen A.Th, van. Professions et metiers interdits. Un aspect de l’histoire de la revocation de l’Edit de Nantes. Groningue, 1960. В конце XVII–XVIII вв. из страны из-за крайнего религиозного давления мигрировало «всего… 1,21,3 % французского населения, но элита из элит, пятая или четвертая часть торгового и промышленного потенциала Франции»: Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005. С. 148. Неизбежность отъезда из страны объяснялась и прямыми профессиональными запретами. Так, в 1669 г. Парижский парламент запретил протестантам – вышивальщикам обучать учеников (Recueil general des anciennes lois françaises, depuis l’an 420, jusqu’a la Revolution de 1789 / Ed. Fr.-A. Isambert et al. P., 1829. T. XVIII. P. 211), что лишало их будущего (новых мастеров) и ограничивало их настоящее (отсутствие учеников как работников).
63 Начиная со дня обнародования постановления и под угрозой штрафа в 150 ливров, половина которого предназначалась бедным, а другая половина – мастерам и хранителям ремесла (присяжным): Recueil des reglements. Vol. 2. P. 84. XXVI ст.
Кириллова Е.Н.
III.IV. Этнический и конфессиональный факторы в системе государственного управления на пиренейском полуострове в Средние века
История средневековья – это по существу история постоянного контакта разно-этничных и разно-конфессиональных культур: начиная с эпохи Великого переселения народов и заканчивая Великими Географическими Открытиями. Между этими двумя эпохами в истории человечества Восток и Запад, Север и Юг встречались и сосуществовали бок о бок столетиями, вовсе не представляя друг для друга случайного и незнакомого встречного. Правильнее смотреть на них как на попутчиков.
В плане развития политических форм и структур именно в средние века происходило бурное становление этно-политических центров, рождение и угасание универсалистских империй, а затем оформление национальных монархий. Межгосударственные столкновения на конфессиональной почве, роль этнического фактора в военных конфликтах между разными политическими объединениями, задача внутреннего регулирования отношений с иноэтничным и иноконфессиональным населением – самый примитивный и поверхностный список сюжетов, знакомый средневековью. Это, безусловно, выдвигает для медиевистики в первый ряд проблематику по истории этносов и конфессий в системе политического управления.
Впрочем, даже для эпохи средневековья, богатой на межконфессиональную и межэтническую историю, Пиренейский полуостров по праву занимает особое место, соперничая в Западной Европе, возможно, лишь с имперской Византией и арабо-норманнской Сицилией.
Но и в этом соперничестве пальма первенства остается за иберийцами, поскольку только на Пиренейском полуострове были созданы политические образования, объединявшие разные конфессии в целом на протяжении семи столетий.
Речь не идет о соревновании за долгожительство синтезной культуры: длительность межконфессионального и разноэтничного соседства являются важнейшими маркерами социальной истории, с одной стороны. С другой – очевидно, что устойчивые и плодотворные стратегии регулирования общественных отношений в условиях поликонфессионального и полиэтничного состава населения способны оформиться только в рамках протяженной во времени цивилизации. Сама продолжительность «жизни» такой цивилизации уже несет для историка принципиальную информацию и делает возможным постановку многих, в иных условиях, бессмысленных или некорректных, вопросов.
Стоит обратить внимание на то, что только на Пиренейском полуострове были созданы и существовали в течение многих столетий политические образования, включавшие европейский и не-европейский (ближне-восточный, аравийский, африканский) этнические субстраты.
Кроме того, для исторического моделирования, коим мы в известном смысле предполагаем заняться, принципиален еще один момент: на протяжении семи столетий возникавшие здесь политические образования были очень разными по своему характеру: крупными и мелкими, христианскими и исламскими. Но все они включали три конфессиональных элемента: иудеев, христиан и мусульман.
Благодаря этому мы имеем редкую возможность сравнить исторический опыт исламской и европейской традиций в общем-то в сопоставимых конкретно-исторических условиях одного региона и одной эпохи.
Речь пойдет о том, как средневековая система управления реагировала на полиэтничность государственных образований – будь то халифат или Арагонская корона, Гранадский эмират или графство Барселонское, маленькие тайфы или северо-пиренейские графства.
Изучение системы управления, существовавшей в разных пиренейских политических образованиях на протяжении VIII-ХГУвв., позволяет сделать некоторые обобщающие выводы, которые, может быть, вовсе не покажутся сенсационными, но заслуживают известного внимания именно в силу многообразия того материала, на основе которого они сформулированы.
Наибольшей отрефлексированностью и на уровне власти, и на уровне юриспруденции, проблема регулирования отношений государства с инаковым населением отличается в крупных политических образованиях – таких, какими для раннего средневековья был Кордовский халифат, для классического – Арагонская Корона или Кастилия. Стоит заметить, однако, что принятая там парадигма социальных отношений была характерна и для более мелких центров.
Покорение Пиренейского полуострова мусульманами сопровождалось разделом земель между арабами, пришедшими с Тариком и Мусой бен Нусайром и так называемыми джундами – кланами, на основе которых формировалась конная дружина. Джунды, явившиеся в начале VIII столетия в Испанию, принадлежали к сирийской и восточной знати. В метрополии они обитали на Иордане, в Палестине, Египте, Дамасске. Трудно сказать точно, сколько арабских воинов пришло в VIII в., но скорее всего их было немного. Средневековые арабские авторы говорят о 18 000 человек, набранных в войско Мусой, и о 10000-12000 джундидов. Установление власти Омейадов в Аль-Андалусе повлекло за собой новую волну переселений с Востока сирийских арабов, долгое время сохранявших древние обычаи. В эпоху халифата выходцы из самых разных регионов Востока – из Хиджаза, Ирака, Йемена, Сирии, Египта, Ливии, Ифрикии, Магриба и даже с крайнего юга Аравийского полуострова – селились в наиболее важных городах, занимали высокие должности в государственном и городском управлении, вели торговлю или возделывали землю. С самого начала арабы переселялись с семьями и вступали в смешанные браки и союзы с местным населением. Важно, что их потомки нередко тоже причислялись к арабам, от чего еще сложнее определить долю чистокровных этнических арабов в аль-Андалусе.
В последующих переселениях наибольшую роль играл берберский элемент. Выходцы из северной Африки заселили центральные земли Аль-Андалуса и его горные районы на востоке. Все указывает на то, что они быстро арабизировались и даже забывали свой язык. В конце X в. в испанские земли перебралось большое количество североафриканцев: сначала Омейяды, а затем и амириды активно набирали их в войско. Конечно, много берберов переселилось в Испанию во времена африканских династий – альморавидов и альмохадов. Они же, по всей вероятности, доминировали и в Гранаде (столица берберской династии зиридов после 1012 г.).
Впрочем, следует учитывать, что к тому времени – к XI в. – аль-Анда-лус сильно изменился: это уже не была покоренная страна, населенная завоевателями-арабами и берберами и покорившимися испано-готами. Это был конгломерат небольших государственных образований, возникших на руинах Кордовского халифата, жителей которых принято называть андалуссцами. И хотя они по-разному определяли свое происхождение и предпочитали дома говорить на разных языках, они обладали одним сакральным языком, обычаями и правом, исторической памятью и принадлежали единой социальной общности аль-Андалуса.
Фрагментарные и неточные источники препятствуют детальному изучению испано-мусульманского общества эпохи тайф и североафриканских империй. С уверенностью можно отметить существенное преобладание в этот период берберского элемента, который постоянно подпитывался переселенцами из Магриба, над ар або-испанским. В конце XII в. сюда переселилось большое количество арабских кочевников из Ифрикии. Одновременно шло складывание андалусской общности, так что к XIII веку даже на уровне элиты общества старой арабо-андалусской знати уже не существовало – она смешивалась не только с берберами, но и с наемниками из суданских негров и христиан. Вообще исламское общество никогда не было этнически замкнутым, что сразу привело к арабизации и исламизации значительной части испано-готов. Местный иберийский субстрат активно участвовал в формировании андалусской общности, что хорошо прослеживается по принятым в низовой культуре и повседневном обиходе наречиям, основу которых составляло романсе, а не арабский.
Любопытно, что исламское общество, будучи этнически открытым (обычное для империй дело) и очень пестрым, остро реагировавшим на собственные внутренние распри на уровне родов, кланов и племен, беспрестанно деливших земли и власть, оставалось безразлично к этнической принадлежности иноверцев. Весь мир в глазах мусульман делился на многообразных своих, правоверных, и вообще всех не-мусульман.
Например, термин сакалиба – славянин или раб, мог служить для обозначения всех светлокожих и светлоглазых иноверцев.
Параллельно, с XI в., мусульмане стали попадать под власть христианских королей Испании. Таким образом, сложное в этническом отношении население центра и юга полуострова прибавлялось в составе христианских королевств к не менее многообразному северному. Этнический портрет северных и северо-восточных территорий Пиренейского полуострова включает в себя все краски иберо-кельтских племен, басков, вестготов, испано-римлян и мосарабов, переселявшихся сюда особенно активно в IX–X вв.
По мере продвижения Реконкисты количество сарацин на христианских землях росло. В этой ситуации христианские государи столкнулись с практической задачей управления инаковым населением, которое в некоторых районах достигало внушительных размеров (в Валенсии, например – 60 %). В целом, модель управления иноэтничным и иноконфессиональным населением, вводившаяся в христианских королевствах, за основу приняла тот подход, что сложился столетиями раньше в политических центрах с исламской государственностью, которые в свою очередь опирались на восточный опыт метрополии. По сути можно с уверенностью говорить о том, что две цивилизационные модели – европейская и исламская – на Пиренейской почве дают схожую картину.
Прежде всего, следует отметить, что исламская государственность с самого начала своего становления существовала в условиях очень пестрого и с этнической, и с конфессиональной точки зрения общества. Собственно само признание политической системой инонаселения уже является во многом маркирующим ее признаком. Достаточно вспомнить опыт политического устройства Византии1, чтобы убедиться в том, что принятая исламом модель не была ни единственной, ни обязательной.
Молодое и агрессивное политическое объединение под знаменем ислама имело достаточно развитую идейную основу для того, чтобы игнорировать обычаи, право и религиозные убеждения покоренных ими народов. Однако арабы предложили совершенно иную систему управления: иудеи и христиане (ограничимся в нашей работе этими группами, поскольку на испанской почве мусульмане будут сталкиваться только с ними) были отнесены к отдельной социальной категории, наделенной определенными обязанностями и правами, своим статусом.
Доисламская Аравия представляла собой множество изолированных друг от друга племенных или клановых объединений. С точки зрения формирования сознания это обстоятельство имело далеко идущие последствия: его отличительными чертами у арабов были дискретность и этносоциальная ориентация.2 С принятием ислама, затем благодаря знакомству с иудео-арамейской и сиро-христианской традициями арабы перешли от мозаики бесчисленных разрозненных родовых групп к осознанию общечеловеческого плана.3 Формировавшиеся в это время властные структуры, с одной стороны, опирались на племенную организацию общества и войска, с другой стороны, быстро осваивали иранский и античный опыт.
Кроме того, Халифат непосредственно граничил или находился в близком соседстве с восточными народами, о которых ни в античной, ни в библейской, ни в иранской традиции не содержалось никаких сведений.4
Таким образом, перед нами – модель политического устройства, явившаяся плодом быстрого и радикального перехода аравийских племен к следующему этапу в социально-политическом развитии, своего рода скачка. В процессе освоения новых реалий, в раннее средневековье сопровождавшимся и освоением новых территорий, происходило не просто впитывание опыта предшествовавших цивилизаций и его заимствование, но и творческое переосмысление (прежде всего под влиянием ислама). Происходила выработка самостоятельной картины общества и мира, обустройство собственной системы управления. Характерными чертами исламской модели политического устройства стало признание конфессиональной и этнической гетерогенности общества под властью халифа, принадлежавшего большому родовому объединению, разумеется, при доминирующей политической позиции мусульман.
На Пиренейском полуострове: и при Кордовском халифе, и в эпоху тайф – сохранялась эта, уже ставшая для мира ислама классической, система. Христиане и иудеи составляли заметную и обычную часть населения исламских политических образований в Испании. Известно, что только на закате исламской истории на Западе, в Гранадском эмирате, практически не осталось мосарабов, т. е. христиан, издавна живших под властью мусульман и говоривших на арабском. Это, впрочем, было связано не с изменением гранадской политики, а с близостью земель единоверцев, куда и предпочитали в XV в. уходить мосарабы. Зато христиане-купцы охотно приезжали торговать и подолгу вели свои дела в Гранаде.
Христианские правители, приобретавшие подданных-мусульман, как правило, тоже в результате военных походов, следовали понятному и привычному им (вследствие многовекового соседства и в известном смысле общего политического пространства с исламом) методу: мусульманское и иудейское население в классическое средневековье составляло признанную часть населения христианских государств.
Этот момент хорошо виден на примере капитуляций, подписывавшихся между королем-завоевателем и сдававшимся ему исламским городом. Принимая под свою руку поселение, государь утверждал грамоту, открывавшуюся, как например, в случае капитуляции Туделы, следующим образом: «Это грамота, которую король император Альфонсо, сын короля Санчо, да благословит его Бог, составил с алькади Туделы, альгвасилами, альфаки, добрыми маврами Туделы и с Альфабиби».5
Стоит подчеркнуть, что и исламская и христианская системы воспринимали инонаселение в качестве обыкновенного элемента общества, нормы, а не временного явления, вызванного к жизни некими особыми обстоятельствами. Христиане в исламских государствах и мусульмане – в христианских представляли собой значительную часть мелких производителей.
Хроники, документы и правовые памятники, создававшиеся в средние века на Пиренейском полуострове, будь то на арабском, латинском языке или романсе использовали устоявшиеся термины для обозначения инонаселения.
В исламском мире христиане и иудеи были отнесены к социальной категории, получившей название «люди Писания» или «люди Откровения», как обладающие священными книгами: Торой и Библией. В системе государственного управления и налогообложения эта категория населения Халифата именовалась зиммии и отличалась от правоверных, мусульман, тем, что была обязана подушным налогом – джизьей. Со временем, возможно, испано-мусульманские авторы стали чаще называть зиммиями иудеев, а христиан – му’ахидун, что означает «те, кто скрепил договор (ахд), который признает за ними определенные права и подчиняет их определенным обязанностям».6
Тексты, выходившие из христианских скрипториев и канцелярий, применяли для обозначения иудеев и мусульман всегда разные термины. Например, в королевской документации XII–XIV вв. иудеев обычно так и именовали – иудеями, а мусульман могли называть сарацинами, маврами или агарянами.
Наличие общепринятой терминологии для маркирования инонаселения особенно важно подчеркнуть в тех источниках, которые имели касательство к властным институтам: будь то тексты, создание которых власть инициировала, или тексты, которые составлялись частными лицами для представления властям. В обоих случаях пользовались стандартизированным языком «делопроизводства», хорошо знакомым, как мы видим, с инонаселением.
Впрочем, значительно показательнее и важнее с точки зрения функционирования институтов управления то, что и исламские и христианские власти признавали за подчиненными конфессиями право на самоуправление. Автономия иноконфессиональных общин предусматривалась специальными положениями, которые входили в обычные договора, существовала на практике в повседневной жизни и составляла принципиальную часть не только политики верховных властей, но и действующей системы управления и регулирования общественных отношений.
Когда в Кордове IX в. начались выступления христиан, стремившихся обрести мученическую кончину от руки неверных, то есть стоявших тогда у власти мусульман, такое радикальное поведение вызвало недовольство, прежде всего, среди самих мосарабов – в кордовской общине христиан, опасавшихся (и небезосновательно) резкой реакции исламской власти. Об общине христиан, обладавшей автономией в решении внутренних вопросов, в том числе и связанных с верой, упоминает «летописец» движения кордовских мучеников – Евлогий.7 Мосарабы жили в халифате и тайфах самостоятельными общинами, обладали правом исповедовать христианство, иметь свои церкви, монастыри, кладбища, выбирать главу церкви, иметь при храмах школы или учить дома.
Обособленными общинами в исламских государствах жили и иудеи. Они свободно исповедовали иудаизм и отправляли культ в синангогах. Их права до прихода африканских династий, в общем и целом, были подобны правам мосарабов.8 И те и другие находились, согласно доктрине ислама, под покровительством. Они ежегодно выплачивали в казну подушный налог, иногда облагались особыми поборами.
О положении мусульманских общин в христиано-испанских государствах классического средневековья известно гораздо больше и сведения эти исходят непосредственно из королевских канцелярий, от чего они полнее и разнообразнее. В целом же складывающаяся на их основе картина очень похожа на модель, принятую в испано-исламских государствах. Мусульманские общины, согласно капитуляциям и королевским фуэро, обладали правом самоуправления, имели свои мечети, кладбища, школы, судились по нормам шариата и свободно исповедовали ислам.9 Сходным было положение и иудейских общин.
Каждая община обладала и собственным аппаратом должностных лиц, осуществлявших управление во всем, что касалось внутренних дел: сбор налогов, суд, полицейские функции и обязанности писца и т. д. Особым статусом в глазах властей обладал духовный лидер общины – епископ у мосарабов или кади у сарацин.
Для разрешения тех дел, в которые оказывались вовлечены члены разных общин, и ради надзора за общинами иноверцев власти, как правило, назначали свое должностное лицо, сфера полномочий и обязанностей которого могла быть разной.
В ранее средневековье в Кордовском халифате существовала должность графа – comes (qümls по-арабски), в обязанности которого входил сбор налогов с общины мосарабов. Кумис являлся частью администрации халифа, хотя мог сохранять христианское вероисповедание. Нередко кумисами назначались члены знатных вестготских по происхождению фамилий, принявших ислам. Судебные разбирательства между мосарабами вел специальный судья qädi-l-nasärä, судья христиан, руководствуясь вестготским правовым сводом Liber Iudiciorum, позже получившим название Fuero Juzgo.
Каждая иудейская община выдвигала из своих членов главу, который бы нес ответственность за нее перед мусульманским правителем, и в общем полномочиях главы иудейской общины были схожи с полномочиями мосарабского кумиса. Судились иудеи перед своим судьей по своему праву.
В более позднее время, уже под властью христианских королей, при иноконфессиональных общинах существовал байл, вникавший во все, так называемые, смешанные дела, затрагивавшие интересы христиан или сталкивавшие мусульман и иудеев, касавшиеся интересов короны. Поначалу он мог назначаться королем и из единоверцев альхамы, но со временем этот пост стали замещать только христиане. Байл никогда не наделялся правом и редко имел реальную возможность участвовать во внутренних делах общины, ревниво оберегавшей свою автономию. Ему могли помогать сальмедина и алмотасен, следившие за порядком в городе и на рынке.
Количество и номенклатура должностных лиц мусульманской общины, жившей под властью христиан, бывали различными, что зависело от ее положения в королевстве, размера и силы, позиций в городе. Чаще всего главной фигурой в администрации мусульманской альхамы был кади, кроме того, существовала должность главного кади королевства (во всех королевских грамотах того времени использовался термин alcadi). Мусульманские судьи назначались королем, могли исполнять обязанности не только судьи, но и главы общинной администрации. В крупных городах кади занимался судебными гражданскими делами, а уголовные дела мог разбирать в присутствии уже упоминавшегося байла и аламина, последний, кстати, в некоторых случаях также мог возглавлять мусульманскую администрацию. Аламин отвечал за соблюдение королевских прав и привилегий мусульман в альхаме. Его полномочия бывали очень широкими. Кроме этих должностных лиц в документах упоминаются аделантадо, сабалакен, писцы, альфаки и другие, чьи полномочия зависели от конкретного места и его истории.
Очевидно, что система управления иноконфессиональными общинами в XIV столетии отличается большей сложностью и проработанностью по сравнению с системой, принятой в IX в., но это вызвано не разницей в подходе к задачам управления в исламском и христианском мирах. Перед нами всего лишь различные этапы развития самого государственного устройства.
Политическая власть в эпоху средневековья во многом опирается на родовые, клановые структуры общества. В связи с этим одним из важнейших критериев этнической и конфессиональной толерантности властей является их готовность сотрудничать с представителями иной по крови или по вероисповеданию элитой.
После завоевания мусульманами Пиренейского полуострова многие покоренные земли, будучи официально включены в состав эмирата, на практике остались под управлением местных знатных фамилий вестготского происхождения. Андалусские биографические сборники упоминают такие родовитые фамилии как Бану Саварико и Бану Анхелино из Севильи, Бану Карломан, Бану Мартин и Бану Гарсия. Ибн Хазм из Кордовы (XI в.), в своем генеалогическом трактате среди прочего реконструировал историю могущественного рода Бану Каси. Касио был графом во времена вестготов, но с приходом арабов принял ислам и сохранил власть над обширными территориями Борхи-Туделы-Тарасоны. Род Бану Каси играл видную политическую роль на северо-востоке полуострова вплоть до X в. и состоял в родстве с памплонским христианским домом. Не менее известен и правитель Мурсии – в арабской традиции Тудмир – в латинской Теодемир, также вестгот по происхождению, подписавший с арабскими вали соглашение и тем самым обеспечив себе право управления.
В христианской традиции подобные примеры, скорее, редкость, чем норма, что, конечно, отличает ее в известном смысле от исламской. Однако и в этом случае больше оснований говорить о принципиально ином уровне развития институтов власти, достигнутого на Пиренейском полуострове к XIII–XIV вв., и об иной социально-политической ситуации в цклом, нежели о принципиальном отличии политической модели. Христианские короли не имели такой надобности в управителях-мусульманах, как арабские вали и первые эмиры, покорившие Вестготское королевство и пришедшие в ал-Андалус с немногочисленными, по сравнению с местным населением, переселенцами.
Впрочем, и христианские монархи из политических соображений иногда оставляли за сеньорами-мусульманами их права на земли, разумеется, в качестве собственных вассалов. Так было, например, в Кривельенте, после его подчинения сначала кастильцам в 1244 г., а потом арагонцам в 1296 г. находившемся под сеньориальной властью семьи Худайр. Известно, что члены этого семейства сохранили веру предков, и никто не принуждал их принять христианство. Когда в 1316 г. умер Мухаммад Ибн Худайр власть над Кривельентом перешла к его сыну.10
В целом, при изучении источников – как с исламской, так и с христианской стороны, – касающихся власти на Пиренейском полуострове в средние века, бросается в глаза абсолютное безразличие к этнической принадлежности. Это не значит, что ее игнорировали, не маркировали вовсе или не замечали, но к ней проявлялось совершенное равнодушие. Происхождение человека по крови никак не влияло на его судьбу, статус, карьеру.
Иначе обстояло дело с конфессиональной принадлежностью. Можно с уверенностью утверждать, что для средневекового общества и власти вероисповедание было самым значимым способом идентификации.
И в исламской системе управления и в системе управления, существовавшей на христианских землях, прослеживается ограничение допуска к системе управления по конфессиональному признаку. Иноверцам была доступна только карьера официала, стоящего над своими единоверцами: для христианина верхней ступенькой в карьерной лестнице халифата, была должность кумиса, главы налогового ведомства зиммиев, отвечавшего за сбор джизьи с мосарабов; мусульманин мог стать Главным кади в христианском королевстве, но вряд ли имел шанс продвинуться при дворе в качестве должностного лица (в данном случае речь не идет о придворных должностях, таких как, например, должность придворного врача или толмача).
Внимание к вероисповеданию как индификационному критерию отразилось и в уже упоминавшихся терминах, при помощи которых обозначалось инаковое население. У мусульман при этом прослеживается более общий подход: различая между собой христиан и иудеев, они, тем не менее, прежде всего делают акцент на том, что и те, и другие не являются правоверными мусульманами и наделяют их общим именем – люди Писания, зиммии.
Христианская терминология однозначно разделяет мусульман и иудеев, никогда не объединяя их в одну группу. Термины, использующиеся для обозначения мусульманского населения – сарацины, мавры – лишь на первый взгляд выглядят как имеющие отношение к этнической принадлежности или как отсылающие к антропологическим особенностям внешнего вида (мавр – от maurus, что значит темный, коричневый). В средние века на Пиренейском полуострове наполнением терминов сарацин, мавр или агарянин был исключительно конфессиональный смысл, что подтверждается терминологическим анализом королевских грамот XII–XV вв.11
Для власти конфессиональный фактор являлся в средние века первым и основным. Возможно, данное явление следует рассматривать как стадиальное и видеть в средневековой политической системе тот этап развития государственности, который требует универсальной объединяющей идеи: в виде, например, христианства или ислама, которые обеспечивали своего рода потестарный каркас. Конечно, многообразие жизни и общества не исчерпывается каркасом, что рано или поздно сказывается, обнаруживая ограниченность сложившейся системы управления. С течением времени наступает новая стадия развития, которая на Пиренейском полуострове ознаменовалась появлением единого королевства Испания и попыткой преодолеть конфессиональное разнообразие.
Важнейшим достижением пиренейских государств классического средневековья следует считать толерантность, ибо функционирование «каркаса» обеспечивалось в поликонфессиональном обществе целым рядом механизмов, гарантировавших, например, интересы мусульманских и иудейских подданных христианских королей. Эти механизмы были связанны, прежде всего, с персоной короля, но корнями уходили в глубокое прошлое средиземноморья в целом.
Со своей стороны сарацины, подданные христианского государя, всегда были склонны к активной самоидентификации и требовали того же от власти. Они обладали собственным сакральным языком, религией, исторической памятью, обычаями и правом, самосознанием.
Система управления инонаселением, которая практиковалась на Пиренейском полуострове с VIII по XV столетие, не просто была похожей на исламской почве и на христианской. Более того, речь здесь не идет о заимствовании северянами опыта южан или о подпадении первых под влияние вторых. Скорее всего, перед нами парадигма политической культуры, выработанная на обширных пространствах Средиземноморья и общая для всех политических объединений этого ареала, выстраивавших управление без опоры на сохранившиеся институты и «привычки» римлян.
Византия, не знавшая цезуры политической традиции, следовала совершенно иной модели, что очевидно демонстрирует в своих работах Р.М. Шукуров. Арабский Халифат, будучи молодым образованием, предложил тогдашнему миру свою модель управления, основывавшуюся на персидских и аравийских традициях прежде всего. Ясно, что генетически это была система восточная (что вполне обычно для данного пространства), но наилучшим образом приспособленная к условиям такого сложного и развивающегося хозяйственного и политического организма, как Средиземноморье, что подтверждается многовековой историей существования данной модели.
Опыт христианских королевств для исторической науки в таком контексте особенно важен: именно испанские северные политические образования оказались единственными в латинской Европе поставленными всерьез перед проблемой массового инонаселения. Их исторический выбор тем самым приобретает огромную важность – он демонстрирует единство подходов в этно-конфессиональной области не внутри как бы замкнутых – как мы часто, повинуясь модерному восприятию, считаем – миров ислама и христианства, а внутри единой цивилизационной общности Средиземноморья.
Изменение экономической конъюнктуры на Средиземном море, резкая смена политических ориентиров с появлением турок, постепенное перерождение системы взаимосвязей между средиземноморскими странами и внутри каждой из них, проще говоря, конец средневековья и постепенное формирование отношений нового типа и нового мира, вышедшего за пределы Геркулесовых столбов, привели к деградации средневековой парадигмы. Власть по-прежнему оставалась равнодушна к этническому происхождению подданных и как и раньше «замечала» конфессиональную принадлежность, но делала это теперь с пристальностью, имея ввиду унификацию.
Ориентация власти на социальное маркирование по конфессиональному признаку уже в позднее средневековье привело к странному и подчас трагическому феномену, что лишний раз доказывает радикальность той ломки политических и социальных институтов, что характерна для западно-европейского раннего Нового времени.
Пожалуй, самым наглядным и уже уродливым проявлением этой тенденции следует считать попытки властей навязать сарацинам как обязательное восточное платье и особые стрижки (та же политика проводилась и в отношении иудейского населения). Эта попытка, к счастью, осталась нереализованной, прежде всего, в результате сильнейшего сопротивления мусульманских общин. До нас дошли петиции сарацинских альхам в королевскую курию с жалобами на новые предписания, противоречившие их привилегиям, правам и фуэро.12 Материал таких грамот красноречиво свидетельствует об отсутствии косности и изоляционизма в среде испанских мусульман.
На рубеже XV–XVI вв. мусульманское население Испании в массовом порядке стало принимать христианство. Под общественным давлением и при вмешательстве властей произошло, таким образом, хирургическое отделение религии от этноса, и присущее последнему обрело самостоятельную жизнь. С этой точки зрения история морисков – уникальна. Она позволяет прикоснуться к тайне этнической памяти. Мориски придерживались народных обычаев, некогда слившихся с исламом, а в XVI в. потерявших эту связь, ибо носители культуры позабыли их сакральное наполнение, но держались их, дабы не потерять собственную идентичность.
Возможно, в этом – еще одно отличие Нового времени от средневековья: этнический компонент в культуре, в обычаях, в сознании выделяется как самодостаточный и начинает служить активным фактором построения и сохранения идентичности, чему в большой степени способствует сугубо средневековая апелляция к древности тех или иных этнических «привычек».
Со своей стороны власть продемонстрировала в вопросе соотношения этнического и религиозного гораздо большую инертность – она продолжала видеть в обычаях конфессиональную жизнь, искала за бытовыми привычками морисков, т. е. новых христиан, выкрестов из мусульман, криптомусульманство и в конечном итоге пришла к отрицанию такого этнического компонента общества как мориски – потомки андалусцев, в чьих жилах текла кровь арабов, сирийцев, йеменцев, берберов, испано-римлян и вестготов.
Примечания
1 Шукуров Р.М. Земли и племена: византийская классификация тюрок // Византийский временник. Т. 69. 2010. С. 132–163.
2 КоноваловаИ.Г. «Система координат» средневековой мусульманской географии. // Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Imagines mundi. Античность и средневековье. М., 2013. С. 138.
3 Об этом подробно пишет: Резван Е.А. Адам и бану Адам в Коране (к истории понятий «первочеловек» и «человечество»)//Ислам: религия, общество, государство. С. 59–68.
4 Коновалова И.Г. Указ. соч. С. 140.
5 Lema Pueyo J. A. Collection diplomatica de Alfonso I de Aragon y Pamplona (1104–1134). San Sebastian, 1990. P. 141–144.
6 Arie R. Espana musulmana (siglos VIII–XV) // Historia de Espana / Dir. Tu-non de Lara M. Labor. Barcelona. 1984. P. 186.
7 Подробнее об этом сюжете: Рыбина М.В. Кордовские мученики в свете социальной истории // Электронный научно-образовательный журнал История. 2011. № 8. С. 4–5.
8 Следует заметить, что положение иудеев в рамках исламского государства со временем на протяжении средневековья менялось – и на Востоке, и в Испании. В связи с этим в целом использовать материал по истории иудейского населения под властью то мусульман, то христиан – в том разрезе, который интересует нас в этой работе – не очень корректно. Иудеи никогда не были политически-доминирующей группой на Пиренейском полуострове в отличие от представителей двух других упомянутых конфессий. Данные по интегрированию иудейских общин в общество и государственные образования будут по этой причине привлекаться ограниченно, исключительно с целью дать читателю более объемную картину, но без подробностей.
9 Подробнее об этом см.: Варьяш И.И. Правовое пространство ислама в средневековой Испании. М. УРСС, 2001.
10 Подробнее см: Ferrer i Mallol M.T. Les aljames sarrai'nes de la gobernacio d’Oriola en el segle XIV. Barcelona, 1988.
11 См. подробнее: Варьяш И.И. Правовое пространство ислама… Раздел «Ограничительные законы: “ради Бога и нашего интереса"». С. 111–121.
12 О так называемых ограничительных законах см.: Ferrer i Mallol M.T. Els sarrains de la corona catalano-aragonesa en el siglo XIV. Segregacio: discriminacio. Barselona, 1987.
Варьяш И.И.
Resumes
ETHNOS AND NATIONS: CONTINUITY OF PHENOMENA AND PROBLEM OF «ACTUAL MIDDLE AGES»
The collective monograph represents the results of the conference dedicated to key issues of ethno-national identification and self-identification in Medieval and Early Modern Europe. The conference was organized by academic group «Power and society» (Department of History, Moscow State University) in 2012. Created in 1990s, this group intended to consolidate the efforts of Russian specialists in medieval and early modern political history.
The academic significance of the collective monograph is determined by idea that the Middle Ages not only form a prehistory of modern states but also explicate instability of ethno-national «architecture» in modern world (including present Western Europe), and by the fact that previously these problems were almost discussed by Russian sociologists, ethnologists and political scientists but not by medievalists.
The papers presented in the collective monograph demonstrate the very continuity of ethnos and nation underlining the fact of non-accidental emergence of national entities in Modern Europe and summarizing deep and complex inner transformation of the Medieval polymorphic ethnic society into more mature and consolidated community, with long-time and almost imperceptible qualitative transition in their development.
The special attention is paid to the analysis of the terms revealed the wide diversity of markers used in the process of their elaboration. The theme of ethno-national self-identification is represented by the analysis of historical, political and legal thought; forming of «national» language; poetry.
Some articles deal with the problem «self-alien». The authors made an attempt to retrace the ways of overcoming the hostility towards «alien» and patterns of coexistence of different confessional and ethnic groups.
The results of collective research give the opportunity to note the exclusive significance of medieval experience in ethno-national development, which reveals deep processes of consolidation of societies, clarifying epistemology of the problem and making easier search of way out in difficult situations today.
I. ETHNO-NATIONAL PROCESSES: FACTORS, RESULTS AND COVERING TERMS
I.I. ETHNOS AND PROTONATIONS WITHIN THE CONTEXT OF SOCIOECONOMIC AND POLITICAL EVOLUTION OF MEDIEVAL SOCIETY IN WESTERN EUROPE
The fact of the continuity in the development of medieval polymorphic ethnic societies and more mature «national» forms in Modern time impelled the author to analyze the social conditions, prepared impressive transformations of the given phenomena. The whole complex of social, economic and political transformations in the epoch of modernization of medieval society (noticeable from XIII century) was defined as «consolidation» in order to underline the scale and depth of this process.
Consolidation played the role of the determinant mean to overcome particularism as the characteristic feature of medieval society and signed the general trend towards «national» unity. The author argues that the most significant factors of this process are the following: potential of small production realized by the owner of the instruments of labor; division of social labor which multiplied social relations and enlarged the sphere of their activities (overcoming the limits of patrimonial estate, town, province); overcoming the personal aspect in social relations and in the interconnections between power and society; leveling (within the frames of the state) the social status of peasants and townspeople; growth of their social activity (self-organization of corporations and estates); social dynamics; estates representation as a prehistory of civil society; formation of the institute of citizenship as representation of gradual overcoming of polycentricism.
Noted organizational and often initiative role of supreme power and state institutions in the emergence of ethno-national and – further – «national» states, the author underlines the importance of society as the source of strength or weakness of political factor.
I.II. MEDIEVAL STUDIES AND NATIONAL QUESTION (ON INDEFINITE DEFINITIONS)
The key problem of modern scholarly discussion on the «national question» is that of proportion between the subjective and the objective. With respect to history there is a great variety of opinions: somebody consider ethnicity as an everlasting parameter, or speaks about nations referring even to the X–XI centuries; others call these communities «imaginary» and affirm that the national membership is the matter of free choice.
To resolve this problem in the end we need to decide what is for us the meaning of the concepts of «nation», «ethnic identity», «people» and similar. But still above understanding of the meaning of words is the more important question: in which way ethnic understanding of oneself and of others (identification and self-identification) influenced the human behavior, how much ethnic membership determined the human history?
Historically the people always in one or another way conceived their belonging to land and to their kin, and these bounds to some extent were entangled with the others: faith, citizenship (or political rights), estate or professional membership. With the development of social institutions corresponding identities entered into competition with biological ones, and cultural resources (language, history, education) became increasingly more ponderable from the point of view of ethnical identification.
In medieval Europe the concepts of «nation» and «people» had very large spectrum of meaning, sometimes not ethnic at all. From the point of view of collective identity the faith was more important.
The idea of nation («people») as the chief collective subject of the history was shaped only towards the end of Middle Ages, when the feeling of confessional community somewhat weakened and in general the static predefinition was being washed out by the dynamic model of development. Today the idea of the unity of human culture is «politically correct», but politico-biological views on the substance of nations fully maintain their significance on the level of ideologies and mass consciousness.
I.III. SOME NOTES ON THE BYZANTINE MODEL OF «ETHNIC» IDENTITY
In the Byzantine classification of neighbouring nations, of crucial importance was the basic logic of the Byzantine method of systematization and classification of objects, which was based upon elementary Aristotelian logic. The key concept of the Byzantine taxonomy derives from two related pairs of categories: 'Common / Special’ and 'Genus / Species’. The generic categories represent universal models and ideal types encompassing those individualities which exist in reality and which possess a certain sameness. However, the Byzantine taxonomic grid of similarities and differences, on the basis of which new information was incorporated into already existing models, differed significantly from the contemporary one. Unlike today’s ethnic classifications the Byzantines hardly used linguistic criteria. The Byzantine knowledge categorized nations by their locative features. Byzantine classification of the northeastern and eastern nations was primarily bipartite. The main generic categories designating Altai nomadic peoples were Eo0ai, Otivvoi and ToüpKoi. The most common was the name EKti0ai which could have been applied to the nomadic peoples who originated from the regions north and east of the Danube, the Northern Black Sea and Caspian Sea. A great variety of species (such as MaouayeTai, Eaupoparai, Taupooro0ai, nar^ivaKoi, Kotipavoi, MouyotiAroi, etc.) was subordinate to the generic notions of EKti0ai, Otivvoi and ToüpKoi. The name Перош designates people living east of the Byzantine border in the lands of Ancient Persia. In the eleventh through the fourteenth century, the category nepoai, whilst in principle becoming subordinate to the generic concept of Scythians / Huns / Turks, nonetheless had its own sub-species and was an exception rather than the rule.
I.IV. ETHNOLINGUISTIC CRITERIA USED TO DESCRIBE IRAN IN THE CRONICLE OF JOHN MALALAS
The present work deals with criteria used by John Malalas to describe Iran and investigates interrelation between the toponyms «Persis» and «Persian land» and the ethnonyms «Persians», «Parthians», «Medes», «Scyth-ians».
In the mechanism applied for the ethnic classification, primary importance is attached to genealogical, cultural, and geographic features. The logical basis of the Malala’s classification is represented by such categories as species and genus. The concept «Persian» risults to be a genus definition labeling the inhabitants of the Persian empire and all the subject of the Persian king.
II. FORMS OF ETHNO-NATIONAL IDENTITY: HISTORICAL REFLECTION, LEGAL THOUGHT AND CULTURAL PHENOMENA
II.I. «JUSTICE WAS BORN TOGETHER WITH FRANCE»: INSTITUTING OF PATRIOTISM
The article is devoted to the study of the role of Justice in the process of national identification in the period of the emergence of the Etat-nation in the Late Medieval France. The French national identity was constructed as a «political» type of nation with the King of France as the supreme judge at the center. The Royal function ofthe Justice represented by the Parliament of Paris obtained the central place in the propaganda of French national exclusivity. Paris was compared with Ancient Rome as a common native land for the Royal principal residence, also the Supreme Court of Parliament and the University were situated there. The image of the French impartial Justice is embodied by the Sarrasins (Muslims) who appealed with their suits to the Parliament of Paris. Therefore, the Royal Supreme Court (the Parliament) contributed to French national pride and the establishment of patriotism in Medieval France.
II.II. THE BURGUNDIAN SOCIETY AND SELF-IDENTIFICATION OF THE BURGUNDIANS IN THE XVth CENTURY
The Burgundian state under the Valois dukes was composed of different regions which had been parts of others states before or even had constituted independent duchies, counties etc. The needs for legitimation of the dukes' power over those territories and for centralization of their state caused the attempts to represent the dukes of Burgundy as legal and natural successors of the previous dynasties. The official propaganda insisted on peaceful unification of all regions into the Burgundian state and on legal succession. Along with historical arguments this concept seems to have contributed to the formation of Burgundian identity. The representation of the French kingdom and in particular the French king as natural enemies of the Burgundians was another way to consolidate all subjects around the Burgundian dynasty. The duke of Burgundy was represented as the only protector of «la chose publique» and the subjects were requested to help him by paying taxes in return for their welfare. The disaster at Nancy in 1477 demonstrated that the urban community and small nobility rather than aristocracy («Noblesse debilite» according to Jean Molinet) was the support of the heiress of Charles the Bold. Nonetheless, this Burgundian identity in the XVth century does not appear to be national, but dynastic.
II.III. ETHNIC SELF-IDENTIFICATION AND HISTORICAL MYTH IN POLITICAL IDEOLOGY OF SIXTEENTH CENTURY FRANCE
The study deals with formation and development of concept of national identity in French political thought and historiography. The author analyzes different aspects of that concept such as a problem of ethnogenesis in its basic evolution and an attempt to represent a new model of national identity based on synthesis of Germanic, Celtic, Roman, and Greek elements during the formation of the French. The named theory was constructed by French historians and jurists in order to defend their own concept of the state. Analysis of that theory shows not only the great role of cultural and historical myths in that process but also a certain difference in points of view due to political convictions of theoreticians as well as more general reflection of Troyan myth, particularly in Ronsard’s poetry.
II.IV THE EARLY MODERN BRITISH IDENTITY AND COMPOSITE MONARCHY
Inspired by debates over the strength and depth of the pre-modern roots of nationalism, this study attempts to revaluate the status of British identities in an era whose dominant modes of political argument were based on so called epochalist and essentialist discourses designed with confessional, institutional and juridical terms. Making departure from the widely shared belief that the whole world had been peopled by the outsprings of the biblical «nations», the article probes inconsistencies in national myths of origin and ancient constitutional claims, and considers points of contact which existed in the early modern era between ethnic identities that were viewed traditionally as antithetical, including those of Celts and Saxons.
II.V SELF IDENTITY OF THE ENGLISH NATION IN THE PARLIAMENTARY DEBATES OF THE SECOND HALF OF THE XVI – BEGINNING OF THE XVII CENTURY
The article focuses on the significance of the parliamentary debates for the formation of the national identity of the English people. The author examines the common places of the parliamentary political language related to the images of England and the English nation. The basic elements of official representation of the Englishmen in the ritualized speeches of the leading Elizabethan statesmen were the professing of the true faith, readiness to sacrifice their lives and goods for their struggle against tyranny of the Pope and the King of Spain. Much attention is also paid to the ideas of uniqueness of the English political system and law, as well as the concept of the liberties pertaining to the freeborn Englishmen.
II.VI. CORPORATE IDENTITY, NATIONAL IDENTITY: ENGLISH LEGAL CORPORATIONS AND POLEMICS ON COMPOSITE MONARCHY IN THE EARLY STUART ENGLAND
The idea of legal foundations of national identity have always been a key point for the English society. Though generally accepted, during the late Tudor and early Stuart epoch this idea was specified in several ways due to heterogeneity of English law. Civil law and common law courts, equity and prerogative jurisdiction, canon law and statutory law constituted a complicate system with no totally dominative element. Such a system reflected the very character of the English composite monarchy. Nevertheless, each branch of the English juridical system and socio-professional corporations formed by common law judges and civilians suggested its own way of development and structuring the monarchy comprising kingdoms of England and Scotland, dominion of Ireland, principality ofWales and lesser composites. Each legal corporation, experiencing the period of active social and intellectual development, pretended to be an arbiter for the politics of the crown. Both civilians and common lawyers believed their own legal system the best means of further integration within the Stuart monarchy. While common law discourse proposed definitely anglocentric scheme, civilians of the Doctors’ commons tended to advance «British», or «imperial» constructs with quite equal distribution of ethnical, political and cultural influence.
III. «SELVES» AND «OTHERS»: CONFLICTS AND COOPERATION
III.I «THE FOREIGNERS» IN THE ADMINISTRATIVE INSTITUTIONS OF THE GERMAN TERRITORIAL STATES OF THE XVITH CENTURY
The notion of the national identity has been used in different way in Germany of the XVIth century in respect of all-German or local level. Whereas one finds the notion of the German nation in the political rhetoric of the German princes, in the anti-Roman polemic of the religious reformers and the literary works of the Humanists, one observes on local level a self-identification referred to a concrete country: Bavarian, Saxon, Württenbergian.
The paper deals with the position of the foreigner employees in the central administration ofthe German territorial states in the 16th century. One applied the terms "Ausländer», «Fremder», «auswärtiger Diener» to these employees, and the immigrants from other German countries were mostly meant by such terms.
The deficiency for the specialists, in particular for educated jurists and managers, caused a demand for foreigner employees. This deficiency was particularly acute in the territorial states where the universities had arisen at later date, as it was, for instance, in Brandenburg. The Reformation has contributed too for the multiplying of the foreigner employees, because the criteria of the religious confession became more important as the privilege to belong to local elite.
Enrollment of the foreigners ran against the opposition of the estates, especially of the nobility, who made a stand for the traditional privilege of the natives to fill important posts in the administration. The protests of the nobility had also a social component, for the most part of the foreigner jurists came from the bourgeoisie.
The princes assisted the skilled managers in their establishment in the country by granting them land and by favoring their marriage with the representatives of the local nobility and urban patriciate.
In addition to the self-identification regarding the country, the author examines the self-identification of the professional and religious groups which united people above the frontiers of the territorial states, for instance, licensed jurists, the Catholics or vice versa the Protestants.
III.II. CROATIAN NOBILITY IN STATE AND CHURCH SERVICE IN THE KINGDOM OF HUNGARY AT THE TURN OF THE XVITH CENTURY (IVAN KITONIC: A PORTRAIT IN THE TIME CONTEXT)
The article studies the presence and use of ethnical component in Habsburg «personnel policy» in the Kingdom of Hungary at the turn of the XVIth century. By the example of Ivan Kitonic and several his colleagues – advocates of royal possessions in Hungarian Exchequer (causarum regalium director et corona fiscalis) and Croats by birth – the author puts forward the following important problems: 1) the role of Croatian ethnos in the social and political structure of the double composite monarchy (as a part of the Kingdom of Hungary and Austrian Habsburg monarchy); 2) the principles of forming the bureaucratic apparatus in the Austrian Habsburgs’ territories in the early modern period and the opportunities for the estates of the incorporated kingdoms in the above process; 3) the intensification of the contradictions between the Austrian Habsburgs and the estates that influenced «the personnel policy» of the central power in the Kingdom of Hungary. The author comes to the conclusion that the Croatian nobility, having settled at the territory of the Kingdom of Hungary as a result of the XVIth century migration, integrated its social and political institutions, actively participated in the social life and in both local and central administration. Being closely associated with the Catholic Church and its institutions and as a rule loyal to the Habsburgs, the Croatian nobility and especially those its members that had been educated in law were largely engaged by the authorities for the state service. At the end of the XVIth and at the beginning of the XVIIth century the relations between the Habs-burgs and the Hungarian estates worsened and the Habsburgs started to put various pressures including the persecution of the political elite and confiscation of its possessions. In those circumstances Croatian nobles serving in the central financial institutions turned out indispensable to stand guard over the dynastic interests.
III.III. «FOREIGNERS» IN THE HISTORY OF FRENCH CRAFTS AND MANUFACTURES
Almost all crafts and many oftrade guilds took not an active interest in «foreigners», as showed theirs statutes where the mentions about «foreigners» were very infrequent. The real reason of such an absence was not concerned with the distance to the frontiers of Kingdom, and not with the appearance of foreigners in the city, and theirs claims to practice one or another profession. The corporations considered the «strangers» (forains) not the «foreigners» (estrangers) the main problem. The «strangers» were all those who studied the craft not in this city and not from the craft’s master. The French (from other cities and provinces) also were the «strangers», though the place of birthday of apprentices or the domicile were not so important.
On the contrary the French manufactures for silk or cloth in Modern period were open for foreigners – as masters and as journeymen. Moreover, the manufactures were granted the great privilege: if a foreigner became a master of manufacture, he naturalized without any documents and payments. The French manufactures were very interested in the professional secrets and encouraged the opening of new types of fabrics by foreigners – the statutes of manufactures canceled the masterpieces and other tests for those who opened the new and interesting for French specialists secret.
III.IV ETHNIC AND CONFESSIONAL FACTORS IN ADMINISTRATIVE SYSTEM OF MEDIEVAL SPAIN
This article describes historical experience of medieval administrative system in their Islam and Europe traditions. The comparison is based on a vast and various materials about Iberian political forms: Caliphate of Cordova and Crown of Aragon, Kingdom of Granada and Princedom of Catalunia, taifas and earldoms.
In general, the model of management of other-ethnic population adopted in medieval Christian kingdoms was similar to the system that was developed in Islamic political centers. Both managing models (European and Muslim) in Medieval Spain give a similar picture.
The political power ofMedieval Spain was absolutely indifferent to the ethnic characteristics. The ethnic origin of a man never influenced his life, chance, status or career. On the contrary, the confessional factor was the most important marker for social identification. Participation in administrative structures was limited for Muslims in Christian territories and for Christians in Islamic ones.
Confessional factor was the first and the main one for medieval authorities. On the contrary, ethnic component was pushed back.
We have here certain political culture paradigm formed and established over large areas of the Mediterranean. This paradigm was common and usual here for all political forms which constructed their administration without surviving Roman institutions and customs.
There were only Northern Spain States in Latin Europe to face the problem of massive other-population. Their historical choice is very important: it shows the unity of approaches in this question inside the Mediterranean civilization in general.
Сведения об авторах
Асейнов Ренат Меулетович, кандидат исторических наук, заведующий редакцией страноведения ЦНЦ «Православная энциклопедия». (глава II.II.)
Варьяш Ирина Игоревна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков и раннего Нового времени Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (глава III.IV.)
Громова Анна Викторовна, старший преподаватель кафедры иранской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (глава I.IV.)
Гусарова Татьяна Павловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков и раннего Нового времени Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (глава III.II.)
Дмитриева Ольга Владимировна, доктор исторических наук, заместитель генерального директора по развитию просветительской деятельности и популяризации Музеев Московского Кремля (глава II.V.)
Кириллова Екатерина Николаевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН (глава III.III.)
Ковалев Виктор Александрович, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права (глава II.VII.)
Паламарчук Анастасия Андреевна, кандидат исторических наук, старший прподаватель кафедры истории средних веков Санкт-Петербургского государственного университета (глава II.VI.)
Таценко Тамара Николаевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского Института истории РАН (глава III.I.)
Федоров Сергей Егорович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории средних веков Санкт-Петербургского государственного университета (глава II.IV.)
Хачатурян Нина Александровна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории средних веков и раннего Нового времени Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, руководитель проекта «Этносы и "нации” в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время» (введение, глава I.I.)
Шукуров Рустам Мухаммадович, доктор исторических наук, доцент кафедры истории средних веков и раннего Нового времени Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (глава I.III)
Цатурова Сусанна Карленовна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН (глава II.I.)
Эльфонд Ирина Яковлевна, доктор исторических наук, профессор Саратовского государственного университета (глава II.III.)
Юсим Марк Аркадьевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН (глава I.II.)
Примечания
1
Глава подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 12-01-00366а.
(обратно)2
Работа выполнена в рамках гранта «Этноконфессиональные процессы и этногенетические мифы в конституировании политических идентичностей в Западной Европе Средних веков и раннего Нового времени» (Программа ОИФН РАН «Нации и государство в мировой истории»); при содействии Дома гуманитарных наук (Fondation Maison des sciences de l’Homme), Франция.
(обратно)3
Глава подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), исследовательский грант № 13-01-00101а.
(обратно)4
Глава подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 12-01-00366а.
(обратно)5
Глава подготовлена в рамках проекта «От сословно-представительных к абсолютным монархиям: социальные и политические основы трансформации» при поддержке РГНФ, грант № 12-01-00366а.
(обратно)6
Глава написана при поддержке венгерского научного фонда «Domus Hungarica». Выражаю свою признательность за консультации и помощь в сборе материалов моим венгерским коллегам д-ру Лайошу Гечени, д-ру Петеру Доминковичу и д-ру Гезе Палффи.
(обратно)7
Глава подготовлена в рамках проекта «Социальные структуры в системе взаимоотношений индивида и государства: европейский опыт Средневековья и Нового времени» Программы фундаментальных исследований ОИФН «Нации и государство в мировой истории».
(обратно)
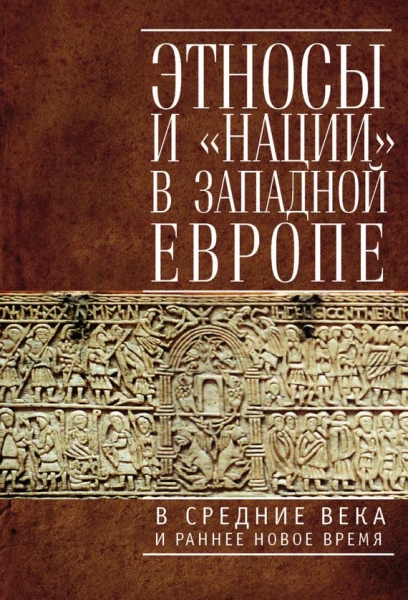


Комментарии к книге «Этносы и «нации» в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев