Поездка Новосильцева в Лондон
I
В инструкции, которой император Александр I снабдил уезжавшего в Лондон Н.Н.Новосильцева, было сказано:
«Почему нельзя было бы определить таким образом положительное международное право, обеспечить преимущество нейтралитета, установить обязательство никогда не начинать войны иначе, как по истощении всех средств, представляемых посредничеством третьей державы, и выяснив таким образом взаимные претензии и средства для их улажения? Вот на каких началах можно будет устроить всеобщее умиротворение и создать лигу, в основание которой должен быть положен, так сказать, новый кодекс международного права, который, будучи одобрен большинством европейских государств, естественным образом сделается непременным законом для кабинетов, в особенности потому, что желающие его нарушить рискуют вызвать против себя силы новой лиги. К этой лиге, наверное, приступят мало-помалу все державы, утомленные от последних войн...
Необходимо также, чтобы каждое государство было составлено из однородных народов, подходящих друг к другу и симпатизирующих правительству, ими управляющему».
Это, разумеется, еще не «ковенант»[1], — устава Лиги Наций в инструкции искать не приходится. Однако должно признать, что основная идея Лиги и самое слово, и принцип самоопределения народов выражены здесь совершенно точно. Если мы обратимся к воспоминаниям и проектам американских политических деятелей 1918—1919 годов, то найдем в них почти дословное совпадение с фразами русского дипломатического документа начала XIX столетия.
Французский текст этого документа (точный ли?) напечатан во втором томе воспоминаний князя Адама Чарторийского. Русский — до сих пор в полном виде не опубликован. Приведенную выше цитату я заимствовал у Мартенса. Трудно понять, почему в его многотомном труде лишь в извлечении дается документ столь исключительной важности. Вероятно, это объясняется тем, что лет сорок тому назад, когда печаталось «Собрание» Мартенса, план Лиги Наций мог казаться только милой шуткой (хотя составитель называет инструкцию «любопытнейшей»). Однако почти все историки Александровского времени, от Богдановича до Валишевского, уделили новосильцевской инструкции немалое внимание. Она того стоила.
Нельзя сказать с полной уверенностью, кто именно был автором документа. Больше всего, по-видимому, потрудился над ним Чарторийский со своим помощником Пиатоли. Но в обсуждении и в составлении инструкции бесспорно принимали близкое участие и царь, и Новосильцев. Правильнее всего было бы ее считать общим трудом людей, составлявших так называемый «Комитет общественного спасения», хотя формальные заседания Комитета прекратились в 1803 году.
«Почему нельзя было бы?..» — спрашивала инструкция. Вопрос до некоторой степени остается открытым:
В самом деле, почему нельзя было бы?
II
Тайный, или Негласный, комитет при царе, шутливо именовавшийся «Комитетом общественного спасения», был странным и своеобразным учреждением, — вероятно, такого никогда нигде в мире не было. В исторической науке ему не повезло: не ругал его только ленивый. Историки отмечали молодость участников Комитета, их неопытность, их французское воспитание и незнакомство с русским народом. Указывалось, что Чарторийский впоследствии стал врагом России, что Новосильцев и Кочубей на старости лет заняли высокие государственные посты и при новых настроениях отнюдь не проявляли либерализма. Говорилось о личных недостатках ранних сотрудников Александра I, о чрезмерном пристрастии к спиртным напиткам одного из них, о чрезмерном пристрастии к деньгам другого. Однако факт бесспорный: с работой этого Комитета, которая и продолжалась всего два года, так или иначе связаны лучшие реформы новейшей русской истории; а кое-что из созданного им просуществовало почти сто двадцать лет, до прихода к власти большевиков (о настоящем, парижском, Комитете общественного спасения, пожалуй, этого не скажешь, хоть им тоже было сделано очень много). Да и по личному своему составу Негласный комитет был весьма интересным явлением. В династии Романовых, если не считать Петра, Александр Павлович, «коронованный Гамлет», был самым выдающимся человеком. Недюжинными людьми, каждый по-своему, были и другие члены Комитета: Новосильцев, Чарторийский, Кочубей и Строганов.
Комитет составился более или менее случайно из людей, которых царь, по их взглядам, способностям и образованию, считал подходящими для осуществления либеральной программы. В своем известном письме к Лагарпу[2] Александр Павлович писал: «Нужно будет стараться, само собой разумеется, постепенно образовать народное представительство, которое, должным образом руководимое, составило бы свободную конституцию, после чего моя власть совершенно прекратилась бы... Дай только Бог, чтобы мы когда-либо могли достигнуть нашей цели — даровать России свободу и предохранить ее от поползновений деспотизма и тирании. Вот мое единственное желание». Едва ли нужно напоминать об особенностях красноречия ученика Лагарпа и о том, что пожелания письма были «программой-максимум» — в житейском смысле этого выражения, — т.е. тем, что заведомо выполнено не будет. Не очень подошла Россия к этой программе — максимум и с тех пор. Однако пять молодых людей, правивших в течение двух лет самой большой империей в мире, исходили теоретически именно из этой программы.
Собирались они раз в неделю в Зимнем дворце. Было твердо решено, что заседания Комитета будут происходить в глубокой тайне. По понедельникам царь приглашал на обед гостей. После окончания обеда Новосильцев, Чарторийский, Строганов и Кочубей уходили с другими гостями, затем таинственно возвращались и устраивались в небольшом кабинете Александра I (во внутренних покоях). Туда так же таинственно приходил затем и царь. Тайна нужна была потому, что это был «Комитет общественного спасения»: формально власть по всем ведомствам оставалась у старых сановников, которые на заседаниях Негласного комитета шутливо именовались «инвалидами», — нельзя же было их всех сразу просто уволить в отставку. Но, по существу, все дела решались в Негласном комитете. Надо ли говорить, что о его секретнейших заседаниях немедленно затрубил весь Петербург?
Заседания велись без всяких формальностей и протоколов. Но, по счастью, самый молодой из членов Комитета, граф П.А.Строганов, дома всякий раз записывал то, что происходило на заседании, и записывал очень аккуратно (протоколы дело нелегкое, есть и секретари «Божьей милостью»). Записи эти сохранились в строгановском архиве. Полный текст их напечатал великий князь Николай Михайлович. Только с тех пор и можно точно себе представить картину заседаний Негласного комитета.
Разумеется, в этой статье не приходится говорить, по существу, о деятельности «Комитета общественного спасения», — она достаточно известна. В связи с занимающей нас темой достаточно упомянуть о его духе, о колорите этой странной картины. Здесь самое удивительное, пожалуй, — та независимость, которую участники заседаний проявляли в отношении императора. Она представляется поистине невероятной. Почти без преувеличения можно сказать, что царь на заседаниях был в загоне. Стоило ему высказать какое-либо суждение, как на него набрасывался тот или другой из участников заседания, — иногда и все сразу. Выговоры и наставления ему делались беспрестанно: то не так, это не так, — Александр обычно смущенно оправдывался. Не очень стеснялись члены Комитета в своих выступлениях и по существу. Приведу только один пример.
Обсуждался вопрос о крестьянах. Новосильцев заметил, что не следовало бы слишком поспешными мерами раздражать дворянство, с риском вызвать неудовольствие и волнение. Царь склонен был с этим согласиться. Кочубей, Чарторийский и Строганов возражали. «В вопросе об освобождении крестьян, — сказал граф Строганов, — заинтересованы два элемента — народ и дворянство; неудовольствие и волнение относятся, очевидно, не к народу. Что же такое наше дворянство? Каков его состав? Каков дух его? Дворянство состоит у нас из известного числа людей, которые сделались дворянами только при помощи службы, которые не получили никакого воспитания и все мысли которых направлены только к преклонению перед властью императора. Ни право, ни справедливость, — ничто не может породить в них даже идеи о самомалейшем сопротивлении. Это класс общества самый невежественный, самый презренный, по духу своему самый тупой». Сказано это было в присутствии царя, на собрании четырех правивших государством знатных дворян! Любопытно и то, что о невозможности «самомалейшего сопротивления» царю со стороны дворянства говорилось вскоре после ухода в отставку графа Палена, меньше чем через год после цареубийства 11 марта, — в нем, однако, принимали участие только дворяне. Тем не менее слова Строганова ни с чьей стороны возражений и протестов не вызвали.
На другом заседании тот же Строганов, по-видимому, просто выбранил царя. До нас дошло письмо, написанное им Александру I в 1802 году. «Я должен, Государь, принести Вам извинения за резкость, с которой я вспылил при вчерашнем споре. Я знаю, что Вы снисходительны, иногда даже слишком, но я знаю также, что я дурно поступил...» Сожалею, что нельзя привести все письмо: оно чрезвычайно интересно. Дошел до нас (с факсимиле) и ответ императора: «Дорогой друг, да вы, кажется, совсем с ума сошли! Могу ли я обвинить вас в том, что является лучшим доказательством вашего интереса ко мне и вашей преданности общественному благу... Лучшее доказательство дружбы, какое вы можете мне дать, — браните меня, как следует, когда я того заслуживаю».
Добавлю, что, собственно, никакой дружбы не было. Члены Комитета едва ли очень любили друг друга, — только рано умерший Строганов сохранил до конца добрые отношения со всеми. Не слишком они любили и Александра Павловича, насколько можно судить по их письмам и воспоминаниям. Один из них называет его (как Клемансо Вильсона) «candide»[3], — на заказ трудно было бы придумать эпитет, который меньше подходил бы Александру Павловичу! Князь Чарторийский говорит в письме к Строганову (от 6 февраля 1806 года): «Император все тот же, страх и слабость по-прежнему очень велики. Мы всего боимся; ни на что решительное мы не способны... Это смесь слабости, неуверенности, страха, несправедливости, бессмыслия, приводящая в скорбь и в отчаяние».
Что же объединяло этих людей? Личных побуждений, по крайней мере в ту пору, у них почти не было, — поскольку эти побуждения могут отсутствовать в человеческих делах. «Девиз нашего союза, — вспоминал через много лет один из членов Негласного комитета, — заключался в том, чтобы стоять выше личного интереса, не принимая наград и отличий». Это было почти правдой. Большинству из них и не были нужны награды, еще менее того деньги. Отцы Строганова и Чарторийского принадлежали к богатейшим людям Европы. Связь их между собой, как и общая их связь с императором, была чисто идейной. Негласный комитет напрасно даже и в шутку именовался «Комитетом общественного спасения», — ни малейшего сходства в делах с грозным учреждением Французской революции у него не было. Но это был один из первых рассадников русского либерализма. Или, если угодно, по новой терминологии, это была одна из колыбелей «ордена русской интеллигенции», — Комитет, кстати, не ставил себе задачей прорубить окно в Азию.
К «ордену» в 1801—1804 годах мог бы считаться принадлежащим и сам царь. Если судить по записям Строганова, то Александр I был даже самым «левым» из членов Комитета. Собственно, лишь по стилю и можно отличить то, что тогда говорил царь, от того, что писал Радищев. О радикализме русского императора Наполеон с недоумением и с насмешкой вспоминал на острове святой Елены. Разводил руками и Талейран, которого, казалось бы, удивить было трудно: он знавал Дантона и Робеспьера. Другие члены кружка не шли, пожалуй, и на словах так далеко. Граф Строганов говорил о русском народе приблизительно то же, что говорили о нем, например, либеральные земцы семидесятых годов. Только говорил он это не по-русски, а по-французски, и не на земском собрании в Тверской губернии, а во внутренних покоях Зимнего дворца, — вот куда забралась одна из «колыбелей»! Титулы, аксельбанты и даже майораты[4], по существу, ничего не меняли. Участие царя, правда, меняло очень многое (и с поправкой на «программу-максимум»). Именно за него Негласный комитет попал в наши прежние учебники истории, правда, с неодобрительной отметкой, относившейся к «духу неопределенного либерализма».
Неопределенный либерализм, барское прекраснодушие! Теперь это смешно — теперь все смешно. Что же другое получило удовлетворительный балл на кровавом экзамене так удачно сложившейся истории? Со временем, когда отведут душу историки русского либерализма, они, вероятно, признают, что люди Негласного комитета, с их неудачами, с их слабостями, с их любовью к громкому слову, входили в очень большую российскую традицию, которой и на Западе, пожалуй, не было равной. Эта традиция на территории России кончилась с октябрьским переворотом. Возродится? Может быть. Скорее, однако, никогда не возродится.
В этой среде возникла и мысль о Лиге Наций. Необязательно быть фанатическим поклонником Женевского учреждения, — пишущий эти строки не опасается зачисления в список фанатических поклонников. Но какая же культура может отказаться от заявления авторских прав, хотя бы и очень отдаленных, на идею, столь нашумевшую в мире?
III
Напомню в нескольких словах международное положение того времени. Амьенский мир был расторгнут, по утверждению французов, Англией, по утверждению англичан, — Францией. Наполеон собирал в Булони для переброски через Ла-Манш силы, которые в ту пору считались огромными. 21 марта 1804 года был расстрелян герцог Энгиенский. Теперь в Париже и в других французских городах есть улицы, названные в память герцога, и есть другие, названные в память главных его убийц. Но тогда это событие вызвало ужас и негодование, поделив мир на два лагеря. Шведский король Густав заявил протест и, не получив ответа, велел вручить французскому поверенному в делах ноту, в которой говорилось о «неприличных и дерзких действиях господина Наполеона Бонапарте». Заявила протест против расстрела герцога и Россия, — Талейран ответил ядовитым намеком на цареубийство 11 марта. Настоящей войны еще не было, но дело шло к настоящей войне.
Историки, по обычаю, долго и безрезультатно спорили, кто именно был ее главным виновником. Есть труды, в которых Наполеон изображается профессиональным пацифистом вроде графа Куденгова-Калерги. Эти труды забавны — и только. Однако можно считать установленным, что французский император не так уж стремился в ту пору к войне. И то же самое можно считать установленным относительно Англии, России, Австрии. Указываемые историками социально-политические причины войны довольно ничтожны, по сравнению с ее последствиями и жертвами, — это бывает довольно часто. Психологией большая история занимается мало, предоставляя ее так называемой малой истории. Из мемуаров же вывод о преобладавшем тогда настроении можно сделать приблизительно такой: «Мир дело хорошее, но при случае отчего бы и не повоевать?»
Большая история ставила вопрос: нужна ли была война правящим классам александровской России? Сколько-нибудь разумный ответ, конечно, говорил: нет, нисколько не была нужна. Но обратимся наудачу к малой истории, — вот отрывок из частного письма ничем особенно не замечательного русского молодого человека (князя Михаила Долгорукого). Он впервые попал в Париж и в полном восторге писал оттуда (по-русски) сестре: «Описать тебе образ жизни, который я здесь веду, удовольствия, развлечения в Париже, дурачества на масленице, на маскарадах, любезности, которые мне говорят маски, удивление всех и каждого, что в России говорят по-французски так же хорошо, как в Париже; что в такой дали есть люди порядочные; высказать тебе невежество молодых людей, которые думают, что Петербург в Сибири; передать тебе любезности женщин, совершенство танцев, говорить тебе о тех, может быть, пятидесяти дамах, которых я посетил, где я отлично принят и где уже не чужой; говорить тебе о г-же Стааль, к которой иду сегодня вечером, о Лагарпе, которого увижу завтра, об академиях, лицеях, музеях и пр. и пр., — да, пересказать все это для меня невозможно». Казалось бы, хорошо: и пятьдесят дам, и «академии, лицеи, музеи», и уж никаких следов ненависти к «жакобенам» (они же «якубинцы»). Однако в том же письме мы читаем: «Не воображай, что я очень влюблен, нет, наперекор женщинам, наперекор черту я чувствую, что во мне есть страсть сильнейшая, это — страсть к войне, я чувствую, как моя кровь бьется и как не по мне такое место, где чересчур много забав».
Политическая история разъясняет, что Амьенский договор был расторгнут главным образом из-за Мальты, — это из-за крошечного острова две великие державы вели в течение десятилетия борьбу не на жизнь, а на смерть. Точно так же и русские правящие классы не могли примириться с тем, что «Генуя и Лукка стали не больше как поместьями фамилии Бонапарте». Экономическая история добавляет ряд ценных соображений о вывозе русских продуктов (в частности, пшеницы и пеньки), настоятельно диктовавшем русским помещикам коалицию с Англией из элементарного классового интереса. Нисколько не оспаривая этих соображений, мы, быть может, вправе, «в порядке поверхностного и вульгарного подхода к историческим событиям», остановиться и на приведенном выше письме рядового представителя правящих классов России, — думаю, кое-что в причинах войны объясняет и оно. Психология молодого Долгорукого не слишком тесно связана с «Генуей и Луккой», с пшеницей и пенькой. Он, кстати сказать, был очень скоро убит в сражении и, по всей вероятности, так и не успел извлечь классовых выгод от коалиции с Англией.
Я цитирую это письмо потому, что его настроения имели, конечно, некоторое сходство с настроениями членов Негласного комитета и Александра I: с одной стороны, Лагарп и «академии», Париж чудесный город, французы очень милый народ, пусть делают у себя что хотят. С другой стороны, отчего бы и не повоевать? Страшно вымолвить: что, если следы такой психологии были в молодости и у самого Питта? Ведь в ту пору, как он в качестве первого министра Англии стал делать мировую историю, ему было 23 года! Теперь он, в этом возрасте, не везде в Европе имел бы даже избирательное право.
Выводы из малой истории, не скрываю, могут быть сделаны неутешительные. Да вот, хотя бы сейчас, сколько молодых (и не молодых) немцев в «Стальной Каске» или в боевых дружинах Гитлера воспринимают жизнь приблизительно так же, как ее воспринимал 130 лет тому назад князь Михаил Долгорукий. Разумеется, та война была иная: с приключениями, с передвижениями, с раззолоченными мундирами, с кавалерийскими атаками. Но зато были у нее и другие стороны, которых теперь нет и которые воображение прельщать не могли: тогда операции, например, производились без наркоза, и лазареты были настоящим адом. Притом воображение вещь капризная. Позволю себе привести отрывок из старой своей статьи 1918 года: «Последняя война, война войн!.. Мир бесконечно устал от побед и поражений, от Цорндорфов и Кунерсдорфов[5]. Генерал Бернгарди, doctor mirabilis[6] воинствующего пангерманизма, писал недавно статьи, под. которыми охотно подписалась бы покойная Берта Зутнер. Но это ничего не значит. Люди отдохнут, подрастут младшие братья, все начнется, быть может, сначала».
По-настоящему тогда, как и теперь, добивались войны лишь немногочисленные группы людей в разных странах. В Петербурге настроения были разные. В ту пору и возникла мысль о поездке Новосильцева в Лондон.
Император Александр говорил, что «Россия и Англия — единственные державы в Европе, не имеющие враждебных между собой интересов», — изречение, явно свидетельствующее о непрочности основных правил, которыми определяется национальная политика. Англия уже находилась в состоянии войны с Францией. В Петербурге возникла мысль: нельзя ли все же примирить обе страны и образовать Лигу Наций? Каждой стране надлежало дать «наиболее свойственные границы». Надлежало также «определить ясно взаимные международные обязательства, которые имели бы силу закона для всех европейских держав и, в случае нарушения их кем-либо, обращали против него общие силы всего союза». Один из членов Негласного комитета писал в глубокой старости, что целью было «создание новой эры, основанной на всеобщем благополучии и на правах каждого». Наполеоновскому «безумию мировой власти» предполагалось противопоставить «политику, которая, если угодно, зародилась в безумии мира и справедливости». Александр Павлович и Новосильцев не теряли надежды, что идея Лиги Наций может увлечь не только Питта, но и Наполеона. Если б она, однако, сердца Наполеона не зажгла, тогда — что же делать? — оставалось начать войну с Францией, — разумеется, последнюю войну. Новосильцев должен был выработать основы русско-английского союза.
IV
Посол Негласного комитета выехал из Петербурга в Англию 23 сентября 1804 года, — это было в ту пору нелегким путешествием. Противный ветер загнал корабль снова в Кронштадт; Новосильцев направился вторично через Швецию и лишь 4/16 ноября прибыл в Лондон. Прибыл — и тотчас оказался в политической атмосфере, весьма непохожей на петербургскую.
Русским послом в Англии уже лет двадцать состоял граф С.Р.Воронцов. Это был замечательный человек, очень умный, независимый и порядочный. Подобно членам Негласного комитета, он был западником и либералом — но совершенно иного оттенка. В отличие от большинства русских западников, воспитавшихся либо на французской, либо на германской культуре, Воронцов был «англоман» (заметим, кстати, что слов «франкоман» и «германоман» у нас никогда не существовало). Петербургские недоброжелатели графа считали его даже совершенным англичанином, — говорили, что в нем и русского ничего не осталось: будто бы он сам это чувствовал и ежедневно за обедом съедал настоящий русский малосольный огурец, чтобы не потерять связи с родиной. Шутка как шутка, но в Англию граф Воронцов был в самом деле почти влюблен. После разрыва Амьенского мира, когда десятки тысяч англичан стали записываться в армию добровольцами, русский посол объяснял в докладе правительству: «Таково действие хорошего правления, при котором закон равен для всех, правосудие неподкупно, жизнь, честь и собственность каждого в полной неприкосновенности».
В Петербурге Воронцова считали противником самодержавной власти. Это было не вполне верно. Семен Романович действительно говорил, что такой огромной страной, как Россия, не может править один человек, будь это сам Петр Великий. Однако он возражал и против конституционных стремлений, утверждая, что «в неподготовленной, невежественной и развращенной стране» они непременно приведут к революции и к гибели государства. Делам императрицы Екатерины Воронцов совершенно не сочувствовал по самым разным причинам, в том числе и потому, что у власти были люди без роду и племени, Бог знает кто, «des Чулков». Не очень сочувствовал он и деятельности Негласного комитета. Программе — максимум Александра Павловича граф Воронцов противопоставлял весьма скромную программу: он советовал царю возможно решительнее «исправлять нравы», распространять просвещение, назначать умных министров и честных чиновников. «Надо прогнать идиотов» («il faut congédier les idiots»), — сокращенно выражает он свой совет. Это, конечно, была программа-минимум.
Добавлю, что и в такую программу русский посол в Лондоне верил, кажется, довольно плохо. Граф Воронцов был пессимист, что не очень вяжется с англоманством: англоманство (не говорю, разумеется, английский дух), по существу, включает в себя систему Куэ[7], по крайней мере в области политической. Англоман должен находить, что все идет очень хорошо и с каждым днем будет идти все лучше и лучше. С.Р.Воронцов, напротив, склонялся к мысли, что все идет очень плохо и с каждым днем будет идти все хуже и хуже. В частности, он был убежден, что на Россию надвигается «революционная чума». «Мы ее не увидим, — писал он в 1792 году своему старшему брату, — но мой сын ее увидит. Поэтому я твердо решил научить его какому-либо ремеслу, например, слесарному или столярному. Когда его вассалы ему заявят, что он им больше не нужен и что они желают разделить между собой его земли, он будет своим трудом зарабатывать хлеб, да еще получит почетное назначение на службу в будущий муниципалитет в Пензе или в Дмитрове. Ремесло лучше ему пригодится, чем греческий и латинский языки или математика». Сын графа не стал ни столяром, ни слесарем — он стал светлейшим князем, генерал-фельдмаршалом и кавказским наместником. Однако мы теперь не будем утверждать, что Воронцов уж так грубо ошибался, — вот только времени он не рассчитал, да еще идиллию пензенского муниципалитета, после восстания «вассалов», представлял себе не совсем точно (если не делать поправки на меланхолическую иронию Семена Романовича).
Писал все это Воронцов на французском языке. По-русски он писал редко, по-старинному, не очень правильно, но чрезвычайно ярко. Французский язык он предпочитал всем другим, Францию же по-настоящему ненавидел, — эту ненависть просто трудно понять в таком умном человеке. Все зло в Европе граф приписывал «французской инфлюенции», что доходило у него и до смешного. Так, в Англии принц Уэльский, будущий король Георг IV, имел прочную репутацию кутилы, — в этом тоже были виноваты французы: они, писал (в виде исключения, по-русски) Воронцов, «стали с ним дружиться, водить его по дурным местам, спаивать Шенпанским, и, наконец, сие дошло до такой наглости, что посол граф Адемар сам ходил с ним неоднократно в домы публичных женщин и беспрерывно давал ему ужины, где никто не вставал из-за стола, а всех выносили».
Надо ли говорить, что С.Р.Воронцов не мог особенно сочувствовать идее Лиги Наций? «Французская инфлюенция», вероятно, им чувствовалась и в этом проекте; да ему, по крайней мере, на старости лет стали неприятны все вообще грандиозные проекты: Россия далеко, и слава Богу, — пока ей еще не опасны «двадцать Франциев и столько же Англиев». «On a chez nous la rage de fair des alliances»[8], — писал он брату в 1801 году. Во внешней политике Воронцов тоже предпочитал программу-минимум. Вдобавок поездка Новосильцева была, конечно, неприятна шестидесятилетнему дипломату и по личным причинам: послом в Англии был он, Воронцов, — зачем же сюда присылали нового человека гораздо его моложе?
В Петербурге это прекрасно понимали. Александр I недолюбливал Воронцовых, как недолюбливал всех вообще сановников, занимавших видные посты при императрице Екатерине. Однако он, вероятно, не хотел обижать старого посла. В Негласном комитете к Воронцову относились с большим уважением. Поручить ему переговоры о Лиге Наций было, разумеется, невозможно: его настроения были достаточно известны, и для такого дела вообще считался необходимым свой человек. Принято было решение — всячески замаскировать от посла настоящую цель поездки Новосильцева! Князь Чарторийский, управляющий министерством иностранных дел, два раза (в письмах от 18 августа и от 10 октября) сообщал Воронцову, что Новосильцев едет в Англию преимущественно с научной целью. Возник даже своеобразный проект — придать этой поездке особый, вполне частный характер: Новосильцев мог быть подходящим женихом для молодой графини Воронцовой. По-видимому, и научное, и матримониальное объяснение поездки Новосильцева очень мало подействовали на посла: он оказал гостю довольно холодный прием.
Потом личные недоразумения, кажется, отпали; дело пошло начистоту. Князь Чарторийский в своих воспоминаниях пишет об упорной оппозиции их планам со стороны Воронцова. Письма Новосильцева к императору Александру I также полны жалоб на систематическое противодействие посла. «Довольно, ежели я скажу, — пишет царю Новосильцев (24 декабря), — что труднее и беспокойнее для духа и неприятнее я ничего еще не встречал».
Однако дело было все-таки не в Воронцове, а в Питте.
V
Здесь очень сказалось то явление, которое французы передают труднопереводимым словом «ambiance»[9]. Дипломаты отлично это знают: для важных переговоров и теперь выбирают город с подходящей ambianсе — что кому нужно: немцы предпочитают Гаагу, французы — Женеву, Брюссель. Лондонская ambiance 1804 года довольно резко отличалась от петербургской.
Н.Н.Новосильцев при несомненном своем уме и способностях был человек чрезвычайно самоуверенный. По-видимому, он еще в Петербурге решил, что, в крайнем случае, если Питт не пойдет на уступки, можно будет его свергнуть при помощи разных тонких ходов и посадить в Англии другое правительство: добрая знакомая Новосильцева Ольга Жеребцова была, как известно, в близкой дружбе с принцем Уэльским. В первом же своем донесении царю (от 22 ноября) Новосильцев сообщает: «Теперь я обращаю старание мое на то, чтобы ввести в министерство лордов Гренвиля и Спенсера... Для доставления системе Вашего Величества нужной прочности я намерен сделать так, чтобы принц Валлийский, Фокс, лорд Мойра, Шеридан и Эрскин прицепились к оной сердцем и душою...» Он, очевидно, хотел править Англией при помощи своих людей! Полузакулисное пребывание на верхах власти в Петербурге несколько вскружило голову Новосильцеву. Легко было строить колоссальные планы в беседах с 27-летним русским императором. В Англии колоссальных планов необычной новизны не любят. Престарелый Дизраэли, принимая молодых государственных людей, являвшихся к нему на поклон, философски их поучал: «В этой стране можно сделать вот столько, — он чуть приподнимал одну ладонь над другой, — а вот столько уже нельзя», — добавлял многоопытный старик, приподнимая ладонь еще на несколько сантиметров.
До нас, к сожалению, не дошли беседы Новосильцева с Воронцовым. Есть, однако, основания думать, что пессимист посол сразу несколько охладил своего пылкого гостя. Вероятно, Воронцов объяснял Новосильцеву, что иностранцу свергнуть Питта никак нельзя, даже при помощи приятельницы принца Уэльского. Должно быть, Семен Романович вытаращил глаза, узнав (позднее) и о плане нового устройства мира: Лига Наций? Какая Лига Наций! Но это лишь мои предположения. О разговорах же с Питтом сам Новосильцев довольно подробно рассказал в докладах, посылавшихся им в Петербург. К сожалению, доклады эти целиком не напечатаны, и восстановить (очень неполно, быть может, и не совсем точно) картину беседы мы можем лишь по отрывкам, напечатанным у Мартенса и у Богдановича, да еще по воспоминаниям Чарторийского.
Питт твердо решился на борьбу с Францией до конца. Вдобавок и рассуждать ему больше не приходилось: Наполеон собрал большую армию в Булони, переброска ее через Ла-Манш считалась тогда делом трудным, но возможным, а успех высадки означал бы конец Англии как великой державы: через три дня французы, наверное, были бы в Лондоне. Требовалось спешно создать европейскую коалицию для отвлечения сил Наполеона. В этом деле главные надежды Питт возлагал на Россию. Он готов был даже поделить с ней преобладающее влияние в мире: в те времена историческим врагом считалась Франция. Глава английского правительства знал, что в Петербурге существовали разные настроения. Говорилось и о разделе Турции (чтобы отторгнуть от нее территории Южной Европы) с провозглашением Александра Павловича императором всех славян. Против титулов Питт ничего не имел. Он согласился бы и на более реальные уступки — но, разумеется, без излишества.
Разговоры о распространении русского влияния на Балканы шли и в Негласном комитете, — там все было не совсем определенно: Лига Наций не исключала всеславянского царства. Насколько можно судить, именно Новосильцев был главным «реалистом» Негласного комитета. У Чарторийского, у Строганова, быть может и у царя, на первом плане стояло переустройство Европы на новых началах «народного права». Новосильцев разделял эти мысли, но ударение он, кажется, еще в Петербурге ставил не совсем там, где его ставили другие. В Лондоне же это ударение у него стало перемещаться с необычайной быстротой, — главным образом, вследствие новой ambiance.
Первый министр, по-видимому, прямо начал беседу с практических дел. Для борьбы с Наполеоном одних русских сил недостаточно; надо привлечь Австрию и Пруссию. Необходимо поэтому выяснить, какую приманку им можно дать («les appâts qui pourraient les tenter»).
Это начало разговора вызвало у Новосильцева некоторую неловкость, — он еще не отвык от языка Негласного комитета. Русский уполномоченный ответил, что так можно впасть в исконный грех («retomber dans le défaut des premiers temps»): если начнется новое расчленение Европы, если каждый будет стремиться к тому, чтобы извлечь для себя выгоду, то трудно будет установить в мире новый порядок и народное право.
Питт, вероятно, был несколько удивлен, — быть может, и он к тому времени еще не потерял способности удивляться. Но в особое смущение не мог привести его и этот неожиданный язык — «музыка будущего», шедшая из Зимнего дворца в Петербурге: после 17-летнего пребывания на посту первого министра Англии он, наверно, привык ко всяким языкам и с любым человеком мог говорить так, как было удобнее и лучше (привык же Клемансо к языку Вильсона). По крайней мере, когда возникла речь о «новом международном кодексе», первый министр заявил, что всей душой сочувствует этой превосходной мысли. Правда, он выразил и некоторое сомнение: согласится ли какая-либо могущественная держава принять обязательное посредничество в важных международных спорах. Тем не менее Питт оказался горячим сторонником идеи Лиги Наций. Во всяком случае, это было дело будущего. Вопрос о приманках для Австрии и Пруссии требовалось разрешить теперь же. Со своей стороны, Новосильцев пошел на уступки: некоторые предложения этим странам, конечно, могли бы быть сделаны. Ударение начало перемещаться.
Затем дело коснулось целей самой России. Питт, по-видимому, держался очень настороже во все время этой беседы, которая для него и для Англии имела огромное значение. Он сказал в не очень определенной форме, что, по его сведениям, в Петербурге существует план раздела Турции и овладения Константинополем.
Новосильцев это отрицал, — думаю, вполне искренно: подобные разговоры в Негласном комитете могли быть, но формы ясного политического плана они не принимали. Русский уполномоченный решительно заявил Питту, что император Александр не ищет для России никаких выгод и не думает об овладении Константинополем. Речь может идти только о русском покровительстве проживающим в Турции христианам.
Ответ не вполне удовлетворил главу британского правительства. «Было много примеров, — сказал он, — что покровительство над страною оканчивалось ее покорением».
Ударение у Новосильцева резко метнулось в сторону. «А если бы даже и так, — возразил он, — то вам ли, лучшим друзьям нашим, тревожиться нашими успехами? Разве Англия оттого понесла бы потерю?»
Эти слова явно не понравились первому министру, хоть и исходили они от лучших друзей Англии. «Было бы весьма неосновательно, — сказал Питт, — помышлять об осуществлении подобных планов в такое время, когда следует убедить все державы, до какой степени ужасны подобные нарушения народного права».
Таким образом, первый министр, столь быстро ставший горячим сторонником Лиги Наций, уже пользовался ее основными принципами в переговорах с теми людьми, которые эти принципы выдвинули! От «если бы даже и так» Новосильцев легко отказался, — это в самом деле не очень сообразовалось с народным правом. Но при полном единодушии в принципиальных вопросах нельзя было сразу отказаться от попытки увлечь идеей Лиги Наций вслед за Питтом и второго пацифиста — Наполеона. Разумеется, при условии, что Франция будет введена в свои «естественные границы».
Против этого Питт нисколько не возражал, — он, вероятно, вполне ясно представлял себе, какой успех это предложение, с естественными границами, может иметь у французского императора. Диалог был приблизительно такой: — Русский уполномоченный желает съездить в Париж для того, чтобы убедить Бонапарта? Прекрасная мысль. — Но кого же первый министр назначит для ведения переговоров от имени Англии? — Кого назначит? Да его же, Новосильцева. Отчего бы ему не представлять при этих переговорах сразу и Англию, и Россию?
Новосильцев был в восторге. «Если б Бонапарте не согласился на сделанное ему предложение, — писал он Чарторийскому 8 января, — то я буду иметь полную возможность сорвать с него маску и показать всем желающим видеть, что он только чудовище». Будет война, — что ж, война так война. Вообще в Лондоне все шло превосходно. «Принц Валлийский сказал Жеребцовой, что он ничего так не желает, как познакомиться со мною» (письмо Чарторийскому от 25 ноября). «Система Вашего Величества сделается здесь национальной системой... Здешнее министерство не осмелится противиться Вам ни в чем» (донесение царю от 24 декабря). Правда, система, завоевавшая Англию, стала в Лондоне несколько иной. Новосильцев пишет теперь о войне с Францией так, как будто ни о чем другом никогда речи не было и не могло быть. Не приходится удивляться тому, что к этой системе Питт прилепился сердцем и душою.
VI
Как ни трудно этому поверить, Новосильцев был убежден, что выполнил свою миссию «самым чудным образом» (письмо к Чарторийскому от 8 января 1805 года). Трудно сказать с уверенностью, разделяли ли его удовлетворение император Александр и члены Негласного комитета. Впоследствии, через много лет, князь Чарторийский весьма резко отзывался о лондонской работе Новосильцева: он не выполнил своего задания, он не отстоял новых идей в споре с британским правительством, он даже не спорил о них с Питтом, а что-то «едва пробормотал». Но это Чарторийский писал на склоне дней. В 1805 году он говорил совершенно иное. «Трудно было или, лучше сказать, невозможно было лучше исполнить данное вам поручение», — писал он Новосильцеву 4 февраля.
Между тем, повторяю, и Новосильцев и Чарторийский были бесспорно умные и идейные люди. Их слабость заключалась в том, что каждый из них верил не в одну, а в две идеи, не совсем между собой совмещавшиеся. В упрощенном и огрубленном виде я это выше передал словами: «Мир дело хорошее, но отчего бы при случае и не повоевать?» У Питта в 1804 году была только одна идея — война с Францией, — что и создавало его огромное преимущество над Новосильцевым.
У Новосильцева в Лондоне процесс перемены настроения шел быстро. У царя в Петербурге он медленнее, однако шел. Разумеется, менялась и политическая обстановка. По счастливому выражению Гюго, Наполеон опьянил историю, — в 1804—1805 годах она действительно шаталась как пьяная. В союзе с Англией и Австрией война против Франции казалась императору Александру беспроигрышным делом. Поводы для войны появлялись каждый день. Правда, они были налицо в достаточном количестве и прежде, — в поводах, слава Богу, никогда недостатка не бывает.
Как бы то ни было, из писем Чарторийского к Новосильцеву ясно видна перемена петербургских настроений. Влияние Негласного комитета ослабело, очень усилилось давление со стороны «старорусской партии». Чарторийский жалуется на происки Державина, которого называет «прощелыгой», — знаменитый поэт в политике не любил возвышенных замыслов. Скажем большевистским языком: «Кобленцская гидра подняла голову».
Собственно, Кобленца в ту пору уже не было. Он давно расслоился. «Лига дураков и фанатиков», как писал в свое время о подлинном Кобленце эмигрант Малле де Пан, численно очень сократилась. «Persuadés que sans les gens d'esprit on n'eût jamais eu de révolution, ils espèrent la renverser avec des imbéciles»[10] — эти злые слова эмигранта, сказанные в 1796 году, восемью годами позднее уже стали анахронизмом. Французская эмиграция больше на дураков не ставила, да и в ней «дураки и фанатики» не преобладали. Современный историк (далеко не правый по взглядам) пишет, что четыре наиболее своеобразные книги конца XVIII и начала XIX века были написаны французскими эмигрантами. Думаю, что эта оценка преувеличенно лестна. Однако не следует отождествлять всю эмиграцию с «Кобленцем».
Говорю это, разумеется, отнюдь не в качестве эмигранта. Злополучное сравнение нынешней русской эмиграции с французской причинило нам немало вреда. По существу, это совершенно различные явления, почти во всем, начиная с численного состава. Но если признать это основное положение, то нет никакой надобности всячески с ужасом открещиваться от сходства в малом и второстепенном, в частности, в тех случаях, когда это сходство имеет жутко комический характер. Огорчит ли «Третью Россию» то обстоятельство, что историческая литература о французской эмиграции знает выражение «Третья Франция»? Может быть, и не всем евразийцам известно, что у некоторых французских эмигрантов, особенно разочаровавшихся в западном мире, появилась «тяга на восток»? Сам Жозеф де Местр с восторгом восхвалял Азию, «землю энтузиазма». Он даже говорил об «азиатских кузенах», хоть и не состоял ни в каком родстве с Чингисханом.
На долю французских эмигрантов везде выпало немало горечи и обид. В России, думаю, обид было меньше, чем в других странах. Однако почти в то самое время, когда возникла мысль о поездке Новосильцева в Лондон, глава низвергнутой династии, будущий король Людовик XVIII, просил у императора Александра I разрешения устроить семейно-политический съезд Бурбонов в Вильне и получил решительный отказ, составленный в самых сухих выражениях: «Не скрою от вас, — писал император, — что сделанное мною вам и повторяемое ныне предложение поселиться в моем государстве, если пребывание ваше в других странах не может длиться, имело единственной целью предоставить вам мирное и спокойное убежище, — причем не было бы речи о действиях, подобных тем, которые вы намерены предпринять». Это напоминает позицию французских радикалов в отношении русских эмигрантов. Да, собственно, тон ответа отчасти и объяснялся радикализмом Александра I и еще его личной антипатией к Бурбонам. Некоторое недоверие к политической деятельности эмигрантов, «как таковых», у царя было (замечу, кстати, что оно слегка чувствуется и в трудах великого князя Николая Михайловича). Но, как к людям, к ним (за исключением Бурбонов) Александр Павлович относился благожелательно и на свою службу принимал их охотно. Достаточно напомнить, что герцогу Ришелье было предоставлено управление чуть ли не всей Южной Россией, — для сравнения (с разными поправками на время, обычаи и т.д.) представим себе, что русский эмигрант был бы теперь назначен вице-королем Индии либо генерал-губернатором Алжира! В петербургском обществе французские эмигранты имели и преданных друзей, и настоящих ненавистников, — граф Ростопчин, например, писал о них почти в таком же тоне, в каком коммунистическая «Humanité» пишет о «белобандитах».
Влияние французской эмиграции в Петербурге отчасти объяснялось родственными связями. Сен-Прист был женат на Голицыной, Ланжерон на Трубецкой, Кенсонна на Одоевской, Моден на Салтыковой, Брюж на Головкиной. Другой причиной было то, что в России, как во всех странах Европы, эмигрантский план реставрации Бурбонов встречал деятельных друзей. Были и еще причины. Вдобавок французская эмиграция, как Питт, не имела раздвоенного сознания. Ставила она в разное время на разные карты; но одна ее ставка, ставка на войну, оставалась неизменной, и ее французская эмиграция выиграла. Не все ведь тонет и при потопе.
«Кобленцская гидра», ропот русской партии, воинственное настроение молодежи, начинавшееся разочарование царя в идеях Негласного комитета, личное его раздражение против Наполеона, захват французами Генуи — все это сплелось: поездка Новосильцева в Париж не состоялась. Она, разумеется, ничего и не изменила бы. Разговоры о Лиге Наций кончились, начиналась европейская война. Оставалось только заключить договор о союзе между Россией и Англией. Эту задачу Новосильцев выполнил прекрасно: тут он знал твердо, чего хочет, и при спорах победителем чаще оказывался он, чем Питт. Союз, разумеется, был объявлен «вечным». Такова традиция.
В договоре (четвертый параграф особой, секретной статьи) остался и последний письменный след Лиги Наций 1804 года. В очень туманной форме там говорится, что в Европе следует установить «федеративную систему, обеспечивающую независимость слабых государств» и т.д. Это явно никого ни к чему не обязывало — и не обязало. Однако нам теперь не приходится проявлять особую строгость. Не приходится и пространно излагать смысл исторического урока 1804 года. Замышлялась Лига Наций с всеобщим миром и с «охранением народной правоты». Вышла европейская война, продолжавшаяся десять лет. Я не утверждаю: «Так было, так будет». Но все же трудно отказать в некоторой поучительности этой главе из истории русского либерализма.
Примечания
1
Конвенант - в XVI - XVII вв. название соглашений сторонников Реформации в Шотландии для защиты пресветерианской церкви и национальной независимости.
(обратно)2
Лагарп Фредерик Сезар де (1754 - 1838) - швейцарский политический деятель, приверженец идей Просвещения. Воспитатель будущего русского императора Александра I.
(обратно)3
Чистосердечный.
(обратно)4
Майорат - форма наследования недвижимости, при которой она полностью переходит к старшему из наследников.
(обратно)5
Цорндорф, Кунерсдорф - населённые пункты, вблизи которых происходили крупные военные действия во время Семилетней войны 1756 - 1763 гг.
(обратно)6
Восторженный певец.
(обратно)7
Куэ Эмиль - (1857 - 1926) - французский психотерапевт. Его система - метод излечения самовнушением.
(обратно)8
«У нас просто страсть к заключению союзов»
(обратно)9
Атмосфера, дух.
(обратно)10
«Убежденные в том, что без умных людей революции не бывает, они надеются ее задушить с помощью дураков»
(обратно)


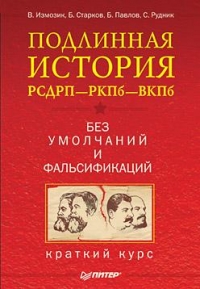
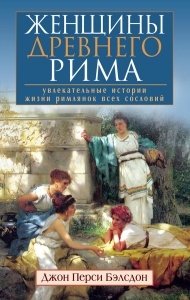
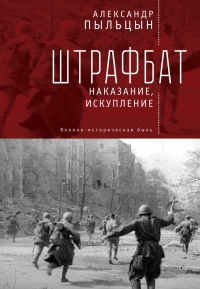
Комментарии к книге «Поездка Новосильцева в Лондон», Марк Александрович Алданов
Всего 0 комментариев